Второе дыхание (сборник)
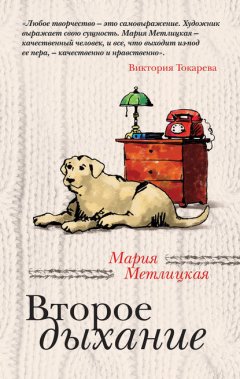
Второе дыхание
Проживать каждый день, просто обычный день, было все труднее и труднее. Усталость, накопившаяся за все последние годы, словно накрыла Киру тяжелым, мокрым и душным сугробом. Накрыла всю – с головы до пят, так, что опустились плечи, повисли руки, и ноги еле шли, почти не отрываясь от земли. Голова болела почти каждый день.
И совсем, ну просто совсем не было сил. Подруга Майка, бывший доктор, а ныне успешный риелтор, не уставала давать советы. Диагноз звучал так: истощение нервной системы и астено-депрессивный синдром. Кира почитала в Интернете: да, похоже, Майка права, мастерство не пропьешь. Срочно нужен был хороший невролог, а еще лучше психиатр. Но последнего Кира боялась до дрожи. В голове тут же становились в ряд слова «психушка», «аминазин» и «смирительная рубашка». Майка терпеливо объясняла, что все это полный бред, рожденный в советские времена, сейчас полно прекрасных препаратов, поднимают буквально за несколько дней. Но все же остановились на неврологе.
Майка, конечно, врача и откопала. Работал он на Пироговке в старом облезлом корпусе, и внешний вид эскулапа совершенно не вязался с убогостью его места службы. Выглядел он как типичный доктор из зарубежных сериалов: чистенький, подтянутый, с хорошей стрижкой и в модных очках. Голубой халат, яркий галстук и дорогие ботинки. Кира посмотрела на него и усмехнулась. Как потом оказалось, зря.
Доктор усадил Киру в кресло, предложил чаю и зажег настольную лампу с малиновым абажуром. В кабинете, как ни странно, было очень уютно. За окном уже стояли густые зимние сумерки. Кира вдруг начала рассказывать ему всю свою жизнь – с подробностями, которыми вряд ли поделилась бы даже с близкой подругой. Врач молча и внимательно слушал ее. Кира плакала, и от этого ей было страшно неловко. Она извинялась, а он успокаивал ее и поил горячим, крепким чаем.
Часа полтора она вытряхивала, как из мешка, практически все – начиная от трехлетней болезни мамы до ее кончины, девятилетний роман с Андреем, только в самом начале радостный и легкий, совсем недолго, с полгода, а потом… Потом набирали обороты обида, требования, непонимание и взаимные претензии. Впрочем, Кира, как всегда, винила только себя. И – финал истории – женитьба Андрея. Что, впрочем, было логично и предсказуемо. Как веревочке ни виться… И опять чувство вины, неизбывное. И обида, обида. А потом про отца – самая трудная и тяжелая часть Кириного монолога. В ней было и чувство долга, давящее тяжелой плитой, и обида на судьбу. Говорила она и про невозможный характер отца и его непомерный эгоизм, и про то, как с ним всю жизнь мучилась тихая Кирина мать. И вот матери давно уже нет, а отец теперь крушит ее, Кирину, жизнь. И самое главное – ничего, абсолютно ничего в этой истории нельзя изменить.
Кира замолчала и долго сморкалась в бумажный платок, любезно выданный лощеным красавцем доктором. Доктор молчал и постукивал по столу дорогой перьевой ручкой. Потом тяжело вздохнул и объяснил Кире ситуацию. Да, Майка была права – все имело место быть: и нервное истощение, и депрессия, и астения. Все – последствия, копившиеся годами. Но главная причина, как объяснил доктор, заключалась в отце.
– Он не дает вам строить свою жизнь. У вас абсолютно нет личного пространства. Из-за него у вас не получилась семейная жизнь. Вы не позволяете себе поехать в отпуск. Он что, так немощен? Не может себя обслужить? Разве он лежачий больной? Да почему вы не родили, в конце концов? – повысил врач голос.
– А здесь, доктор, ничего изменить нельзя, – слабо улыбнулась Кира.
– Ну, в этом вы глубоко заблуждаетесь – все в ваших руках. Не измените – погибнете. И это не в переносном смысле, это не шутки: вы окончательно загоните себя. В общем, срочно нужен отпуск – тихое место, лучше санаторий: ванны, «иголки», массаж. Крепкий сон. Чистый воздух. Долгие прогулки. Это основное. Ну и, конечно, препараты – без них мы не справимся. Наладится сон, прибавится сил – это наверняка.
Кира кивала и комкала в руках растерзанный бумажный платок.
Потом доктор замолчал и внимательно посмотрел на нее.
– А разъехаться с отцом, ну, разделиться?
Кира горько усмехнулась.
– Ну о чем вы говорите! Малогабаритная двушка, увы, никак не делится. Да и потом, как я оставлю его? Ведь он – ни приготовить, ни прибраться. В быту совершенно беспомощен.
Доктор досадливо махнул рукой.
– Это вы сильно преувеличиваете. При других обстоятельствах он бы прекрасно со всем этим справился, вот в этом я не сомневаюсь! Подумайте о себе: больны вы, а он только немолод. Судя по всему, ваш отец – довольно крепкий старик.
Кира тяжело вздохнула, положила на стол конверт с деньгами, поблагодарила и вышла из кабинета. Хотелось скорее на воздух, на мороз. Сначала она шла не торопясь, а потом посмотрела на часы и прибавила шагу, вспомнив, что дома нет ужина.
«Ничего, – успокаивала она себя. – В конце концов, сварю пельмени».
В коридоре было темно. Кира открыла дверь в комнату отца и зажгла свет.
– Что не встречаешь? – бодрым голосом спросила она.
Отец молчал.
– Ну я же к тебе обращаюсь, пап!
– Давление, – ответил он слабым голосом.
– Ну и что, что давление? Выпил бы коринфар – и всех дел-то! Что ты как маленький, ей-богу!
– А ты? Где ты шляешься? – голос его окреп. – Ни звонка, ни ужина!
– Я была у врача, пап. У меня проблемы.
Отец молчал. Ни одного вопроса.
– Вставай, иди мой руки. И еще раз померяй давление.
Кира пошла на кухню и поставила воду для пельменей. Отец вышел минут через десять. Она протянула тонометр, и старик нехотя надел манжету. Давление было в норме. Кира вздохнула и укоризненно посмотрела на отца. Потом положила ему в тарелку пельмени и увидела, как он недовольно скривился.
– Поставь чаю, – коротко бросил он.
Потом отец смотрел телевизор, а Кира варила суп и крутила на следующий день котлеты. К двенадцати она закончила дела, приняла душ и пошла в свою комнату. По дороге попросила:
– Сделай, пожалуйста, потише!
– Ты же знаешь, потише я не услышу! – раздраженно ответил отец.
Кира махнула рукой и пошла к себе. «Господи, днем выспится, а потом колобродит полночи! А мне, между прочим, в семь вставать!»
Она поворочалась, заткнув уши берушами, и, к счастью, скоро уснула, что бывало с ней нечасто.
В метро, по дороге на работу, Кира думала о том, что доктор, конечно, прав. Нужен отдых, полноценный, долгий, со сменой обстановки. Нужно восстанавливать силы, сон, аппетит. Оторваться хотя бы на время от проблем. Но как все это устроить, господи? Ну, допустим, отпуск ей дадут, она пять лет его просто не брала. На путевку деньги тоже найдутся – отложены на черный день. Но как быть с отцом?
С работы позвонила Майке. Рассказала все в подробностях, поблагодарила за врача. Подтвердила Майкину правоту насчет диагноза. Майка удовлетворенно угукала.
– Ну вот видишь! – торжествующе сказала подруга. Майка любила всегда и во всем оказываться правой – уверенный по жизни человек. Ей бы, Кире, хоть немного ее уверенности.
– Вот и действуй! – напутствовала Майка. – Бери путевку и уматывай! Может быть, тебе нужны деньги?
– Нет, Май, спасибо. Деньги есть. Не в деньгах дело. Как я могу уехать? Сама посуди! А отец?
– Что-нибудь придумаем. Не может такого быть, чтобы не было выхода.
И Майка действительно придумала. Позвонила на следующий день и сказала, что есть хорошая женщина, русская, беженка из Баку. Бывшая учительница. Сейчас живет тем, что прибирается по домам. Может и сготовить, бакинки – чудесные хозяйки, это понятно. В общем, рекомендации прекрасные. Эта самая Елена Ивановна приехала в Москву к своей сестре, та успела прописать ее в своей квартире, а сама, бедолага, умерла через полгода. Так Елена Ивановна стала владелицей однокомнатной квартиры у метро «Динамо». Короче, Майка обещала этой женщине позвонить.
Кира покопалась в Интернете и решила, что поедет в Литву. В Друскининкай. Когда-то в детстве она была там с мамой. Кира помнила сосновые рощи, прохладу узкой и быстрой речушки Ратничеле, широкий Неман с песчаными берегами и маленькие, словно игрушечные, домики с аккуратно подстриженными лужайками. Воздух, тишина, сдержанные люди. Общаться и заводить новые знакомства Кира не собиралась.
Она взяла отпуск на две недели, оформила визу и купила билет. Оставалось встретиться с Еленой Ивановной и рассказать обо всем отцу. Разговор с отцом Кира откладывала до последнего.
С Еленой Ивановной, оказавшейся вполне симпатичной и вменяемой теткой лет пятидесяти пяти, встретились у метро «Динамо» после работы. Договорились, что она будет приезжать через день – готовить и прибирать.
Отцу она сказала о том, что уезжает, за два дня до отъезда. Сначала он смотрел на дочь недоуменно, непонимающе, потом начал кричать. Громко, с оскорблениями. Кира расплакалась и ушла к себе. Он ворвался в комнату и снова кричал, что никакую чужую бабу в дом не пустит, что лучше уйдет в дом престарелых, раз он ей так в тягость, и еще кучу проклятий на бедную Кирину голову. Кира молчала, закрывшись с головой одеялом. Два последних дня отец с ней не разговаривал.
Кира с трудом волокла чемодан по нечищеному перрону и плакала. Одна, как всегда, одна. И такая тяжесть! И никто не поможет затащить тяжелый чемодан в вагон, и никто не помашет в окно.
В поезд Кира села в препаршивом настроении, но потом убедила себя – с трудом, – что деньги уплачены, такие «дорогие» деньги, и сделала она все, что могла, – продукты и лекарства закуплены, с Еленой Ивановной договоренность есть, а значит, все в порядке.
Она забралась на верхнюю полку, стала смотреть в окно и увидела, как к вагону подошла пара – мужчина и женщина примерно Кириных лет. Женщина была одета в норковую шубу до пят и без головного убора. На ее длинные рыжеватые волосы падали редкие снежинки. Мужчина держал ее за плечи и все не отпускал, а женщина смеялась и вырывалась. Наконец проводница велела отъезжающим заходить в вагон. Мужчина легко подхватил чемодан, подал спутнице руку, и они поднялись по ступенькам вагона.
Веселая парочка зашла в Кирино купе. Они поздоровались, и мужчина весело сказал, что торжественно вручает ей, Кире, свою жену.
– Теперь я спокоен, – остроумничал он. – Ты, Мусенька, в надежных руках.
– А вот это зря! – в тон ему ответила женщина. – Потеря бдительности ведет к непредсказуемым последствиям.
Они дружно рассмеялись, мужчина еще раз поцеловал ее в губы и наконец покинул вагон. Пока поезд не отъехал, он стоял у окна и махал рукой.
– Смешной! – сказала женщина.
– Почему? – откликнулась Кира. – Просто любит вас.
– Ну да, – растерянно ответила женщина. И добавила, почему-то вздохнув: – Это точно.
Потом они говорили обо всем. Кирина спутница, Мария, рассказывала, что работает в кинопроизводстве, у нее двое детей, и это ее второй муж – от первого она ушла. Потом они пили чай и просто болтали о жизни. Мария рассказала, что едет на родину, в Вильнюс. Навестить мать.
В Вильнюс приехали в девять утра. Мария вышла на перрон первая. Кира, копуха, как всегда, заковырялась. А когда наконец вышла из вагона, то увидела, что Марию встречает молодой мужчина, гораздо моложе мужа. Мария так же смеялась, закидывая голову, а мужчина обнимал ее за плечи и целовал в губы. Кира прошла мимо, отведя глаза, а Мария, ничуть не смущаясь, бросила вслед звонкое «пока».
Друскининкай был почти пустой – какие в это время туристы! В отеле, куда заселилась Кира, почти никого не было – две-три пожилые пары литовцев.
«Какое счастье, – подумала она. – Ни с кем не нужно общаться. Литовцы – вежливые, но прохладные люди. Всегда держат дистанцию. Наши бы уже тут же прицепились, лезли в душу и вываливали на тебя все исподнее», – вспомнила она попутчицу.
Она гуляла по опустевшим улицам, заходила в кафешки, пила кофе с нежнейшими пирожными, бродила по пустому речному пляжу и смотрела на стальной зимний Неман. Сходила в косметический салон, сделала массаж, освежающие маски, покрасила брови и ресницы. Дома, в Москве, она бы ни за что не нашла на это время.
«Как неправильно я живу! – думала Кира. – Как всю жизнь у меня все трудно и сложно. Как тяжело я проживаю эту жизнь». Она вспомнила Марию, свою невольную знакомую. «А я? Словно качу в гору неподъемное колесо, которое вот-вот сорвется и раздавит меня совсем».
Кира вспоминала все девять лет жизни с Андреем. Хотя разве это можно назвать полноценной жизнью? Сначала долгая болезнь мамы, потом ее смерть. Потом бесконечная каторга с отцом – его претензии, придирки, капризы. Обиды. Потом обиды и претензии Андрея. «Почему ты не можешь остаться на ночь? Почему мы не можем поехать в отпуск? Почему в Новый год ты остаешься дома?»
А ведь он был прав, во всем прав. Кому нужна такая любовница? Однажды он предложил ей замужество. Она рассмеялась: мол, как ты себе это представляешь? Он обиделся. Понятное дело, она бы на его месте тоже обиделась. Но им обоим было ясно: к нему она не пойдет, а говорить о том, что он придет к ней, – ну, это просто смешно. Они оба это прекрасно понимали.
– Я хочу семьи, понимаешь? Нормальной, полноценной семьи. Будней, праздников, выходных. Поездок на море. На лыжах. За грибами в лес. Гостей в субботу. Детей – непременно двоих, мальчика и девчонку.
Она сидела опустив голову, со всем соглашаясь и все понимая. А через три месяца залетела и сделала аборт. Этого Андрей ей, конечно, не простил. Они расстались тогда на полгода, и она знала, что он крепко пил. Потом сошлись снова. Она уже не помнила, кто позвонил первым, да и какая разница? Но отношения с тех пор совсем развалились. Они стали встречаться все реже и реже, постоянно были недовольны друг другом и бесконечно выясняли отношения. Потом звонки стали совсем нечастыми – и однажды в метро она увидела его с высокой и молодой рыжей девицей. Не заметив Киру, они вышли из вагона, держась за руки. Через месяц Кира узнала, что Андрей женился на этой самой рыжей девице. Она тогда позвонила и пожелала ему счастья.
Еще Кира вспоминала маму. Про то, как разговаривала с ней почти перед самой смертью. Отец тогда вел себя ужасно: не заходил в мамину комнату, даже когда врач сказал, что ей осталось всего пару недель. Видя, что Кира валится с ног, – ни грамма ни помощи, ни поддержки. После маминой смерти уехал в санаторий – на месяц. Сказал, что он на пределе.
Кира как-то спросила у мамы: почему она не ушла от отца? Мать улыбнулась, погладила Киру по руке и виновато сказала:
– Любила, Кирюш. Это хоть как-то меня извиняет?
Кира пожала плечом.
– Не уверена, мам. Извини.
– А потом, он не пил, не гулял, – вздохнула мать.
– Лучше бы делал и то, и другое. А тиранить и топтать тебя? Всю жизнь гнобить. А ты ведь была хорошенькая, мам. Наверно, варианты были. Наверняка, я в этом уверена.
– Ну какие варианты, Кирюш, когда у меня уже была ты?
– Брось, мам. Это все отговорки. Что, мы с тобой не прожили бы, что ли?
– А как, доченька? Я с двадцати семи лет на «группе», а отец прилично зарабатывал. Я хотела, чтобы у тебя все было: и музыка, и коньки, и фрукты, и частные врачи – ты же болела все детство, какой там детский сад! А море? Мы же каждый год вывозили тебя на море!
Мать привстала на подушке и хрипло и тяжело закашлялась.
– Успокойся, мамуль, ну что ты? – испугалась Кира.
И подумала: «Сволочь я. Нашла время выяснять».
А перед самой смертью, буквально дня за два или три, уже почти в забытьи, на тяжелых наркотиках, уносивших ее в другой, запредельный мир, дающий краткие перерывы между болями и туманивший сознание, мать попросила Киру не оставлять отца.
Впрочем, это было совсем нетрудно – Андрей к тому времени уже женился.
Кира сидела в маленьком уютном кафе и пила кофе. За окном, по мерцающему серебром озеру, словно две маленькие белые яхты, плыла пара лебедей. До отъезда оставалось четыре дня. Кира вышла на улицу и набрала домашний номер. Отец взял трубку на пятый звонок.
– Как ты, пап? – спросила она.
– Я смотрю, тебя это сильно волнует, – недовольно ответил он. – Жив, слава богу. Твоими молитвами, видимо. А ты? Не наотдыхалась еще? Не надоело развлекаться? Ну ладно, все. Я смотрю сериал.
Отбой. Кира вздохнула и захлопнула крышку телефона. «Опять ни звука ни о моем здоровье, ни о том, когда я приезжаю. Ни о чем. Впрочем, тоже мне, новость! Ну, ладно, успокоились и дышим ровно. Не будем портить последние дни отпуска».
Она зашла в ювелирный, долго, обстоятельно и с удовольствием разглядывала витрину и наконец выбрала серебряное кольцо с черным граненым овальным камнем. Это был подарок себе. Потом она присмотрела милую подвеску с эмалью в виде незабудки для Майки (Майка обожала все голубое), какие-то сувениры для девочек на работе – свечки, льняные салфетки, магнитики. Долго выбирала подарок отцу – это было самое сложное. Наконец выбрала шарф и мягкие домашние тапочки с овчиной.
Последние дни Кира уходила после завтрака в лес, после обеда долго спала, а вечерами сидела в любимом кафе на берегу озера и смотрела в окно. Перед самым отъездом, накануне, она купила на рынке несколько связок белых сухих грибов и решила, что одну нитку обязательно отдаст Елене Ивановне – той наверняка будет приятно.
В поезде она подумала о том, как здорово, что она все-таки решилась на эту поездку. И о том, как много эта поездка ей дала – она знала это наверняка. А теперь… Теперь надо набрать побольше воздуха – и продолжать жить. Что поделаешь, у каждого своя судьба.
В Москве шел крупный ровный снег и медленно и торжественно кружил под фонарями. На такси была, как всегда, очередь. У двери квартиры Кира остановилась и перевела дух, потом глубоко выдохнула и вставила ключ в замочную скважину. В квартире громко, на всю катушку, играла музыка и вкусно пахло тестом и жареным луком. Из дверей кухни вышла Елена Ивановна – распаренная, в махровом халате и в тапках на босу ногу.
– Кирочка! – смущенно сказала она. – О господи! С приездом! А я тут пироги затеяла.
– А где папа? – спросила слегка ошалелая Кира.
– А Борис Ильич за капустой пошел. Мы капусту решили засолить. Знаете, своя – она и есть своя, – лепетала Елена Ивановна.
– Здорово! – кивнула Кира. И повторила: – Своя – это точно лучше. Никакого сравнения с покупной.
Кира сняла пальто и пошла в свою комнату. Села на диван и уставилась в одну точку. Минут через двадцать она услышала, как хлопнула входная дверь и раздался громкий и бодрый голос отца:
– Леночка! Я пришел!
Кира вышла в прихожую. Отец стоял, держа в руках сетку с капустой.
– Ты? – удивился он. – А что не предупредила?
Отец выглядел растерянным и смущенным.
– Извини, – пожав плечом, сказала Кира.
– Вот и отличненько! – обрадовалась Елена Ивановна. – Сейчас будем обедать. Слава богу, все готово!
Потом они молча обедали. Каждый боялся поднять друг на друга глаза.
– Вкусно, – сказала Кира. – Спасибо, все очень вкусно. – Она поднялась из-за стола и стала убирать посуду. Елена Ивановна ее остановила:
– Отдыхайте, Кирочка, вы ведь с дороги.
Кира кивнула и ушла к себе. Она слышала, как уходила Елена Ивановна и как они с отцом о чем-то долго шептались в коридоре.
На следующий день она позвонила красавцу доктору и доложила ситуацию.
– Вы молодец, Кира, – сказал он и попросил звонить хотя бы раз в две недели.
Вечером они встретились с Майкой и замечательно посидели в пиццерии. От кулона-незабудки Майка была в полном восторге.
На следующий день Кира вышла на работу, а в обед ей позвонила Елена Ивановна и попросила о встрече. Встретились они у метро «Динамо». Елена Ивановна смущалась и долго болтала ни о чем. Потом вздохнула и сказала:
– Вот как оно бывает, Кирочка! Кто ожидал! Я ведь вдовею одиннадцать лет, детей бог не дал, так сложилось. В общем, не думала, не гадала.
Она замолчала. Молчали обе. Потом Кира сказала:
– Я все понимаю, все взрослые люди. Дай вам бог! Правда, я вам не завидую, – улыбнулась Кира. – Характер у родителя – не приведи бог!
– Что вы, Кирочка, я так устала от одиночества, вы не представляете!
– Я-то как раз представляю, – улыбнувшись, сказала Кира. – Уж кто, как не я. Ну смотрите, моя совесть чиста: я вас предупредила. Да, Елена Ивановна! – спохватилась Кира. – Я же с вами не рассчиталась!
Она полезла в сумку и достала кошелек.
– Что вы, Кирочка, как можно! Мы ведь теперь одна семья!
– Ну да, – совсем растерялась Кира.
Когда вечером она вернулась с работы, то увидела, что отец собирает вещи.
– Помочь, пап? – спросила она.
– Достань с балкона чемодан, – ответил он.
Кира пошла на кухню и налила себе чаю.
– Да, кстати! – крикнул из комнаты отец. – Ты завтра работаешь?
– Конечно, работаю! Завтра вроде бы праздники не объявляли.
– Это хорошо, – ответил он. – А то я твоего бывшего попросил помочь с переездом.
– Какого бывшего? – холодея, почти прошептала Кира.
– А у тебя их много было? – с ухмылкой спросил отец, стоя в дверном проеме кухни. – Андрея, конечно. У него же джип – сразу все и перевезем, одним махом. Да и его помощь не помешает – мне, знаешь ли, тяжеловато чемоданы таскать.
– Папа, ну как же ты мог? – застонала Кира. – Какая беспардонность, господи! Я с ним не общаюсь столько лет, а тут ты… Ну разве он нам обязан? Совершенно посторонний человек. Совершенно. К тому же женатый. Кто мы ему и кто он нам? Ну как ты мог, папа? – почти бессильно прошептала она. – Ты как всегда. Как танк – всеми гусеницами по ребрам.
– Почему посторонний? – удивился отец. – Я его, между прочим, девять лет терпел.
– Ну да, терпел, – горько усмехнулась Кира и пошла к себе.
– А насчет «женат» – так это ты заблуждаешься! – крикнул вслед отец. – Он уже два года как в разводе!
На следующий день вечером, после работы, Кира зашла в пустую квартиру. Это было странное ощущение. Очень странное. Она прошлась по комнатам, зашла на кухню и в ванную, включила телевизор на полную громкость, плюхнулась, не раздеваясь, на диван и достала из тумбочки шоколадку – любимую, с орехами. Съела шоколадку, натянула на себя уютный старый плед, блаженно закрыла глаза – и задремала.
Разбудил Киру телефонный звонок. Его голос она узнала мгновенно. А разве могло быть по-другому? Даже через тысячу лет!
– Ну, твоих я перевез, – сказал он. – Они очень довольны и, по-моему, отлично устроились.
– Спасибо, – сказала Кира. – Ты меня очень выручил.
– Пустяки, – ответил он и, помолчав, добавил: – Ну что, до завтра?
– До завтра, – проговорила Кира и положила трубку.
Потом встала, подошла к окну и настежь распахнула створку. В комнату ворвался шум улицы и сырой и свежий запах снега.
«Странно, – подумала Кира. – Только начало марта, а уже так явственно пахнет весной».
А чем пахнет весна? Мокрым снегом, дождем, влажными улицами и сырыми ветками. И еще весна непременно пахнет надеждой. Это наверняка. Сколько бы тебя жизнь ни старалась уверить в обратном.
Он и она
В глазах всей семьи она была разрушителем. Конан-Варвар местного значения. Человек, посягнувший… Одним словом, всеобщее осуждение. Горе семьи. Большой, дружной, нерушимой, казалось бы, семьи. Оплота. Кто думал о том, что происходит с ней? А оказалось, что самое страшное на свете – кому-то сделать больно.
Муж сказал: «Тебе хочется, чтобы меня просто не было. Красиво начать новую жизнь. С белого листа. Страсть, любовь и много всего впереди. Но я есть. И есть двенадцать прожитых лет. Есть сын. Есть, извините, новая квартира, а в ней ремонт. Есть купленная в кредит новая машина. Есть недостроенная – как ты мечтала о ней! – дача. Есть, в конце концов, мои и твои мама и папа. А у них общий внук – естественно, обожаемый и единственный. Есть общие праздники, дни рождения, годовщины и Новый год. А ты… Ты хочешь одним махом выдернуть нижнее бревно, чтобы все рухнуло и осыпалось – в одночасье, в одну минуту».
В общем, преступница, что уж тут. Короче говоря, с одной стороны – все ужасно, трагично и невозможно, а с той, другой стороны – одно сплошное и тоже невозможное счастье».
Он подъезжал каждый вечер после работы к ее дому. Она набрасывала плащ и в тапочках сбегала по ступенькам вниз – ждать лифта не было сил. Она садилась в машину, и он брал ее за руку. Она клала голову на его плечо. Они просто молчали. Минут двадцать. Потом он целовал ее и говорил, что все будет хорошо. Она не верила и качала головой. «Хорошо» быть не могло. По причине того, что всем остальным было больно. И как прикажете с этим жить?
Она возвращалась домой. Чистила картошку. Делала с сыном уроки. Гладила белье. Умывалась. Ложилась спать. Не спала. Ну, в общем, понятно. За все приходится платить. Она и платила.
Он торопил – надо что-то решать. По куску резать больнее. Пожалей, в конце концов, себя. Посмотри, на кого ты похожа. Она раздвоилась. Была та, что честно выполняет свои обязанности: готовит обед, гладит рубашки. Но была еще и та, что на легких ногах бежала по ступенькам. С отрешенным и немного безумным лицом. У нее «той» все было не просто «хорошо», а прекрасно. Сказочно. Жизнь обещала, обещала…
Мама поджимала губы. Отец и вовсе делал вид, что ее не замечает. Демонстративно утыкался в газету. Словом, преступница без права на помилование.
Как-то приехала свекровь. Она не была классической злодейкой – нормальная, умная и доброжелательная тетка. Свекровь долго молчала и смотрела на нее. Молча пили чай. Потом свекровь сказала:
– Знаешь, у меня тоже было. Ну, или почти «было». А почему не получилось – совсем смешно. Он позвонил в дверь, а я, не дыша, стояла с другой стороны. Он звонил долго. Я не открыла потому, что у меня были не накрашены ресницы. Представляешь? Ну не могла я появиться перед ним в таком виде. Короче, я не открыла. Он ушел. Я смотрела из окна ему вслед. Сначала плакала. А потом засмеялась.
– У вас всегда было чувство юмора, – сказала она свекрови. И добавила: – А мне было бы наплевать на ресницы. Я бы открыла.
– А ты и открыла, – вздохнула свекровь. – Только кто от этого стал счастливее?
Это правда. Победителей в этой истории не было наверняка.
– А если я не могу видеть, как он жует, пьет чай, завязывает галстук? Если я не могу с ним ложиться в постель? Разве это – не причины?
– Будь снисходительна, – ответила свекровь. – Он же, в конце концов, не виноват, что с тобой произошел несчастный случай. Или представь, что все могло быть наоборот. А ведь могло быть.
– Что мне делать? – спросила она.
Свекровь пожала плечами.
– Поставь на чашу весов, что с одной стороны и что с другой. Прикинь и подумай. Ты же умная девочка.
Никакой «умной девочки» не было и в помине.
В восемь вечера все повторялось. Она накидывала плащ и бросала мужу:
– Я к Ленке.
У мужа твердели скулы. Двадцати минут в машине вполне хватало, чтобы почувствовать себя самой счастливой на свете. И самой несчастной.
Потом был день рождения сына. Первый месяц весны. Конечно же, собралась вся семья. Все упорно «делали вид». Она исправно пекла пироги и резала салаты. Мама тревожно смотрела на нее. На кухне сказала:
– Ну, вот видишь, все же хорошо.
Действительно хорошо.
– Да? – рассеянно спросила она, и из ее рук выскользнула чашка.
– На счастье, – тяжело вздохнула мама.
За столом, перебивая друг друга, обсуждали насущные проблемы – в мае надо начинать достраивать дачу и ставить баню. Муж о чем-то спорил с ее отцом. Сын показывал бабушкам последние рисунки. Бабушки были твердо уверены в том, что это шедевры. Она стояла на кухне у окна, уткнувшись лбом в стекло. Муж подошел сзади и положил ей руку на плечо.
– Прости меня, – сказала она.
Он кивнул. Говорить не было сил.
Потом все долго и шумно прощались в коридоре, целовали внука и опять «делали вид».
Муж убирал со стола. Она мыла посуду. Сын смотрел мультики.
– Давай поедем куда-нибудь, – сказала она. Точнее, попросила. Муж кивнул. – Давай в Пушгоры? А?
В Пушгоры они ездили в самом начале их совместной жизни. Она тогда носила сына. Они гуляли по лесу и строили планы на дальнейшую жизнь. Мечтали о квартире. Придумывали имя сыну. Она читала ему стихи.
– Поедем, – сказал муж.
В следующую пятницу они выехали. Сын на заднем сиденье. Бутерброды. Термос. Муж поставил Визбора. Визбор пел о горах и о любви. Она заплакала.
Они шли по дороге, ведущей к дому поэта, и муж рассказывал сыну о том, как поэт жил, как творил и как любил.
Сын внимательно слушал отца и задавал вопросы.
Они шли, держа друг друга за руку. Двое мужчин – большой и маленький. Одинаковая походка, одинаковый разворот плеч.
«Никогда, – подумала она. – Никогда я не сделаю этого».
Вечером она побежала на почту. Звонить. Он долго не брал трубку.
– А, это ты, – сказал он. – Ну, как тебе отдыхается?
– Отлично, – сказала она.
– Рад за тебя, – ответил он. – Извини, я немного занят. – И повесил трубку.
Потом была весна. Как всегда, поздняя, снежная и мокрая. И очень тревожная. Она постаралась жить.
Выполнять свои обязанности – как всегда четко. Только чашки и тарелки, словно издеваясь над ней, без конца выскакивали из рук. «На счастье», – усмехалась она. Столько уже перебила, что счастья должно быть целый вагон. Доверху.
Они ездили на дачу и спорили, каким цветом красить дом, какой высоты строить забор, где делать клумбы с цветами.
Она честно старалась. Честно пыталась.
Но, скорее всего, это была не совсем она.
Свекровь сказала:
– Молодец. Все – тяжелая работа. Но есть ради чего.
– Вы уверены? – спросила она.
– Все окупится, – ответила свекровь. – Все вернется сторицей. И ты еще будешь счастлива оттого, что поступила именно так.
– А если я не буду счастлива? – сказала она.
– Ну, сколько людей так живут. И вполне довольны. В конце концов, есть что-то важнее, чем собственное счастье. Это наверняка. Есть счастье ребенка, родных и покой семьи. – Свекровь говорила искренне. Она прожила жизнь и имела право об этом судить. – Иногда надо забыть о себе. Есть долг и ответственность перед близкими. А себя надо отодвинуть чуть-чуть назад.
В июле она уехала с сыном на дачу. Весь июль лил дождь. Она топила печку и смотрела на огонь. Дрова вспыхивали красными и синими звездами.
Муж приезжал в пятницу. Привозил продукты и подарки сыну. Она кормила мужа обедом и старалась не сталкиваться с ним взглядом.
Ночью они спали под разными одеялами и откатывались каждый к своему краю. А утром приходил сын и с разбегу плюхался между ними. Раскидывал руки и обнимал их обоих. Слева – папа, справа – мама. Сын рассказывал свои сны, и муж щекотал ему пятки. Сын смеялся и кричал:
– Ну, хватит, пап!
Она вставала и шла на кухню варить какао.
«Все пройдет, – говорила она себе. – Все правильно».
Муж и сын сидели напротив друг друга и ели сырники. Даже вилку и нож они держали одинаково.
В августе она вышла на работу. Телефона боялась, как огня. Обходила стороной. От каждого звонка вздрагивала – слишком большое искушение.
Он позвонил вечером и сказал, что подъедет, как всегда, в восемь.
Помолчав, она ответила, чтобы он не терял времени понапрасну.
Без десяти восемь она разложила гладильную доску и включила утюг.
В пять минут девятого накинула плащ и выскочила из квартиры. Как всегда, в тапочках. Она бежала по лестнице вниз. Пятнадцать этажей. Пятнадцать пролетов. Ждать лифта не было сил.
Между десятым и девятым этажом подвернула ногу, села на ступеньку и заплакала. Вспомнила про свекровь и ненакрашенные ресницы. Подумала о том, что все не просто так. Все не случайно.
Вызвала лифт. Лифт, крякнув, плавно пошел вверх. Открылась дверь. Она посмотрела на часы. Было двадцать минут девятого. Лодыжка опухла и болела. Она вздохнула и нажала на первый этаж. Загадала – если его не будет, значит, это всё. Значит, все правильно. Значит, так тому и быть. Лифт остановился на первом этаже.
«Не спеши», – сказала она себе. Да спешить и не получилось – хромая, она вышла на улицу. Завернула за угол дома. В торце дома стояла машина. Красные «Жигули». Она подошла ближе и увидела его. Он сидел с закрытыми глазами, откинув голову на подголовник. Она постучала в окно. Он открыл глаза и посмотрел на нее долгим внимательным взглядом.
Она открыла дверь и села в машину.
– Больно, – сказала она. Кивнула на ногу и заплакала: – Очень больно.
Он взял ее за руку.
– Я старалась, – сказала она. – Очень старалась. Честное слово!
Он молчал и стряхивал пепел в приоткрытую форточку.
– Я думала, что смогу. Понимаешь, смогу?
Он молча кивнул.
– Но ничего не получилось. – Она замолчала. – Это оказалось сильнее меня.
– Бывает, – сказал он и выбросил сигарету.
– И что же со всем этим делать? – спросила она.
Он глубоко вздохнул:
– Не бывает так, чтобы не было выхода. Не бывает. Мы что-нибудь обязательно придумаем, слышишь?
Она жалобно всхлипнула, закрыла глаза и положила голову ему на плечо.
Ей так хотелось поверить ему! Так хотелось! И еще она подумала о том, что нет на свете человека счастливее и несчастнее ее.
Наверно, так оно и было.
Течение
Сегодня опять приснился этот странный сон – он лежит на дне лодки и смотрит в небо. Небо огромно и безгранично, но это не пугает его, а, скорее, успокаивает. Лодка плывет медленно и плавно, лишь иногда кружит, изменяя своему неспешному течению, попадая в легкие водовороты, или как там это называется. Он смотрит на небо, синее и безмятежное, и слегка прищуривает глаза – яркое, почти белое солнце слегка слепит и начинает набирать обороты полуденного жара. Он счастлив – жизнь только начинается и, конечно же, обещает быть яркой, прекрасной и, безусловно, долгой. Ну это и так понятно.
Этот навязчивый сон приходит обычно под утро, когда он, окончательно измученный бессонницей, уже и не надеется на легкую передышку – ну хотя бы на час или на два. Смущаясь, он рассказывает про сон Вере, и она говорит, что это – хороший признак.
– Признак чего? – с надеждой спрашивает он.
– Ну ты сам все знаешь, – отвечает Вера, как всегда, немногословно.
Она собирается на работу, и он подает ей пальто.
– Осторожно, скользко! – кричит он ей вслед, она машет рукой и заходит в лифт. Он возвращается в квартиру и долго сидит на стуле в прихожей. Потом встает и, тяжело шаркая, – при Вере он старается этого не делать, – идет в ванную. Там он тщательно и осторожно, четко соблюдая все указания и рекомендации, выполняет все, что предписал врач. Он бросает на себя в зеркало короткий взгляд и видит брезгливую мину на своем лице, потом долго моет руки и уже подробно разглядывает себя в зеркало.
«Глубокий старик, – думает он. – И всего за полгода…»
Он никогда не был упитанным – скорее поджарым, легким на подъем, спортивным. Футбол, волейбол – пожалуйста! Подтянуться на турнике – не вопрос. Отжаться от пола, ну, раз так двадцать – да ради бога! Без проблем! А сейчас… Сейчас подвиг почистить картошку и протереть пол. Но он, конечно, сделает это. Соберется и сделает, потому что вечером придет Вера – голодная и усталая. И он ни за что не допустит, чтобы в доме был беспорядок и не было ужина. Он варит суп, чистит картошку и жарит мясо, протирает пыль, моет полы и совсем без сил валится на диван. Потом он обедает – при Вере он старается не есть, потому что после еды нужно опять идти в ванную, и там начинается все по новой. На улице зима, но он распахивает настежь все окна – и ему кажется, что в квартире становится легче дышать. К вечеру приходит медсестричка делать очередной укол, и он видит, как она непроизвольно морщит свой хорошенький носик. Значит, запах есть, он неистребим. Не помогают никакие ухищрения – ни проветривания, ни освежители воздуха. Запах проник и въелся в мебель, шторы и паркет, и, самое страшное, – в него самого. Вначале казалось, что самое трудное – принять диагноз, смириться с ним. Потом – пережить операцию, выкарабкаться после нее. Но самым ужасным оказалось не это, а то, что со всем этим теперь надо было научиться жить. Принять эту жизнь такой, какая она сейчас, и это молодому и недавно абсолютно здоровому мужику пятидесяти четырех лет.
Врач тогда ему сказал, что изменится качество жизни. Господи, о каком качестве вы говорите! И разве вообще все это можно назвать качеством?
Чертова жизнь! А ведь недавно, всего год назад, он был о ней хорошего мнения! Думал тогда, что после всех его мук и мытарств она наконец соблаговолила ответить взаимностью.
Именно тогда он встретил Веру – честно говоря, уже почти не надеясь на что-либо хорошее. Жил в родном Владимире, куда, собственно, уехал по распределению после Москвы и журфака. Вначале, конечно, были наполеоновские планы – задержаться там ненадолго, максимум на пару лет, а потом, конечно, Москва или Питер – ему, как провинциалу, это было без разницы. А дальше – большая Журналистика. Непременно с большой буквы. А как иначе? А может быть, телевидение или, на худой конец, радио. Поездки по стране, репортажи, интервью, встречи с интересными людьми. Впрочем, тщеславным он никогда не был – скорее, амбиции юных лет. А кончилось все местной заштатной газетенкой и репортажами с полей и огородов, как он сам говорил. И еще – скоропалительной женитьбой. Исключительно по зову плоти, как стало понятно быстро, примерно через год. А деваться было некуда – в деревянной кроватке уже попискивало существо по имени Катька, у которой была его фамилия и голубые глаза «точно, как у папы». С женой все разладилось как-то сразу и в одночасье. Ушел он, когда Катьке исполнилось восемь месяцев. Винил во всем, как всегда, себя. С женой хороших отношений не сохранил – с Катькой видеться она не позволяла и через полгода выскочила замуж. На здоровье. Он не желал ей ничего плохого. Днем, когда детей выводили на прогулку, подходил к ограде Катькиного садика. Ребенка не окликал – зачем бередить девочке душу? Просто смотрел и уходил. От газеты получил комнату – мрачную, щелястую семиметровку в деревянном бараке на окраине города. Потом, конечно, была вереница баб. Пьянки, гулянки – все по полной программе. Потом до одури влюбился в замужнюю. Страсти там кипели африканские, но от мужа она так и не ушла. Двое детей, квартира в центре, машина. Эта история продолжалась почти двенадцать лет. Он тогда еле выполз, еле спасся. Полгода пил как сапожник, чуть не вылетел с работы. Пожалели. Потом сошелся с приличной женщиной, врачом. Переехал к ней. Зажили вроде тихо и мирно, но тогда, именно тогда, почему-то особенно стало неинтересно жить. Кризис среднего возраста, что ли. Чувствовал он себя полным ничтожеством – семьи как таковой нет: так, квартирует с удобствами. Детей тоже, считай, нет – бывшая с мужем и, разумеется, с Катькой из города уехали. Про работу и говорить нечего – все обрыдло до некуда. Хотел тогда рвануть куда-нибудь – страна большая, – но духу не хватило. От медички своей он тогда ушел, в свою выстуженную берлогу возвращаться не хотелось. Снял в деревне у бабки комнату – светлую и теплую. В доме уютно пахло деревом и печкой. Бабку звали Матреной, и была она непростая, с хитрецой. В селе ее считали глазливой и побаивались. На самом деле Матрена хорошо знала травы, и многие, не любя ее, обращались к ней за помощью. Она дала ему траву «от тоски». Он смеялся, но пил. И – смешно – помогало. Тогда, у Матрены, он начал впервые вести свои записки – что-то вроде дневника. Пил парное молоко, вечерами, на закате, уходил на речку. Часами сидел на берегу, размышлял о жизни. Потом долго пил с Матреной чай, и вели они философские беседы. Матрена была непроста и неглупа, и ему было с ней разговаривать и спорить даже любопытно. В общем, неплохо коротали они с Матреной свои одинокие дни. Иногда срывался в Москву – просто пошататься по улицам, сходить на выставку, а если повезет, прорваться в театр на «лишний билетик». Из города всегда привозил Матрене гостинцы – конфеты, чай, колбасу. Если очень уставал, оставался ночевать на вокзале. А утром первым поездом спешил на работу. Вот тогда, рано утром, в вагоне электрички он и встретил Веру. Она сидела напротив него и дремала. Он разглядывал ее – хорошее, усталое лицо, из-под косынки выбиваются пышные рыжеватые волосы. Резиновые сапоги, теплая куртка, в руках небольшая плетеная корзина. Она почувствовала его взгляд и открыла глаза.
– За грибами? – спросил он.
Она кивнула. Сказала, что знает грибные места и уже много лет ездит туда по осени.
– А возьмите меня с собой, – осмелел он.
Она рассмеялась:
– Ну, если хотите… Только я хожу долго и глубоко в лес, а вы одеты как-то неподходяще. – Она с сомнением посмотрела на его хилый пиджачок и легкие ботинки. Вышли на станции Коча и, минуя окрестные деревушки, пошли по кромке леса. Она действительно прекрасно знала лес и эти места – часа через два в корзине лежали крепкие боровики и подосиновики. Мелочь вроде сыроежек и лисичек не брали. Потом она объявила привал, они вышли на просеку и уселись на поваленной сосне. Вера достала бутерброды и термос с кофе. Молчали, и молчать было хорошо. Ему показалось тогда, что эту женщину он знает много лет. Всю свою жизнь. Усталые, медленным шагом, они пошли на станцию. У билетной кассы он попросил разрешения ее проводить.
– Ну, здесь же и ваша доля! – усмехнувшись, она кивнула на корзину с грибами.
– Вот именно, – подтвердил он, и они рассмеялись.
В электричке Вера рассказала ему, что развелась семь лет назад – муж был из гуляк, но она терпела и закрывала глаза, ждала, когда подрастет сын. Мальчик поступил в институт и на втором курсе женился. Короче говоря, она осталась одна. Хотя сын – чудесный. Заботливый и внимательный. Звонит каждый день. На выходные – обязательно заезжает. Да и невестка – девочка замечательная, никаких претензий. Он тогда подумал, что она хороший человек. Это наверняка. Они приехали к ней – жила она на Юго-Западе. Квартира поразила его чистотой и уютом, и он понял, что совсем отвык от таких простых и обыденных вещей. Потом они ужинали, долго пили чай и наконец взялись за грибы. Вера чистила их бережно и аккуратно, а он, неловкий неумеха, срезал полножки и полшляпки. Чистили до трех ночи. Потом она поставила грибы на огонь и сказала, что это обязательно, иначе они до утра пропадут. Он уже совсем валился с ног, и она, видя это, постелила ему в комнате сына.
– Не боитесь? – спросил он.
– Я уже всего отбоялась, – коротко ответила Вера.
Он вообще заметил, что она предельно кратка в определениях. Потом она предупредила, что в воскресенье спит долго – отсыпается за всю рабочую неделю, и если он пташка ранняя, то может, не стесняясь, позавтракать – в холодильнике всего вдоволь. Ночью он спал так крепко и сладко, как давно не помнил. Утром был бодр, как никогда. Умылся, оделся и пошел в магазин. Там купил все, что возможно, а возле метро бабка продавала белые и фиолетовые игольчатые астры. Когда он вернулся, она жарила грибы, и даже у лифта, на лестничной площадке, стоял крепкий и душистый грибной дух. Он позвонил в дверь, и она открыла ему – ни капли не смущаясь и не удивляясь. Велела вымыть руки и принялась разбирать сумку. Потом они ели грибы с жареной картошкой, и не было ничего вкуснее. А после завтрака он предложил ей поехать в центр – погулять, может, сходить в кино. Она отказалась – должны были приехать сын с невесткой на обед. Тогда он сказал, что пора и ему, собрался, поблагодарил за кров и еду и долго и нерешительно мялся у двери. Она сама предложила ему встретиться в следующие выходные.
Через месяц она сказала ему – переезжай. Что терять время? Его и так у нас не слишком много.
В этом была вся она – без пустого и дурацкого кокетства и лишних, ненужных слов. Он уволился из газеты, попрощался с Матреной и, собрав свои нехитрые пожитки, переехал к Вере. Она, химик по образованию, довольно легко устроила его в журнал «Химия и жизнь», где рулил отделом ее институтский приятель. Он был счастлив – новые люди, новый коллектив. Москва, театры, выставки. А как было у них с Верой… Об этом даже было страшно вспоминать. «Так не бывает, – думал он. – Так просто не может быть!» Она была абсолютно его человеком – с головы до пят, и в рассуждениях, выводах, восприятии жизни, позиции и оценке. Он, прожив большую половину жизни, и не предполагал, что такое бывает. Им было все вновь и все интересно вдвоем. Вдвоем они открывали неизвестные доселе миры, удивлялись, как совпадают взгляды и вкусы. Это было какое-то ошеломляющее откровение и удивление.
С ее сыном, кстати, он довольно быстро нашел общий язык, с радостью обнаружив в мальчике знакомые и родные Верины черты. Он обожал воскресные семейные обеды. Настаивал водку на рябине, запекал баранью ногу, накрывал на стол – белая скатерть, приборы, салфетки. И думал о том, что у него в первый раз в жизни семья, со всеми ее атрибутами. И вдруг, в один день, все кончилось.
«Чертова жизнь!» – думал он.
Ведь именно сейчас ему хотелось жить как никогда. Врач ничего не обещал. В смысле хорошего. Говорил, что третья стадия – поздновато, но советовал не терять надежду. А что он мог еще сказать? Вера, конечно, была в эти черные дни рядом. Взяла на работе отпуск, не уходила ночами – спала на стуле сидя. А ведь они так мечтали поехать летом на море! Но, как говорится, расскажи Господу о своих планах…
Но кончается все – и кончилась больница. Дома оказалось тяжелее – в больнице сестры как-то легко и умело расправлялись со всеми его причиндалами, а здесь пришлось самому. Правда, врач обещал, что, возможно, они эту гадость переделают, какая-то пластика, что ли. Словом, это приобретет мало-мальски человеческие очертания, и жить будет легче. Но пока до этого было очень далеко, и надо было научиться со всем этим жить. Он и учился – а куда было деваться? Купил широкие рубашки – на два размера больше, – чтобы прятать эти мешочки и трубочки, висевшие на правом боку.
«Как прозаично пахнет смерть! – думал он. – Оказывается, не землей и засохшими цветами, а банальным человеческим дерьмом».
Теперь Верин сын смотрел на него волком – оно и понятно. Устроила мама, так сказать, личную жизнь на старости лет. Поимела удовольствие. Ничего удивительного, что в этой ситуации мальчик думал прежде всего о матери. Ну, не о нем же! Однажды услышал, как он говорил Вере, что эту историю надо как-то разрулить, подумать наконец о себе:
– Ты представь, что тебя ждет в итоге.
Вера тогда сказала ему жестко:
– Замолчи! Не смей!
Он ушел, хлопнув дверью. Не звонил пару недель. Вера, конечно, страдала, но трубку не подняла и не позвонила. «Вот это характер! – думал он. – Ведь сын для нее – вселенная».
Воскресные семейные обеды закончились. Сын с невесткой не приезжали. Какие праздники, когда в доме пахнет болезнью? В прямом смысле, кстати, пахнет. Он, конечно, старался, как мог, чтобы не быть в тягость. Пока Вера была на работе, неловко пытался делать домашние дела. Повар из него был, честно говоря, неважный, но Вера его всегда хвалила. Спал он теперь опять в комнате сына – стеснялся своей немощи. Она, конечно же, не подавала виду, но он знал, что она, очень, кстати, теплолюбивая, спит теперь с открытым окном, укрывшись двумя одеялами. Однажды, видимо от слабости, он задремал в кресле перед телевизором, а открыв глаза, почувствовал ее взгляд и, увидев ее глаза, полные тоски, отчаяния и боли, как-то сразу все решил. Буквально в одно мгновение все встало на свои места. Ушли все раздумья, вопросы и сомнения, стало понятно, что ему нужно делать и как дальше жить. Он написал Вере письмо – подробное и обстоятельное, со всеми доводами и логическими объяснениями. Очень просил его понять и простить. Благодарил за дни, часы и мгновения истинного, неподдельного счастья, за то великое благо, непонятное за что ему, грешному, посланное Богом, – встречу с ней. Он писал ей о том, что не было в его жизни человека ближе ее, честнее и чище, прекраснее и роднее. «Ты была мне ближе, чем самый верный друг», – писал он и опять просил понять и простить. И не искать. Просто умолял не искать, потому что это совершенно бессмысленно – он и сам не знает, куда поедет и где остановится.
«В конце концов, так будет легче для нас обоих. Надо включить рацио». Здесь он, конечно, лукавил – он думал прежде всего о ней. Ведь уходить ему, по сути, было некуда. Он собрал свои вещи и, уже одетый, стоял в прихожей, но вспомнил, что не приготовил Вере ужин. Он разделся, бросил свои котомки и пошел на кухню, сварил макароны и натер на крупной терке сыр, заботливо укрыл его фольгой – чтобы не высох, – и убрал в холодильник. Потом еще вспомнил и полил фиалки, стоящие на подоконнике, – Вера всегда забывала поливать цветы.
На вокзале пришла гениальная, как все простое, мысль, и через четыре часа он шагал по узкой тропинке вдоль поля, ведущей к Матрениному дому. Впрочем, «шагал» – громко сказано: честно говоря, уже еле полз.
– Только бы она была жива, – шептал он. – Только бы была жива.
Матрену он увидел уже на подходе – она стояла на крыльце и трясла полосатые домотканые половики. Тяжело дыша, он прислонился к забору и хрипло, из последних сил, выкрикнул:
– Здравствуй, Матрена!
Она долго и внимательно смотрела на него, а потом кивнула – проходи, чего к забору приклеился!
Они зашли в дом, он сел и глубоко, полной грудью, вдохнул знакомые запахи: горьковатых трав, мокрых полов, молока и печки. Она ни о чем его не спрашивала – молча налила стакан молока, отрезала ломоть хлеба.
– Постелю тебе? – спросила она.
– Только не в доме. Постели мне в сарае, Матрена.
Она молча взяла белье и пошла в сарай, где стоял низкий старый топчан, на котором лежал жесткий соломенный самодельный матрас. Он рухнул на этот топчан как подкошенный и тут же уснул. Проснулся только утром следующего дня. Матрена стояла у плиты и жарила яичницу.
– Садись, – кивнула она. Он почувствовал, что сильно голоден. Почти забытое чувство. «А может, еще обойдется?» – впервые подумал он.
Ели молча – тщательно и обстоятельно. Потом Матрена убрала со стола, налила чаю, села напротив и стала смотреть на него долгим, внимательным и изучающим взглядом.
– Беда с тобой, – наконец сказала она. – Большая, вижу, беда. От себя бежишь?
– Нет, – улыбнулся он. – Просто не хочу причинять неудобства хорошим людям.
Она кивнула.
– Сдашь сараюшку? – спросил он.
– А почему не избу – удивилась она.
– Я же сказал – не хочу причинять неудобства хорошим людям.
– А что врачи? – спросила Матрена.
– Они уже все сделали все, что могли, – ответил он.
– Живи! Только по осени там холодно будет, – отозвалась Матрена.
– Ну, до осени нужно еще дожить! – усмехнулся он и продолжил: – Ты извини, что я без гостинцев.
Матрена махнула рукой. Потом они вместе заткнули сеном в сарае стены, бросили на крышу кусок нового толя – от дождя. Он поставил на табуретку возле кровати настольную лампочку без плафона, принесенную с чердака, примостил на этажерке книги и рядом – фотографию Веры в простой деревянной рамке. Матрена внимательно посмотрела на фотографию и сказала:
– Хорошая женщина. – Потом взглянула на него и добавила: – А ведь она страдать будет. Биться. По тебе тосковать. А ты сбежал.
– Все правильно Матрена, все правильно. Ты уж мне поверь!
Теперь он чувствовал, как слабеет – день ото дня. С каждым днем, словно по капле, по песчинке из него уходили силы. Теперь он все больше спал, понемногу читал. Вечерами приходил к Матрене в избу. Пили чай, много молчали. Она заваривала ему какие-то травы. Он, конечно, пил, чтобы не обижать Матрену, но понимал, что помогают они мало. Да это было бы смешно. Теперь он страницу за страницей перелистывал свою жизнь – и оказалось, что так мало было в ней хорошего. Только Вера и те короткие пару лет, что они были вместе. Много это или мало? Конечно, жестоко, чудовищно мало! Но спасибо и за это. Наверно, и это он не очень-то заслужил.
Разумеется, он не знал, что Вера долго искала его – нашла его клетушку в бараке, откуда его, как оказалось, выписали за неуплату. Отыскала его владимирских знакомых, но те ничем не могли ей помочь – ведь последние годы он ни с кем не общался, ему вполне хватало одной Веры. Наконец кто-то из прежних приятелей вспомнил, что он когда-то снимал угол у какой-то бабки в деревне. Но названия деревни вспомнить никто не смог. Она объездила все близлежащие к городу деревни – но его не нашла.
К сентябрю ему стало совсем худо. Он понимал, что скоро начнутся боли, и этого, естественно, боялся больше всего. Матрена уговаривала его вызвать врача – но он отказывался. Она толкла какие-то горькие и пахучие корешки, и он, морщась и преодолевая отвращение, пил их. Он уже временами начал проваливаться словно в забытье – и тогда ему опять снилась или виделась та широкая и спокойная река, и ровное, без единого облачка, яркое, голубое небо, и старая, ветхая лодка, с потемневшими и треснувшими веслами и ржавыми уключинами. И он на дне лодки, лежа на подстеленном ватнике, смотрит в небо. Лодка медленно плывет по течению, и на душе у него покой и благость. Только он не очень понимает, куда плывет и к какому берегу пристанет. Но это почему-то не очень огорчает его.
Вечером к нему зашла Матрена. Принесла молока и черствый пирог с повидлом. Он выпил молоко, отломил небольшой кусок пирога и с усилием прожевал его, потом совсем без сил откинулся на подушку и закрыл глаза.
– Перебирайся в хату, – строго сказала Матрена. – Хватит дурить!
– Завтра, – пообещал он. – Завтра – обязательно.
Он взял Матренину руку и, как мог, крепко пожал ее. Матрена погладила его по голове.
Он долго спал, а когда проснулся, тяжело и осторожно встал, надел свитер, джинсы, теплую куртку и разношенные, старые Матренины сапоги. Потом вышел из сарая и медленно пошел к реке. Идти было недалеко – метров триста. Но и этот путь показался ему бесконечным. На берегу он нашел старую лодку, привязанную толстой, мокрой веревкой к крепкому корявому суку. Он отвязал веревку, тяжело, с трудом, влез в лодку и веслом оттолкнулся от берега. Лодка медленно поплыла. Он лег на дно и закрыл глаза. Было зябко, и он поплотнее закутался в куртку. Потом он, наверное, заснул, а проснулся от тревожного и громкого вскрика какой-то птицы. Открыв глаза, увидел слабо и медленно светлеющее небо и яркую оранжево-желтую полосу света на горизонте. Птичий гам набирал обороты и становился сильнее и стройнее. Он увидел высокий и крутой обрывистый берег реки и темную полоску отдаленного, густого леса. Потом небо окончательно просветлело, и неяркое, почти белое, солнце прочно заняло свое законное место.
Он старался не думать о том, что лодку когда-нибудь прибьет к какому-то берегу. А может, река впадает в другую реку, более полноводную, а потом еще в одну – у реки ведь не бывает конца, – а та, скорее всего, в море. Обязательно в море. Он улыбнулся. На душе было легко и спокойно. Лодку слегка закружило на месте, но потом ее спокойный и плавный ход снова выровнялся. Он закрыл глаза.
«Последнее путешествие, – подумал он. – И надо же, совсем не страшно!»
Река казалась длинной и бесконечной – гораздо более долгой, чем жизнь.
Случайные обстоятельства
Самолет, пружинисто подпрыгивая, вздрогнул и наконец мягко притормозил. В салоне экономического класса раздались аплодисменты.
Эля улыбнулась и оглядела своих попутчиков. В бизнес-классе аплодисментов не было: серьезные, хорошо одетые люди неспешно захлопывали крышки ноутбуков и собирали бумаги. Стюардессы приветливо улыбались и помогали достать вещи с верхних полок. Стройный стюард с лицом молодого Алена Делона услужливо подал Эле ее портфель и плащ.
– В Москве тепло, мэм, – с улыбкой на английском заметил он.
– Знаю, – ответила она по-русски. – Но погода в Москве так переменчива.
Потом она шла по резиновому «рукаву» и спрашивала себя: «Ну что, подруга, дрейфишь? Да ну, ерунда, – отвечала она сама себе. – С чего бы это?» Пусть сейчас дрейфят все остальные, а она… Она свое отбоялась. Теперь она победительница. Все ниц!
Она улыбнулась и прибавила шагу. Глянула на свое отражение в стекло. «Ничего себе, дамочка сорока пяти лет! – с удовольствием подумала она. – Шейка, грудка, попка, ножки – какая прелесть вы, миссис, однако!»
Она опять улыбнулась и прошла на паспортный контроль. Пограничница, молодая рыхловатая особа с обиженным на весь мир лицом, долго смотрела Элин паспорт и неприязненно разглядывала саму Элю. Потом с размаху, злобно шмякнула печать.
Эля тяжело вздохнула. «Здравствуй, Родина! Опять, видимо, мне тут не рады».
Она вышла в зал и, чуть прищурившись (годы, годы, как ни крути), стала искать в толпе, как это называлось теперь, «встречающую сторону». Этот засранец Макс, конечно же, свалил на уикенд в загородный дом, набрехав про кучу важных и неотложных дел.
Эля увидела высокого парня в светлых джинсах и голубой майке – в руках он держал табличку с ее фамилией. «Не по ранжиру встреча», – раздраженно подумала она, должен быть костюм, белая рубашка и как минимум «Мерседес». Но все-таки убрала с лица недовольную гримасу и махнула парню рукой.
Он ловко протиснулся сквозь строй встречающих и бросился к ней.
«Красавец! – подумала Эля. – Просто чудеса какие-то! Ему бы в Голливуд, а он водила у этого хитрована».
Она кивнула ему и пошла слегка впереди.
– Как долетели, миссис Броуди? – на английском спросил парень.
«Однако! – усмехнулась Эля. – Почти без акцента. Но если у Макса такие водители, какие же у него тогда секретарша и жена?»
У выхода стоял белый «Мерседес».
«Ну-ну, – подумала она. – Мадам довольна. Вполне».
Парень открыл заднюю дверь и положил в багажник чемодан.
– Кирилл, – представился он. – Как вы себя чувствуете, миссис Броуди? Полет был приятным?
– Кирилл, к черту церемонии! Вы же отлично знаете, что я русская, – раздраженно проговорила Эля.
– Простите, – виновато ответил он.
Некоторое время они ехали молча. Эля с любопытством разглядывала пейзаж за окном. Да, дороги действительно неплохие, и эти рекламные щиты, и ухоженные чистые обочины… Видимо, и впрямь у них здесь большие перемены. Впрочем, посмотрим, посмотрим.
Въехали в город – те же унылые «спальники», серая дымка за окном – день обещал быть жарким. Погода словно сошла с ума – небывалое, аномальное лето. Муж был категорически против этого путешествия. Но она, как всегда, впрочем, сделала все по-своему.
Молчание слишком затянулось, и Эля обратилась к парню:
– Как вы тут в эту жару справляетесь?
Он живо откликнулся:
– Кондиционеры, миссис Броуди. Слава богу, везде кондиционеры. И в машине, и в офисе. Дома, правда, тяжелее. Но я ничего, терплю. А вот мама на даче спасается. – Он испуганно замолчал и глянул в зеркало, не сказал ли чего-то лишнего.
Эля мягко улыбнулась:
– Моя мама тоже совершенно не переносит жары. Квартира у нас на Манхэттене, при всех кондиционерах тяжеловато – на улицу не выйдешь. Город! Слава богу, есть загородный дом – она все лето тоже там спасается. Кругом лес и озеро.
Парень кивнул и, как показалось Эле, немного расслабился.
Она достала из сумочки бутылку перье и сделала пару глотков. Теперь она глядела в окно на чистые и зеленые улицы, на корзины разноцветных петуний, развешанные на фонарях, на новостройки и яркие вывески магазинов и ресторанов.
«А он и вправду изменился, этот город, – с удивлением подумала она. – Действительно Европа, не врут».
Они подъехали ко входу отеля «Мариотт».
– Миссис Броуди, – обратился к ней Кирилл, – если вы не против, мы можем провести сегодня день вместе. Я покажу вам город, магазины – все, что вы хотите. Максим Львович сказал, что я поступаю в ваше распоряжение.
– Да? – как бы удивилась Эля и с обидой спросила: – А где же сам незабвенный Максим Львович? На даче отдыхает?
Кирилл смутился.
– Не знаю, ей-богу. Мое дело – выполнять его поручения.
Эля задумалась. Конечно, проще и, наверное, разумнее всего было бы принять душ, заказать завтрак в номер и отправиться спать. Но ей почему-то захотелось сейчас, прямо сейчас (после душа и кофе, разумеется) переодеться, скинуть каблуки и костюм, смыть косметику, вытащить шпильки из волос и выйти на не остывший после душной ночи асфальт этого города. Города, который она не видела без малого два десятка лет.
Ее колотило от нетерпения. Ну посмотрим, посмотрим, что вы там наворотили.
– Ну, раз так, – проговорила она, – подождите, пожалуйста, меня в холле. Я спущусь минут через сорок. И, если не возражаете, вы будете моим гидом. Ведь у нас два дня впереди – суббота и воскресенье. А с понедельника начнется работа. Я хочу пройтись по Горького пешком.
– Тверская, – тихо напомнил он.
– Да какая разница! – рассмеялась Эля. – Пусть будет Тверская. Хочу на Старый Арбат, правда, говорят, что вы его сильно покалечили. Еще к моему институту, ну, где я училась. К общежитию, возможно. А может, и нет, – задумчиво сказала она. – И сувениры, обязательно сувениры – всякая ерунда, матрешки, шкатулки. У нас этого добра навалом, но нужно же коллегам привезти подарки. Подарки любят все. Обождете меня в лобби?
Эля зашла в номер, сняла пиджак, села в кресло и с удовольствием скинула туфли. Минут десять сидела с закрытыми глазами, потом вздохнула, встала и пошла в душ.
Минут через сорок она вышла в холл отеля. Распущенные по плечам волосы, ни грамма косметики, голубые джинсы, легкая, почти прозрачная, белая марлевая блузка, шлепанцы на ногах – Кирилл не сразу ее узнал.
Она увидела, как он удивлен и растерян.
– Ну, – рассмеялась она, – в путь?
Он ошарашенно кивнул.
– Я сяду спереди, – решительно сказала она. – Так легче общаться – вы же мой гид. Да и обзор лучше.
Он опять молча кивнул.
Город за окном был пуст и тих – замученные жарой москвичи хоронились на дачах. Она жадно глядела в окно. Город действительно был прекрасен и почти неузнаваем. Кирилл охотно рассказывал про новые постройки, театры, магазины. Было видно, что он горд за столицу.
Проехались по Тверской, по Новому Арбату, поплутали по улочкам Замоскворечья. Миновали Каменный мост, остановились у вернисажа. Прошлись по рядам, где торговали художники. Эле понравился один пейзаж – московский дворик, ранняя весна. Почти Поленов.
– Хотите купить?
Она задумалась. Кирилл стал яростно торговаться с продавцом. Эля остановила его:
– Не надо.
Достала деньги и отдала художнику. Жара постепенно набирала обороты.
– Хочу на рынок, Кирилл. Вас это не удивляет? – спросила она.
– Нисколько, – улыбнулся он. – Там тоже вполне себе пейзажи. Да еще какие.
Поехали на Дорогомиловский – и там она, искушенная, ахнула. Заморские фрукты – любые, со всего света, рыбные ряды – господи, такое нечасто увидишь в Америке. Молочные, мясные. Купили горячий лаваш, разорвали его пополам и запили гранатовым соком. Кирилл радостно косился – было видно, что ему нравилось ее удивлять.
Потом заехали в торговый центр, и Эля удивлялась и возмущалась ценам:
– Как вы тут живете? Уму непостижимо.
Из магазина ей захотелось поскорее уйти.
Потом обедали в маленьком грузинском ресторанчике – лобио, сациви, пхали, шашлык. Эля выпила бокал красного вина и почувствовала, как сильно устала. И еще ей безумно захотелось спать.
– В отель, Кирилл, – попросила она. – Что-то я совсем сломалась.
– Вы и так большой герой, миссис Броуди, – восхищенно сказал он. – После такого перелета! Поражаюсь вашему мужеству.
«А он непростой, этот парень. И красавец какой – русые волосы, синие глаза. Крупный рот, отличные зубы. А фигура? И руки! Какой прекрасной лепки руки!»
В машине она заснула. А когда открыла глаза, то увидела, что накрыта пледом, а Кирилл сидит рядом.
– Господи, простите, ради бога! Вам, наверное, к семье надо, а вы мой сон караулите, – извинилась Эля.
Он мотнул головой:
– Нет, не волнуйтесь, все в порядке. Это моя работа. К тому же я никуда не спешу.
В холле отеля они договорились, что завтра он будет ждать ее звонка. Но, понятно, когда она отоспится.
– Завтра поедем по местам боевой славы, – усмехнулась Эля. – Общага, институт…
– Дом?
– Какой дом, Кирилл, побойтесь бога! Я ведь не москвичка. Лимита, как тогда говорили. – Она протянула ему руку: – Спасибо. Все было здорово. Честное слово, здорово!
Он улыбнулся.
В номере у Эли едва хватило сил раздеться и плюхнуться в кровать. Потом она спохватилась и набрала номер мужа. Он ответил бодрым голосом:
– Как дела? Вижу, ты в порядке.
– Я в порядке, милый. Все хорошо. Как мама?
– Елена здорова, – ответил муж.
Потом раздался звонок. Макс, хитрая бестия:
– Ну, как ты, Эля? Как прошел день?
По голосу она поняла, что Макс в курсе.
– Мило, – ответила она. – Очень мило. Твой Кирилл – прекрасный гид и отличный водитель.
– Какой водитель, милая? Он мой сотрудник, юрист, между прочим. Умница, отличный парень. Золотые мозги. МГУ, юрфак, заметь. А красавец какой?
– Ну, Макс, – ответила она ему в тон, – ты, похоже, им гордишься. Что-то здесь нечисто.
Они оба рассмеялись.
– Милая, завтра отдыхай. А с понедельника пахота, дорогая!
– Мне ли привыкать? – ответила она. И положила трубку.
«Мог бы сам встретить, засранец, и покатать мог сам. Видно, не в силах оторваться от молодой красотки жены. Сколько ей, лет двадцать, кажется? Старый хитрый кот. Ну и черт с тобой! Мне и так неплохо».
В номере было прохладно, тихо журчал кондиционер, и были наглухо задернуты шторы. Эля словно провалилась в глубокий, как яма, сон.
Проснулась она, как ни странно, совсем рано, в восемь утра. Встала бодрая и готовая к новым подвигам. Заказала в номер завтрак, приняла душ и к девяти была уже вполне готова.
Кирилл приехал к десяти. Эля даже успела посмотреть по телевизору какую-то передачу, что-то там про посадки на дачном участке – мило и смешно. Они поехали к ее училищу. Она вышла из машины, посидела в сквере на лавочке – и ничего, ну абсолютно ничего не почувствовала, словно не было в ее жизни этих нескольких лет. Спокойно села обратно в машину. Потом поехали к общежитию – там как-то шумно и тревожно забухало в груди, и Эля попросила Кирилла уехать оттуда.
– Ну, а теперь за подарками! – весело сказала она.
– Тогда это Измайлово. Вернисаж. Там всего полно, на любой вкус и кошелек. Да и вообще интересно поглазеть. И старина попадается, и антиквариат.
Ехали по Садовому.
– Это мой дом, – подбородком кивнул он на крепкий, пятидесятых годов, сталинский дом.
– Ого! – сказала Эля. – Здесь, наверное, непростые люди живут, дом-то, по-моему, престижный, да и район. У вас ведь центр стоит непомерно дорого?
– Да, дом непростой, и соседи с регалиями. Правда, многие квартиры уже перепроданы, но мы с мамой пока держимся, – улыбнулся он.
– А знаете, мне кажется, я когда-то была в этом доме. По-моему, именно в этом, хотя точно не помню. Что-то похожее, очень похожее, но я могу ошибаться – двадцать пять лет прошло.
Она почти наверняка знала, что это именно тот дом. Вряд ли она ошибалась. Монстр из серого кирпича с мраморной отделкой по фронтону. С большими окнами-фонарями. С тяжелой деревянной дверью подъезда. С мерзкой старухой-консьержкой. Впрочем, где та старуха? Да и вообще, где та жизнь… Ну и черт с ней. В конце концов, приехала она не за сопливыми воспоминаниями, не сулящими ничего хорошего. Она просто приехала в этот город по делам. По важным и неотложным делам, а не на руины своей прежней жизни. Все. Точка. Хватит про это.
И куда ее понесло – училище, общага… Дура. Набитая дура. Ведь давала себе слово. Ан нет, понесло. Всё. Теперь только дела и удовольствия. Сегодня еще удовольствия. А уж завтра дела. Времени у нее всего неделя, и все надо успеть.
В Измайлове ей понравилось – веселые жуликоватые продавцы, куча ерунды, но и среди нее можно было найти что-нибудь любопытное. Накупила полно сувениров. Долго стояла возле латунного старинного пузатого самовара. Он был очень хорош, но тащить самовар в Нью-Йорк было сущей глупостью. По бешеным ценам продавали всякую чепуху, которой завалены все «блошинки» Старого и Нового Света. Она вспомнила развалы в Амстердаме и Париже, и ей стало смешно.
– Обедать? – весело спросила Эля. – Что-то я совсем валюсь с ног.
– Перемена часовых поясов, – серьезно ответил Кирилл. – Давайте поедем в какой-нибудь ресторан с русской кухней – борщ, блины, поросенок.
– Нет, ради бога! Все это стилизовано, вылизано. Да и что вы думаете, я двадцать пять лет борща не ела? Мама раз в неделю точно борщ варит. А блины я еще со студенчества ловко пеку. Час – и пятьдесят блинчиков. Это тогда было дешево и сытно. А нет ли у вас приличного китайского ресторана? – спросила Эля.
– У нас теперь есть все, – с гордостью ответил Кирилл. – На любой вкус.
Она усмехнулась: любит мальчик свой город и гордится им. Что ж, похвально. Здесь и вправду стало красиво.
Они долго сидели в маленьком китайском ресторанчике, где над столом уютно горел приглушенным светом красный бумажный фонарь.
Как часто тогда она была голодна! Что такое стипендия в пятьдесят рублей? Все проедалось за три-четыре дня. А потом – мамина картошка, грибы, сало. Но тихая девочка из деревни Боголюбово, что под Владимиром, все равно была невозможно, невообразимо счастлива. Она – в Москве. Она – студентка театрального вуза.
Поступила с первого раза. Вспоминала, как тяжело ее отпускала мама. Как долго плакала и умоляла не уезжать.
– Иди в медучилище, будешь в белом халатике ходить. Всегда подработаешь, укол на дому – рубль, а то и два. Крышу перекроем. Осенью будем огурцы закатывать, варенье варить. Выйдешь замуж – вон ребят сколько. Лешка от тебя млеет – а что, хороший парень, на «КамАЗе» работает, получает хорошо. Или Витька – тот на инженера учится. Тихий, спокойный. Квартира во Владимире. Куда тебя несет! – горько плакала мама. – Одна-одинешенька, в чужом городе. Пропадешь ведь, Элька.
– Не пропаду, мам, – смеялась она. – И известной артисткой стану. Будешь мной гордиться. Замуж за москвича выйду. Тебя заберу. Заживем! – веселилась Эля.
Мать горестно махала рукой.
– Ты выживи там сперва, не сломайся.
А Эля опять смеялась.
В Москве ее приютила, правда, всего на две недели, на время экзаменов, сестра материной подруги Оксаны.
Эля старалась глаза не мозолить. Выпивала утром чаю и шла в сквер напротив готовиться к экзаменам. Обедала у метро – пирожками и газировкой. Приходила только к вечеру. Жадно разглядывала на улице девушек – ах, какие они современные, раскованные! Волосы по плечам, джинсы, холщовые сумки. Чувствовала себя маленькой, затерянной провинциалкой. Ненавидела свои ситцевые платья, дурацкие босоножки и косу на затылке. Мечтала быть как они – свободной и современной. И твердо верила, что будет такой.
На экзамене прочла басню Михалкова, спела «Старый клен». Председатель комиссии спросил, любит ли она поэзию. Она ответила: да, Пастернака. Все удивились, и она прочла свое любимое – «Любить иных тяжелый крест». Потом еще Вознесенского, «Аве, оза».
Видела, что всем нравится, как она читает. Вышла в коридор с пылающими щеками. На улице, на крыльце увидела высокую полноватую девушку с ярким румянцем и русой косой до попы. Девушка была одета в тесноватые джинсы и малиновую распашонку из марлевки. Девушка заметила Элю и протянула ей пачку «Стюардессы».
– Покурим? – спросила она.
Эля мотнула головой:
– Не курю, спасибо.
– Приезжая? – вздохнула «джинсовая» девушка.
Эля кивнула.
– И откуда? – поинтересовалась та.
– Из Владимира, – чуть приврала Эля. Говорить, что она из деревни, не хотелось.
– Наташа, – протянула руку девушка.
– Эльвира, – ответила Эля.
– Господи! – тяжело вздохнула Наташа. – Какой ужас, Эльвира. И это в наше-то время! Постарались твои родители. Затейники.
Эля покраснела. Она и сама стеснялась своего громоздкого и редкого имени.
– Зови меня Элей, – смущенно сказала она.
– Ну, это понятно, – ответила Наташа.
Потом Наташа рассказывала Эле, что в этом году маловато героинь. Она все знает, ориентируется, поступает уже третий год. Сама претендует на роль русских красавиц, пейзанок. Сказала, что охотно берут травести. Ребятам вообще проще, их берут за фактуру.
– А ты, – сказала Наташа, – и не травести, и не пейзанка, и не героиня вроде. Странная у тебя внешность. Волосы смоляные, скулы, глаза узковатые. Ты часом не из нацменьшинств? На этих тоже есть квота.
Эля замотала головой.
– Нет, я просто на бабушку похожа. А там, говорят, цыгане в роду были.
– Странно, – усмехнулась Наташа. – Я коренная москвичка и тяну только на пейзанок. А ты из глубинки – и почти аристократка.
Потом долго болтали об экзаменах, о том, что читали, что пели. Обсудили членов приемной комиссии – кто лютует, кто добрый.
На крыльцо вышли ребята, все как на подбор – красавцы. Но Эля задержала взгляд на одном из них – высоком, худощавом, с темными вьющимися волосами и густыми ресницами.
Наташа перехватила ее взгляд.
– Расслабься, – сказала она. – Это Эдик Лавертов. Ну, ты знаешь, у него отец актер и бабка «народная». Там династия. Такая семья! Он мальчик тонкий, ранимый, неврастеник, в общем. В том году тоже провалился, несмотря на фамилию. Губу не раскатывай – у него лучшие девочки, квартира в центре, машина. В общем, не твоего поля ягода.
Эля смутилась и отвела взгляд. Потом Наташа предложила ей поехать к ней. Наташа жила на Юго-Западе, на окраине Москвы – обычная панельная «трешка», пятнадцать минут пешком от метро. Они пили кофе, и Наташа учила Элю курить.
Вечером пришли Наташины родители. Приятные люди, врачи. Мама нажарила картошки и котлет, и Элю оставили ужинать. Мать Наташи пожалела Элю и оставила у них ночевать. Измученная Эля засыпала с улыбкой – теперь в Москве у нее появилась подруга. Уже веселее.
Дальше они сдавали экзамены и – о чудо! – вместе поступили. Эля увидела в списках фамилию «Лавертов», и почему-то сладко забилось сердце.
Через две недели ей дали комнату в общежитии. Соседкой оказалась тихая крошечная девочка по имени Ксана, приехавшая из Свердловска. У Эли с Ксаной были вполне дружеские отношения, но все же близкой подругой оставалась Наташа.
К концу первого семестра Эля поняла, что по уши влюблена в Эдика Лавертова. Он с шиком подруливал к зданию училища на новеньких «Жигулях», со вкусом носил зеленый кожаный пиджак и цветные водолазки, и от него всегда пахло французским одеколоном. Говорили, что у Эдика есть любовница, какая-то замужняя красотка старше его на добрый десяток лет.
Наташа приобщала Элю к столичной жизни. Научила грамотно подводить глаза, отвела к знакомому парикмахеру. Одолжила денег на джинсы, сказав, что в столице не иметь хотя бы пару джинсов считается дурным тоном. Джинсы купили у Наташкиной знакомой спекулянтки. К концу первого курса Эля была уже не похожа на забитую провинциальную девочку – вполне сходила за москвичку.
Она часто оставалась ночевать у Наташи. Родители Наташи всегда были приветливы. Мама жалела вечно голодную и худющую Элю, а Наташу останавливала – ешь поменьше, разнесет тебя, матушка, лет к тридцати наверняка.
Как-то весной Эдик Лавертов пригласил всех к себе – родителей дома не было.
Огромная, мрачноватая квартира на Смоленке Элю поразила: тяжелые бархатные шторы, бронзовые люстры, картины и фотографии на стенах, большой стол в столовой, множество книг в темных, старинных шкафах, буфет со старинной посудой.
Вечно хмурый и мрачноватый Эдик в этот раз был весел и гостеприимен. Сбегали в Смоленский гастроном, купили закусок и грузинского сухого вина, потом пели песни под гитару, читали стихи и сплетничали.
Из своей комнаты выползла высокая и полная величественная старуха – бабушка Эдика. Седые до белизны волосы забраны в высокий пучок, шелковый халат, тяжелые камеи в ушах. Молча оглядела всю честную компанию и так же величаво удалилась. Все притихли – перед ними была народная артистка, звезда Художественного, знакомая Маяковского и Таирова, подруга Мейерхольда и Алисы Коонен, – но вскоре веселье продолжилось.
К часу ночи все разошлись, а Эля осталась мыть посуду. Эдик спросил:
– Как доберешься? Метро закрыто. Денег на тачку нет.
Он подошел к ней вплотную и положил руки на плечи. С этого дня начался их роман. Счастливей Эли не было на свете человека. Эдик Лавертов! Сам Эдик! Снизошел до нее! И даже вроде влюблен! Она уже знала про него все. Дома у Эдика было не все гладко, вернее, даже совсем не гладко. Мать пила, у отца была вторая, параллельная, семья, и в той семье рос маленький ребенок. Бабка тиранила пьющую невестку, отец надолго исчезал – то съемки, то вторая семья. В общем, под внешним лоском и благополучием пряталась семейная трагедия.
Эдик часто вспыхивал, обижался, бывал резок. Эля много плакала, но все равно чувствовала себя счастливой. Встречались в основном в Элиной комнатке в общежитии. К себе Эдик звать стеснялся. Когда был в добром расположении духа, называл Элю «малыш», а иногда ожесточался, грубил, пропадал на недели.
На курсе он считался самым талантливым, но из-за нервности характера педагоги боялись, что он может пропасть. Наташа и Эля учились ровно, без вспышек. А самой талантливой считалась маленькая Ксана, соседка Эли по общежитию.
В летнюю сессию Эля почувствовала себя неважно – кружилась голова, слабели ноги и сильно подташнивало. «Переутомилась, наверное», – подумала она. А когда закурила и ее сразу вырвало, Наташа посмотрела на нее долгим взглядом и, тяжело вздохнув, сказала:
– Ясно все с тобой. Залетела. Идиотка безмозглая.
Вечером Эля поехала к Эдику, долго ждала у подъезда и, увидев, бросилась ему на грудь. Он долго ничего не мог понять, а когда до него дошло, сказал четко и спокойно:
– Ищи врача. Денег я тебе дам.
Всхлипнув, Эля сказала тихо:
– А может, оставим?
Эдик разозлился:
– Дура, сумасшедшая! Первый курс! Впереди вся жизнь! Или, может, ты подумала, что я тебя в загс поведу? Белое платье, фата, пупс на капоте?
Он еще долго возмущался и даже кричал. А она тихо всхлипывала и успокаивала его.
Наташа тоже была конкретна: аборт, только аборт, и больше ничего!
– Идиотка! На втором курсе уже ходят люди с «Мосфильма». Может, выпадет счастье, и тебя заметят! Кому ты рожать собралась? Этому психическому? Да он сам как ребенок, за ним ходить надо. Да и не женится он никогда! Для него карьера – главное в жизни. А если и женится, то не волнуйся – с головой. А ты кто для него? Дворняжка.
Наташа чеканила эти беспощадные слова, и Эля понимала, что она права. Тысячу раз права. И надо слушать свою умную подругу.
Рассказали все Наташиной матери. Та тяжело вздохнула и сказала, что поможет. Главное – не пропустить сроки.
Через две недели Эля пошла на аборт. Физической боли она не почувствовала – сделали укол. А вот когда пришла в себя – было так тошно, что не хотелось жить. Она не плакала, слез уже не было. На следующий день из больницы ее забрала Наташа. Эдик Лавертов в больницу не приехал.
Эля отлежалась три дня в общежитии и уехала к маме в Боголюбово. Мать видела, что с дочкой что-то происходит. Понимала, что, наверное, неудачный роман. Видела больные Элины глаза и умоляла бросить Москву и остаться дома. Отпаивала Элю парным молоком, пекла пироги с черникой и малиной.
Месяц Эля пролежала на диване, спала, читала старые журналы. А в августе пошла с матерью в лес. Собирали грибы, сушили их на печке. В избе стоял сладковатый и терпкий грибной дух.
В конце августа мать собрала ее в Москву: картошка, грибы, яблоки, варенье. Сосед Лешка отвез ее на своем «КамАЗе» на вокзал.
В Москве она позвонила Наташе.
Подошла Наташина мать и, немного помолчав, заявила, что Наташа здесь больше не живет. Эля удивилась и хотела что-то спросить, но Наташина мать повесила трубку. А вечером пришла Ксана – и Эля узнала, что Наташа вышла замуж за Эдика Лавертова.
Первого сентября Эля в институт не пошла, а через неделю забрала документы. Ксана уговаривала перевестись в другое училище, в Щепку например. Но Эля устроилась на косметическую фабрику «Новая заря», в цех, где варили мыло. От фабрики ей дали койку в общежитии, и она переехала туда.
К вечеру Элю подташнивало от запаха отдушек, которые добавляли в мыло. Фабричное общежитие, конечно же, отличалось от общежития театрального училища. В комнате жили пять девушек – простых, из деревень, мечтавших осесть в Москве и выйти замуж за москвича. Разговоры были только о еде и парнях. Эля в диалоги не вступала – отворачивалась к стене. Для соседок она стала высокомерной чудачкой. Об учебе в театральном училище Эля никому не рассказывала.
Через год она с фабрики ушла – и на всю жизнь возненавидела духи и одеколоны. Устроилась дворником в ЖЭК – ей дали крошечную «дворницкую» в полуподвале жилого дома. Эля была счастлива, что жила одна, – много читала, ходила в кино. Ни с кем не общалась, с удовольствием ранним утром разгребала снег и подметала дорожки.
А еще через год восстановилась во ВГИКе – и там довольно быстро вышла замуж за однокурсника-москвича. Любви не было никакой, влечения тоже – так, повстречались, поженились от нечего делать. У Элиного мужа была своя комната на Таганке. Эля подрабатывала вечерами в Суриковском, натурщицей. Жили тихо и скучно, как соседи. Через три года так же тихо развелись.
Эля попала в столичный театр. Ролей особенно не давали, но начался страстный и тяжелый роман с режиссером. У того была семья, дети, больная мать на руках. В общем, как говорила Элина приятельница и соседка по гримерке Рита, – полная бесперспективка.
Эля знала, что Наташа снялась в двух фильмах – что-то из жизни колхозников. Роли мелкие, да и фильмы пустые. В одном из них Наташа играла доярку, а в другом – продавщицу сельпо.
Эдик Лавертов тоже снимался – три-четыре фильма известных режиссеров, драмы, нервный, рефлексирующий герой. Его называли будущей звездой. Ксана играла в детском театре зайчиков, оленят – Эля сходила на ее спектакль.
Молодые актрисы бегали по «Мосфильму», знакомились с режиссерами, оставляли свои фото в архивах. Эля не суетилась – ей было все равно. Утомительный роман с режиссером закончился. Эле дали от театра комнату – восемь метров на Лесной, и она была почти счастлива.
А еще через полгода Эля познакомилась с Джеймсом Броуди. Случайно, на улице. Просто гуляла по Тверской, и он на ломаном русском обратился к ней с вопросом, как пройти в Столешников переулок. Там жили его друзья. Эля рассмеялась и проводила его до Столешникова. К друзьям Джеймса они пошли вместе.
Через два месяца бизнесмен из Нью-Йорка Джеймс Броуди, торговец медицинским оборудованием, сделал Эле предложение. Расписывали их в Грибоедовском загсе. И уже через две недели миссис Эли Броуди жила в своей квартире на Манхэттене – три комнаты, две ванные, вид на Эмпайр-стейт-билдинг.
Спустя еще полгода Эля забрала к себе мать. Джеймс Броуди удивился – в Америке не принято жить с родителями. Но удивлялся молча. Эле не перечил. Потом они купили большой дом в пригороде, и Элина мать переехала туда. Завела трех кошек и огород. Выращивала помидоры, зелень и цветы.
Эля долго не знала, чем себя занять. Джеймс предлагал разные варианты. Хочешь – любые курсы, хочешь – магазин, маленький, в центре, на твой вкус: тряпки, сумки или обувь. Будешь при деле. Попробовали. Открыли обувной магазин. Эля ездила в Европу, закупала обувь. Но перегорела быстро – ей стало неинтересно. Магазин продала.
Стала ездить с Джеймсом в командировки, потом втянулась, стала партнером. Бизнес шел прекрасно. А когда открылся огромный непаханый рынок – Россия, Эля стала вообще незаменимой. В девяностые открыли совместное предприятие. Дела шли в гору.
С Джеймсом сложились прекрасные отношения – ровные, спокойные. Полное взаимопонимание. Никаких скандалов, слез, истерик, никаких претензий. Вот с детьми не получалось – этот вопрос, казалось, не сильно их волновал, только Элина мать тосковала без внуков.
Эля стала деловой, жесткой – бизнес диктовал свои условия. В свои сорок пять выглядела на тридцать; стройная, длинноногая, грудь, волосы – все, что женщина непременно теряет при родах, – сохранно и в первозданном виде.
В Россию за все эти годы ей захотелось приехать впервые. Когда Джеймс спрашивал, неужели ей неинтересно съездить на родину, она неизменно отвечала: сколько мест на земле, сколько еще стран, успеть бы за жизнь попасть туда! Джеймс удивлялся и пожимал плечами: воля твоя, милая.
Прежнюю московскую жизнь она старалась не вспоминать – и это ей неплохо удавалось. Правда, иногда, чего греха таить, залезала в Интернет. Про Наташу – ни звука, такой актрисы не было в природе, про Лавертова – тоже ничего. А вот маленькая Ксана стала настоящей звездой и кино, и театра. Эля даже купила на Брайтоне диск с ее фильмом. Поразилась – играла Ксана великолепно. Была даже мысль найти Ксану, позвонить ей. Но потом решила, что все это ни к чему, и выбросила эту мысль из головы.
Все, что случилось с ней в этом городе, слишком глубоко ранило ее – как оказалось, на всю жизнь. А Эля не из тех, кто любит сдирать корочки на болячках.
Китайский ресторанчик оказался и вправду милым – тихо, вкусно и красиво.
Кирилл внимательно смотрел на нее.
«А ведь я ему нравлюсь, – подумала она. С удовольствием, надо сказать, подумала. – Ничего так, в свои сорок пять влюбить в себя молодого красавца». А красавцем Кирилл был, вне сомнения. «Сколько ему? Лет двадцать пять или двадцать шесть, не больше. Красив, как бог, придраться не к чему. Вот было бы славное приключение, – усмехнулась она. – Десятки баб на моем месте с удовольствием бы расслабились. И как следствие получили бы море удовольствия». В этом она не сомневалась. Десятки – но только не Эля. Это был не ее стиль. И потом, этот жулик Макс точно бы просек, от него не скроешься, и повернул бы это в свою пользу. А репутация, заработанная годами, куда ценней.
Хотя неплохо было бы оторваться. И забыть обо всем.
«Дура! Старая набитая дура! Завтра начинается работа. Серьезный контракт. На большие, очень большие деньги. Опять деньги! Я уже автомат, а не женщина», – подумала она.
Впрочем, женщиной я была последний раз тогда, на первом курсе, – последний и, если быть точной, первый раз.
Дальше как-то не получалось. С Джеймсом были отношения дружеские, партнерские. Конечно, родные люди, роднее не бывает. Точно знаешь, что никогда и ни в чем тебя не предадут и не подставят. Что там слюни и сопли, страсти-мордасти – разве это стоит того, чтобы рисковать всей своей жизнью?
Кирилл налил ей коньяку и спросил:
– Ну что, миссис Броуди, программа выполнена?
– Я вам уже надоела, Кирилл? – рассмеялась она.
Он мотнул головой:
– Что вы, как можно?
– Да, я устала, – сказала Эля. – И безумно хочу спать. Отвезите меня в отель, Кирилл.
– Миссис Броуди, – ответил он, – я, конечно же, отвезу вас в отель. Вы отдыхайте. У вас были такие тяжелые дни. А если захотите, вечером я заеду за вами, и мы погуляем по ночной Москве.
– Спасибо, – ответила она. – Но у вас наверняка есть свои дела. Не может же не быть своих дел у молодого и красивого человека. Я отпускаю вас. Утром за мной заедет Макс, и мы встретимся в офисе. Должен же этот чертяка проявить ко мне уважение! – рассмеялась она.
– Никаких дел нет. Только смотаюсь сейчас на дачу, отвезу маме продукты. Она у меня одна, чувствует себя неважно, болеет много, – грустно добавил Кирилл.
– А отец? – спросила Эля.
Он помолчал и закурил.
