Книга Пыли. Прекрасная дикарка
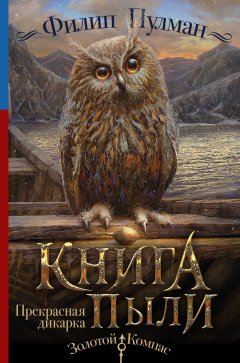
© 2017 by Philip Pullman
© А. Блейз, А. Осипов, перевод на русский язык
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Посвящается Джуд
«Мир безумен, еще безумнее, чем мы думаем,
Неисправимо пестр…»
– Луис Макнис[1], «Снег»
Часть первая. «Форель»
Глава 1. Зал-на-террасе
В трех милях вверх по Темзе от центра Оксфорда, вдалеке от людного участка реки, где Иордан, Габриэль, Баллиол и еще пара дюжин именитых колледжей состязались за первенство на веслах, – в общем, там, откуда город казался лишь толчеей башен и шпилей, вздымающихся над туманным лугом Порт-Медоу[2], – стоял монастырь Годстоу[3], где кроткие монахини предавались своим богоугодным делам; а напротив монастыря, через реку, расположился трактир «Форель».
Трактир, привольно раскинувшийся на берегу, был старый, каменной кладки, большой, но уютный. Над рекой тянулась терраса, где расхаживали павлины (одного звали Норман, другого – Барри), бессовестно подкрепляясь закусками со столиков и время от времени задирая головы, чтобы испустить свирепый и бессмысленный вопль. Имелся в трактире и закрытый бар, где местные сливки общества, если можно так назвать университетских профессоров, собирались, чтобы выкурить трубочку за кружкой эля; и бар открытый, где лодочники и батраки с окрестных ферм посиживали у камина и поигрывали в дартс, сплетничали за стойкой, заводили шумные споры или просто потихоньку заливали глаза; имелась кухня, где жена трактирщика каждый день готовила бычью ногу на вертеле, вращая его над очагом при помощи хитроумной системы цепей и блоков; и, наконец, имелся мальчик на побегушках, Малкольм Полстед.
Малкольм – одиннадцати лет от роду, рыжий, невысокий и крепко сбитый – был сыном трактирщика, единственным ребенком в семье. Он вырос любознательным и дружелюбным, и в улверкотской начальной школе[4], куда он ходил, всего за милю от дома, друзей у него хватало, но все-таки больше всего Малкольм любил играть сам по себе, со своим деймоном Астой. У них была лодка – каноэ с гордым именем «La Belle Sauvage» – что по-французски означало «Прекрасная дикарка». Один приятель-весельчак решил, что выйдет забавно, если переправить «v» на «s», и «Дикарка» превратилась в «Сосиску». Малкольм попытался закрасить царапины и некоторое время терпеливо трудился, но после третьего слоя краски рассвирепел и столкнул того придурка в воду, после чего они заключили перемирие.
Как и всякому сыну трактирщика, Малкольму приходилось помогать родителям: мыть посуду, разносить полные тарелки и кружки и забирать со столиков опустевшие. Это его ничуть не огорчало: работа есть работа. Только одно портило ему жизнь – судомойка Элис, высокая худющая девица с темными волосами, которые она зачесывала назад и собирала в жидкий хвостик. Ей было всего пятнадцать, но на лбу и в уголках рта уже наметились складки – так часто она хмурилась от досады на саму себя. Малкольма она принялась дразнить с первого же дня, как устроилась на кухню: «Эй, Малкольм, а как твою подружку звать? Что значит “нет подружки”? А с кем это ты гулял вчера вечером? Ну и как, поцеловал ее? Ты что, еще ни разу не целовался?» Он долго старался не обращать внимания, но в конце концов не вытерпела Аста: накинувшись на деймона Элис, она швырнула этого тощего галчонка прямо в лохань с мыльной водой и принялась кусать и трепать, пока Элис не завизжала и не запросила пощады. Потом она, конечно, нажаловалась матери Малкольма, но та заявила: «Поделом тебе! Не жди, что я тебя пожалею. И впредь держи свой бесстыжий язык за зубами».
С тех пор Элис помалкивала. Они с Малкольмом старательно не замечали друг друга: он ставил стаканы на сушилку, она брала их и мыла, а он вытирал и нес обратно в бар – и все это в полном молчании, не обменявшись ни словом, ни взглядом. Малкольм не то что говорить – даже думать о ней не желал.
Но вообще трактирная жизнь была ему по душе. Особенно разговоры, которые иногда удавалось подслушать. Интересно было все, о чем бы ни толковали завсегдатаи, – о продажных чиновниках из Комиссии по очистке рек, о правительстве, которое, очевидно, состояло сплошь из беспомощных идиотов, или, что было лучше всего, о философских материях. Например, что старше – Земля или звезды?
Беседы такого сорта порой настолько его захватывали, что, устав стоять с пустыми стаканами в руках, Малкольм пристраивал их на стол и встревал в разговор – но сперва непременно прислушивался и старался вникнуть. Многие ученые из университета, да и прочие посетители знали его в лицо и по имени и не скупились на чаевые, но Малкольм никогда не стремился разбогатеть: деньги, полученные от чужих щедрот, казались ему милостью судьбы, он привык считать себя везунчиком, и впоследствии это пошло ему на пользу. Будь он из тех мальчишек, к которым прилипают клички, его наверняка прозвали бы Профессором, но Малкольм был не из таких. Когда его замечали, он людям нравился, да только замечали его нечасто, – и это тоже оказалось к лучшему.
Еще один мир, в котором Малкольма считали своим, лежал по ту сторону реки, сразу за мостом, до которого от трактира рукой было подать, – в серых каменных зданиях, среди зеленых полей, ухоженных садов и огородов монастыря святой Розамунды[5]. Монахини сами обеспечивали себя почти всем необходимым: выращивали овощи и фрукты, держали пасеку, шили великолепные церковные облачения и продавали их за золото, не стесняясь торговаться. Но все же и у них порой возникала нужда в услугах расторопного мальчишки: то сбегать с поручением, то починить стремянку под надзором пожилого плотника Тапхауса, то принести рыбу из Медли-Пондс, рыбацкой заводи чуть ниже по течению. «Прекрасная дикарка» тоже помогала добрым монахиням: не раз и не два Малкольм отвозил сестру Бенедикту на станцию почтовых дирижаблей с драгоценной посылкой – епитрахилями, ризами или казулами для епископа Лондонского, который, судя по всему, носил свои облачения, не снимая ни днем, ни ночью (иначе совершенно непонятно, почему они так быстро изнашивались). И в каждой такой неспешной поездке вниз по реке и обратно Малкольм узнавал много нового.
– Сестра Бенедикта, а как это у вас ихние посылки так аккуратно выходят? – спросил он однажды.
– Их посылки, – поправила сестра Бенедикта.
– Ага, их. Как это они выходят так аккуратно?
– «Такими аккуратными», Малкольм.
Малкольм не обижался. Это была игра, в которую они с сестрой Бенедиктой играли уже давно. Но последнее замечание его смутило:
– Я думал, «аккуратно» тоже можно.
– Все зависит от того, что ты хочешь назвать аккуратным: сам процесс или его результат.
– Ну ладно, неважно, – сдался Малкольм. – Я просто хотел спросить, как это вы… их так ловко заворачиваете.
– Когда в следующий раз буду собирать посылку, обязательно тебе покажу, – пообещала сестра Бенедикта и слово свое сдержала.
Малкольм обожал монахинь – за то, что они вообще всё делали аккуратно, и за то, с какой любовью сажали плодовые деревья вдоль шпалер у солнечной стены сада, и за прелестные голоса, которыми возносили хвалы Господу в общем хоре, и за все те маленькие благодеяния, которые они оказывали разным людям. И разговаривать с ними о религии было интересно.
– А вы знаете, что в Библии сказано, будто Бог сотворил мир всего за шесть дней? – спросил он однажды старенькую сестру Фенеллу, заглянув на кухню, чтобы помочь ей с готовкой. Монастырская кухня была огромная, с высокими потолками.
– Так оно и было, – подтвердила сестра Фенелла, вымешивая тесто.
– А откуда же тогда взялись все эти ископаемые, которым уже сто мильонов лет?
– Ах, это! Ну, видишь ли, в те времена дни были куда длиннее, – пояснила монахиня. – Ты уже нарезал ревень? Давай не зевай, а то я тебя обгоню. Тесто уже готово.
– А почему мы режем ревень этим ножом, а не старыми? Старые острее.
– В ревене – щавелевая кислота, – ответила сестра Фенелла, выкладывая тесто на противень. – Поэтому его лучше резать нержавеющей сталью. Подай-ка мне сахар.
– Щавелевая кислота, – повторил Малкольм, с удовольствием пробуя новые слова на вкус. – Сестра Фенелла, а что такое казула?
– Это такое церковное облачение. Священники надевают казулу поверх стихаря.
– А почему другие сестры шьют, а вы – нет?
Деймон сестры Фенеллы, белка, сидевшая рядом с ней на спинке стула, тихонько зацокал.
– Каждый делает, что умеет, – ответила монахиня. – В вышивке я не сильна. Только посмотри, какие у меня толстые пальцы! Зато сестры хвалят мои пироги.
– И мне ваши пироги нравятся, – сказал Малкольм.
– Спасибо, мой хороший.
– Почти такие же вкусные, как мамины. Только у мамы они пышнее. Наверное, вы тесто тоньше раскатываете.
– Да, наверное.
На монастырской кухне ничего не пропадало зря. Из обрезков теста, оставшихся от пирогов с ревенем, сестра Фенелла налепила корявеньких крестиков, пальмовых ветвей и рыбок, украсила их смородиной, посыпала сахаром и поставила печься на отдельном противне. Кресты, ветви, рыбки – все имело свой религиозный смысл, но из-под рук сестры Фенеллы они все выходили почти одинаковыми («Видишь, какие толстые у меня пальцы!»). Малкольму удавалось лучше, но ему пришлось как следует вымыть руки, прежде чем его допустили к тесту.
– А это печенье кто-нибудь ест? – поинтересовался он.
– О, рано или поздно съедают все до крошки. Гости иногда не прочь получить что-нибудь к чаю.
Монастырь стоял у моста, так что мимоезжих путников здесь хватало, и многие заворачивали к сестрам переночевать. «Форель», разумеется, тоже не жаловалась на недостаток гостей: каждый вечер в трактире оставались на ночь человека два-три, а с утра Малкольм подавал им завтрак, но все это были рыбаки или «коммерсанты», как называл их отец, – разъездные торговцы курительным листом, скобяным товаром или всякой технической всячиной, полезной в фермерском хозяйстве. В монастыре же останавливались гости куда более важные: высокородные дамы и господа, порой даже епископы или священники, – короче, все те знатные особы, которые не имели связей с университетом и не могли рассчитывать на гостеприимство в одном из городских колледжей. Однажды даже приехала настоящая принцесса и осталась на целых шесть недель, но Малкольму удалось увидеть ее только дважды. Принцессу отправили в монастырь в наказание. Ее деймон-горностай злобно скалился на всех и рычал.
Малкольм помогал управляться и с этими гостями: ходил за лошадьми, чистил обувь, носил письма и иногда получал монетку-другую. Все деньги отправлялись в жестяного моржа-копилку, стоявшего дома, у него в комнате. Малкольм нажимал моржу на хвост, чтобы тот разинул пасть, и просовывал монетку между клыками, один из которых когда-то отломался, но был приклеен на место. Сколько там уже набралось денег, Малкольм не знал, но морж был увесистый. Когда-нибудь накопится столько, что можно будет купить ружье… Только, наверное, придется еще подождать, потому что вряд ли отец разрешит.
А пока мальчик разглядывал путников, простых и знатных, – смотрел и учился. Пожалуй, думал он, нигде в целом свете не узнаешь столько всего о жизни, как здесь, в этой маленькой излучине реки с трактиром на одном берегу и монастырем – на другом. Рано или поздно он вырастет и станет помогать отцу за стойкой, а потом, когда родители состарятся, дело перейдет к нему. Малкольма это вполне устраивало. Если уж суждено стать трактирщиком, то места лучше «Форели» и не придумаешь. Здесь можно посмотреть на мир, не сходя с места, и всегда найдется с кем поговорить: ученые и всякие интересные люди захаживали сюда часто. Но на самом деле мальчику хотелось совсем другого. Будь его воля, он бы сам стал ученым – занялся бы астрономией или экспериментальной теологией и совершал бы великие открытия, проникая в тайную суть вещей. Вот бы какой-нибудь философ взял его в ученики – до чего было бы здорово! Да только об этом и мечтать не стоило: улверкотская начальная школа готовила будущих ремесленников или, в лучшем случае, клерков, и уже в четырнадцать лет выпускала своих питомцев во взрослый мир, – а стипендию простому мальчишке с лодкой, пусть и смышленому, никто, конечно, не даст.
Настала и перевалила за середину зима, и вот однажды вечером в трактир вошли трое, не похожие на обычных посетителей. Они приехали на антарном автомобиле и направились прямиком в Зал-на-Террасе – самый маленький обеденный зал, выходивший окнами на террасу, откуда открывался вид на реку и монастырь. Этим залом в конце коридора даже летом почти никто не пользовался: окошки там были маленькие, а двери на террасу, вопреки названию, не было вовсе.
Малкольм уже доделал свое единственное, да и то совсем крошечное, домашнее задание (по геометрии) и с большим аппетитом поужинал ростбифом, йоркширским пудингом и печеным яблоком с кремом на закуску, когда отец окликнул его из бара.
– Пойди спроси, чего желают те джентльмены в Зале-на-Террасе, – велел он. – Сдается мне, они иностранцы и не знают, что напитки надо заказывать у стойки. Ждут, пока их обслужат.
Малкольм обрадовался: это было что-то новенькое. Войдя в маленький зальчик, он обнаружил, что трое джентльменов (а по ним было сразу видно, что они не из простых) столпились у окна и разглядывают что-то снаружи.
– Чем могу вам помочь, джентльмены? – спросил он.
Гости тут же, как по команде, отвернулись от окна. Двое заказали кларет, третий пожелал порцию рому. Когда Малкольм вернулся с напитками, джентльмены спросили, можно ли здесь поужинать, и если да, то что сегодня подают.
– Ростбиф, сэр. Очень вкусный. Честное слово, я сам только что ел.
– О, le patron mange ici?[6] – промолвил самый пожилой из троих, вслед за остальными придвигая стул поближе к столику. Его деймон, красивый черно-белый лемур, спокойно сидел у него на плече.
– Я здесь живу, сэр. Мой отец – хозяин «Форели», – объяснил Малкольм. – А мать готовит.
– Как тебя зовут? – спросил другой, самый высокий и худой из гостей, похожий на ученого, с густой седой шевелюрой и деймоном-вьюрком.
– Малкольм Полстед, сэр.
– Что это там, за рекой, Малкольм? – спросил третий, черноусый, с большими темными глазами. Какой у него был деймон, Малкольм не понял: тот лежал на полу, свернувшись клубком.
Само собой, на дворе уже стемнело, и гости не могли разглядеть за рекой ничего, кроме тусклых витражных окон часовни да фонаря, день и ночь горевшего над воротами.
– Это монастырь, сэр. Там живут сестры ордена святой Розамунды.
– А что это за святая?
– Не знаю, я у них никогда не спрашивал. Только видел картинку на витраже. Такая, знаете, большущая роза – и святая Розамунда там стоит, прямо внутри. Может, ее в честь этой розы и назвали. Надо будет спросить сестру Бенедикту.
– Так ты с ними знаком?
– Да я с ними каждый день вижусь, сэр. Ну, почти каждый. Помогаю им немного – ну, знаете, то да се.
– А скажи-ка, к этим монахиням кто-нибудь приезжает? – спросил пожилой джентльмен. – Бывают у них посетители?
– Бывают, сэр, и частенько. Кто только не ездит. Вы уж простите меня, сэр, но что-то тут совсем холодно. Вы не против, если я разожгу камин? А нет, так, может, в бар перейдете? Там тепло и славно.
– Спасибо, Малкольм, но мы останемся здесь. А вот камин и впрямь не помешает.
Малкольм чиркнул спичкой, и огонь тотчас занялся. Отец умел укладывать дрова – Малкольм не раз наблюдал, как он ловко это делает. И подбрасывать новые не придется: и так хватит на весь вечер, даже если гости засидятся.
– Много сегодня народу? – спросил темноглазый.
– Человек десять, сэр. Как обычно.
– Хорошо, – кивнул пожилой. – Ну что ж, пора отведать пресловутого ростбифа.
– Не желаете начать с супа, сэр? У нас сегодня пряный с пастернаком.
– Почему бы и нет. Неси три порции, а уж после супа – этот ваш знаменитый ростбиф. И еще бутылку кларета.
Малкольм очень сомневался, что пресловутый ростбиф так уж знаменит, – должно быть, это просто фигура речи. Тем не менее, он повернулся и поспешил на кухню – взять чистые приборы и передать матери заказ.
– Они и сами все знали про монахинь, – шепнула ему на ухо Аста, в образе щегла порхавшая у него над головой.
– Тогда зачем спрашивали? – поинтересовался Малкольм, тоже шепотом.
– Они нас проверяли. Хотели узнать, скажем ли мы правду.
– Интересно, что им надо?
– На ученых они не похожи.
– А по-моему, похожи. Что-то в них такое есть…
– Знаешь, на кого они похожи? – перебила Аста. – На политиков!
– А откуда ты знаешь, как выглядят политики?
– Просто чувствую.
Малкольм не стал с ней спорить. Во-первых, было не до того – другие посетители тоже ждали, когда их обслужат. А во-вторых, чутью Асты он доверял. Сам он редко что-то такое чувствовал: ему просто нравились все, кто обращался с ним по-доброму. А вот у деймона была хорошая интуиция, и Малкольм много раз имел возможность в этом убедиться. Хотя, конечно, они с Астой все равно были одно целое, так что хорошая интуиция, по большому счету, принадлежала ему – точно так же, как Аста, по большому счету, разделяла все его симпатии.
Отец Малкольма сам отнес заказ в Зал-на-Террасе и откупорил для гостей бутылку вина. Малкольм еще не научился управляться с тремя горячими тарелками одновременно. Вернувшись в главный бар, мистер Полстед поманил сына пальцем и спросил вполголоса:
– О чем эти джентльмены с тобой говорили?
– Спрашивали про монастырь.
– Они хотят еще с тобой побеседовать. Сказали, ты умный мальчик. Будь повежливее с ними. Знаешь, кто они?
Малкольм вытаращил глаза и покачал головой.
– Тот, что постарше – лорд Наджент. Бывший лорд-канцлер Англии.
– Откуда ты знаешь?
– Узнал его по портрету в газете. Ну все, иди. Скажи им все, что они хотят узнать.
Малкольм двинулся по коридору под шепот Асты:
– Вот, видишь? А я тебе что говорила? Сам лорд-канцлер Англии!
Гости уже приступили к ростбифу (мама Малкольма положила им двойные порции). Они негромко переговаривались между собой, но как только Малкольм вошел, сразу умолкли.
– Я просто хотел спросить, не темно ли вам тут, господа, – сказал он. – Если угодно, могу принести масляную лампу на стол.
– Через минуту эта идея станет просто замечательной, – ответил тот, в ком отец опознал лорда-канцлера. – Но сначала скажи мне, Малкольм, сколько тебе лет?
– Одиннадцать, сэр.
Возможно, его полагалось называть «милорд», но бывший лорд-канцлер Англии, похоже, не возражал и против «сэра». Должно быть, предположил Малкольм, он хочет остаться неузнанным, а потому только рад, что к нему не обращаются по всем правилам.
– А в какую школу ты ходишь?
– В улверкотскую начальную, сэр. Это напротив Порт-Медоу.
– И чем же ты будешь заниматься, когда вырастешь?
– Скорее всего, стану трактирщиком, сэр, как мой отец.
– Отличная работа. Мне всегда казалось, трактирщикам интересно живется.
– Я тоже так думаю, сэр.
– Каждый день видишь самых разных людей, и все такое…
– Точно, сэр. К нам и ученые из университета приходят, и лодочники со всей округи.
– Жизнь так и кипит, верно? Каждый день что-нибудь да происходит?
– Да, сэр.
– И вам отсюда все хорошо видно. Видно, кто проплывает по реке…
– Самое интересное происходит на канале, сэр. Во-первых, там все время плавают цыганские лодки – туда-сюда, туда-сюда. Особенно в июле, когда Конская ярмарка, – тогда они наезжают целыми толпами.
– Конская ярмарка… цыгане, говоришь?
– Да, они отовсюду съезжаются на ярмарку. Кто покупает лошадей, кто продает.
– А монахини в монастыре? – вмешался джентльмен, похожий на ученого. – На что они живут? Делают духи на продажу?
– Нет, они овощи выращивают, – ответил Малкольм. – Моя мама всегда покупает овощи и фрукты в монастыре. И мед. А, да, они еще шьют и вышивают одежду для священников. Казулы и все такое. По-моему, им за это очень неплохо платят. По крайней мере, деньги у них точно водятся, а иначе как бы они покупали рыбу в Порт-Медоу?
– Ты говоришь, в монастыре бывают гости, – подал голос бывший лорд-канцлер. – А скажи-ка, Малкольм, что за люди обычно туда приезжают?
– Ну, иногда какие-то дамы… молодые леди… Иногда – старые священники. Может, даже епископы. Наверное, они приезжают отдохнуть.
– Отдохнуть?
– Так мне сестра Бенедикта сказала. Она говорит, в старину, когда еще не было ни трактиров вроде нашего, ни гостиниц, ни тем более больниц, люди часто останавливались на постой в монастырях и аббатствах. Но теперь так обычно делают только священники, ну и, может, монахини из других мест. Приезжают отдохнуть после болезни. Она сказала, это нужно для реко… ково…
– Для реконвалесценции, – подсказал лорд Наджент.
– Да, сэр, вот именно это слово. В общем, чтобы поправиться.
Последний из троих, темноглазый, покончил со своим ростбифом и положил вилку и нож.
– А сейчас там кто-нибудь гостит? – спросил он.
– По-моему, нет, сэр. Если только не сидит все время в доме… Вообще, гости обычно любят гулять в саду, но погода в последние дни не очень, так что… Не желаете ли пудинг, господа?
– Смотря что вы тут называете пудингом.
– Печеные яблоки с заварным кремом. Яблоки из монастырского сада.
– Было бы досадно так и не попробовать, – заметил ученый. – Неси свои яблоки с кремом.
Малкольм подошел ближе к столу и начал собирать тарелки и приборы.
– Ты всю жизнь тут живешь, Малкольм? – спросил лорд Наджент.
– Да, сэр. Я и родился здесь.
– Значит, с монахинями ты знаком уже давно. Скажи, за все это время тебе хоть раз доводилось видеть, чтобы они ухаживали за младенцем?
– Вы хотите сказать, за совсем маленьким ребенком, сэр?
– Да. Не таким большим, чтобы ходить в школу. Возможно, даже грудным. Ну так что?
Малкольм глубоко задумался.
– Нет, сэр, ни разу такого не было, – наконец, промолвил он. – Знатные дамы и господа у них бывали… ну, и священники… но маленьких детей я не видел.
– Ясно. Спасибо, Малкольм.
Малкольм растопырил пальцы и ухитрился подхватить все три бокала под донышки одной рукой. В другой руке он уже держал стопку тарелок.
– Грудной ребенок? – прошептала Аста по дороге в кухню.
– Тут какая-то тайна, – с явным удовольствием откликнулся Малкольм. – Может, это сирота.
– Или что похуже, – мрачно добавила Аста.
Малкольм поставил тарелки на сушилку (как обычно, не удостоив Элис даже взгляда) и сообщил, что джентльмены желают пудинг.
– Твой отец утверждает, что один из них – бывший лорд-канцлер, – заметила мать, раскладывая по мискам печеные яблоки.
– Они расспрашивают про монастырь.
– Справишься? Смотри, а то миски горячие.
– Ничего, зато маленькие. Я донесу.
– Будем надеяться. Если уронишь яблоки лорда-канцлера, попадешь в тюрьму.
Малкольм справился с мисками на «отлично», хотя по дороге они и вправду сильно нагрелись. Джентльмены больше ни о чем не спрашивали, только заказали кофе, и Малкольм принес им масляную лампу, а потом поспешил на кухню за чашками.
– Мам, ты ведь знаешь, что к монахиням иногда приезжают гости? Ты не слыхала случайно, им ребенка не привозили?
– А зачем тебе это знать?
– Это не мне. Это они спросили – ну, лорд-канцлер и его друзья.
– И что ты им сказал?
– Сказал, что, наверное, нет.
– Вот и правильно. Сходи-ка в бар, принеси еще стаканов.
Уже в баре, где за шумом и смехом никто бы ее не услышал, кроме Малкольма, Аста прошептала:
– Ты заметил, что она испугалась? Когда ты спросил, Керин сразу проснулся и навострил уши.
Керином звали деймона миссис Полстед, ворчливого, но снисходительного барсука.
– Просто это было неожиданно, – сказал Малкольм. – Когда они спросили меня, ты наверняка тоже удивилась.
– Ничего подобного. Я и виду не подала.
– Ну, зато я удивился. И по мне наверняка было видно.
– Спросим монахинь?
– Думаю, стоит, – согласился Малкольм. – Завтра. Они должны знать, что о них кто-то расспрашивает.
Глава 2. Желудь
Отец Малкольма оказался прав: лорд Наджент действительно был лордом-канцлером – но только при прошлом кабинете министров, более либеральном, чем нынешний, и правившем в более либеральные времена. Сейчас политики все как один взяли моду пресмыкаться перед церковными властями и, в конечном счете, перед Женевой. Некоторые религиозные организации обнаружили, что их власть и влияние внезапно возросли, а чиновникам и министрам, прежде придерживавшимся светской линии, спешно пришлось подыскивать себе новое занятие или же работать скрытно, под ежеминутной угрозой разоблачения.
Одним из них и был Томас Наджент. Для правительства, для прессы, да и для всего мира в целом – отставной законник, утративший почти все былое влияние, герой вчерашних дней, уже не представляющий особого интереса. А на самом деле – глава учреждения, фактически исполняющего обязанности секретной службы и еще совсем недавно входившего в блок разведки и безопасности Короны. Сейчас, при лорде Надженте, оно в основном вставляло палки в колеса тем самым церковным властям, при этом усердно прикидываясь совершенно безобидным и, в сущности, бесполезным. Для этого требовались изрядная храбрость, изобретательность и немалая доля удачи. Пока что их никто так и не поймал за руку. Под прикрытием обманчиво невинного названия они выполняли всевозможные миссии – опасные, сложные, скучные, а подчас и откровенно незаконные. Но еще никогда в их задачи не входило надежно укрыть шестимесячного младенца от тех, кому не терпелось его убить.
В субботу, благополучно покончив с утренними делами в «Форели», Малкольм отправился на ту сторону реки, в монастырь. Он постучал в двери кухни и вошел. Сестра Фенелла чистила картошку. С картошкой вообще-то можно обращаться и поаккуратнее – Малкольм не раз видел, как ловко снимает с нее шкурку миссис Полстед, и если бы ему дали хороший острый нож, он бы показал доброй монахине, что к чему. Но, подумав, не стал портить ей настроение.
– Пришел помочь? – спросила сестра.
– Да, если хотите. Но на самом деле мне нужно вам кое-что сказать.
– Тогда займись брюссельской капустой.
– Ладно, – согласился Малкольм.
Он нашел в ящике самый острый нож и подтащил к себе через стол несколько кочешков.
В окно бледно светило февральское солнце.
– И не забудь вырезать снизу крест, – напомнила сестра Фенелла.
Когда-то давно она объяснила, что каждую капустину надо помечать знаком Спасителя, чтобы дьявол не пробрался внутрь. На Малкольма это тогда произвело большое впечатление. Теперь-то он знал, что дело не в этом: просто овощи так лучше варятся. Мама раскрыла ему на это глаза и добавила строго:
– Только не вздумай спорить с сестрой Фенеллой. Она добрая старая леди, пусть как хочет, так и думает. Не нужно ее расстраивать.
Малкольм был готов на многое, лишь бы не расстраивать сестру Фенеллу, которую любил глубоко и простодушно.
– Так что же ты хотел мне рассказать? – поинтересовалась она, когда мальчик уселся рядом на старую табуретку.
– Знаете, кто вчера приходил ужинать к нам в «Форель»? Три джентльмена, и один из них был лорд Наджент, лорд-канцлер Англии. То есть, бывший лорд-канцлер. Но это еще не все. Они все смотрели на ваш монастырь, и было видно, что им очень интересно. И еще вопросы задавали: что у вас тут за монахини, бывают ли гости и что это за люди… И, наконец, спросили, не бывало ли здесь когда-нибудь ребенка.
– Младенца, – вставила Аста.
– Ну, да, младенца. У вас тут когда-нибудь бывали младенцы?
Сестра Фенелла даже картошку скрести перестала.
– Сам лорд-канцлер Англии? Ты уверен?
– Папа уверен – он видел его фотографию в газете, вот и узнал. Есть они пожелали отдельно, в Зале-на-Террасе.
– Вот прямо-таки лорд-канцлер?
– Ну, бывший вообще-то. Сестра Фенелла, а чем лорды-канцлеры занимаются?
– Лорд-канцлер – лицо высокопоставленное и очень важное. Не удивлюсь, если это как-то связано с законами. Или даже с правительством. Каков же он был собой? Величественный и гордый?
– Да нет. Он джентльмен, это сразу видно, сам приятный такой и дружелюбный.
– И он хотел знать…
– Не бывало ли у вас в монастыре младенца. Он, верно, имел в виду, не привозил ли вам кто-нибудь малыша, чтобы вы за ним смотрели…
– И что же ты ему сказал, Малкольм?
– Сказал, что вряд ли. А что, было такое?
– Ну, уж точно не на моем веку. Святые небеса! Наверное, надо сказать сестре Бенедикте…
– Может и так. Я подумал, может, он подыскивает место для какого-нибудь особенного ребенка, чтобы, скажем, выздоравливал после болезни. А то вдруг даже и королевских кровей, только мы про него ничего не знаем – потому что он болел долго или вот змея его укусила…
– А змея-то откуда?
– А оттуда, что нянька за ним плохо смотрела – может, газету читала или болтала с кем-то, а тут, откуда ни возьмись, змея. И тут крик, она оборачивается и видит ребенка, а с него змея свисает. Крупно она влипла, эта нянька, – могла и в тюрьму загреметь. Ну, ребенка от змеиного укуса, конечно, вылечили, но ему все равно надо еще дальше поправляться. Вот король, а с ним премьер-министр и лорд-канцлер все и принялись искать, где бы ему окончательно выздороветь. А зачем им такое место, где с детьми обращаться не умеют?
– Понятно, – сказала сестра Фенелла. – Звучит разумно. Пожалуй, я и в впрямь пойду расскажу сестре Бенедикте. Уж она-то знает, что в таких случаях делать.
– Я вот только думаю, что если бы лорды всерьез такое затеяли, они бы сами сюда пришли да спросили. Мы в «Форели» много чего знаем, но спрашивать-то все равно надо у вас, правда?
– Если только они не хотели от нас это скрыть, – заметила сестра.
– Зато они спрашивали, имел ли я с вами дело, а я сказал, что да и довольно часто, потому что я у вас работаю. Они явно ожидали, что я вам что-нибудь да разболтаю, и молчать специально не просили.
– А вот это ты хорошо подметил, – сказала сестра Фенелла и бросила последнюю выскобленную картофелину в большую сковородку. – Но все-таки странно все это. Возможно, они напишут госпоже настоятельнице письмо, вместо того чтобы самим приезжать. Может быть, им нужно убежище?
– Убежище? – Малкольму понравилось это слово. Он даже представил в уме, как оно пишется, по буквам. – А что это такое?
– Ну, допустим, кто-то нарушил закон и его ищут представители власти – тогда он может войти в любую часовню и потребовать убежища. И его не смогут арестовать, пока он будет там, внутри.
– Но младенец-то вряд ли нарушил закон. Ему еще вроде как рановато…
– Да, но убежище годится и для беглецов. Для тех, кто не по своей вине оказался в опасности. Никто не может их схватить, пока они в убежище. Некоторые колледжи раньше тоже давали убежище ученому люду. Не знаю, так ли это сейчас.
– Ну, это у нас точно не ученый люд – младенец-то. Всю капусту обреза́ть?
– Всю, кроме вот этих двух стеблей. Их мы оставим на завтра.
Сестра Фенелла собрала ботву, нарубила стебли большими кусками и высыпала в ведро для свиней.
– Чем ты сегодня занимаешься, Малкольм?
– Хочу спустить каноэ на воду. Правда, река сегодня высоковата, надо будет поосторожнее. Но я все равно хочу почистить лодку и вообще привести ее в порядок.
– Куда-нибудь далеко собираешься?
– Я бы не прочь. Да только ма и па без моей помощи не обойдутся.
– И вдобавок станут за тебя беспокоиться.
– А я им буду писать.
– Куда поплывешь?
– Вниз по реке, до самого Лондона. А может, и до моря. Хотя вряд ли моя лодочка годится для моря. На больших волнах и перевернуться может. Но тогда я ее привяжу, а сам поплыву на другой лодке. Или на большом корабле. Когда-нибудь так и будет.
– Пришлешь нам открытку?
– Непременно. А то поплыли со мной!
– И кто тогда будет готовить для сестер?
– Они будут устраивать пикники. Или ходить в «Форель».
Сестра Фенелла рассмеялась и захлопала в ладоши. Бледный солнечный свет лился сквозь пыльные окна. В нем Малкольм разглядел, как потрескалась кожа на ее руках, какие они красные и натруженные. Как, наверное, больно каждый раз совать их в горячую воду, подумал он… а еще – что он никогда не слышал от сестры ни слова жалобы.
После обеда Малкольм пошел под навес сбоку от дома и скатал тент, под которым пряталась «Прекрасная дикарка». Он осмотрел лодку от носа до кормы, дюйм за дюймом, отчищая наросшую за зиму зеленую слизь. Павлин Норман подошел узнать, не найдется ли чем поживиться, и, выяснив, что нечем, недовольно затряс перьями.
Все деревянные части были в полном порядке, хотя краска уже начала шелушиться. Малкольм подумал, что стоит, пожалуй, соскрести название и написать заново, получше. Сейчас буквы были зеленые, но красные будут заметнее и ярче. Наверняка можно подработать на верфи в Медли в обмен на небольшую жестянку красной краски. Он подтащил каноэ по склону поближе к воде и даже подумал, не махнуть ли в Медли прямо сейчас, но оставил эту затею на будущее. Вместо этого он погреб вверх по течению и вскоре свернул в Герцогский канал – одну из проток, соединявших реку с большим Оксфордским каналом.
Ему повезло: в шлюз как раз собиралась войти моторная лодка, к которой он тут же пристроился. Бывало, он по часу ждал, пытаясь убедить мистера Парсонса открыть шлюз для него одного, но смотритель был помешан на правилах – а заодно и на том, чтобы ни за что не делать работу, которую можно не делать. Впрочем, если через шлюз шло другое судно, он ничего не имел против того, чтобы Малкольм прошмыгнул туда или обратно за компанию.
– Куда собрался, Малкольм? – крикнул он, когда вода ринулась на свободу с дальнего конца отсека и уровень пошел вниз.
– На рыбалку, – крикнул мальчик в ответ.
Он всегда так отвечал, и временами это даже была правда. Впрочем, сегодня он только и думал, что про жестянку красной краски, и решил даже сплавать до лавки с судовой утварью в Иерихоне[7], – просто прицениться. Конечно, краски у них могло и не оказаться, но лавку он все равно любил.
Очутившись в канале, он мерно погреб мимо огородов и школьных игровых полей и вскоре причалил к северной оконечности Иерихона – сплошь маленькие террасы с кирпичными домиками, где жили печатники из «Пресса» и плавильщики из «Орла» со своими семьями. Район уже наполовину облагородили для среднего класса, но кое-где еще оставались и уголки старой застройки, и темные переулочки, и заброшенное кладбище, и церковь со звонницей на итальянский манер[8], надзиравшей сверху за верфью и лавкой корабельных причиндалов.
По западному берегу – то есть справа от Малкольма – вдоль воды тянулась тропа, едва заметная из-за буйно разросшейся водяной зелени. Малкольм замедлил ход и тут же краем глаза заметил, как в тростниках что-то шевелится. Он подождал, пока «Прекрасная дикарка» замрет, и повернул ее носом к зарослям. Когда лодка бесшумно проскользнула среди твердых стеблей, Малкольм увидал, как крупная хохлатая утка-поганка выбралась на тропинку, неуклюже проковыляла дальше и плюхнулась в прудок по ту сторону. Держась как можно тише, он очень медленно завел каноэ еще глубже в тростники: утка встряхнула головой и, бодро шлепая лапками, поспешила через пруд навстречу своему избраннику.
Малкольм и раньше слыхал, что тут водятся хохлатые поганки, но не слишком в это верил – теперь же его глазам предстало живое тому доказательство. Надо будет непременно наведаться к ним попозже, в сезон, и поглядеть – вдруг у них появятся птенцы.
Тростники поднимались выше его головы – если сидеть в лодке на банке; Малкольм подумал, что если не шевелиться, его, наверное, совсем не будет видно. Позади послышались голоса – мужской и женский; он замер, как статуя, и сидел так, пока двое не прошли мимо, рука об руку, поглощенные друг другом. Их деймоны, две маленькие птички, порхали чуть впереди, присаживались пошептаться и снова летели дальше.
Его собственный деймон, Аста, сейчас имела облик зимородка и восседала на планшире. Когда влюбленные их миновали, она взлетела к нему на плечо и просвиристела:
– Тот мужчина, вон там… – смотри!
Малкольм только сейчас его заметил: он стоял в нескольких ярдах от него под дубом, в плаще и серой фетровой шляпе-трилби, едва различимый сквозь заросли тростника. Держался он так, будто прятался от дождя – только вот дождя-то никакого не было! В плаще и шляпе цвета ранних сумерек разглядеть его было не проще, чем утку-поганку, – даже сложнее, подумал Малкольм: у той, по крайней мере, есть приметный хохолок.
– Что он там делает? – прошептал мальчик.
Аста превратилась в муху и отлетела от Малкольма, насколько смогла, остановившись, когда стало больно. Она села на верхушку тростинки, откуда чужака было хорошо видно. Тот явно пытался остаться незамеченным, но делал это так нескладно и даже бездарно, что только притягивал к себе внимание.
Вскоре Аста разглядела и его деймона – кошку, которая беспокойно топталась на одной из нижних веток дуба, под которым стоял человек, и зорко поглядывала в обе стороны вдоль тропинки. Потом кошка тихо мурлыкнула. Человек посмотрел вверх, и она спрыгнула ему на плечо, выронив что-то изо рта.
Человек что-то недовольно проворчал, и деймон слез на землю. Они оба принялись искать – под деревом, у воды, среди травы.
– Что она там такое уронила? – прошептал Малкольм.
– Вроде как орех. Что-то размером с орех.
– Ты видела, куда?
– Кажется, да. Оно отскочило от корня и покатилось вон туда, под куст. Смотри-смотри – они делают вид, что ничего и не ищут!
И правда. Кто-то еще шел по тропе – человек с деймоном-собакой. Мужчина в плаще подождал, пока они пройдут, притворяясь, что смотрит на часы. Он даже потряс рукой, послушал, опять потряс, будто часы вдруг встали, снял их с запястья, завел… Когда прохожий удалился, серый плащ надел часы обратно на руку и снова принялся искать ту штуку, которую уронила его кошка. Он сердился, это было видно, а деймон всем своим видом выражал смущение и раскаяние. Оба явно были ужасно расстроены.
– Пошли поможем, – предложила Аста.
Малкольм не знал, что и делать. Ему отсюда было видно поганок, он так хотел еще посидеть и понаблюдать за ними… но человеку с кошкой, кажется, и правда требовалась помощь, а острые глаза Асты наверняка обнаружат пропажу в считаные минуты.
Однако прежде чем он успел хоть что-то предпринять, человек нагнулся, сгреб своего деймона и бросился прочь по тропе, как будто решил отправиться за помощью. Малкольм тут же вывел каноэ из тростников кормой вперед и погреб к дубу. Мгновение спустя он уже выскочил на берег с фалинем[9], а Аста – теперь в образе мышки – шмыгнула через тропу под куст. Послышалось шуршание листьев, потом тишина… опять шуршание и опять тишина… Малкольм смотрел, как человек вдалеке достиг кованого чугунного мостика, ведущего на пьяццу[10] и поднялся вверх по ступенькам. Из-под куста раздался взволнованный писк – Аста нашла пропажу. В виде белки она прискакала назад, взобралась по руке на плечо и уронила ему в ладонь какой-то предмет.
– Это наверняка оно! – воскликнула она. – Вот просто наверняка оно.
На первый взгляд это был обычный желудь, только слишком тяжелый. Присмотревшись, Малкольм понял, что он вырезан из твердого мелкозернистого дерева и состоит из двух частей. Чашечка повторяла неровные, лежащие внахлест чешуйки настоящего желудя и была немного запачкана зеленым. Сам орешек шелковисто сиял светло-коричневым и был отполирован и навощен. Очень красивый желудь. Аста наверняка не ошиблась: это его потерял тот серый человек.
– Давай догоним его, пока он не перешел мост, – сказал Малкольм и уже поставил ногу в лодку, но тут…
– Стой! Гляди! – пискнула Аста.
Она уже превратилась в сову, как делала всегда, когда хотела разглядеть что-нибудь вдалеке. Она смотрела в сторону канала. Малкольм проследил за ее взглядом. Человек в плаще уже поднялся до середины моста, но остановился, потому что с противоположного берега ему навстречу вышел другой человек, коренастый, одетый в черное. Его деймон-лисица ступал легко и неслышно. Малкольм и Аста сразу поняли, что он хочет остановить незнакомца в плаще и что тот испуган.
Серый развернулся и сделал несколько поспешных шагов, но снова остановился, потому что на мосту позади него возник третий человек, ниже первого, но тоже в черном. Его деймон – крупная птица непонятной породы – сидел у него на плече. Оба черных человека выглядели очень уверенно, словно времени у них было предостаточно. Они что-то сказали серому и схватили его за руки – каждый со своей стороны. Несколько секунд тот бился в захвате, но потом как-то обмяк, так что им пришлось встряхнуть его, чтобы поставить на ноги. Черные поволокли серого через мост на небольшую пьяццу под колокольней и с глаз долой. Его кошка-деймон бежала следом, несчастная и напуганная.
– Спрячь! – прошептала Аста. – В самый глубокий карман!
Малкольм сунул желудь во внутренний нагрудный карман куртки и медленно сел. Он весь дрожал.
– Они его арестовали.
– Это не полицейские, – возразила Аста.
– Нет. Но и не грабители. Они вели себя слишком спокойно – как будто могут делать что хотят.
– Давай просто пойдем домой, – сказала Аста. – Вдруг они нас видели.
– Да они даже не дали себе труда по сторонам посмотреть, – сказал Малкольм, но с деймоном все равно согласился: им и правда лучше убраться отсюда подобру-поздорову.
Он быстро погреб обратно к Герцогскому каналу, тихонько обсуждая происшествие с Астой.
– Бьюсь об заклад, он шпион.
– Может быть. А те двое тогда…
– ДСК.
– Тс-с-с!
ДСК – это был Дисциплинарный Суд Консистории, церковное подразделение, занимавшееся еретиками и неверующими. Малкольм не слишком много о них знал, но тот липкий ужас, который внушал Дисциплинарный Суд, узнавать умел. Посетители в «Форели» как-то судачили о том, что случилось с одним их знакомым газетчиком: тот задавал слишком много вопросов о ДСК в своих статьях, а потом вдруг взял да исчез. Редактора газеты арестовали и посадили за подстрекательство к мятежу, а сам автор статей словно сквозь землю провалился. Никто больше никогда его не видел.
– Об этом нельзя ничего говорить, даже сестрам, – предупредила Аста.
– Сестрам – особенно, – кивнул Малкольм.
Понять это было нелегко, но Дисциплинарный Суд Консистории, как ни странно, находился на той же стороне, что и кроткие сестры монастыря Годстоу: все это были части Церкви. Малкольм единственный раз в жизни видел, чтобы сестра Бенедикта расстроилась, – и случилось это как раз тогда, когда он надумал ее об этом спросить.
– Есть тайны, в которые нам соваться не следует, Малкольм, – сказала она. – Они для нас слишком глубоки. Святая Церковь знает волю Господню и знает, что надлежит делать. Нам же остается любить друг друга и не задавать слишком много вопросов.
Первое для Малкольма было не слишком трудно – ему вообще почти все на свете нравилось. А вот со вторым вышло потруднее. Впрочем, про ДСК он больше не спрашивал.
Когда они добрались до дома, уже почти стемнело. Малкольм выволок «Прекрасную дикарку» из воды и затащил под навес сбоку от трактира, а сам поспешил внутрь и поскорее поднялся в свою комнату. Руки у него ныли.
Плащ он кинул на пол, ботинки запинал под кровать, потом зажег ночник. Аста тем временем пыталась выковырять желудь из глубокого кармана. Малкольм взял находку в руки и стал поворачивать так и сяк, пристально разглядывая.
– Ты только погляди, как искусно он вырезан! – воскликнул он, дивясь.
– Попробуй открыть, – подсказал деймон.
Он уже и сам хотел это сделать и осторожно попытался повернуть шапочку – но безуспешно. Желудь не развинчивался. Малкольм поднажал, потом попробовал просто разнять половинки, но у него ничего не вышло.
– А если в другую сторону? – предложила Аста.
– Так он только крепче закрутится, – возразил Малкольм, но последовал ее совету.
И у него получилось! Резьба и правда шла в другом направлении.
– Никогда такого не видел, – сказал он. – Вот странно!
Нарезка была такая тонкая и аккуратная, что ему пришлось повернуть раз десять, прежде чем половинки распались. Внутри оказался сложенный во много раз клочок бумаги, – той самой, тончайшей, на которой печатали библии.
Они обменялись взглядами.
– Это чей-то чужой секрет, – сказал, наконец, Малкольм. – Мы не должны смотреть.
Но он все равно развернул тонкую бумажку – очень осторожно, чтобы ненароком не порвать. Впрочем, она оказалась совсем не хлипкой, а наоборот, очень даже прочной.
– Кто угодно мог найти желудь, – заметила Аста. – Тому человеку еще повезло, что это мы.
– Ну, это еще как посмотреть.
– Зато ему повезло, что при нем не было этой штуки, когда его арестовали.
На бумажке черными чернилами и очень тонким пером было выведено:
Переключите внимание на другую задачу. Как вы понимаете, само существование поля Русакова подразумевает существование соответствующей частицы, которую нам до сих пор обнаружить не удавалось. Когда мы пробуем одну систему измерений, искомая субстанция ускользает от нас, словно предпочитая другую, но стоит нам обратиться к другому методу, как неудача подстерегает нас и там. Метод Токодзимы, категорически отвергнутый большинством официальных организаций, все же кажется многообещающим, поэтому просим вас выяснить с помощью алетиометра, есть ли какая-то связь между полем Русакова и явлением, неофициально именуемым Пылью. Не станем лишний раз напоминать, в какой опасности окажется проект, если ваши штудии привлекут внимание другой стороны. Имейте в виду, что они и сами развернули масштабную исследовательскую программу по этому предмету. Будьте очень осторожны.
– И что это должно означать? – спросила Аста.
– Что-то насчет поля. Типа магнитного, наверное. Похоже на экспериментальную философию.
– А что они подразумевают под «другой стороной»?
– ДСК, конечно. Что это еще может быть, кроме ДСК, если его люди охотились за тем человеком?
– А этот, как его… алет… альте…
– Малкольм! – донесся снизу мамин голос.
– Иду, – крикнул он в ответ, тщательно сложил бумажку по тем же линиям, спрятал в желудь и, завинтив его, сунул в чистый носок у себя в бельевом ящике.
И побежал вниз – его ждала вечерняя работа.
Субботние вечера всегда выдавались хлопотные, но сегодня разговоры не слишком клеились. В воздухе будто висела какая-то взвинченность и настороженность. Люди, как обычно, стояли за барной стойкой или сидели за столами, играя в домино или в щелкни-пенни, но тоже странно тихие, тише обычного. Малкольм даже спросил отца, в чем дело.
– Тс-с-с, – прошептал тот, нагибаясь к нему через стойку. – Вон те двое у камина. ДСК. Не смотри туда. И следи за языком, когда будешь ходить мимо.
Дрожь страха пробежала у мальчика по спине – он почти услышал ее, будто по тарелкам быстро-быстро простучали барабанными палочками.
– А ты откуда знаешь, что это они?
– По цвету галстука. Да и вообще, такое просто видно. Погляди на остальных вокруг… Да, Боб, чего тебе налить?
Пока отец цедил клиенту пару пинт, Малкольм пошел собирать пустые стаканы – ненавязчиво, неприметно (он был очень рад, что руки у него не трясутся), но тут почувствовал от Асты легкий толчок страха. Она сидела мышкой у него на плече и глядела прямо на тех двоих у огня. Они в ответ посмотрели на нее – и да, это были те самые люди с моста.
Один из них поднял палец.
– Молодой человек, – обратился он к Малкольму.
Мальчик обернулся и в первый раз посмотрел на него как следует. Это был румяный, коренастый мужчина с глубоко посаженными карими глазами – его он увидел на мосту первым.
– Да, сэр?
– Подойди-ка сюда.
– Принести вам чего-нибудь, сэр?
– Может, да, а может, и нет. Я сейчас задам вопрос, а ты мне ответишь на него, только честно, идет?
– Я всегда говорю правду, сэр.
– А вот и нет. Никакой мальчишка не может говорить только правду. Подойди сюда, ко мне… ближе.
Он говорил негромко, но Малкольм знал, что все кругом, и в особенности отец, навострили уши. Он подошел к камину и встал возле того, кто его позвал, отметив про себя исходящий от него запах одеколона. На посетителе был темный костюм и белая рубашка, а галстук – в темно-синюю и охряную полоску. Лисица-деймон лежала у ног, широко раскрыв бдительные оранжевые глаза.
– Да, сэр?
– Надо полагать, ты примечаешь большинство входящих сюда людей, так?
– Вероятно, да, сэр.
– И знаешь всех постоянных посетителей?
– Да, сэр.
– И ты бы обратил внимание на незнакомца?
– Наверное, да, сэр.
– Так вот, не видал ли ты несколько дней назад тут, у вас, вот этого человека?
Он показал фотограмму, и Малкольм мгновенно узнал лицо – один из тех, кто заходил тогда с лордом-канцлером, человек с черными усами.
Так это еще, может, и не о сером плаще и желуде! Он постарался сохранить бесстрастное и вежливое выражение лица.
– Да, я его видел, сэр.
– С кем же он был?
– Еще с двумя господами, сэр. Один такой, староватый, и другой, худой и высокий.
– Ты кого-нибудь из них узнал? Может, в газете видел или еще где?
– Нет, сэр, – ответствовал Малкольм, медленно качая головой. – Никого я из них не узнал.
– А о чем они говорили?
– Ну, я вообще-то не подслушиваю чужие разговоры, сэр. Отец говорит, это невежливо…
– Но ты ведь все равно случайно слышишь, о чем люди толкуют, так?
– Да, сэр, так.
– Так что же ты случайно услышал?
Он говорил все тише и тише, и Малкольм непроизвольно подходил все ближе и ближе. За соседними столиками вообще замолчали, так что все, что Малкольм скажет, услышат во всем баре.
– Про кларет они говорили, сэр. Про то, какой он тут хороший. И вторую бутылку к столу заказали.
– Где они сидели?
– В Зале-на-Террасе, сэр.
– Это где?
– Дальше по коридору. Там малость холодновато, так что я им сказал, мол, не желают ли они пересесть сюда, к огню, но они не захотели.
– Тебе это не показалось слегка странным?
– Посетители всякие бывают, сэр. Я не то чтобы очень об этом задумываюсь.
– Так они, выходит, хотели уединиться?
– Возможно, да, сэр.
– А ты кого-нибудь из них с тех пор видел?
– Нет, сэр.
Человек побарабанил пальцами по столу.
– И как же тебя зовут? – спросил он, помолчав.
– Малкольм, сэр. Малкольм Полстед.
– Очень хорошо, Малкольм. Можешь идти.
– Спасибо, сэр, – сказал мальчик, стараясь, чтобы его голос не дрожал.
Его собеседник окинул взглядом зал и повысил голос. Стоило ему заговорить, все разговоры тут же стихли, словно остальные гости только этого и ждали.
– Вы все слышали, о чем я сейчас спрашивал юного Малкольма. Мы ищем одного человека. Сейчас мы повесим его портрет на стену возле стойки, чтобы вы могли его рассмотреть. Если кто-то из вас что-нибудь о нем знает, свяжитесь со мной. Мое имя и адрес тоже указаны на листовке. Запомните и хорошенько обдумайте мои слова. Это важно, и вы все это должны понимать. Если кто-то захочет побеседовать об этом человеке после того, как посмотрит на картинку, не стесняйтесь – я буду сидеть здесь.
Его спутник взял листовку и приколол к пробочной доске, где вывешивали объявления о танцах, распродажах, собраниях для игры в вист и тому подобном. Чтобы освободить место для своего листка, он сорвал парочку других, даже не взглянув на них.
– Эй, – сказал стоящий рядом мужчина, и его деймон-пес ощетинился. – Повесь-ка обратно, что снял.
Человек из ДСК повернулся и посмотрел на него. Деймон-ворона у него на плече раскрыла крылья и негромко каркнула.
– Что ты сказал? – спросил тот из двоих, что остался у камина.
– Я твоему приятелю сказал, пускай повесит обратно, что снял. Это наша доска объявлений, не ваша.
Малкольм подался назад, к стене. Говорившего звали Джордж Боутрайт. Это был краснолицый и вспыльчивый лодочник, которого сам мистер Полстед уже раз десять вышвыривал из «Форели», – но человек он было честный, и не сказал Малкольму ни одного грубого слова.
В баре воцарилась тишина, глубокая как омут. Даже в других залах посетители поняли, что творится неладное, и подошли к дверям поглазеть.
– Тише ты, Джордж… – пробормотал мистер Полстед.
Тот, что у камина, хлебнул своего брендвейна, потом поднял глаза на Малкольма.
– Малкольм, как зовут этого человека?
Не успел тот раскрыть рот, как за него громко и грубо ответил сам Боутрайт.
– Джорджем Боутрайтом я прозываюсь. И мальца ты сюда не приплетай, так только трусы делают.
– Джордж… – начал было мистер Полстед.
– Нет, Редж. Я уж как-нибудь сам за себя, – оборвал его тот. – А еще я вот что сделаю – раз уж твой кисломордый друг меня не расслышал.
Он протянул руку, сорвал листовку, смял и швырнул в огонь. Потом встал посреди зала, слегка покачиваясь и с вызовом глядя на главного из двоих церковников. Малкольм не сводил с него восхищенных глаз.
Лисица-деймон поднялась. Грациозно выйдя из-под стола, она встопорщила хвост щеткой, вытянула нос по струнке и посмотрела Сэйди, деймону Боутрайта, прямо в глаза.
Сэйди была гораздо крупнее – крепко сбитая дворняга, помесь стаффордширского терьера, немецкой овчарки и волка (насколько мог судить Малкольм). И сейчас ее явно тянуло в драку. Ощетинившись, оскалив клыки, неторопливо хлеща хвостом по бокам, она стояла у колена хозяина, из ее горла доносился глухой, похожий на отзвук дальнего грома, рык.
Аста поскорее юркнула Малкольму за пазуху. Драки между взрослыми деймонами случались, но никогда еще мистер Полстед не дозволял подобного в стенах трактира.
– Джордж, тебе лучше уйти, – распорядился он. – Давай, проваливай! Вернешься, когда протрезвеешь.
Боутрайт нетвердо повернулся к нему, и Малкольм с огорчением увидел, что лодочник и правда слегка пьян: он даже покачнулся и вынужден был сделать шаг, чтобы устоять на ногах. И заметил это не только Малкольм. Однако шатало его не спиртное, а страх – страх его деймона.
Что-то перепугало собаку, и теперь эта могучая сука, чьи зубы смыкались на загривке не одного деймона, тряслась и скулила, глядя на медленно приближающуюся лису, – а потом и вовсе упала на пол и перевернулась на спину. Боутрайт и сам съежился, пытаясь удержать деймона и уберечь его от смертоносных белых зубов лисицы.
Человек из ДСК тихо назвал имя. Лиса замерла на мгновение, потом сделала шаг назад. Собака Боутрайта так и валялась, скорчившись, на полу и тряслась. Выражение лица самого Джорджа было жалким. Малкольм отвел глаза, не желая быть свидетелем его позора.
А щеголиха-лиса аккуратно потрусила назад и улеглась под столом.
– Джордж Боутрайт, выйдите и ждите снаружи, – приказал человек из ДСК, и голос его прозвучал так повелительно, что никому и в голову не пришло, что Боутрайт может ослушаться.
Гладя и чуть не на руках неся своего сжавшегося от страха деймона – собака клацнула зубами и прокусила дрожащую руку Боутрайта, – он проковылял к дверям и вышел в ночную темень.
Второй гость вытащил из портфеля другое объявление и приколол к доске. Потом оба не торопясь допили напитки, взяли плащи и вышли вон, туда, где их должен был ждать смиренный арестант.
Никто не сказал ни слова.
Глава 3. Лира
Как вскоре оказалось, Джордж Боутрайт все-таки не стал дожидаться, пока люди из ДСК выйдут и заберут его. Он просто исчез – должно быть, пустился в бега. «Вот и славно», – подумал Малкольм, но никто не обсуждал вслух, что же случилось с лодочником. Так уж было принято во всем, что касалось ДСК: ни о чем не спрашивать, а еще лучше – даже не задумываться.
На несколько дней в «Форели» стало тише обычного. Малкольм ходил в школу, делал уроки, разносил заказы в трактире и снова и снова перечитывал секретную записку из желудя. На сердце у него было тягостно: атмосфера подозрений и страха никак не желала рассеиваться, и это было очень странно. Ведь мир, к которому Малкольм привык, был таким местом, где все вокруг интересно и весело.
Еще очень странным было то, что люди из ДСК интересовались другом лорда-канцлера (этот самый друг и спросил тогда Малкольма о младенце). А между тем забота о судьбах младенцев вряд ли входила в круг обязанностей ДСК. Вот желуди с секретными записками – это да, совсем другое дело, но про желудь они почему-то расспрашивать не стали. В общем, все было очень загадочно.
Несколько дней подряд Малкольм плавал к дубу в надежде застать кого-нибудь еще, кто придет за желудем или принесет новое тайное послание. Заодно можно было посмотреть на уток-поганок – и если бы кто-то вдруг спросил, чем его так заинтересовал этот ничем не примечательный участок канала, у Малкольма было оправдание. Еще он подолгу околачивался в лавке судовых товаров: очень уж удобное это было место для наблюдений за пьяццей. Люди так и сновали через площадь, а кое-кто заглядывал в кафе напротив, выпить кофе. В лавке торговали всем, что имело хоть какое-то отношение к лодкам, и красная краска тоже нашлась. Малкольм купил маленькую жестянку краски и кисточку в придачу, но уходить не спешил. Женщина за прилавком вскоре сообразила, что краской дело не ограничится.
– Что тебе еще нужно, Малкольм? – спросила она. Звали ее миссис Карпентер, и Малкольма она знала еще с тех пор, как ему разрешили плавать на лодке одному.
– Хлопковый шпагат, – ответил мальчик.
– Я тебе вчера показала, что у нас есть.
– Да, но, может, где-то завалялся другой моточек…
– А что не так с тем шпагатом, который я тебе показывала?
– Тонковат. Хочу сделать фалинь, а для него нужен шпагат потолще.
– Можешь сложить этот вдвое.
– А ведь и правда… Да, наверное, можно и так.
– Ну так сколько тебе нужно?
– Где-то четыре фатома[11].
– Одинарного или двойного?
– А, ну да. Восемь фатомов. Если сложу вдвое, этого должно хватить.
– Надо полагать, – кивнула миссис Карпентер и, отмерив восемь фатомов, щелкнула ножницами.
По счастью, в жестяном морже у Малкольма денег скопилось изрядно. Забрав шпагат, аккуратно уложенный в большой бумажный пакет, он вернулся к прерванному наблюдению, которое вел вот уже четверть часа, – подошел к окну и принялся поглядывать то вправо, то влево.
– Это, конечно, не мое дело, – не сдержалась миссис Карпентер, и ее деймон-селезень тихонько курлыкнул в знак согласия, – но все-таки, что это ты приклеился к окну? Все стоишь да смотришь, да уже не первый день. Ждешь кого-нибудь? А его все нет да нет?
– Нет! Никого я не жду. Просто…
«Если уж миссис Карпентер нельзя верить, то кому тогда вообще можно?» – подумал он и решился.
– На самом деле я кое-кого ищу. Человека в сером пальто и шляпе. Я заметил на днях, как он кое-что уронил, а мы нашли эту штуку, и я хочу ее вернуть этому человеку. Но я его с тех пор так и не видел.
– И это все, что ты можешь о нем сказать? Серое пальто и шляпа? А сколько ему лет?
– Я его толком не разглядел. Лет – ну, примерно как моему папе. И довольно худой.
– А где он потерял эту вещь? Возле канала?
– Да. Там, у тропы, есть одно дерево… Ну, неважно.
– А это случайно не он?
Миссис Карпентер достала из-под прилавка свежий номер «Оксфорд Таймс», пролистала до нужной страницы и показала Малкольму заметку с фотограммой.
– Да, похоже, что он… А что с ним… Что?! Он утонул?
– Его выловили из канала. Пишут, оступился и упал в воду. Дожди-то уж который день идут, а тропинка вся заросла – никто за ней не следит, как положено. Так что он не первый, многие там падают. Одним словом, что бы он ни потерял, ему уже ничего не вернешь.
Малкольм не слушал ее – он жадно пожирал глазами заметку. Человека звали Роберт Лакхерст, он был профессором из колледжа Магдалины, историком. Жены у него не было, но остались мать и брат. Как полагается в подобных случаях, дело расследуют, но никаких признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружили.
– А что он потерял? – полюбопытствовала миссис Карпентер.
– Да просто такую маленькую штучку. Что-то вроде украшения. – Малкольм ухитрился произнести это ровным голосом, хотя сердце у него в груди так и подпрыгивало. – Он ее подбрасывал и ловил, пока шел вдоль берега. А потом уронил и стал шарить в траве, но тут припустил дождь, и он бросил искать и ушел.
– А ты что там делал?
– Смотрел на хохлатых уток. Вряд ли он меня заметил. Но когда он ушел, я решил сам поискать эту штуку, и она нашлась, так что я с тех пор пытался его разыскать, чтобы отдать. Но теперь уже не получится.
– А когда именно ты его видел? Случайно не в прошлые выходные?
– Надо подумать… – И Малкольм глубоко задумался. Он снова бросил взгляд на газетную заметку – не сказано ли там, когда нашли тело? «Оксфорд Таймс» выходила раз в неделю, так что запросто могло пройти уже дней пять или шесть. Подсчитав дни, Малкольм вздрогнул: по всему выходило, что тело Лакхерста нашли на следующий день после того, как люди из ДСК его схватили.
Но ведь не могли же они его просто убить? Или могли?
– Нет, за несколько дней до того, – соврал он, постаравшись не допустить в голос ни намека на сомнения. – Не думаю, что тут есть какая-то связь. По этой тропинке люди все время ходят. Может, он и сам каждый день там ходил – ну, упражнялся или что-нибудь такое. И, по-моему, он не особо расстроился, что потерял эту штуку. Если бы она была ему так уж нужна, он бы еще поискал, а не ушел бы, как только начался дождь.
– Ну ладно, – вздохнула миссис Карпентер. – Не повезло бедняге. Но, может, хоть теперь кто-то займется этой тропинкой и приведет ее в порядок.
Тут в лавку вошел другой покупатель, и миссис Карпентер занялась им. А Малкольм сразу же пожалел, что рассказал ей о мистере Лакхерсте и о своей находке: будь у него побольше ума, он бы сообразил притвориться, что просто ждет приятеля. Но, с другой стороны, тогда она бы не показала ему заметку в газете. До чего же все это сложно!
– До свидания, миссис Карпентер, – пробормотал он, направляясь к двери. Хозяйка лавки лишь рассеянно махнула рукой: ее внимание уже было приковано к новому покупателю.
– Надо было попросить ее ничего никому не рассказывать, – сказал Малкольм, разворачивая каноэ.
– Тогда бы она решила, что это все неспроста, и нарочно бы запомнила, – возразила Аста. – Здорово ты ей наврал.
– Я и не знал, что так умею. Но все-таки лучше бы это делать как можно реже.
– И каждый раз хорошенько запоминать, что мы кому сказали.
– Ну вот, опять дождь…
Малкольм неторопливо греб вверх по каналу. Аста уселась ему на плечо, поближе к уху, как обычно делала, когда нужно было пошептаться.
– Выходит, они его убили? – спросила она.
– Если только он сам не убился…
– А, может, это все-таки был несчастный случай?
– Что-то не верится. Ты же видела, как они его схватили.
– Да, и как они обошлись с мистером Боутрайтом… Они всё могут! И пытать, и убить – что угодно. Точно тебе говорю!
– И что же тогда значит эта записка в желуде?
К записке они возвращались снова и снова. Малкольм даже переписал ее собственной рукой, чтобы можно было спокойно перечитывать, не разворачивая лишний раз тонкую бумажку, но яснее от этого не стало. Кто-то кого-то просил что-то выяснить насчет каких-то измерений – вот и все, что он понял. И все это имело отношение к некой Пыли, с большой буквы, то есть не простой пыли, а какой-то особенной.
– А может, нам пойти в колледж Магдалены и расспросить ученых…
– О чем?
– Ну, провести расследование, как детективы. Выяснить, чем он занимался…
– Он был гисториком. Так в газете сказано.
– Историком, – поправила Аста. – Может, стоило бы разузнать, над чем он еще работал. С кем дружил. Поговорить с его студентами, если удастся. Выяснить, вернулся ли он в колледж тем вечером, после того как его схватили, – или мы с тобой были последними, кто видел его живым. Ну и все в таком духе.
– Они нам ничего не скажут, даже если знают. Мы с тобой на детективов не похожи. С какой стати им что-то рассказывать обычному школьнику? И, потом, это опасно.
– Люди из ДСК…
– Вот именно. Если до них дойдут слухи, что мы о нем расспрашиваем, они наверняка что-то заподозрят. Придут, обыщут «Форель», найдут желудь – и тут-то мы угодим в настоящую беду.
– Некоторые студенты приходят в «Форель» в колледжских шарфах. Если бы выяснить, какого цвета шарфы у студентов Магдалины…
– А вот это отличная мысль! Можно будет с ними поболтать, и если мы спросим о чем-то таком, им и в голову не придет, будто мы что-то вынюхиваем.
Дождь между тем полил еще сильнее, и Малкольм уже с трудом различал, куда грести. Аста превратилась в сову и села на носу каноэ. Промокнуть она не боялась: однажды она попыталась превратиться в какое-нибудь небывалое существо, и хотя ничего из этого не вышло, один полезный фокус Аста освоила. Теперь она могла принять вид одного животного, добавив к нему что-нибудь от другого, – например, как сейчас, стать совой с утиными перьями. Правда, так она делала лишь тогда, когда ее никто не видел, кроме Малкольма. Полагаясь на ее огромные зоркие глаза, Малкольм греб изо всех сил. Правда, время от времени вода в лодке поднималась до лодыжек, и приходилось останавливаться, чтобы ее вычерпать. Домой он добрался мокрым до нитки – в отличие от Асты, которая только встряхнулась и мигом обсохла.
– Где пропадал? – спросила мать, строго, но не сердито.
– Смотрел на сову. Что на ужин?
– Стейк и пирог с почками. Вымой руки. Нет, ты только посмотри на себя! С тебя ручьями течет! Когда поешь, переоденься в сухое. И не бросай мокрую одежду на пол!
Малкольм ополоснул руки под кухонным краном и для виду обтер их чайным полотенцем.
– Мистера Боутрайта нашли? – спросил он.
– Нет, а что?
– В баре все говорили о чем-то интересном. Я толком не расслышал, но что-то точно случилось.
– К нам сегодня заходил один известный человек. Ты бы его застал, если бы не застрял там со своими дурацкими совами.
– А кто это был? – полюбопытствовал Малкольм, накладывая себе картофельное пюре.
– Лорд Азриэл, знаменитый путешественник.
– А-а, – пробормотал Малкольм. Он впервые слышал это имя. – И где он путешествовал?
– Говорят, в основном в Арктике. Но не в этом дело. Ты помнишь, о чем спрашивал лорд-канцлер?
– А, насчет младенца? Не привозили ли сестрам в монастырь младенца?
– Именно. Оказывается, это ребенок лорда Азриэла. Внебрачная дочь. Совсем еще малышка.
– Он что, сам об этом сказал?
– Нет, конечно! Он что, по-твоему, стал бы болтать в баре о таких вещах?
– Не знаю. Наверное, нет. А откуда же тогда ты…
– Да просто сложила два и два! Сначала этот лорд Азриэл убивает мистера Колтера, политика, – месяц назад об этом писали в газетах.
– Но если он кого-то убил, почему его не…
– Ешь, ешь свой пирог, не отвлекайся. Его не посадили в тюрьму, потому что это был вопрос чести. Жена мистера Колтера родила ребенка, да вот только не от него, а от лорда Азриэла. И мистер Колтер нагрянул в поместье лорда Азриэла, вломился в дом и стал кричать, что убьет его. Они сразились, лорд Азриэл победил, и тут оказалось, что по закону человек имеет право защищаться сам и защищать своих родных, – то есть, этого ребенка тоже, потому что она – его дочь. Вот потому-то его и не посадили в тюрьму, и не повесили, а только оштрафовали. Правда, штраф назначили такой большой, что лорд Азриэл лишился почти всего, что имел. Да что ты застыл? Ешь свой пирог, бога ради!
Завороженный ее рассказом, Малкольм и впрямь почти забыл о пироге. Он ковырнул еду вилкой и снова уставился на мать:
– Но откуда ты знаешь, что он привез младенца сюда, нашим монахиням?
– Ну, точно я ничего не знаю, но как же иначе? Вот увидишь сестру Фенеллу в следующий раз – спроси ее сам. И что это ты заладил – «младенец», «младенец»? Хотя, конечно, девочка еще совсем маленькая. Сейчас ей должно быть… по-моему, месяцев шесть. Ну, может, чуть больше.
– А почему она не осталась с матерью?
– Господи, ну откуда же мне знать? Говорят, мать ее и знать не желает, но, возможно, это просто сплетни.
– Но если сестры никогда не ухаживали за маленькими детьми, как они с ней справятся?
– Не волнуйся, они найдут, у кого спросить совета. Давай сюда тарелку. Теперь можешь положить себе ревеня с заварным кремом.
Как только выдался случай – а выдался он через три дня, – Малкольм поспешил в монастырь, чтобы разузнать побольше о дочке знаменитого путешественника. Первым пунктом в его мысленном списке значилась сестра Фенелла. Под шум дождя, неутомимо барабанившего в окна, мальчик и пожилая монахиня сидели за кухонным столом, замешивая тесто для хлеба. После того как Малкольм вымыл руки в третий раз, а на вид они остались такими же, как были, сестра Фенелла прекратила гонять его к крану, но все-таки, не сдержавшись, воскликнула:
– Да что же это такое у тебя под ногтями?
– Смола. Я чинил свое каноэ.
– Ну, если только смола… говорят, она даже полезная, – с сомнением сказала монахиня.
– Из дегтя даже мыло делают, – заметил Малкольм.
– И то правда. Хотя оно, по-моему, другого цвета. Ну да ладно, будем считать, что руки у тебя чистые. Можешь месить.
Некоторое время Малкольм трудился молча, но вскоре решил, что уже можно спрашивать.
– А правда, что говорят насчет ребенка лорда Азриэла?
– Хм-м… А что именно ты слышал?
– Что вы присматриваете за его ребенком, потому что он убил человека и суд отобрал у него все деньги. Наверное, поэтому лорд-канцлер и приезжал к нам в «Форель». Так это правда?
– Да. Нам привезли малышку.
– А как ее зовут?
– Лира. Не понимаю, почему ее не назвали в честь какой-нибудь доброй святой…
– И она будет у вас жить, пока не вырастет?
– Ох, не знаю, Малкольм. Ну-ка давай, подналяг! Покажи этому тесту, кто в доме хозяин!
– А лорда Азриэла вы видели?
– Нет. Я хотела подглядеть из коридора, но сестра Бенедикта закрыла дверь так плотно, что и щелочки не осталось.
– Значит, это ей поручили смотреть за девочкой?
– Ну, по крайней мере, с лордом Азриэлем говорила именно она.
– А кто ухаживает за ребенком? Кормит и все такое?
– Мы все, Малкольм.
– А откуда вы знаете, как это все делается? Ведь вы все…
– …незамужние дамы? Ты это имеешь в виду?
– Ну, просто монахини такими вещами обычно не занимаются.
– Ты себе не представляешь, сколько всего мы знаем, – возразила сестра Фенелла, и ее деймон, старенькая белка, рассмеялся, а вслед за ним и Аста, и сам Малкольм. – Только вот что, Малкольм… Об этом ребенке никому нельзя рассказывать. То, что она здесь, большой секрет. Заруби себе на носу: никому ни слова!
– Многие и так уже знают. Мама и папа точно, и в баре об этом говорят.
– О господи! Ну ладно, может, это не так уж и страшно. Но все равно лучше держать язык за зубами. Может, все еще обойдется.
– А к вам на днях не приходили люди из ДСК? Ну, знаете, Дисци…
– Дисциплинарный Суд Консистории? Боже упаси. Что мы могли такого натворить, чтобы они к нам пожаловали?
– Не знаю. Ничего, наверное. Просто к нам в «Форель» на днях приходили двое и всех напугали. Спрашивали о человеке, который у нас ужинал вместе с лордом-канцлером. А мистер Боутрайт с ними повздорил, и они хотели арестовать его, но он исчез. Наверное, сбежал и живет теперь в лесу.
– Господи боже мой! Джордж Боутрайт, браконьер?
– Так вы его знаете?
– Еще бы. И у него теперь неприятности с… О господи, господи!
– Сестра Фенелла, может, вы знаете… Чем все-таки занимается этот ДСК?
– Полагаю, трудится во славу Божию, – ответила монахиня. – Но все это слишком сложно. Нам не понять.
– Ну так они сюда приходили?
– Даже если бы и приходили, я бы ничего не узнала. Я-то им ни к чему. Они пошли бы сразу к сестре Бенедикте, а уж она оставила бы все при себе, чтобы никого не пугать. У нее храброе сердце.
– Просто интересно, есть ли им какое-то дело до этого ребенка.
– Не знаю и знать не желаю. Все уже, хватит месить, давай сюда тесто.
Сестра Фенелла с силой шлепнула ком теста на каменную доску. Все эти расспросы явно ее расстроили, и Малкольм пожалел, что вообще завел разговор о ДСК.
Впрочем, когда он спросил, нельзя ли посмотреть на Лиру, монахиня возражать не стала. Малышка спала в монастырской гостиной – там, где обычно принимали посетителей. Сестра Фенелла сказала, что взглянуть на нее можно, только очень тихо.
Малкольм на цыпочках вошел вслед за монахиней в комнату – холодную, пропахшую мебельным лаком и уныло-серую в скудном свете, пробивавшемся сквозь пелену дождя. Посреди комнаты стояла дубовая колыбель, на вид очень тяжелая, а в колыбели спала крошечная девочка.
Малкольм никогда не видел маленьких детей так близко и поначалу даже глазам своим не поверил: она настоящая! Конечно, сказать вслух это прозвучало бы очень глупо, так что он придержал язык, но первое впечатление никуда не делось: раньше ему и в голову не приходило, что такое маленькое существо может оказаться настолько совершенным. Само совершенство, как тот деревянный желудь! Деймон Лиры, крошечный птенец какой-то птички, вроде ласточки, спал рядом с ней. Но как только Аста подлетела к нему, тоже превратившись в ласточку, и присела на край колыбели, птенец тут же проснулся и широко разинул желтый клюв, словно выпрашивая угощение. Малкольм не сдержал смеха. Малышка, разбуженная звуками, открыла глаза, увидела, как он смеется, и тоже засмеялась. Аста между тем разыграла пантомиму, притворившись, будто ловит мошку и заталкивает ее крохотному деймону в клювик. Птенец сделал вид, что глотает, и довольно кивнул. Малкольм рассмеялся еще громче, а Лира так разошлась, что начала икать. И это было тоже очень смешно, потому что стоило ей икнуть, как деймон-птенец подпрыгивал.
– Ну-ну-ну, тише, тише. – Сестра Фенелла наклонилась и взяла ее на руки, но личико Лиры тут же сморщилось, словно от боли и ужаса. Не понимая, куда подевался ее деймон, малышка замахала ручками и забилась в руках монахини, так что та едва ее не уронила. Но Аста тут же пришла на помощь: подхватив клювом птенца, она взлетела и усадила его девочке на грудь. Птенец тотчас превратился в крохотного тигренка, зашипел и оскалился. Зато Лира мгновенно успокоилась у сестры Фенеллы на руках, поглядывая вокруг с царственным благодушием.
Малкольм был очарован. В этой малышке все было идеально, и он не мог оторвать от нее восхищенных глаз.
– Уложим-ка мы тебя обратно, солнышко, – промолвила сестра Фенелла. – Зря тебя разбудили, да, милая?
Она уложила малышку в колыбель и подоткнула одеяльце – очень осторожно, чтобы случайно не задеть рукой ее деймона. Малкольм подумал, что запрет на прикосновение к чужому деймону, должно быть, распространяется даже на таких маленьких детей. Впрочем, если бы и нет, он и помыслить не мог о том, чтобы причинить этой чудесной малышке какое-то огорчение. Он провел рядом с ней лишь несколько минут, но уже твердо знал, что будет служить ей всю свою жизнь.
Глава 4. Уппсала
В Швеции, в удобном кабинете Уппсальского университета сидели за разговором трое. Ливень хлестал в оконные стекла; ветер то и дело загонял клубы дыма вниз по трубе и тревожил огонь в чугунной жаровне.
Хозяина звали Гуннар Халлгримссон; он был холостяк лет шестидесяти или около того, дородный и проницательный, и читал в университете метафизическую философию. Его деймон, зарянка, сидел на плече и в основном помалкивал.
Один из гостей был из того же университета – Аксель Лёвгрен, профессор физики: худощавый, немногословный, но добродушный, с деймоном-хорьком. Они с Халлгримссоном давно дружили и обычно после славного ужина любили почесать языками, не стесняясь поддеть друг друга. Однако на сей раз веселью не давало разгуляться присутствие третьего джентльмена, им обоим незнакомого.
Гость был примерно того же возраста, что и хозяин, но выглядел значительно старше. Опыт и испытания оставили на его лице больше следов, чем на пухлых щеках и гладком лбу профессора Халлгримссона. Он был цыган из Восточной Англии, звали его Фардер Корам, он много путешествовал по северным землям, был поджарый, среднего роста, и двигался очень размеренно, словно боялся что-нибудь ненароком разбить или сломать, будучи непривычен к хрупким стаканам и тонкой посуде. Его деймон, крупная кошка с шерстью тысячи прекрасных осенних оттенков, обошла все углы кабинета, а потом легко запрыгнула Кораму на колени. Через десять лет после этого вечера, а потом еще через десять Лира будет дивиться краскам ее шубки.
Мужчины только что отобедали. Корам прибыл с севера с рекомендательным письмом от одного знакомого профессора Халлгримссона, который служил Консулом ведьм в Троллезунде.
– Не желаете ли токая? – спросил хозяин, садясь.
Он только что оглядел в окно вымытую ливнем улицу и задернул шторы от сквозняков.
– Почту за особое удовольствие, – отозвался Корам.
Профессор повернулся к столику, придвинутого вплотную к его удобнейшему креслу, и налил золотого вина в три бокала.
– Как поживает мой друг, Мартин Ланселиус? – продолжал он, подавая гостю стакан. – Признаться, мне никогда и в голову не приходило, что он окажется на дипломатической службе у ведьм.
– Процветает, – сказал Корам. – В прекрасной форме. Изучает их религию.
– Я частенько думал, что системы верований ведьминских кланов заслуживают самого пристального изучения, – заметил Халлгримссон. – Но собственные штудии неизменно уводили меня в другую сторону.
– Все дальше в бездну, – вставил профессор физики, принимая от него бокал.
– Извините моего друга за эти глупости. Ваше здоровье, мистер Корам, – Халлгримссон хлебнул из своего бокала.
– И ваше, сэр. Господом клянусь, вино превосходное.
– Рад это слышать. Есть один купец в Буда-Пеште, он присылает мне по ящику каждый год.
– Нам оно нечасто достается, – высказался Лёвгрен. – Всякий раз, как я вижу бутылку, в ней уже меньше, чем в прошлый раз.
– Вздор! Что мы можем для вас сделать, мистер Корам? Что привело вас в Уппсалу?
– Доктор Ланселиус рассказал мне о хранящемся у вас инструменте, измерителе истины, – ответил цыган. – Я надеялся получить с его помощью совет.
– А, вот оно что. Поведайте мне, какова природа вашего интереса.
– Моему народу, цыганам, постоянно угрожают различные британские политические фракции. Они хотят ограничить наши исконные свободы и сферы деятельности, которой мы вправе заниматься, – например, торговлю. Я хотел бы знать, каким из этих сил стоит противостоять, с какими договариваться, а с какими вообще ничего нельзя поделать. Может ли ваш инструмент ответить на такой вопрос?
– В правильных руках – да. Имея в своем распоряжении достаточно времени, я бы даже сам рискнул истолковать его показания.
– Хотите сказать, что вы не эксперт в толковании?
– Увы, до эксперта мне далеко.
– Но тогда…
– Позвольте, я покажу вам инструмент. Возможно, вы сами поймете, в чем суть проблемы.
Профессор выдвинул ящичек невысокого стола и достал круглую свинцовую коробку, размером приблизительно с ладонь взрослого человека и глубиной в три пальца. Лёвгрен пододвинул табурет с ковровой обивкой, Халлгримссон поставил на него шкатулку и поднял крышку.
Корам наклонился поближе. В мягком свете гарной лампы что-то масляно блеснуло. Профессор поправил абажур, чтобы свет падал на табурет, и вынул инструмент из его колыбельки. Короткие толстые пальцы касались его с нежностью влюбленного – так, по крайней мере, показалось Кораму, – словно профессор держал что-то живое.
Инструмент напоминал часы из сверкающего золота с хрустальной полусферой в середине. Под ней находилось что-то прекрасное и сложное – Корам никак не мог взять в толк что именно, пока профессор не начал объяснять, указывая пальцем на разные элементы.
– По краю шкалы – видите? – расположены тридцать шесть картинок, каждая из которых нарисована на слоновой кости тончайшей кисточкой, в один-единственный волосок. А по ободу, как видите, располагаются три колесика: каждое отстоит от остальных двух на сто двадцать градусов дуги. Они похожи на головки для завода часов. Вот что произойдет, если я поверну одно из них.
Корам наклонился еще ближе. Его деймон перебрался с коленей на подлокотник кресла, чтобы лучше видеть. Когда профессор тронул колесико, тонкая черная стрелка, похожая на минутную в обычных часах, отделилась от сложного орнаментального фона и двинулась по шкале коротенькими прыжками. Когда она дошла до крошечного изображения солнца, профессор остановился.
– Стрелки здесь три, – объяснил он, – и каждую из них мы устанавливаем на тот или иной символ. Если бы ваш вопрос формулировал я, то одним из трех символов я выбрал бы солнце, потому что оно, помимо всего прочего, обозначает короля и власть вообще, а по ассоциации с ними, и закон. Положение двух остальных, – тут он занялся другими колесиками, и стрелки послушно побежали по кругу, – будут зависеть от того, какие аспекты вопроса интересуют нас в первую очередь. Вы говорили о торговле. Среди значений грифона имеется и такое. Почему, спросите вы меня? Потому что грифоны связаны с сокровищами[12]. Я бы еще предположил, что третья стрелка должна указывать на дельфина, чье основное толкование – вода. Ведь ваш народ живет на воде, не так ли?
– Так. Я, кажется, начинаю понимать.
– Ну, что ж, тогда попробуем.
Профессор передвинул вторую стрелку на грифона, а третью – на дельфина.
– И вот теперь смотрите, – сказал он.
Игла, такая тонкая, что Корам вообще поначалу ее не заметил, и к тому же невнятного серого цвета, задвигалась будто сама по себе, медленно, нерешительно – а потом вдруг обежала всю окружность очень быстро, ненадолго замирая то здесь, то там, и снова пускаясь в пляс.
– Что она делает? – спросил завороженно Корам.
– Отвечает нам.
– Чтобы понять ответ, нужно очень быстро соображать, да?
– Разум должен быть расслаблен и в то же время собран. Я слышал, что подобное состояние бывает у охотника, который лежит в засаде и готов в любой момент выстрелить – но при этом совершенно спокоен.
– Понимаю, – сказал Корам. – Я видел, как японские лучники делали нечто подобное.
– Правда? Не отказался бы об этом послушать. Но добиться необходимого умственного настроя мало. Еще одна проблема состоит в том, что каждый символ обладает огромным спектром значений, и расшифровать его можно лишь по книгам с толкованиями.
– И сколько их, этих значений?
– Никто не знает. У некоторых символов уже обнаружилось по сотне и больше, и это еще не конец. Возможно, список будет пополняться вечно.
– Но каким же образом открывают эти толкования? – поинтересовался Лёвгрен.
Корам удивленно посмотрел на него: он-то думал, что физик, как и Халлгримссон, знаком с алетиометром и верит в его силы, – однако в голосе профессора явственно слышался скептицизм.
– Посредством созерцания, размышлений и экспериментов, – ответил философ.
– А, это хорошо. В эксперименты я верю, – заметил Лёвгрен.
– Приятно слышать, что ты хоть во что-то веришь, – парировал его друг.
– Если эти значения находятся по принципу подобия, то для каждого символа их может оказаться куда больше ста, – заметил Корам. – Новые аналогии будут появляться без конца – стоит только однажды начать.
– Речь не о тех подобиях, которые способно изыскать ваше воображение, а о тех, что заложены в картинках изначально. Далеко не всегда это одно и то же. Я обратил внимание: чем богаче фантазия толкователя, тем меньше шансов на успех. Вместо того, чтобы терпеливо ждать, разум фантазера сразу хватается за первые попавшиеся предположения. Но самое главное в этом деле – понять, на каком месте в иерархии значений стоит то, которое вы выбрали, и здесь уж без книг никак не обойтись. Вот почему все известные нам алетиометры хранятся в великих библиотеках.
– И сколько же их в таком случае?
– Мы полагаем, что изначально их было изготовлено шесть. Известно, где находятся пять: вот этот, в Уппсале; еще один – в Болонье, один – в Париже, один, собственность Магистериума, – в Женеве, и еще один – в Оксфорде.
– В Оксфорде?!
– В Бодлианской библиотеке. Весьма примечательная история, кстати. В прошлом столетии, когда Дисциплинарный Суд Консистории только набирал силу, его префект прослышал о существовании бодлианского алетиометра и потребовал выдать его. Библиотекарь отказался. Совет университета (как вы знаете, это его основной правящий орган) велел ему подчиниться. Вместо этого инструмент спрятали в выпотрошенном томе по экспериментальной теологии, у которого было несколько совершенно идентичных копий, и преспокойно поместили на открытых полках на виду у всех – только найти его среди миллионов изданий библиотеки, разумеется, не представлялось возможным. В тот раз ДСК сдался. Но потом пришел снова. Префект прислал в библиотеку отряд вооруженных головорезов и пригрозил хранителю смертью, если ему не выдадут искомое. Но хранитель заявил, что не для того принимал пост, чтобы раздавать имущество библиотеки направо и налево, и почитает своим священным долгом защищать его и беречь для науки. Возглавлявший операцию офицер приказал своим людям вывести хранителя во двор и расстрелять.
Библиотекарь встал перед строем и, наконец, посмотрел в глаза офицеру – до тех пор они общались исключительно через посланника. И тут они узнали друг в друге старых университетских однокашников. Как гласит история, офицер смутился и приказал своим людям опустить ружья, после чего отправился с библиотекарем пить брендвейн. В итоге алетиометр остался в библиотеке Бодли, где и находится по сей день; библиотекарь сохранил свой пост, а офицера отозвали обратно в Женеву, где он вскоре и умер – судя по всему, от яда.
Цыган тихо присвистнул.
– И кто сейчас работает с оксфордским инструментом? – спросил он.
– Есть небольшая группа исследователей, которые его изучают. Я слыхал, какая-то женщина, очень одаренная, значительно продвинулась в понимании принципов… Ральф? Релф? Не помню, что-то вроде того.
– Понятно, – сказал Корам, делая глоток вина и пристально глядя на алетиометр.
– Вы сказали, что их было шесть, профессор, но перечислили только пять. Где же шестой?
– Так и думал, что вы спросите. Никто не знает. Точнее, рискну предположить, кто-то наверняка знает, но только не ученые. А теперь, если позволите, вернемся к вашему вопросу, мистер Корам. Он довольно сложен, но основная проблема не в этом. Она в том, что нашего ведущего специалиста сейчас здесь нет. Он в Париже, проводит творческий отпуск в Bibliothèque Nationale[13]. Я сам слишком неуклюж и тугодумен, чтобы отыскать пути с одного уровня на другой, разглядеть все связи и понять, что искать дальше. Иначе, я бы охотно истолковал для вас ответ, если бы мог.
– Несмотря на опасность? – спросил Корам.
Несколько мгновений профессор молчал. Потом повторил:
– На опасность…
– …расправы без суда и следствия, – закончил Корам с улыбкой.
– Ах, да. Ну, полагаю, те дни уже давно отошли в прошлое… к счастью для всех.
– Будем надеяться, – буркнул Лёвгрен.
Корам сделал еще глоток золотого вина и откинулся в кресле с весьма довольным видом. Алетиометр, сколь бы очарователен он ни был, не слишком его заинтересовал, а поставленный перед профессором вопрос носил в целом риторический характер: цыгане прекрасно могли ответить на него сами – и на самом деле давно ответили. Нет, Корам преследовал какие-то иные цели и сейчас обдумывал, как бы ему похитрее перевести разговор на новую тему.
– У вас, наверное, бывает много гостей, – молвил он, помолчав.
– Ну, не знаю, – отозвался профессор. – Не больше, чем в других университетах. Конечно, у нас есть несколько интересных разработок… и бывает, что специалисты приезжают к нам из самых дальних краев. Впрочем, не только специалисты.
– Еще и путешественники…
– Да, среди прочих. По дороге в Арктику.
– Интересно, не встречался ли вам некий лорд Азриэл? Он друг моего народа и видный исследователь этой части света.
– О, он приезжал к нам, но довольно давно. Я слыхал… – тут профессор ненадолго замялся, но потом общительность все же взяла верх над сдержанностью. – Хотя вообще-то я не прислушиваюсь к сплетням, сами понимаете…
– Ну, разумеется, я тоже, – заверил его Корам. – Но ведь иногда все равно невольно да услышишь…
– Невольно! – ввернул Лёвгрен. – Отлично. Именно это слово.
– Так вот, я случайно услышал весьма примечательную историю про лорда Азриэла, и совсем недавно, – сдался Халлгримссон. – Если вы прибыли к нам с севера, она, возможно, еще не достигла ваших ушей. Похоже, что лорд Азриэл замешан в деле об убийстве.
– Об убийстве?
– Женщина, которая была замужем за другим мужчиной, родила ему ребенка. А лорд Азриэл убил ее мужа.
– Господи помилуй! – воскликнул Корам, прекрасно знакомый с этой историей. – Как же так вышло?
Он внимательно выслушал версию событий, изложенную профессором (не слишком отличавшуюся от его собственной), ожидая возможности направить разговор в нужное ему русло.
– А что же случилось с ребенком? – спросил он. – Полагаю, ребенок остался с матерью?
– Нет. Думаю, суд передал его на попечение третьих лиц… на какое-то время, по крайней мере. Мать – женщина изумительной красоты, но, скажем так, не из тех, в ком родительская любовь горит ярким пламенем.
– Вы так говорите, будто знакомы с ней.
– Да, мы встречались, – сказал Халлгримссон, и если бы Кораму нужно было описать его в двух словах, он бы сказал, что профессор гордо пригладил перышки. – Мы как-то ужинали вместе. Она была у нас в гостях всего месяц назад.
– Неужели? Она тоже направлялась куда-то с экспедицией?
– Нет, она приезжала проконсультироваться с Акселем. Миссис Колтер сама выдающийся ученый.
Ага, вот и удачный момент.
– Так она приезжала посоветоваться с вами, сэр? – повернулся Корам к физику.
Лёвгрен улыбнулся. Корам заметил, что его впалые щеки окрасил легкий румянец.
– Я всегда думал, что мой старый друг неуязвим для чар прекрасного пола, – заметил Халлгримссон. – В прежние времена, мистер Корам, он бы едва заметил, что наша гостья – дама, но стрела Купидона наконец-то пробила и эту броню.
– Я нисколько не виню вас, сэр, – сказал Корам Лёвгрену. – Что до меня, я всегда находил могучий разум весьма привлекательной женской чертой. По какому же поводу ей понадобился ваш совет, разрешите спросить?
– Вы из него ничего не вытянете, – сказал Халлгримссон. – Я уже пытался. Впору уж думать, что он подписал договор о неразглашении.
– Потому что ты все равно бы все вышутил, старый клоун, – отрезал Лёвгрен. – Она приезжала, чтобы спросить о поле Русакова. Вам известно, что это такое?
– Нет, сэр. А что это?
– Вы знаете, что такое поле в натурфилософии?
– Имею смутное представление. Область, в которой действуют некие силы, так?
– Пусть будет так. Но это поле не похоже ни на какие прочие, известные нам. Его открыл русский, московит Русаков. Он изучал тайну сознания – человеческого сознания, разумеется. Почему нечто настолько материальное, как наш с вами организм, включая, само собой, и мозг, способно порождать такую незримую, неосязаемую вещь, как сознание? Материально ли оно? Мы не в состоянии ни взвесить его, ни измерить – значит, это явление духовного порядка? Если воспользоваться термином «духовный», необходимость в дальнейших объяснениях отпадет сама собой. Ведь в таком случае явление придется отнести к сфере ведения Церкви, и его уже никто не осмелится исследовать. Но настоящему естествоиспытателю это придется не по вкусу. Не стану пересказывать, какие именно шаги предпринял Русаков, но в конце концов он пришел к гипотезе о том, что сознание – такая же естественная характеристика материи, как масса или антарный заряд; что поле сознания пронизывает всю вселенную и, как мы полагаем, полнее всего проявляется в людях. А вот как именно оно это делает – большой вопрос, над которым, собственно, и бьются ученые по всему свету.
– То есть везде, где им это разрешают, – вставил Халлгримссон. – Сами понимаете, мистер Корам, как легко это может привлечь внимание Суда Консистории.
– О, я понимаю, сэр. Должно быть, это потрясло Церковь до самого основания. И вот об этом-то леди и приезжала поговорить?
– Да, об этом, – подтвердил Лёвгрен. – Интерес миссис Колтер довольно необычен для непрофессионала. Она задавала весьма проницательные вопросы о поле Русакова и человеческом сознании. Я показал ей результаты своих исследований, и она поняла все буквально с полуслова – после чего, к моему прискорбию, как будто утратила ко мне интерес и принялась льстить присутствующему тут же моему коллеге.
– Наверное, она была наслышана о вашем вине, сэр? – улыбнулся Корам.
– Хо-хо! Нет, уверяю вас, мистер Корам, дело было не в вине и не в моем обаянии. Она хотела задать алетиометру вопрос о своей дочери.
– О своей дочери? Вы хотите сказать, о том ребенке, которого она родила от…
– От лорда Азриэла, да, – кивнул профессор философии. – Вот именно. Она хотела, чтобы я с помощью алетиометра выяснил, где находится ее дитя.
– То есть она сама этого не знала?
– Нет. Оно… то есть, прошу прощения, она, дочка миссис Колтер, – сейчас пребывает под защитой суда и может находиться где угодно. Судя по всему, сведения об этом засекречены. И вот мать – напоминаю, мистер Корам, вы совершенно случайно услышали все это, – мать узнала, что о девочке говорится в пророчестве ведьм. Нам она этого не сказала. Мы… гм… случайно узнали это от ее слуг. Миссис Колтер очень хочет разузнать об этом побольше – и прежде всего, о том, куда девалась ее дочь, чтобы ее можно было забрать… Я собирался сказать «к себе под крыло», но, думаю, более уместно будет «под опеку». Если не «под арест».
– Понимаю, – отозвался Корам. – А что говорится в пророчестве? Этого вы случайно не расслышали?
– Увы, нет. Нам известно лишь то, что это дитя по каким-то причинам обладает огромной важностью. Вот и все, что мы знаем. Мать тоже не знает никаких подробностей. Поистине выдающаяся женщина, эта миссис Колтер. Как по-вашему, мистер Корам, стоит ли нам теперь ожидать агентов Суда Консистории?
– Надеюсь, что нет, сэр. Но мы живем в трудные времена.
Вопросов у Корама больше не осталось: он узнал, что хотел. Поболтав еще несколько минут, он встал.
– Джентльмены, – сказал он, – премного вам обязан. Изумительный ужин, одно из лучших вин, что я пробовал в жизни и знакомство с этим примечательным инструментом.
– Жаль, что я не смог сделать для вас ничего большего. Только продемонстрировал базовые принципы работы, – сказал профессор Халлгримссон, не без усилия поднимаясь на ноги. – Но, по крайней мере, вы теперь понимаете, какие с этим связаны затруднения.
– Истинно так, сэр. Как думаете, не закончился ли дождь?
Корам подошел к окну и выглянул на улицу. Налево и направо, куда хватало глаз, было пусто. Между фонарями растекалась глубокая тьма, мокрая мостовая блестела.
– Одолжить вам зонт? – спросил философ.
– В этом нет нужды, благодарю. Там уже достаточно сухо. Доброй ночи, джентльмены, доброй ночи, и еще раз спасибо вам.
Тут, однако, настал черед второй проблемы, с которой Кораму предстояло разобраться.
Дождь уже прекратился, но воздух был тяжелым от влаги и отчаянно холодным. Вокруг фонарей сиял туманный ореол, так что они казались гигантскими серебряными одуванчиками. С карнизов капало. Корам и Софонакс медленно двинулись вдоль реки.
– Хочешь на ручки, Софи? – предложил Корам.
Деймон или нет, но Софонакс была все-таки кошкой, а тротуары блестели от воды.
– Лучше не надо, – сказала она.
– Он все еще там? – тихо спросил Корам.
– Держится незаметно, но да, все еще там.
С тех самых пор, как на прошлой неделе они выехали из Новгорода, Корам знал, что за ними следят. Пора уже положить этому конец.
– Тот же самый?
– Такого деймона не спрячешь, – сказала Софи.
Корам двинулся кружным путем к маленькому тесному пансиону у реки, где снял себе комнатку. Подойдя к самому краю воды, где у каменной пристани было пришвартовано с полдюжины барж, он сбавил шаг. Пробило полчаса пополуночи.
Он постоял, положив руки на мокрые чугунные перила и глядя на черную воду. Деймон вился вокруг его ног, притворяясь, что выпрашивает внимание, а на самом деле зорко высматривая любое движение позади.
Чтобы добраться до пансиона, им предстояло пересечь реку по небольшому чугунному мостику, но Корам этой дорогой не пошел. Когда Софи сказала: «Давай!» – он повернул прочь от реки и, быстро перейдя дорогу, углубился в проулок между двумя домами с каменными фасадами – не то банками, не то правительственными учреждениями. Он заметил его еще раньше, когда шел в университет – просто бросил короткий взгляд, машинально оценивая шансы, – и знал, что проулок открыт с другого конца. Если что, он тут не застрянет – зато сможет сам подкараулить преследователя.
Оказавшись в тени, Корам на цыпочках подбежал к мусорным контейнерам, стоявшим справа посреди переулка и почти неразличимым во тьме.
Там-то он и затаился, присев на корточки и нащупывая в рукаве пальто короткую тяжелую палку из железного дерева, которую носил на левом предплечье. Он знал по меньшей мере пять смертельных способов ее применения.
Софи подождала, пока он достанет палку, и лишь затем вспрыгнула ему на плечо. Осторожно проверив крышку ближайшего бака – вдруг она провалится! – кошка перебралась туда и улеглась, широко раскрытыми глазами наблюдая за входом в проулок. Корам следил за другим его концом, выходившим на узкую улочку, застроенную официального вида зданиями.
Дальнейшее будет зависеть от того, насколько искусен в бою деймон врага. Один раз, еще в молодые годы, они с Софи взяли верх над тартарином и его деймоном-волком. Софи тогда ничего не боялась, была быстрой и очень сильной. В схватке не на жизнь, а на смерть запрет касаться чужого деймона не стоил выеденного яйца. Не раз Софи случалось яростно вцепляться зубами и когтями в дотронувшуюся до нее чужую руку, а после истерически вылизываться, пытаясь избавиться от скверны.
Но этот деймон…
– Там, – прошептала Софи.
Корам повернулся, медленно и осторожно, и увидел на фоне освещенной набережной силуэт: маленькую голову и сгорбленные плечи гиены. Зверь смотрел прямо на них. Другой такой твари Корам не встречал никогда: сами очертания ее тела говорили о воплощенной злобе. И эти челюсти, способные крушить кости, будто сухие макароны… Гиена и ее человек явно поднаторели в искусстве слежки: не меньше, чем Корам – в умении ее распознавать. Он восхитился их мастерством, но, как верно подметила Софи, такому деймону спрятаться нелегко. Что им от него нужно, Корам понятия не имел… но если они хотят драки, они ее получат.
Корам покрепче взялся за палку; Софи распласталась еще на долю дюйма ниже. Гиена-деймон подалась чуть вперед и показалась полностью; из-за ее спины неслышно выступил человек. Корам и Софи заметили пистолет у него в руке за мгновение до того, как он прижался к стене и утонул в тенях.
Воцарилась тишина, только вода все капала и капала с крыш. Корам подумал, что Софи надо было спрятаться за баком, а не притаиться на его крышке – слишком уж она была на виду…
Раздался тихий звук, будто человек сплюнул, – пистолет оказался газовый. Пуля с лязгом ударила в бак; тот перелетел через голову Корама и загромыхал во тьму переулка. За миг до этого Софи взвилась в воздух и приземлилась рядом со своим человеком.
Газовый пистолет плохо держал цель на таком расстоянии, но вблизи был достаточно смертоносен – его придется срочно нейтрализовать. Цыган и кошка замерли. Медленные шаги приближались к ним: уже были отчетливо слышны сопение и ворчание твари и цоканье ее когтей по брусчатке. Корам подумал: «Давай!» – и в тот же миг Софи с выпущенными когтями прыгнула туда, где у гиены, по всей вероятности, сейчас находилась голова. Незнакомец выстрелил еще дважды, и одна пуля прошила шевелюру Корама.
Стрелок выдал себя. Корам ринулся вперед, нанес во мрак удар дубинкой. Попал по руке? плечу? – и выбил пистолет.
Когти Софи – все, сколько их у нее было, – крепко засели в морде и шее гиены. Деймон неистово мотал головой, пытаясь сбросить ее и колотя кошку о землю и стены. Корам увидел, как человек наклонился за пистолетом, и прыгнул вперед, чтобы снова ударить палкой, но промахнулся, поскользнулся на мокрой мостовой и рухнул к ногам нападавшего. Быстро перекатившись, он пнул ногой наугад туда, где валялось оружие.
Его ботинок наткнулся на что-то… что, гремя, запрыгало по камням в сторону, а человек с размаху пнул его под ребра, а потом навалился, пытаясь задушить. Противник оказался крепкий и жилистый, но у Корама все еще была в руке палка, которой он и ударил его под дых, как ножом, со всей силы. Раздался короткий «ах!», противник закашлялся и ослабил захват, но Корама тотчас накрыла волна паники: гиена сумела освободиться от кошки, вырвала у нее клок шерсти своими чудовищными зубами, и сомкнула челюсти у Софи на голове.
Корам инстинктивно взвился – человек свалился с него – и, размахнувшись, со всей силы нанес удар куда-то в сторону гиены. Он не знал, куда попал, и надеялся только, что не задел Софи, – но удар был поистине жесток. Он услышал, как треснули кости, и увидел в сумраке, как кошка пытается вырваться из челюстей монстра. Цыган восстановил равновесие, прицелился и обрушил град ударов на уже сломанную лапу гиены, не ослабляя натиска, ибо стоит той захлопнуть пасть – и Софи с Корамом умрут в то же мгновение.
Гиена разжала зубы и завопила; Софи вывернулась и, невзирая на отвращение, вцепилась в руку незнакомца, разрывая кожу когтями и пуская кровь. Человек, крича от той же боли, которая терзала сейчас его деймона, вырвался и кинулся прочь, волоча за собой гиену. Та рычала и щелкала зубами от нестерпимой муки и ярости. Корам охотно последовал бы за ними и довел дело до конца – теперь, когда оба врага были ранены, – но не успел выпрямиться, как потерял сознание и снова упал на мостовую.
В себя он пришел несколько секунд спустя. Кругом царила тишина. Кроме них с Софи, в переулке никого не было.
Голова у Корама кружилась. Он попробовал сесть, но Софи сказала:
– Лежи. Пусть кровь прильет обратно к голове.
– Они ушли?
– Убежали. Ну, во всяком случае, он. Не думаю, что она еще когда-нибудь сможет бегать. Он нес ее на руках: тварь обезумела от боли.
– Почему… – договорить он не смог, но она все равно поняла.
– Ты потерял много крови.
До сих пор ему было не особенно больно, но теперь, когда боевой раж стал отступать, он вдруг сразу ощутил все: и длинную царапину от пули, оставшуюся на коже головы, и влажное тепло на шее, и холод, окутавший плечи. Корам послушно лег, чтобы восстановить силы, и некоторое время полежал, а потом все-таки осторожно сел.
– Ты сильно пострадала?
– Могла пострадать. Если бы эти челюсти сомкнулись, они бы вряд ли когда-нибудь разжались.
– Надо было его прикончить. Черт, какой противник! Думаешь, он московит?
– Нет. И даже не спрашивай, почему. Может, француз?
Корам встал, держась за стену. Он посмотрел в один конец переулка, потом в другой и сказал:
– Ну, тогда пойдем. Пора спать. Не слишком-то здорово мы с тобой сработали, Софи.
Ребра у него отчаянно ныли – наверняка, как минимум одно сломано. С головы густо бежала кровь; к коже словно прижали раскаленный железный прут. Цыган подхватил деймона на руки, и Софи занялась его раной, нежно вылизывая и промывая ее всю дорогу до пансиона.
Вымывшись в единственно доступной сейчас – то есть холодной, как лед – воде, Корам надел чистую рубашку и сел к столу. При свете свечи он написал письмо, постаравшись рассказать обо всем как можно лаконичнее:
Лорду Надженту.
Леди приезжала в Уппсалу для консультации с профессором физики, Акселем Лёвгреном. Задавала «весьма проницательные вопросы» о поле Русакова и о его связи с человеческим сознанием. Лёвгрен подозревает, что она действовала по указке ДСК. Затем она пожелала, чтобы профессор Халлгримссон воспользовался алетиометром и выяснил, где ее дочь. Он то ли не смог, то ли не захотел – короче, не стал этого делать. Судя по всему, леди узнала, что ведьмы сделали какое-то пророчество об этом ребенке, но что именно в нем говорится, не имеет понятия. Помните нашего доброго друга, Бада Шлезингера? Я встретил его у Мартина Ланселиуса в Троллезунде. Он отправился дальше на север, чтобы расспросить об этом знакомых ведьм, и выйдет с вами на связь, как только вернется. Еще одно: от самого Новгорода за мной следил человек, чей деймон – гиена. Я его не узнал, но он держался, как хорошо тренированный агент. У нас случилась стычка, и ему удалось спастись, хотя его деймон ранен. Он меня очень интересует.
После этого Корам занялся непростым делом – зашифровкой послания. Затем запечатал письмо в самый обычный конверт и надписал адрес в ничем не примечательной части центрального Лондона. Оригинал он тщательно сжег и отправился на боковую.
Глава 5. Ученая дама
Доктор Ханна Релф выпрямила затекшую спину и потянулась, держась за поясницу. Все болело: слишком долго она просидела сгорбившись. Сейчас бы пройтись полчасика… но нельзя. Кроме нее, еще шестеро исследователей работали с бодлианским алетиометром по строгому расписанию, и доктор Релф не могла тратить драгоценное время впустую. Пройтись можно и потом.
Она наклонилась влево, потом вправо, стараясь расслабить мышцы. Подняла руки вверх, покрутила плечами. Стало немного полегче. Ханна сидела в Зале герцога Хамфри, старейшем из читальных залов Бодлианской библиотеки, а перед ней на столе, среди разбросанных в беспорядке бумаг и громоздящихся горами книг, лежал алетиометр.
Работать приходилось сразу в трех направлениях. Во-первых, нужно было делать то, чего от нее, собственно, ожидали в университете, то, ради чего ей выделили время на практику с инструментом: исследовать спектр значений одного из символов – песочных часов. Ханна уже добавила два этажа, как она про себя их называла, к лестнице толкований, уходящей в невидимые бездны, и сейчас пыталась нащупать третий.
Во-вторых, была секретная работа – по поручению организации, которую Ханна знала лишь под названием «Оукли-стрит». Видимо, так называлась улица, на которой находился штаб; правда, в Оксфорде такой улицы не имелось, но, возможно, адрес был лондонский. Ханну завербовали два года назад: профессор византийской истории, Джордж Пападимитриу, сказал, что эта работа очень важна и что труд ее пойдет на благо либерализма и свободы. Ханна ему поверила. «Оукли-стрит» оказалась подразделением какой-то секретной службы, но единственным источником информации о них оставался алетиометр, так что выяснить удалось совсем немного. Впрочем, доктор Релф читала газеты, а умному человеку и по газетам нетрудно сообразить, что творится в стране. Вопросы для алетиометра, поступавшие из «Оукли-стрит», были весьма разнообразны, но в последнее время все чаще подходили вплотную к запрещенным церковью предметам, и Ханна отдавала себе отчет, что попадет в большую беду, если ее изысканиями заинтересуется ДСК.
И, наконец, третьим и самым насущным был вопрос, над которым она ломала голову уже целую неделю: куда подевался желудь? Ханна понятия не имела, какими путями этот крошечный футляр с сообщениями регулярно попадал под камень в университетском парке, откуда ей полагалось его забирать, но никогда еще не случалось, чтобы он настолько запаздывал. И Ханна уже начала не на шутку беспокоиться.
Сформулировать вопрос было непросто, а истолковать ответ – еще труднее. Разумеется, алетиометр никогда не давал легких ответов, хотя с некоторых пор Ханна стала лучше ориентироваться в уровнях значений.
Но сегодня, всматриваясь в инструмент в теплом сиянии антарной настольной лампы, – тусклого света дня, уже угасавшего за шестисотлетними окнами Зала герцога Хамфри, было недостаточно, – она чувствовала, что окончательная разгадка близка. Неделя трудов не прошла даром. Она получила три четких образа: мальчик – трактир – рыба. Будь она по-настоящему опытным толкователем, каждый из этих образов уже окутался бы ореолом конкретных подробностей, но Ханне приходилось довольствоваться тем, что есть.
Она пододвинула к себе чистый листок и расчертила его на три колонки. Первую озаглавила «Мальчик» и оставила пустой. Ханна не знала никаких мальчиков, кроме четырехлетнего сына своей сестры, который вряд ли имел к этому какое-то отношение. Заполнить колонку «Трактир» тоже было нечем. Не так уж много трактиров она знала, хотя и любила посидеть где-нибудь за столиком на открытом воздухе с бокалом вина, но только в хорошей компании и в хорошую погоду. Пожалуй, проще всего будет начать с «Рыбы». В третью колонку Ханна выписала все названия рыб, какие только смогла припомнить: селедка, треска, морской скат, лосось, макрель, пикша, форель, окунь, щука… Что там еще? Рыба-луна… летучая рыба… колюшка… барракуда…
– Голавль, – подсказала мартышка, ее деймон.
Ханна записала голавля, но проще не стало. Конечно, ее деймон знал не больше, чем она, хотя иногда мог припомнить то, о чем она забыла.
– Еще есть рыба линь, – добавил он.
Свою официальную работу, исследование спектра песочных часов, доктор Релф могла обсудить еще с пятью-шестью учеными, но о секретной работе нельзя было обмолвиться ни словом никому, кроме деймона. А вопрос о желуде был напрямую связан с секретной работой, поэтому и о нем приходилось молчать.
Ханна зевнула, потянулась еще раз, встала и медленно прошлась взад-вперед по читальному залу, изо всех сил стараясь не думать абсолютно ни о чем. Сначала казалось, что и от этого толку не будет, но когда она снова села за стол, перед ее мысленным взором возникла отчетливая картина: терраса над рекой, она в компании друзей и нахальный павлин. Словно наяву Ханна увидела, как павлин выхватывает хот-дог из руки ее соседа и пытается скрыться с добычей, но ему мешает неуклюжий хвост, так не вовремя раскрывшийся веером. Она тогда была еще студенткой… сколько же лет прошло? И где это случилось? Как назывался трактир? И был ли это именно трактир, а не ресторан или какое-то другое заведение?
Ханна бросила взгляд на стойку. Помощница библиотекаря сортировала бланки запросов, и никого больше рядом не было.
Поднявшись, Ханна решительно направилась к стойке: стоило хоть на секунду усомниться, и ей бы уже не хватило на это храбрости.
– Энн, – обратилась она к помощнице, – по-моему, у меня уже ум за разум заходит. Не помните, как называется трактир с павлинами и террасой над рекой? Где он находится?
– «Форель»? – отозвалась та. – Это в Годстоу.
– Ну конечно! Спасибо. Вот же дурная голова!
Ханна хлопнула себя по лбу и вернулась за стол. Первым делом она аккуратно сложила и сунула во внутренний карман листок со списком рыб. Позже надо будет его уничтожить. Ее наставники строго-настрого запрещали оставлять письменные улики, но Ханна не привыкла думать, не делая записей. Впрочем, все опасные бумаги она методично сжигала.
Поработав еще полчаса, она вернула книги и алетиометр на стойку. Энн отложила книги на полку для брони и нажала кнопку, чтобы вызвать старшего помощника. Алетиометр хранился у него в кабинете, в сейфе, и старший помощник обязан был возвращать его на место сам – что он и проделывал всякий раз с торжественной серьезностью, которая Ханне очень нравилась.
Но на сей раз она не осталась полюбоваться этим занятным зрелищем. Собрав бумаги в сумку, доктор Релф покинула читальный зал.
«Форель», сказала она себе. Завтра.
И вот настало завтра – субботний день, для разнообразия выдавшийся сухим и даже с проблесками солнца. К полудню Ханна отыскала свой велосипед, накачала шины и покатила по Вудсток-роуд на север. Дорога вела в гору; на вершине холма доктор Релф повернула налево, к Улверкоту и Годстоу. Деймон сидел в корзинке, подвешенной к рулю. Ехала Ханна быстро и, добравшись до «Форели», немного запыхалась и так разогрелась, что пришлось немедленно снять пальто.
Заказав сэндвич с сыром и стакан светлого эля, она села на террасе, где было не слишком многолюдно, но и не вовсе пусто. Должно быть, большинство посетителей не доверяли погоде и предпочли остаться внутри.
Неторопливо откусывая от сэндвича и игнорируя знаки внимания со стороны Нормана (или это был Барри?), Ханна углубилась в книгу. К работе книга не имела никакого отношения: это был приключенческий роман, именно такой, как она любила, с загадочной смертью, чудесными спасениями в самый последний момент и гордой красавицей-героиней, которой предстояло влюбиться в угрюмого, но остроумного героя.
Мальчик, на встречу с которым Ханна так надеялась, тоже появился в самый последний момент – когда она уже доела сэндвич (к негодованию Нормана, которому так и не перепало ни крошки) и допивала остатки эля.
– Не желаете ли еще чего-нибудь съесть или выпить, мисс? – спросил мальчик, вежливо и, к некоторому удивлению Ханны, по-настоящему заботливо, как будто он и вправду хотел помочь. На вид ему было лет одиннадцать – почти уже подросток, крепкий и сильный, с огненно-рыжей головой. Хороший мальчик, дружелюбный и явно неглупый.
– Нет, спасибо. Но… – Ну и как, скажите на милость, ей об этом спросить? Она репетировала эту сцену про себя много раз, но горло все равно перехватило, и голос звучал напряженно и нервно. «Тише, – сказала она себе. – Успокойся».
– Да, мисс?
– Тебе известно что-нибудь о желуде?
Мальчик отреагировал так, что сразу стало понятно: Ханна нашла того, кого искала. Он побледнел, а в глазах вспыхнуло понимание, сменившееся сначала страхом, а затем отчаянной решимостью. Мальчик кивнул.
– Молчи, – быстро шепнула Ханна. – Пока ничего не говори. Через минуту я встану и уйду, но забуду здесь, на стуле, вот эту книгу. Ты ее найдешь и станешь меня искать, но тебе скажут, что я уже ушла. Мой адрес – под обложкой. Я живу в Иерихоне. Завтра, если сможешь, принеси мне эту книгу домой. И… и желудь. Сможешь прийти? Тогда мы поговорим.
Мальчик кивнул опять.
– Завтра, во второй половине дня, – сказал он. – Смогу. В обед я тут занят, но после обеда приду.
Лицо его снова порозовело. «Какой румяный, – подумала Ханна и улыбнулась. – И похож на львенка». Она снова уткнулась в книгу, пока мальчик убирал со стола, а потом разыграла всю положенную пантомиму: надела пальто, порылась в карманах в поисках кошелька, оставила чаевые, взяла сумочку и пошла прочь, оставив книгу на стуле, задвинутом под столик.
На следующий день Ханна с самого утра не находила себе места. Она повозилась немного в садике у дома, что-то подрезала, что-то пересадила, но в мыслях ей было совсем не до этого. Потом зарядил дождь, и она вернулась в дом, сварила кофе и впервые в жизни попробовала разгадать кроссворд из газеты.
– Какая дурацкая игра, – минут через пять проворчал ее деймон. – Слова имеют смысл только в контексте, а не вот так – разложенные по ящичкам, как биологические образцы.
Ханна отбросила газету, развела огонь в маленьком камине, и только теперь сообразила, что совсем забыла про кофе.
– Почему ты мне не напомнил? – упрекнула она деймона.
– А ты как думаешь? Я и сам забыл! – возмутился Джеспер. – Бога ради, успокойся уже наконец.
– Я стараюсь, – пробормотала Ханна. – Только, похоже, я забыла, как это делается.
– Дождь кончился. Ты вроде бы начала обрезать клематис, так пойди и займись им.
– Там все промокло.
– Тогда погладь белье.
– У меня только одна блузка неглаженая.
– Напиши кому-нибудь письмо.
– Не хочу.
– Ну, тогда испеки пирог, заодно и мальчика угостишь.
– А если он придет, как только я начну? Тогда нам придется полтора часа с ним болтать, пока пирог не испечется. К тому же, у нас есть печенье.
– Ну все, я сдаюсь, – вздохнул деймон.
Ханна сняла с крюка у камина старую закопченную сковороду, оставшуюся еще от матери, и поджарила себе сэндвич с сыром. Потом сварила еще кофе и на этот раз не забыла его выпить. На сытый желудок ей немного полегчало и удалось на целый час занять себя чтением. Между тем дождь припустил снова.
– Если и дальше будет так лить, он может и не прийти, – заметила Ханна.
– Придет как миленький! Ему слишком любопытно.
– Думаешь?
– Пока мы с ним говорили, его деймон четыре раза поменял форму.
– Хм-м-м… – протянула Ханна. Это Джеспер удачно подметил. Если деймон ребенка часто превращается и умеет принимать множество разных форм, это верный признак ума и любознательности. – И, по-твоему, это значит…
– …что ему очень интересно выяснить, в чем тут дело.
– Но он испугался. Даже побледнел.
– Всего на секунду. А потом опять раскраснелся, разве ты не заметила?
– Ну что ж, сейчас мы все узнаем наверняка. – Ханна взглянула в окно и увидела, что мальчик уже приближается к воротам. – Он все-таки пришел.
Не дожидаясь стука в дверь, она поднялась, отложила книгу на приставной столик, разгладила юбки и машинально коснулась волос. Господи, да отчего же она так нервничает? Глупый вопрос. Причин для беспокойства и впрямь было немало.
Ханна открыла дверь.
– Ты, наверное, промок насквозь, – сказала она.
– Ну, немного. – Прежде чем Ханна успела забрать у него дождевик, мальчик сам отряхнул его перед дверью. Потом взглянул на чистый ковер и блестящий мастикой пол – и снял еще и ботинки.
– Входи и грейся, – сказала Ханна. – Как ты сюда добрался? Надеюсь, не пешком?
– На лодке.
– У тебя есть лодка? Где ты ее оставил?
– Возле ремонтной мастерской. Мне разрешают ее там ставить. Я подумал, лучше я вытащу ее на берег и переверну, а то воды наберется столько, что за сто лет не вычерпаешь. Она называется «Прекрасная дикарка».
– Почему?
– Так назывался паб моего дяди. Папин брат тоже был трактирщиком, держал паб в Ричмонде. Мне понравилось название.
– Вывеска, наверное, была хорошая?
– Да, такая красивая дама, и она сделала что-то очень храброе, только я так и не понял, что. Ох… вот, держите, это ваша книга. Немного промокла, простите.
– Спасибо. Положи-ка ты ее лучше на каминную полку.
– Здорово вы придумали ее оставить, чтобы я знал, куда прийти.
– Просто у меня спецподготовка, – сказала Ханна.
– Спецподготовка? А что это такое?
– Это когда тебя учат… ну, в общем, передавать сообщения и все такое. Кстати, а как тебя зовут?
– Малкольм Полстед.
– А… желудь?
Мальчик замер, глядя ей в глаза:
– Как вы узнали, что спросить надо именно меня?
– Есть один способ… Существует такой инструмент… Ну, в общем, я это выяснила сама. Больше никто не знает. Ты можешь что-нибудь рассказать мне об этом желуде?
Малкольм порылся во внутреннем кармане и протянул ей руку. Желудь лежал на ладони.
Ханна осторожно взяла его, опасаясь, что мальчик отдернет руку, но тот даже не шевельнулся. Только внимательно смотрел, как она его развинчивает, – а потом кивнул.
– Я решил посмотреть, – сказал он, – знаете ли вы, в какую сторону он развинчивается. Я-то сам поначалу не понял: никогда не видел такую резьбу, чтобы развинчивалась по часовой стрелке. Но вы, я вижу, знали с самого начала. Так что, должно быть, он и вправду для вас.
И с этими словами он извлек из кармана сложенный во много раз листочек тонкой бумаги – в тот самый миг, когда желудь в руках у Ханны распался на две половинки и оказался пустым.
– Значит, если бы я попыталась развинтить его не в том направлении… – начала она.
– …то я не отдал бы вам записку.
Малкольм вручил ей бумажку, Ханна ее развернула, быстро пробежала глазами и сунула в карман жакета. Казалось, мальчик принял ответственность за желудь на себя, и это ей совсем не нравилось. Теперь придется решать, что с этим делать.
– Как ты его нашел? – спросила она.
И Малкольм рассказал все – с того самого момента, как Аста заметила человека под дубом на берегу канала, и до статьи в «Оксфорд Таймс», которую показала ему миссис Карпентер в лавке судовых товаров.
– Боже мой! – ахнула она и побледнела. – Роберт Лакхерст?
– Да, из колледжа Магдалины. Вы его знали?
– Чуть-чуть. Я понятия не имела, что это он… Мы с ним не должны были знать друг о друге, и уж тем более ты… Обычно он просто оставлял желудь в условленном месте, и я его забирала, а потом писала ответ и прятала в другом месте. Но я не знала, кто его оставляет и забирает.
– Хорошая система, – одобрил Малкольм.
Ханна забеспокоилась, уж не сказала ли она больше, чем нужно. Она вообще не собиралась ничего ему говорить – но, с другой стороны, кто мог подумать, что он сам уже так много узнал?
– Ты кому-нибудь об этом рассказывал? – спросила она.
– Нет. Я подумал, что это опасно.
– Правильно. – Ханна нерешительно посмотрела на мальчика. Можно поблагодарить его и распрощаться, а можно… – Не хочешь выпить чего-нибудь горячего? Чашку шоколатла?
– О да, пожалуйста! – воскликнул тот.
Ханна пошла на кухню, поставила молоко на огонь и еще раз перечитала записку. Было ли в ней что-нибудь такое, что может поставить под угрозу лично ее? Да, без сомнения. Ведь в записке упоминался алетиометр, а имена специалистов, работавших с оксфордским алетиометром, ни для кого не секрет. Одно только слово «Пыль» уже сулило большие неприятности.
Она смешала какао-порошок с сахаром, добавила горячее молоко и разлила шоколатл на две чашки. Мальчику уже было известно так много, что волей-неволей придется ему довериться. Выбора нет.
– Я смотрю, у вас много книг, – заметил он, когда Ханна вернулась в гостиную. – Вы – ученая?
– Да. Из колледжа святой Софии.
– Гисторик?
– Историк, – поправила Ханна. – Да, вроде того. Изучаю историю идей. – Она включила лампу у камина, и в комнате сразу же стало как будто теплее, а за окном – наоборот, холодней и темней. – Вот что, Малкольм… Эта записка…
– Э? Да?
– Ты случайно не снял с нее копию?
Мальчик смущенно покраснел.
– Ага. Но я ее спрятал, – быстро добавил он. – У себя в комнате, под половицей. Об этом тайнике никто не знает.
– Можешь кое-что для меня сделать?
Малкольм выжидающе смотрел на нее.
– Сожги, пожалуйста, эту копию.
– Хорошо. Обещаю.
Деймоны их, казалось, уже подружились. Джеспер уселся на крышку стеклянного шкафчика с украшениями и старинными вещицами, Аста – в виде щегла – примостилась рядом, и Джеспер тихонько рассказывал ей про выставленные в шкафчике диковины: вавилонскую печать, римскую монету, куклу-арлекина.
– Ты хочешь о чем-то еще меня спросить? – обратилась Ханна к Малкольму.
– Да! У меня куча вопросов! Кто вообще сделал этот желудь?
– Ну, этого я не знаю. Наверное, он не один такой на свете. Что-то вроде стандартной модели.
– А что за инструмент? Когда я спросил, откуда вы узнали, что желудь у меня, вы сказали про какой-то инструмент. Это и есть тот самый альти… алеми…
– Алетиометр… Да. – И Ханна принялась объяснять, что это такое и как он работает, а мальчик внимательно слушал.
– А-ле-ти-о-метр… Он один такой на свете?
– Нет. Когда-то их было шесть, но один потерялся. Остальные хранятся в других университетах.
– А почему никто не сделает еще один? Почему бы не наделать их много?
– Никто больше не знает, как они делаются.
– Могли бы разобрать и посмотреть. Вот если бы, например, я не знал, как работают часы, но у меня были бы часы, которые нормально работают, я бы мог разобрать их на части, очень осторожно, и зарисовать каждую детальку и как они друг с другом соединяются, а потом наделать еще таких деталек и собрать новые часы. Это, конечно, сложно, но не так уж и трудно.
Ханна мысленно вздохнула с облегчением. Устройство алетиометра – безопасная тема. Если мальчик интересуется только этим, волноваться не о чем.
– Насколько я знаю, проблема не только в этом, – сказала она. – Я слыхала, что механизм алетиометра изготовлен из такого сплава, какого теперь больше не делают. Может, из очень редких металлов, – я точно не знаю, но, одним словом, секрет утрачен.
– О-о! Как интересно! Было бы здорово когда-нибудь на него взглянуть. Любопытно, как там все устроено… мне нравится такое рассматривать.
– В какую школу ты ходишь?
– В улверкотскую начальную. Это в Улверкоте, раньше он назывался Уолверкот.
– А куда пойдешь потом?
– В смысле, в какую школу? Не знаю, смогу ли я вообще учиться дальше. Может, если кто-то возьмет в подмастерья… Но, скорее всего, папа захочет, чтобы я просто работал в «Форели».
– А как насчет средней школы?
– Ну, по-моему, вряд ли меня туда кто-то отдаст.
– А ты сам не хотел бы? Тебе нравится учиться?
– Я-то сам? Ну, наверное, да. То есть, да, конечно! Но вряд ли что-то получится.
Птичка-деймон внимательно слушала. Она перепорхнула к мальчику на плечо и что-то ему шепнула, а он слегка покачал головой. Ханна сделала вид, что ничего не заметила, и наклонилась, чтобы подбросить полено в камин.
– А что такое это «поле Русакова», о котором говорилось в записке? – спросил Малкольм.
– Ох. Честно говоря, не знаю. Мне совсем не обязательно знать все, чтобы задавать вопросы алетиометру. Он как будто и сам знает все, что нужно.
– Ну, просто любопытно. Они там пишут: «Когда мы пробуем одну систему измерений, искомая субстанция ускользает от нас, словно бы предпочитая другую, но стоит нам обратиться к другому методу, как неудача подстерегает нас и там».
– Ты что, выучил все сообщение наизусть?
– Не специально. Просто перечитывал столько раз, что оно само запомнилось. В общем, я что хотел сказать… То, о чем они пишут, – это вроде как похоже на принцип неопределенности.
Все это время Ханна чувствовала себя так, будто спускается по лестнице на ощупь, в полной темноте, – и тут вдруг очередной ступеньки под ногой не оказалось.
– Откуда ты об этом знаешь?
– Ну, к нам в «Форель» часто приходят ученые, и они мне всякое рассказывают. И про принцип неопределенности рассказали – это когда ты можешь знать про какую-нибудь частицу только кое-что, но не всё. Если знаешь о ней что-то одно, то не можешь знать другого, поэтому остается неопределенность. Ну, в общем, так я понял. А еще в записке говорится про какую-то Пыль. Что это за Пыль?
Ханна изо всех сил пыталась сообразить, какие сведения общедоступны, а какие принадлежат только «Оукли-стрит».
– Это такая элементарная частица, о которой мы почти ничего не знаем, – наконец, произнесла она. – Ее трудно исследовать, и не только из-за того, о чем говорится в записке, но и потому, что Магистериум… Ты знаешь, что такое Магистериум?
– Что-то вроде главного церковного начальства?
– Да. Так вот, Магистериум строго осуждает все попытки исследовать Пыль. Они считают, что это греховно. Почему – я не знаю. Это как раз и есть одна из загадок, которые мы пытаемся разгадать.
– А как можно понять, греховно что-то или нет?
– Очень хороший вопрос. Ты случайно не говорил о таких вещах с кем-нибудь у себя в школе?
– Только с Робби, это мой друг. Он ничего толком об этом не знает, но ему тоже интересно.
– А с учителями?
– По-моему, они бы не поняли. Мне просто повезло, что я живу в «Форели» и могу там говорить с разными людьми.
– Да, это очень полезно, – пробормотала Ханна. У нее начала зарождаться одна интересная мысль, но пока что Ханна изо всех сил ее отталкивала.
– Значит, вы думаете, что под Пылью они там подразумевали элементарные частицы? – спросил Малкольм.
– Надо полагать. Но это не моя область, так что наверняка я не знаю.
Некоторое время мальчик молча смотрел в огонь, а потом заговорил снова:
– Если желудь для вас оставлял мистер Лакхерст, то…
– Да, понимаю. Ты хочешь спросить, каким образом я теперь буду связываться с… с другими людьми? Есть еще один способ. Придется им воспользоваться.
– А что это за другие люди?
– Этого я тебе сказать не могу. Просто потому, что и сама не знаю.
– Но как же тогда все это началось?
– Кое-кто попросил меня о помощи.
Мальчик медленно пил шоколатл и, казалось, тщательно что-то обдумывал.
– А эта «другая сторона», о которой они пишут? – наконец спросил он с опаской. – Это ведь Суд Консистории, да?
– Хм-м-м… Ты сам видел достаточно, чтобы понять, – и наверняка понял, насколько они опасны. Дай честное слово, что больше не сделаешь ничего такого, что может указать на твою связь со мной или с тем деревом у канала. Обещай, что не станешь делать больше ничего опасного.
– Обещаю, что постараюсь, – ответил Малкольм. – Но если все это – такой большой секрет, то как я пойму, опасно ли то, что я делаю, или нет?
– Что ж, с этим не поспоришь. Но можешь хотя бы пообещать никому не рассказывать о том, что ты и так уже знаешь?
– Да, это я обещаю.
– Спасибо, это уже очень много. – Но та самая мысль стучалась ей в голову слишком настойчиво. – Послушай, Малкольм, – сказала она. – Когда те двое из ДСК пришли в «Форель» и арестовали мистера…
– Мистера Боутрайта. Но они его не арестовали. Он сбежал.
– Ну да, да. Скажи, они о чем-нибудь таком тебя не спрашивали?
– Нет. Спросили только о человеке, который ужинал в «Форели» за неделю до того. Вместе с бывшим лордом-канцлером.
– Да, я помню, ты говорил. Но ты уверен, что к вам приезжал сам бывший лорд-канцлер Англии? Лорд Наджент? Может, это был обычный человек, а друзья называли его лордом-канцлером просто в шутку?
– Да нет же! Настоящий лорд Наджент. Папа мне потом показал его фотограмму в газете.
– А ты не знаешь, почему эти люди из ДСК о нем расспрашивали? Это как-то связано с ребенком?
Малкольм вздрогнул от неожиданности. По совету сестры Фенеллы он все время был начеку, чтобы не сболтнуть что-нибудь о Лире; но, с другой стороны, когда старушка-монахиня поняла, что о девочке все равно уже знают слишком многие, она сама сказала, что, может, не так уж это и страшно.
– Э-э-э… а вы-то откуда знаете про ребенка? – выпалил он.
– А разве это секрет? По правде говоря, я просто случайно услышала о нем, пока сидела в «Форели». Кто-то говорил, что монахини… не помню точно, но, в общем, как-то это касалось ребенка.
– Ну, – пожал плечами Малкольм, – раз уж вы и так о ней слышали…
И он рассказал все по порядку, начав с того, как трое джентльменов смотрели на монастырь за рекой из окошка в Зале-на-Террасе, и закончив тем, как сестра Фенелла показала ему малышку Лиру и ее крошечного свирепого деймона.
– Да, это и вправду интересно, – согласилась Ханна.
– А вы знаете про закон об убежище? – спросил Малкольм. – Сестра Фенелла рассказала мне об убежищах, и я подумал, не потому ли они решили отправить девочку в монастырь? А еще она сказала, что некоторые колледжи тоже могли давать убежище.
– По-моему, в Средние века убежище можно было найти в любом колледже. Но сейчас беглецов укрывает только один.
– И какой же?
– Иордан. И, кстати, недавно они кое-кого приютили. В наши дни такое случается в основном по политическим причинам. Если какой-нибудь ученый разозлит правительство, он может укрыться в университете. Для этого есть специальная фраза на латыни, которую он должен сказать Магистру – главе колледжа. Как бы заявить о своем праве на убежище.
– А который из колледжей – Иордан?
– На Терл-стрит, с таким высоченным шпилем.
– А, знаю… Как по-вашему, эти люди могли попросить об убежище? Ну, в смысле, для ребенка?
– Не знаю. Честно, понятия не имею. Но мне пришла в голову одна мысль. И я сейчас буду сама себе противоречить, потому что все-таки не хочу терять с тобой связи, Малкольм. Ты ведь любишь читать, да?
– Да! – с жаром подтвердил мальчик.
– Вот и отлично. Давай сделаем так: я забыла свою книгу, ты мне ее принес – и это чистая правда. Ты увидел, сколько у меня книг, мы поговорили о книгах, о чтении и так далее, и я предложила тебе брать у меня книги почитать. Как в библиотеке. Можешь брать по одной-две книги, приносить их обратно, когда дочитаешь, и выбирать новые. Так у тебя будет отличный повод сюда наведываться. Ну как, сыграем в такую игру?
– Да, – без малейших колебаний согласился Малкольм. Белка у него на плече, в которую успел превратиться его деймон, сцепила передние лапки и смотрела на Ханну с надеждой. – И все, что я увижу или услышу…
– Совершенно верно. Специально разузнавать ничего не надо – я не хочу, чтобы ты угодил в беду. Но если ты случайно услышишь что-нибудь интересное, можешь прийти и рассказать мне. И да, о книгах мы тоже будем говорить. Что скажешь?
– Потрясающе! Просто замечательно!
– Вот и славно. Очень хорошо! Тогда можем начать прямо сейчас. Смотри, вот тут стоят детективные романы – тебе такое нравится?
– Мне все нравится.
– А здесь – книги по истории. Некоторые из них, наверное, скучноваты… не знаю… но, так или иначе, кроме них еще хватает всякого разного. Выбирай! Может, возьмешь один роман и еще что-нибудь посерьезнее?
Малкольм вскочил и бросился к полкам. Ханна осталась сидеть и только молча наблюдала за ним, не желая ничего навязывать. Когда она была маленькой и жила в деревне, одна пожилая дама по соседству точно так же одалживала книги ей, и Ханна помнила, какое это счастье – возможность выбирать самостоятельно и взять с полки любую книгу, какая только приглянется. В Оксфорде было две-три платных библиотеки, но со свободным доступом – ни одной; не удивительно, что Малкольм изголодался по книгам!
Ханне было приятно смотреть, с каким удовольствием и страстью мальчик роется на полках, вынимая то одну книгу, то другую, раскрывая, проглядывая первую страницу и возвращая книгу на место, чтобы тут же приняться за следующую. В этом любознательном мальчике доктор Релф узнавала саму себя.
Но, в то же время, ее терзало ужасное чувство вины. Она ведь беззастенчиво пользуется им, подвергает его опасности. Делает из него шпиона. Пусть даже мальчик храбр и умен – это ничего не меняет: он еще так мал, что даже забыл вытереть рот после шоколатла – на верхней губе осталось пятно. Он еще не настолько самостоятелен, чтобы понимать, во что ввязался, – хотя, подозревала Ханна, если бы ему предложили стать шпионом, он бы с радостью согласился. И все же она его вынудила – ну, или соблазнила, неважно. Она была сильнее и взрослее – и злоупотребила своей властью.
Малкольм между тем выбрал две книги и сунул их в ранец, чтобы не промокли. Условившись с Ханной о следующей встрече, он попрощался и вышел в сырую вечернюю мглу.
Ханна задернула занавески, села и обхватила руками голову.
– Нет смысла прятаться, – заметил Джеспер. – Я все равно тебя вижу.
– Я поступила плохо?
– Конечно. Но у тебя не было выбора.
– Я не должна была этого делать.
– Но тебе пришлось. Иначе ты бы чувствовала себя совсем беспомощной.
– А так я чувствую себя виноватой. Нельзя принимать такие решения с оглядкой на чувства!
– Это просто выбор между плохим и худшим. Ты выбирала меньшее из двух зол. Тебе был нужен помощник, и ты его нашла – единственного, какой имелся. Прими это и перестань себя грызть.
– Я понимаю, – сказала она. – Но все равно…
– …тяжело, – закончил за нее деймон.
Глава 6. Стекольные гвозди
Об ученой даме, которой он вернул книгу, и о ее предложении дать ему почитать еще Малкольм решил рассказать родителям – чтобы ничего от них не скрывать… ну, разве что кроме самого главного. Первые две книги он показал маме перед ужином, когда она раскладывала по тарелкам рагу из ягненка.
– «Труп в библиотеке», – прочла она, – и «Краткая история времени». Не таскай их в кухню, а то заляпаешь жиром и подливой. Если кто-то тебе что-то одолжил, береги чужую вещь.
– Я буду держать их у себя в комнате, – пообещал Малкольм, убирая книги обратно в ранец.
– Вот и молодец. А сейчас поторопись, у нас сегодня много народу.
Малкольм сел за стол.
– Мам, – спросил он с полным ртом, – когда я закончу начальную школу, я потом пойду в среднюю?
– Это как папа скажет.
– А как папа скажет?
– Думаю, он скажет: «Давай-ка ешь, да побыстрее!»
– Я могу есть и слушать одновременно.
– Жалко, что я не могу болтать и готовить.
Назавтра монахини были заняты, а мистер Тапхаус сидел у себя, так что у Малкольма не было предлога отправиться после школы в монастырь. Вместо этого он валялся у себя в комнате и читал по очереди то одну книгу, то другую, а когда снаружи перестало лить, пошел поглядеть, достаточно ли уже сухо, чтобы написать на лодке название новой красной краской. Увы, сухо не было, так что он угрюмо поплелся обратно к себе и стал плести фалинь из хлопкового шпагата.
В начале вечера он, как обычно, работал в баре, подавая клиентам еду и напитки, и вот тут-то, разводя огонь в камине, он и стал свидетелем одного необычного происшествия. Судомойка Элис вошла в бар с полными руками чистых кружек и наклонилась, чтобы поставить их на стойку, и тут один из сидевших рядом мужчин протянул руку и ущипнул ее за задницу.
Малкольм затаил дыхание. Элис сначала будто бы и ничего не заметила. Она аккуратно поставила кружки на стойку и лишь затем повернулась.
– Кто это сделал? – преспокойно спросила она.
Малкольм, правда, заметил, что глаза ее сузились, а ноздри затрепетали.
Никто не шелохнулся и рта не раскрыл. Любителем щипаться оказался дородный фермер средних лет по имени Арнольд Хемсли; его деймоном был хорек. Бен, деймон Элис, превратился в бульдога, и Малкольм услышал, как он тихонько зарычал. Хорек тут же попытался юркнуть в хозяйский рукав.
– В следующий раз, – сообщила Элис, обращаясь ко всему залу, – я даже выяснять не буду, кто это сделал. Просто разобью кружку о башку первому, кто попадется под руку.
С этими словами она взяла чисто вымытую кружку и одним ударом расколотила о стойку, так что в ее костлявом кулаке осталась ручка с зазубренным куском стекла Воцарилась тишина – только осколки еще звенели на каменном полу.
– Что у вас тут происходит? – спросил отец Малкольма, показавшись в дверях кухни.
– Кое-кто сделал крупную ошибку, – отозвалась Элис, швырнув ручку от кружки на колени Хемсли.
Тот испугался, дернулся, попытался ее поймать и порезался. Элис равнодушно отвернулась и пошла прочь.
Малкольм, скорчившись у камина с кочергой в руках, услышал, как Хемсли с друзьями, сдвинув головы, зашептались.
– Чертов дурак, она еще слишком молода… блюдет себя… глупо было пытаться, она недостаточно взрослая… да она меня специально подначивала!.. ничего она не подначивала, совсем, что ли, с ума спятил?.. оставь ее в покое, это же девчонка старого Тони Парслоу…
Потом отец велел Малкольму подмести битое стекло, и больше он ничего услышать не успел, да и клиенты сменили тему, потому что на самом деле говорить они хотели только о дожде и о том, как он отразится на уровне воды. Водохранилища были все переполнены, так что властям пришлось много воды спустить в реку и держать все шлюзы открытыми. Вокруг Оксфорда и Абингдона затопило несколько лугов, хотя ничего необычного в этом не было, а вот что плохо, так это что воду никто не отводил и вниз по течению несколько деревень оказались под угрозой паводка.
Малкольм подумал, не стоит ли это все записать – вдруг это важно? – но потом решил, что ну его. Таких разговоров хватает по всем пабам на всех реках королевства. Впрочем, кое-что странное в этом все-таки было.
– Мистер Энском? – дернул он за рукав одного из лодочников.
– Чего тебе, Малкольм?
– А раньше бывало так много воды?
– Еще как. Погляди на домик шлюзового сторожа на Герцогском канале. Там на стене есть доска с зарубками, показывает, как высоко поднималась вода во время потопа… Когда это было, Дуги?
– В 1883 году, – сказал его приятель.
– Нет, гораздо раньше.
– В 1852-м? В 1853-м?
– Ну, вроде того. Каждые сорок-пятьдесят лет бывает жуткий потоп. Могли бы уже и сделать с этим что-нибудь за столько-то времени.
– А что тут сделаешь? – спросил Малкольм.
– Выкопать больше водохранилищ, – сказал Дуги. – Вода-то всегда нужна.
– Нет-нет, – перебил его мистер Энском. – Главная проблема – в реке. Ее нужно правильно драгировать, углублять русло. Видал, небось, эти их землечерпалки рядом с Уоллингфордом? Жалкие, хлипкие машины, вот что я тебе скажу. У них и людей-то недостаточно для работы. Случись большое наводнение, их самих всех смоет. Когда с гор идет много воды, а ложе реки недостаточно глубоко, чтобы всю ее вместить, она разливается куда может.
– Если они там, в Абингдоне, ничего не предпримут, – вставил Дуги, – дело плохо. Все тамошние деревни к черту затопит. А вот если бы выкопать пару-тройку больших резервуаров выше по течению, вода бы не пропадала попусту. Ценная это штука все-таки – вода.
– А то, особенно в пустыне Сахара! – поддакнул мистер Энском. – Только что ты делать-то станешь? Почтой ее туда пошлешь? В Англии в воде недостатка нет. Глубина реки – вот в чем загвоздка. Углубите ее как следует, и она побежит к морю как миленькая.
– Земля у нас слишком ровная по эту сторону Чилтернских холмов, – сказал кто-то еще и даже начал объяснять, как это вышло, но тут Малкольма позвали отнести пива в Оранжерейную комнату.
Первое его стоящее донесение оказалось вовсе даже не из «Форели», а из улверкотской начальной школы. Затяжные ливни сводили учителей с ума, потому что детей не пускали на двор и приходилось надзирать за их играми в четырех стенах – сплошное расстройство, да и только!
В классе на перемене было многолюдно, шумно и тесно. Малкольм с тремя друзьями сдвинули две парты спинка к спинке и забавлялись чем-то вроде настольного футбола, но деймона Эрика так и распирало от каких-то таинственных и волнующих новостей, которые Эрик не слишком-то и старался скрыть.
– Ну, что там? Что? Что? – запрыгал Робби.
– Мне не полагается говорить, – благонравно ответил Эрик.
– Ну, тогда скажи совсем тихо, – посоветовал Том.
– Говорить об этом противозаконно. То есть совсем нельзя.
– А тебе-то кто тогда сказал?
– Мой па. Но он велел никому не говорить.
Отец Эрика работал в суде графства и частенько делился с сыном подробностями особенно интересных слушаний, что только увеличивало популярность Эрика среди сверстников.
– Твой па всегда так говорит, – заметил Малкольм, – только ты потом все равно нам рассказываешь.
– Нет, на этот раз все по-другому. Тут прямо настоящий секрет.
– Тогда и ему не следовало тебе об этом говорить, – не унимался Том.
– Ну, он же знает, что может мне доверять, – возразил Эрик под слаженный хор насмешек.
– Ты сам знаешь, что в конце концов все разболтаешь, – сказал Малкольм, – так что можешь начинать, пока звонок не прозвенел.
Эрик разыграл целый спектакль из оглядываний по сторонам, вздохов и заговорщических подмигиваний. Все сдвинули головы.
– Помните того человека, который упал в канал и утонул? – сказал он.
Робби об этом слышал, Том не слышал, а Малкольм просто кивнул в ответ.
– В пятницу папа вел дознание, – продолжал Эрик, – и все думали, что тот человек утонул, но оказалось, что его задушили, прежде чем тело попало в воду, так что никуда он сам не падал. Его сначала убили, а потом убийца бросил труп в канал.
– Ух ты! – сказал Робби.
– А они откуда узнали? – спросил Том.
– У него не было воды в легких. А на шее оказался след от веревки.
– И что теперь будет? – поинтересовался Малкольм.
– Теперь это дело полиции, – со знанием дела заявил Эрик. – Вряд ли мы еще что-нибудь услышим, пока они не поймают убийцу и не отдадут под суд.
Тут как раз прозвенел звонок, так что им пришлось оставить игру, поставить парты на место и скрепя сердце заняться французским.
Добравшись до дома, Малкольм сразу кинулся за газетой, но не нашел там никаких упоминаний о трупе в канале. Зато «Труп в библиотеке» оказался на редкость захватывающим, так что он проглотил его в один присест, запоем, хотя ему давно уже полагалось спать. Несмотря на все жестокости, которые в ней творились, книга почему-то была не такой страшной, как мысль о человеке, потерявшем желудь, – несчастном, напуганном и задушенном.
Эти мысли никак не шли у Малкольма из головы; от них было невозможно отделаться. Вот если бы они с Астой сразу же предложили ему помочь! Они нашли бы желудь, человек улизнул бы от агентов ДСК и остался бы жив…
С другой стороны, эти двое из ДСК вполне могли следить за ним всю дорогу и, возможно, собирались арестовать в любом случае. То, какой одинокой и тоскливой оказалась его смерть, – вот что терзало Малкольма больше всего.
На следующий день после школы он отправился в монастырь – посмотреть, как там ребенок. Ему сказали, что прекрасно и сейчас она спит, и нет, увидеть ее никак нельзя.
– Но у меня для нее подарок, – взмолился Малкольм, обращаясь к сестре Бенедикте, которая работала у себя в кабинете. Сестра Фенелла была занята где-то еще и повидаться с ним не пришла.
– Очень мило с твоей стороны, Малкольм, – сказала монахиня. – Если ты дашь его мне, я прослежу, чтобы она его получила.
– Спасибо, – сказал с сомнением Малкольм, – но я лучше приберегу его до тех пор, когда смогу отдать сам.
– Как пожелаешь.
– Может, мне что-нибудь сделать, пока я тут?
– Нет, Малкольм, сегодня не надо, спасибо. У нас все отлично.
– Сестра Бенедикта, а когда они прикидывали, поместить сюда ребенка или нет, это бывший лорд-канцлер все решил? Лорд Наджент, да?
– Он, разумеется, принимал в этом участие. А теперь, если позволишь…
– А чем вообще занимается лорд-канцлер?
– Он один из высших представителей судебного ведомства в королевстве. И спикер Палаты лордов.
– Почему тогда он принимает решения об этом ребенке? Детей-то в стране, должно быть, пруд пруди. Если бы это он решал, куда кого из них девать, у него бы больше ни на что времени не оставалось.
– Уверена, ты прав, – сказала сестра, – но так уж получилось. Родители девочки – важные люди, наверняка причина в этом. Надеюсь, ты ни с кем об этом не болтал? Дело наверняка секретное и уж точно частное. А теперь, Малкольм, ты меня прости, я должна привести в порядок эти счета до того, как начнется вечерня. Ступай. Мы с тобой поговорим в другой день.
Она сказала «все отлично»… но это было совсем не так. Сестре Фенелле уже полагалось вовсю заниматься обедом, а ее нигде не было видно, зато по коридорам со встревоженным видом сновали какие-то незнакомые сестры. Малкольм беспокоился за малышку, но ведь сестра Бенедикта всегда говорила правду… И все-таки ему было не по себе.
Малкольм вышел наружу, под темную вечернюю морось. В мастерской горел теплый свет: наверняка плотник, мистер Тапхаус, все еще там. Он постучал в дверь и вошел.
– Что это вы делаете, мистер Тапхаус? – спросил он.
– А на что это похоже?
– На окна. Вот это похоже на кухонное, только… Ой, нет, это ставни, да?
– Верно. Посмотри, юный Малкольм, какая эта рама тяжелая.
Старик поставил раму для кухонного окна посреди комнаты, и Малкольм честно попробовал оторвать ее от пола.
– Ого! Вот это тяжесть!
– Вся из двухдюймового дуба! Еще прибавь вес самого ставня и представь, что получится.
Малкольм представил.
– Нужно очень надежное крепление в стене. Они куда будут открываться – наружу или внутрь?
– Наружу.
– Тогда его ничего, кроме камня, не удержит. Как же быть?
Мистер Тапхаус подмигнул и распахнул шкаф. Внутри Малкольм увидел какое-то большое механическое устройство, опутанное кольцами толстых проводов.
– Антарная дрель, – гордо сказал плотник. – Хочешь помочь? Подмети-ка здесь.
Он закрыл шкаф и протянул Малкольму метлу. Пол был засыпан толстым слоем стружки и древесных опилок.
– А почему… – начал было Малкольм, но мистер Тапхаус его перебил.
– Можешь, конечно, спрашивать, да только много все равно не узнаешь. Все окна разломаны, а почему – никто мне не говорит. Я и не спрашиваю. Я вообще никогда не спрашиваю. Просто делаю, что сказали. Вот только это не значит, что мне не интересно.
Старик поднял раму и прислонил к стене рядом с еще несколькими.
– Что, и витражи тоже? – ужаснулся Малкольм.
– Витражи – пока нет. Сестры думают, что они слишком ценные и вряд ли кто попытается их разбить.
– Так это для защиты? – недоверчиво спросил Малкольм.
Да кому в целом свете понадобится нападать на монахинь или бить им окна?
– Ничего другого я не придумал, – пожал плечами мистер Тапхаус, убирая стамеску обратно в футляр на стене.
– Но… – мальчик не знал, как закончить фразу.
– Но кто станет угрожать монахиням? Да уж, в том-то и дело. На этот вопрос у меня ответа нет. Но что-то носится в воздухе. Чего-то они все боятся.
– Тут как-то все стало… странно.
– Точно.
– Это как-то связано с ребенком?
– Кто его знает. Ее папаша в свое время крупно насолил Церкви.
– Лорд Азриэл?
– Он самый. Но я бы на твоем месте не совал нос в эти дела. О некоторых вещах даже говорить опасно.
– Почему? Что тут может быть опасного?
– Вот что, хватит. А когда я говорю «хватит», это значит – хватит. Не надо забываться.
Деймон мистера Тапхауса, потрепанного вида дятлица, сердито щелкнула клювом. Малкольм замолчал и принялся сметать опилки и стружку к поленнице, из которой плотник завтра будет топить старую чугунную печь.
– Пока, мистер Тапхаус, – сказал он, закончив.
Старик что-то проворчал в ответ.
Разделавшись с «Трупом в библиотеке», Малкольм взялся за «Краткую историю времени». Эта книга пошла куда тяжелее, но он ничего другого и не ждал, тем более что тема оказалась ужасно интересная, пусть даже Малкольм понимал далеко не все, о чем писал автор. Он твердо решил закончить книгу к субботе и почти в этом преуспел.
Когда он пришел, доктор Релф как раз меняла разбитое стекло в задней двери. Малкольма это страшно заинтересовало.
– Как это случилось? – стал допытываться он.
– Кто-то его разбил. Я заклинила верх и низ двери, так что внутрь они бы все равно пробраться не смогли, да, видно, понадеялись, что ключ остался в замке.
– Найдется у вас замазка? И несколько стекольных гвоздей?
– А что это такое?
– Такие мелкие гвоздики без шляпок, чтобы удерживать стекло на месте.
– Я думала, это замазкой делается.
– Не ею одной. Могу принести вам немножко.
На Уолтон-стрит, минутах в пяти пешком, была лавка скобяных изделий – любимое место Малкольма после корабельной лавки. Он мельком взглянул на имевшиеся у доктора Релф инструменты: все нужное у нее было, так что Малкольм помчался в лавку и в мгновение ока вернулся с мешочком стекольных гвоздей.
– Я видал… я видел, как мистер Тапхаус один раз такое делал в монастыре. Он плотник, – пояснил мальчик. – А делал он вот что… глядите, я вам покажу…
Чтобы не расколотить стекло молотком, он приставил стамеску боком к гвоздю, и стукнул уже по ней, вгоняя гвоздь.
– Ух ты, хорошая мысль, – восхитилась доктор. – Дай-ка я попробую.
Убедившись, что она ничего не напортит, Малкольм дал ей забить последние гвоздики, а сам принялся мять и греть замазку.
– Тебе, наверное, нужен шпатель? – спросила хозяйка.
– Нет. Обычный столовый нож вполне сойдет. Лучше с круглым кончиком.
На самом деле Малкольм никогда не шпатлевал стекла самостоятельно, но хорошо помнил, как это делал мистер Тапхаус, а у того выходило очень аккуратно.
– Замечательно, – похвалила доктор.
– Нужно, чтобы она высохла, а потом чуть-чуть подшкурить, и уже можно красить, – авторитетно сказал мальчик. – И тогда ей никакая погода не страшна.
– Ну, думаю, мы заслужили по чашке шоколатла, – сказала она. – Спасибо тебе большое, Малкольм.
– Только я сначала приберусь, – ответил он.
Мистер Тапхаус так бы и сделал. Малкольму казалось, что тот за ним наблюдал и наградил суровым кивком, когда все было, наконец, прибрано и подметено.
– Мне нужно сказать вам две вещи.
Они сидели у огня в маленькой гостиной.
– Хорошо.
– Может, вовсе и не хорошо. Знаете монастырь, где смотрят за тем ребенком? Мистер Тапхаус, плотник, делает для них тяжеленные ставни на все окна. Зачем – сам не знает. Он никогда не спрашивает, зачем… Но ставни и правда очень тяжелые и крепкие. Когда я давеча приходил туда, все сестры были какие-то заполошные, а потом смотрю – мистер Тапхаус ставни делает. Вам такие, может, тоже надо. Мистер Тапхаус сказал, сестры, похоже, чего-то боятся, но чего – он не знает. Не знаю, может я ему не те вопросы задавал… Может, надо было спросить: «У вас тут окно, что ли, разбилось?» – но я не сообразил.
– Не бери в голову. Интересные вещи ты говоришь. Думаешь, это они ребенка защищают?
– Наверняка. Но у них там вообще много такого, что в защите нуждается – распятия всякие, статуи, серебро и прочее. Хотя если бы дело было только в грабителях, они бы не стали морочиться с такими ставнями, какие мистер Тапхаус делает. Так что, думаю, они за ребенка волнуются.
– Наверняка так и есть.
– Сестра Бенедикта считает, сам лорд Наджент, бывший лорд-канцлер Англии, решил поместить ребенка к ним. Но почему – не сказала, а когда я слишком много вопросов задаю, она сердится. А еще она говорит, ребенок – это дело секретное. Но про нее ведь уже так много народу знает… И я подумал, что это вряд ли теперь важно.
– Вероятно, ты прав. А что еще ты хотел сказать?
– А, да.
Малкольм рассказал, что отец Эрика, тот, что из судейских, говорил про человека в канале.
Ханна побледнела.
– Боже мой, какой ужас! – воскликнула она.
– Думаете, это правда?
– Ох, даже не знаю. А ты как думаешь?
– Ну, Эрик всегда немного преувеличивает.
– Да?
– Он любит хвастаться, что знает больше других, – то, что его отец в суде слышал.
– Интересно, его отец вообще стал бы ему такое рассказывать?
– Думаю, стал бы. Я сам слышал, как он обо всяком таком толкует – о судебных заседаниях, и вообще. Эрику-то он наверняка правду говорит, а вот сам Эрик… А, впрочем, кто его знает. Я просто думаю, тот бедняга… он таким несчастным выглядел…
К его огромному смущению Малкольма, голос у него задрожал, горло перехватило, а из глаз неожиданно покатились слезы. Когда ему случалось расплакаться дома – конечно, в более юном возрасте, – мама всегда знала, что делать: она обнимала его и укачивала – нежно, осторожно, пока рыдания не стихнут. Малкольм вдруг понял, что хотел поплакать о том мертвеце с того самого момента, как услышал о нем, но только маме-то он об этом сказать не мог…
– Простите, – буркнул он.
– Малкольм! Прекрати извиняться. Это я должна просить прощения за то, что ты оказался во все это замешан. И думаю, что на этом нам стоит поставить точку. Я не должна была просить тебя…
– Не хочу я ставить никакие точки! Я хочу узнать!
– Это слишком опасно. Если кто-то решит, что ты что-то об этом знаешь, ты окажешься в большой…
– Я знаю. Но я и так уже в ней и ничего не могу с этим поделать. И это вовсе не ваша вина. Я бы и так все это увидел, имеет оно там какое-то отношение к вам или нет. И я хотя бы могу с вами поговорить! Мне же совсем не с кем было – даже с сестрой Фенеллой. Она бы такого точно не поняла.
Малкольм все еще был в замешательстве и видел, что и доктор Релф тоже смущена, потому что она явно не знала, что делать. Ему не хотелось, чтобы она кинулась его обнимать, и обрадовался, что она даже не попыталась… но все равно вышло как-то неловко.
– Ну, хотя бы обещай мне, что не будешь задавать никаких вопросов, – сказала она наконец.
– Да, хорошо. Это я обещать могу, – вполне искренне сказал он. – Никого специально я расспрашивать не стану. А вот если кто-то сам расскажет…
– Только будь осмотрителен. Постарайся не выглядеть слишком заинтересованным. А нам с тобой лучше и дальше заниматься тем, что предполагает наша легенда: говорить о книгах. Что ты думаешь вот об этих двух?
С Малкольмом еще никогда в жизни никто так не разговаривал. В школе, когда в классе сидят сразу сорок человек, на это никогда не хватало времени – даже если расписание позволяло и учителю было интересно. Дома это вообще было немыслимо, потому что ни папа, ни мама чтением не увлекались. В трактире он больше слушал, чем участвовал в разговорах. А у единственных двух друзей, с которыми он и вправду мог поговорить о подобных вещах, – у Робби и Тома – не было ни таких обширных знаний, ни такого глубокого понимания, как у доктора Релф.
Когда он расплакался, Аста, превратившись в маленького хорька, забралась к нему на плечо, потом постепенно успокоилась, и вскоре уже примостилась рядом с Джеспером, мартышкой с приветливой мордочкой, и о чем-то тихо шепталась с ним, пока люди обсуждали «Труп в библиотеке» и почтительно, с осторожностью подступали к «Краткой истории времени».
– Вы в прошлый раз сказали, что занимаетесь историей идей, – спросил Малкольм. – Что вы этот… историк. Вы какие идеи имели в виду? Такие, как в этой книге?
– Да, в основном, – отвечала Ханна. – Представления о всяких больших вещах, вроде вселенной. А еще – о добре и зле, и прежде всего – откуда все это вообще взялось.
– Вот об этом я никогда не думал, – признался Малкольм. – Я даже не думал, что можно думать о таких штуках. Они же просто… ну, есть. Выходит, люди думали о них всякое разное еще в прошлом?
– А как же! И случались времена, когда было очень опасно думать неправильные вещи – или, по крайней мере, говорить о них вслух.
– Прямо как сейчас.
– Да, боюсь, ты прав. Но пока мы держимся официально опубликованных источников, вряд ли мы с тобой попадем в неприятности.
Малкольм хотел спросить ее о тайнах и секретах, с которыми ему пришлось столкнуться, и не были ли они в свою очередь тоже частью истории идей, но почувствовал, что сейчас тему лучше не менять. Поэтому он спросил, нет ли у доктора Релф еще каких-нибудь книг по экспериментальной теологии, и она нашла ему одну, под названием «Странная история частиц», а потом отпустила рыться на полках с детективами, где он нашел себе еще один опус от автора «Трупа в библиотеке».
– У вас тут навалом книг этой писательницы, – уважительно заметил он.
– И это еще не все, что она написала.
– Сколько книг вы прочли?
– Тысячи. Вряд ли мне удастся сосчитать.
– И вы все их помните?
– Нет. Я помню только очень хорошие. Большинство детективов и приключений не слишком-то хороши, так что через некоторое время я начисто забываю, о чем там речь, и могу перечитывать их заново.
– Вот это здорово! – обрадовался Малкольм. – Но мне, наверное, пора идти. Если еще что-нибудь услышу, я запомню и потом скажу вам. А если у вас еще окно разобьется, вы, небось, теперь и сами с ним справитесь, раз уж я вам про стекольные гвозди все показал.
– Спасибо, Малкольм, – сказала она. – И еще раз: будь осторожен.
Тем вечером Ханна не пошла в колледж ужинать, как обычно. Вместо этого она отнесла записку в привратницкую Иордан-колледжа и отправилась домой, делать себе яичницу-болтунью. После еды она выпила бокал вина и стала ждать.
В двадцать минут десятого раздался стук в дверь. Она тут же открыла и впустила мужчину, стоявшего под дождем.
– Жаль, что пришлось вытащить тебя на улицу в такую ночь, – сказала она.
– Мне самому жаль, – отозвался он. – Ладно, неважно. В чем дело?
Звали его Джордж Пападимитриу. Он был профессором византийской истории, и это он два года назад завербовал Ханну для «Оукли-стрит». А еще он был тем высоким джентльменом ученого вида, что ужинал в «Форели» вместе с лордом Наджентом.
Она взяла его плащ и стряхнула воду, а потом повесила сушиться на радиатор.
– Я сделала глупость, – призналась она.
– Это на тебя не похоже. Я выпью бокал все равно чего. Давай, рассказывай.
Его деймон-зеленушка вежливо тронул клювом нос Джеспера и вспорхнул на спинку кресла у камина. Ханна еще раз наполнила собственный бокал и уселась в другое кресло.
Набрав воздуху в грудь, она рассказала ему о Малкольме: о желуде, алетиометре, «Форели» и книгах. Свой рассказ она искусно отредактировала, но сообщила все, что Джорджу нужно было знать.
Тот молча слушал. Его длинное смуглое лицо оставалось спокойным; неподвижные темные глаза под тяжелыми веками смотрели серьезно.
– Я читал о человеке, которого нашли в канале, – сказал он. – Но что он – твой связной, разумеется, не знал. Как и о том, что его задушили. Есть хоть какой-то шанс, что это просто детские фантазии?
– Есть, но только не Малкольма. Ему я верю. Если тут кто и нафантазировал, так это его приятель.
– В газетах об этом не напишут.
– Если за этим стоит ДСК – не напишут. А если нет – скорее всего, газетчики не испугаются и не подвергнут материал цензуре.
Пападимитриу кивнул. Тратить время на то, чтобы соглашаться – да, она поступила глупо, – и упрекать ее за это или грозить карами он не стал. Сейчас он полностью сосредоточился на том, чтобы разобраться с ситуацией: с любопытным мальчишкой и с тем положением, в котором он по ее милости оказался.
– И все же он может быть нам полезен, – заметил он.
– Знаю, что может. Я его с самого начала заметила. Просто злюсь на себя, что подвергла его такому риску.
– Пока ты его прикрываешь, я не вижу для него никакого особого риска.
– Как сказать… он все равно очень переживает. Он даже расплакался, когда рассказывал мне о том, что того человека задушили.
– Это естественно. Он ведь еще очень юн.
– Он чувствительный мальчик… Но есть и еще кое-что. Он очень близок с монахинями из монастыря Годстоу, что через реку от «Форели». Кажется, они присматривают там за ребенком – за тем самым, вокруг которого кипел тот судебный процесс. За дочерью лорда Азриэла.
Пападимитриу в ответ только кивнул.
– Ты знал?
– Да. Я сам обсуждал этот вопрос еще с двумя коллегами в «Форели», а на стол нам подавал как раз твой Малкольм. Это будет для меня хорошим уроком.
– Значит, это был ты – и еще лорд-канцлер? Мальчик его узнал.
– Что он тебе сказал?
Она кратко изложила.
– Надо же, какой наблюдательный ребенок, – заметил Пападимитриу.
– Он единственный у своих родителей – надо думать, маленькая девочка его совершенно очаровала. Ей же всего месяцев шесть или около того.
– Кому еще известно о ее местонахождении?
– Родителям мальчика, я так думаю. Возможно, кому-то из посетителей паба, деревенским, слугам… Вряд ли это вообще тайна.
– Обычно суд передает ребенка матери, но в этом случае женщине ребенок был не нужен и лга прямо об этом заявила. Тогда попечение ложится на плечи отца, но суд это строго запретил, на том основании, что отец – совершенно не подходящий для заботы о младенце человек. Нет, это не тайна, но информация в одночасье может обрести огромную важность.
– Есть еще кое-что, – сказала Ханна и рассказала о том, как агенты ДСК попытались арестовать Джорджа Боутрайта и проявили большой интерес к джентльменам, на днях посетившим «Форель».
– Это, собственно, и был ты с лордом Наджентом, – добавила она. – Но они говорили еще и о третьем…
– Нас действительно было трое, – подтвердил Пападимитриу, допивая вино.
– Еще бокал? – спросила она.
– Нет, благодарю. Не вызывай меня больше так. Привратник Иордана – большой сплетник. Если я тебе понадоблюсь, приколи на доску объявлений возле библиотеки исторического факультета карточку со словом «свеча». Это будет мне сигналом прийти к следующей вечерне в Уикем. Я буду сидеть один. Ты подсядешь ко мне, и мы тихонько поговорим под музыку.
– «Свеча». Поняла. А если ты захочешь связаться со мной?
– Если захочу я, ты об этом узнаешь. Думаю, ты правильно поступила, что завербовала мальчика. Присматривай за ним.
Глава 7. Слишком рано
Штаб-квартира тайной организации, на которую работала Ханна Релф, называлась «Оукли-стрит» по очень простой причине: к этой респектабельной улице в Челси она не имела ни малейшего отношения.
Впрочем, Ханна этого не знала. Она никогда не бывала в штабе и думала, что «Оукли-стрит», где бы та ни находилась, и есть настоящий адрес. Чуть ли не единственной (кроме профессора Пападимитриу) ниточкой, связывавшей ее с организацией, был желудь. Ханна забирала его с вопросом и оставляла с ответом в одном из множества тайников, которые в «Оукли-стрит» называли «камерами хранения». Человек, который, в свою очередь, оставлял желудь для нее, а потом забирал, – покойный мистер Лакхерст – оставался для Ханны безымянным и безликим связным. Он тоже не знал ее ни в лицо, ни по имени, так что они не смогли бы выдать друг друга на допросе, даже если бы захотели.
Впрочем, был еще один способ связаться с руководством – через каталогизатора Бодлианской библиотеки. Нужно было оставить запрос на каталожный номер определенной книги, и тогда агент, работавший в библиотеке, поймет, что доктору Релф необходимо передать сообщение в «Оукли-стрит». Название книги роли не играло, но автор был важен: первая буква его фамилии служила кодом, обозначавшим тему сообщения.
Решив воспользоваться этим каналом, Ханна подала заявление на официальном бланке и на следующий день получила записку, приглашавшую ее встретиться с каталогизатором Гарри Дибдином в одиннадцать часов утра в его кабинете.
Дибдин оказался тощим рыжеватым человечком, а его деймон – какой-то тропической птицей, названия которой Ханна не знала. Он запер дверь, убрал с кресла стопку книг, чтобы посетительнице было куда сесть, и предложил Ханне чашку кофе.
– С каталожными запросами порой приходится повозиться, – заметил он. – К тому же, заявкам выдающихся ученых мы всегда уделяем самое пристальное внимание.
– В таком случае с удовольствием выпью кофе, – сказала она. – Спасибо.
Дибдин включил антарный чайник и принялся возиться с чашками.
– Здесь можете говорить совершенно свободно, – заверил он. – Нас никто не подслушает. Вы хотели связаться с «Оукли-стрит». По какому делу?
– Моего связного убили. ДСК. Информация точная. Таким образом, у меня не осталось способа связи с моими заказчиками.
Под заказчиками она подразумевала нескольких человек, занимавших в «Оукли-стрит» высокое положение и регулярно обращавшихся к ней за консультациями.
– Убили? – переспросил Дибдин. – Откуда вы знаете?
Ханна рассказала. Когда история подошла к концу, каталогизатор уже разлил кофе по чашкам и подал ей одну.
– Если хотите молока, мне придется за ним выйти. Но сахар есть.
– Спасибо, я буду черный.
– У ваших заказчиков дело срочное? – спросил он, усевшись напротив. Его деймон затряс экзотическим хвостом и вспорхнул ему на плечо.
– Будь оно срочным, они не стали бы обращаться к алетиометру, – рассудила Ханна. – Но все равно не хотелось бы откладывать в долгий ящик.
– Разумеется. А вы уверены, что в «Оукли-стрит» не знают о судьбе вашего связного?
– Нет. Я ни в чем не уверена. Но когда система, работавшая полтора года, внезапно дает сбой…
– Вы боитесь, что он мог что-то выдать, прежде чем был убит?
– Конечно. Он меня не знал, но знал, где находятся все тайники. Кроме того, за ним могли наблюдать.
– Сколько тайников вы использовали?
– Девять.
– В четкой последовательности?
– Нет. Был специальный шифр…
– Нет, не рассказывайте. Скажите только, значит ли это, что вы всегда знали заранее, из какого тайника будете забирать записку в следующий раз и в каком оставите свою? И он – тоже?
– Да.
– Значит, девять… Следить за девятью тайниками круглосуточно у них бы не хватило агентов. Но все-таки подыскать несколько новых мест не помешает. Когда найдете подходящие, сообщите в «Оукли-стрит» через меня, где они находятся. И успокойтесь: если связной вас не знал, вы вне опасности.
– Значит, пока что…
– Пока что от вас требуется только подыскать новые тайники. А когда «Оукли-стрит» назначит нового связного, я дам вам знать.
– Спасибо, – кивнула она. – Но у меня есть еще вопрос…
– Да?
– Лорд-канцлер Наджент… то есть, бывший лорд-канцлер… Скажите, он работает на «Оукли-стрит»?
Дибдин моргнул, а яркая птица у него на плече переступила с лапки на лапку.
– Я не знаю, – сказал он.
– Знаете. И, судя по вашей реакции, ответ на мой вопрос – «да».
– Я вам этого не говорил.
– Разумеется. Но тогда еще вопрос: чем так важен ребенок лорда Азриэла и женщины по имени миссис Колтер?
Несколько секунд Дибдин молча смотрел на нее. Потом потер подбородок, а деймон что-то тихо чирикнул ему в ухо.
– Откуда вы знаете про этого ребенка?
– Мне известно, что девочку отдали под опеку монахиням в Годстоу. Она еще совсем маленькая – по-моему, ей месяцев шесть. Какое до нее дело лорду Надженту?
– Понятия не имею. А с чего вы взяли, что он ею интересуется?
– Насколько я знаю, это он решил поместить ее в монастырь.
– Возможно, он дружен с ее родителями. Знаете ли, не все на свете вертится вокруг «Оукли-стрит».
– Да, пожалуй. Возможно, вы правы. Спасибо за кофе.
– На здоровье, – сказал Дибдин и встал, чтобы открыть дверь. – Всегда пожалуйста.
По дороге обратно в Зал герцога Хамфри доктор Релф приняла решение: она никогда не произнесет слова «Оукли-стрит» в присутствии Малкольма. Незачем ему это знать. Довольно и того, что она попросила мальчика шпионить. Ханне до сих пор было от этого не себе – а впрочем, и от всего остального, что касалось ее секретной работы.
Малкольм снова заглянул к мистеру Тапхаусу – помочь со ставнями. Ему очень понравилась новая антарная дрель. А когда мистер Тапхаус после долгих сомнений все-таки дал мальчику попробовать посверлить ею дырки, тот и вовсе пришел в восторг. Сначала они собрали все готовые ставни, а потом вернулись в мастерскую, чтобы сделать еще несколько.
– От этого дуба одно разорение, – ворчал старик. – Сестре Бенедикте не по вкусу платить так дорого, но я ее все ж таки урезонил. Мол, уговор есть уговор, а дуб есть дуб.
– Да что толку, если крепления слабые? Где тонко, там и рвется, – заметил Малкольм, за свою карьеру помощника в мастерской мистера Тапхауса слышавший эти слова, наверное, тысячу раз.
– Ясное дело, да только в таком добром дереве и крепления удержатся как надо. А если кому вздумается вывинтить шурупы из стены, то ему придется повозиться.
– О! – воскликнул Малкольм. – Я тут как раз думал… насчет шурупов. Вы же знаете, что когда головка снашивается, вывинтить шуруп становится труднее? Отвертке не за что зацепиться.
– Да, и что?
– А что, если мы подшлифуем головку напильником? Так, чтобы завинтить было можно, а отвинтить – уже нет?
– Что ты имеешь в виду?
Малкольм взял шуруп, зажал в тиски и стесал часть головки, чтобы показать мистеру Тапхаусу, что он имеет в виду.
– Вот, видите? Завинтить еще можно, а вот если захочешь отвинтить, отвертке уже не во что упереться.
– А, ну да. Хорошая мысль, Малкольм. Очень хорошая. Но что если сестра Бенедикта на следующий год передумает и велит убрать ставни?
– О-о-о… об этом я не подумал.
– Ну, как что придумаешь, скажи, – усмехнулся старик, а его деймон-дятлица насмешливо закудахтала.
Но Малкольм это не смутило: идея ему очень нравилась, и он был уверен, что сможет ее доработать. Он положил шуруп в нагрудный карман и помог мистеру Тапхаусу сколотить очередной ставень.
– А вы будете покрывать их лаком? – спросил он.
– Нет. Только датским маслом. Имей в виду, малец, – нет ничего лучше датского масла. Но знаешь, чего следует беречься, когда с ним работаешь?
– Нет. Чего?
– Спонтанного самовозгорания, – проговорил старик без запинки. – Если смочишь в нем тряпку, а потом так ее и бросишь, не прополоскав в воде, тряпка может сама по себе загореться.
– Как-как вы это назвали? Спон…
– Спонтанное самовозгорание.
Малкольм повторил за ним – просто чтобы еще раз послушать, как это звучит.
Когда плотник ушел домой, Малкольм направился на кухню, поговорить с сестрой Фенеллой. Та как раз резала капусту, и Малкольм тоже взял нож и принялся за дело.
– Где ты пропадал, Малкольм? – спросила старая монахиня.
– Помогал мистеру Тапхаусу. Кстати, вы знаете, что он делает ставни на окна? Зачем они понадобились?
– Это нам полицейские посоветовали, – ответила сестра Фенелла. – Они приходили на днях к сестре Бенедикте и сказали ей, что в Оксфорде развелось слишком много грабителей. А у нас в монастыре – и серебро, и дорогая посуда, и ценные облачения. Так что мы решили принять меры.
– Значит, это не из-за малышки?
– Ну, и ей, конечно, лишняя защита не помешает.
– Как она там?
– Жива-здорова, знай себе резвится.
– А можно мне еще раз на нее посмотреть?
– Если найдется время.
– Я для нее подарок сделал.
– О, Малкольм, как это мило…
– Он у меня с собой. Я его все время так и ношу – на случай, если вдруг удастся с ней увидеться.
– Да ты молодец.
– Ну так что, можно мне к ней?
– Ох, ну ладно. Закончил с капустой?
– Да, смотрите!
– Ну, тогда пойдем.
Сестра Фенелла отложила нож, вытерла руки и повела Малкольма по коридору в ту же комнату, куда они ходили в прошлый раз. Колыбель по-прежнему стояла посреди комнаты, освещенной всего одной тусклой лампой. Девочка лепетала и попискивала, словно пыталась что-то рассказать своему деймону, который сейчас выглядел как крысенок. Тот стоял на задних лапках и внимательно слушал ее, но как только сестра Фенелла и Малкольм вошли, обернулся, уставился на них, юркнул на подушку и что-то запищал на ухо Лире.
– Она учит его говорить! – восхитился Малкольм.
Сестра Фенелла осторожно взяла малышку на руки. Деймон-крысенок вспрыгнул на плечо Лиры и превратился в землеройку.
Малкольм достал свой подарок – тот самый фалинь с привязанным к нему шариком из букового дерева. Шарик он тоже вырезал сам и тщательно ошкурил. На вопрос, можно ли дарить такое маленькому ребенку, мама сказала: «Наверное, можно – если шарик достаточно большой и она его не проглотит».
– Я хотел еще раскрасить его, – сказал он сестре Фенелле, – но потом вспомнил, что малыши часто тянут вещи в рот, а в краске может быть всякая вредная гадость. Так что я просто ошкурил его наждаком. Пальчик она не занозит, не бойтесь. А если вдруг проглотит фалинь, всегда можно будет вытащить его за шарик. В общем, не волнуйтесь, это безопасная штука.
– Да это просто замечательная игрушка, Малкольм! Смотри, Лира! Это шарик из… из чего он?
– Из букового дерева. Видите, можно определить по волокнам! Оно и правда очень гладкое. И я хорошо его прикрепил – ни за что не оторвется.
Лира схватила фалинь и тут же сунула его себе в рот.
– Ей нравится! – воскликнул Малкольм.
– А вдруг она… ну, не знаю… вдруг она попытается проглотить веревку и подавится…
– Пожалуй, может, – неохотно согласился Малкольм. – Наверное, ей еще слишком рано. Можно пока забрать и подождать, пока она подрастет. Или можно перенести колыбельку на кухню. И тогда, если она начнет давиться, вы сразу услышите и спасете ее. Могу себе представить, какой шум поднимет ее деймон! Кстати, а как его зовут?
– Пантелеймон.
– Может, он даже сам ее спасет.
– Нет, это слишком опасно, – вмешалась Аста. – Отдадите ей шарик, когда она станет постарше.
– Уф… ну ладно, – вздохнул Малкольм и попытался аккуратно отобрать у Лиры шнурок. Малышка сопротивлялась, но Малкольм вспомнил их первую встречу и сделал вид, будто икает. Лира тут же засмеялась, отвлеклась и отпустила фалинь.
– А можно мне ее подержать? – спросил Малкольм.
– Лучше сначала сядь, – сказала сестра Фенелла.
Он сел на стул и протянул руки. Сестра Фенелла очень осторожно положила малышку ему на колени. Крошечный деймон Лиры засуетился, стараясь не коснуться Малкольма, да и сам мальчик поначалу держал ее с опаской, но Лире понравилось, что ее опустили пониже. Она спокойно огляделась по сторонам и стала внимательно смотреть на Малкольма.
– Смотри, это Малкольм, – сказала ей сестра Фенелла, стараясь, чтобы ее голос звучал весело и ласково. – Тебе ведь нравится Малкольм, правда?
Малкольм почувствовал, что старая монахиня при всей своей доброте не умеет разговаривать с детьми. Он серьезно посмотрел в маленькое личико Лиры.
– Послушай, Лира. Я сделал для тебя этот фалинь и шарик из бука, но оказалось, что ты еще слишком мала для таких игрушек. Ты не виновата – я просто не знал. Я думал, ты не подавишься. Может, и так, но все равно это пока слишком опасно. Так что я подержу их у себя, пока ты не подрастешь немного и не прекратишь тянуть все в рот. А когда станешь еще постарше, я покажу тебе, как плести фалинь. Это очень просто! Надо только знать, как. Этот я сделал из хлопкового шпагата, но можно взять и другую веревку – шерстяную, пеньковую… А еще я непременно покатаю тебя на «Прекрасной дикарке», это моя лодка. Только, сдается мне, сначала тебе надо будет научиться плавать. Летом мы этим займемся, идет?
– Боюсь, она все еще будет слишком маленькой… – начала сестра Фенелла и вдруг умолкла, услышав голоса в коридоре. – Давай ее сюда! Живо! – шепотом велела она и успела забрать малышку из рук Малкольма буквально за секунду до того, как отворилась дверь.
– О! Что здесь делает этот мальчик?
На пороге стояла женщина с жестким лицом и седыми волосами, собранными в тугой пучок. Монахиней она не была, но ее темно-синий костюм выглядел, словно униформа, а на отвороте пиджака сверкал эмалевый значок: золотой светильник, а над ним – алый язычок пламени.
– Сестра Фенелла? – окликнула сестра Бенедикта, входя в комнату следом за незнакомкой.
– Ох… Э-э-э… Малкольм… Это Малкольм…
– Я знаю, кто такой Малкольм. Что вы тут делаете?
– Я сделал подарок для малышки, – сказал Малкольм, – и попросил сестру Фенеллу, чтобы она меня сюда привела и я смог вручить его.
– Ну-ка дай посмотреть, – велела незнакомая дама.
Она изучила деревянный шарик и обслюнявленную веревку, и на лице ее отразилось легкое отвращение.
– Никуда не годится! Уберите это. А вы, молодой человек, ступайте домой. Здесь вам делать нечего.
Услышав суровый голос женщины, Лира сморщила личико и тихо захныкала. Деймон уткнулся мордочкой ей под подбородок.
– Пока, Лира, – сказал Малкольм и пожал крохотную ладошку. – До свиданья, сестра Фенелла.
– Спасибо, Малкольм, – сдавленным голосом произнесла старая монахиня, и Малкольм заметил, что она очень напугана.
Сестра Бенедикта забрала у нее Лиру, и последним, что услышал Малкольм, покидая комнату, был оглушительный младенческий рев.
«Будет что рассказать доктору Релф», – подумал он.
Глава 8. Лига Святого Александра
Обед застал Малкольма сидящим на корточках в уголке игровой площадки с невывинчиваемыми шурупами в одной руке и швейцарским армейским ножом – в другой. Он все пытался понять, как их можно вывинтить. Вопли и визг играющих детей эхом отскакивали от кирпичных стен школы; холодный ветер подхватывал их и уносил куда-то в сторону Порт-Медоу.
Краем глаза мальчик заметил, что к нему кто-то подошел. Кто – и так ясно, можно даже не смотреть. Конечно, это был Эрик, сын судейского клерка.
– Я занят, – бросил Малкольм, хотя прекрасно знал, что Эрика этим не проймешь.
– Эй, помнишь того убитого? Ну, которого задушили и сбросили в канал?
– Нам не велено об этом говорить.
– Это да, но ты знаешь, что мой папа тут слыхал?
– Что?
– Он был шпион.
– Откуда они знают?
– Этого отец не сказал – из-за Официального акта о секретности.
– А как он вообще мог тебе сказать, что тот человек был шпионом? Это, что ли, не официальный секрет?
– Нет, потому что иначе отец бы мне не сказал, вот.
Малкольм подумал, что папа Эрика, если бы захотел, уж точно нашел бы способ разболтать сыну все, что угодно.
– И для кого же он шпионил? – спросил он.
– Не знаю. Этого отец тоже не мог сказать.
– Ну, а ты-то сам как думаешь?
– Для московитов. Они же враги, так?
– Или он мог шпионить для нас. А убили его как раз московиты, – резонно заметил Малкольм.
– Тогда про что же он шпионил в таком случае?
– Понятия не имею. Может, он в отпуске был. Шпионам тоже отпуск нужен, как и обычным людям. Кому ты еще рассказал?
– Никому.
– Ты бы поосторожнее с этим. Надеюсь, твой па прав насчет официальных секретов. Знаешь, какое наказание полагается за нарушение Акта?
– Я его спрошу.
– Хорошая мысль. А тем временем держи-ка рот на замке, так оно безопаснее. Шпионы-то повсюду.
– Но не в школе же! – презрительно усмехнулся Эрик.
– Учителя могут оказаться шпионами. Мисс Дэвис, например.
Мисс Дэвис преподавала музыку. Самая раздражительная особа, какую Малкольм в жизни встречал.
Эрик пораскинул мозгами.
– Может быть, – сказал он, наконец. – Но уж больно она выделяется. Настоящий шпион не должен бросаться. Он должен быть незаметным.
– Зато какая первоклассная маскировка! Ты вот думаешь, что шпион должен вести себя тихо-тихо и быть незаметным, а мисс Дэвис вон как орет и крышкой пианино хлопает – поглядишь, так ни за что ей шпионкой не стать, а представь, что она всю жизнь ею и была!
– И про что она тут будет шпионить, по-твоему?
– Шпионит она в свободное от работы время. И это может быть где угодно и про что угодно. Любой человек может оказаться шпионом, в том-то и дело.
– Ну, наверное, – согласился Эрик. – Но тот человек в канале точно был шпионом.
Деймон Эрика, принявший облик мышки, взобрался к нему на плечо и сказал достаточно громко, чтобы Малкольм расслышал:
– Папа никогда не говорил, что тот человек точно был шпион. Вот прямо так – не говорил.
– Ну, почти так, – уперся Эрик.
– Да, но ты все равно преувеличиваешь.
– Так что же он тогда сказал? – поинтересовался Малкольм.
– «Не удивлюсь, если он был шпионом». Это ведь совершенно то же самое!
– Вовсе нет.
– Вопрос в том, почему он так сказал? – вмешалась Аста, внимательно следившая за разговором. Она превратилась в зарянку и быстро вертела головкой то в одну сторону, то в другую.
– Вот именно! Благодарю, – напыщенно сказал Эрик. – Он знал что-то важное и решил, что такое очень даже может быть. Значит, так оно наверняка и было.
– А ты можешь точно выяснить? – спросил Малкольм.
– Не знаю… Могу спросить. Но надо еще момент подгадать – нельзя же вот так просто взять и спросить.
– Что значит подгадать?
– Ну, ты сам знаешь. Не в лоб чтобы.
– Ну, ладно, – согласился Малкольм.
Эрик, вероятно, хотел сказать, что действовать надо похитрее. А еще раньше – «не бросаться в глаза», а не просто бросаться.
Тут прозвонил звонок, и всем пришлось строиться на линейку. Детей ждал еще один длинный, скучный школьный день. Обычно дежурный учитель обходил шеренги, делал замечания всем, кто болтал или валял дурака, а потом отпускал классы по одному. Но сегодня все вышло по-другому.
Учитель подождал, пока все успокоятся и замолчат, потом сам замер и устремил взгляд мимо них, на школьное здание. Несколько голов (и Малкольма тоже) повернулись в ту же сторону. Из школы вышел директор – полы его мантии хлопали на ветру – и с ним кто-то еще.
– Сюда смотреть! – рявкнул учитель, и они снова послушно стали глядеть вперед.
Кто был этот второй человек, Малкольм разглядеть не успел. Но всего мгновение спустя он – вернее, она – уже шагала вместе с директором перед рядами учащихся. Малкольм сразу признал в ней ту женщину, что приезжала в монастырь и напугала Лиру своим хриплым голосом. На ней был тот же темно-синий костюм; волосы так же были гладко стянуты назад.
– Слушайте внимательно! – сказал директор. – Сейчас вы войдете в школу, но по классам не расходитесь. Следуйте прямиком в зал, как на утреннее собрание. Рассаживайтесь в обычном порядке, соблюдайте тишину и ждите. Всякого, кто будет шуметь, ждут неприятности. Пятый класс, вперед.
