Лисьи чары
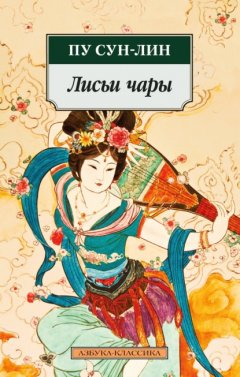
Перевод с китайского и примечания Василия Алексеева
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство АЗБУКА®
Лиса наказывает за блуд
Студент купил себе новый дом и стал постоянно страдать от лисицы. Все его носильные вещи были во многих частях приведены в негодность. Часто также она бросала ему в суп или хлеб всякую грязь и гадость. Однажды к нему зашел его друг, а его как раз не было дома: куда-то ушел, а к вечеру так и не вернулся. Жена студента кое-что приготовила и накормила гостя, после чего вместе со служанкой доедала оставшиеся от гостя хлебцы.
Студент отличался несдержанным характером и охотно пользовался любовным зельем. Неизвестно, когда это случилось, но лиса положила этого зелья в похлебку, и жена студента, поев ее, ощутила запах мускуса. Спросила служанку, но та отвечала, что ничего не знает. Кончив ужин, женщина почувствовала, как в ней вздымается горячий огонь плотского возбуждения, и такой, что нет сил терпеть ни минуты. Хотела силой заставить себя подавить страсть, но распаленный аппетит от этого стал еще сильнее и настойчивее. Стала думать, к кому бы бежать сейчас, но в доме не было мужчин, кроме гостя. Она пошла и постучала к нему в комнату. Гость спросил, кто там. Она сказала. Спросил ее, что ей надо. Не отвечала. Гость извинился и стал отказываться:
– У меня с твоим мужем дружба по душе и совести. Я не посмею совершить этого скотского поступка.
Женщина все-таки бродила вокруг да около, не уходя прочь. Гость закричал ей:
– Послушай, ты погубила вконец теперь моего друга и брата, со всей его ученой карьерой и репутацией!
Открыл окно и плюнул в нее.
Страшно сконфузясь, женщина ушла и стала раздумывать: как все это я наделала? И вдруг вспомнила про этот странный запах из чашки: уж не было ли там любовного порошку? Посмотрела хорошенько – действительно: порошок из коробки был там и здесь просыпан по полке, а в чашке это самое и было. По опыту зная, что холодной водой можно успокоить аппетит, она напилась воды, и под сердцем у нее сейчас же прочистилось и прояснилось. Ей стало мучительно стыдно, и она ничем не могла себя извинить. Ворочалась, ворочалась на постели… Уж все ночные стражи окончились[1]. Стало еще страшнее: вот уже рассветает, а как показаться теперь человеку? И вот сняла пояс и удавилась. Служанка, заметив это, бросилась спасать ее, но дух ее уже слабел и замирал; прошло все утро, прежде чем у нее появилось легкое дыхание.
Гость ночью, оказывается, ушел. Студент же пришел лишь после обеда. Смотрит: жена лежит. Спросил, в чем дело. Не отвечает, а только в глазах стоят чистые слезы. Служанка тогда все рассказала, как было. Студент страшно испугался, пристал с расспросами. Жена выслала служанку и выложила ему все по правде.
– Это мне месть за блудливость, – вздохнул он. – Какая тут может быть на тебе вина? К счастью моему, попался такой честный и хороший друг. Иначе как мне было бы жить по-человечески?
С этой поры студент ревностно занялся исправлением своего былого поведения. А затем и лисица перестала куролесить.
Лисица в Фэньчжоу
У фэньчжоуского судьи Чжу в жилых комнатах и даже в кабинете было много лисиц. Как-то раз сидит он ночью и видит, что некая женщина ходит у свечи взад и вперед. Сначала он думал, что это жена какого-нибудь из слуг, и потому не удосуживался посмотреть на нее, но когда поднял глаза, то оказалось, что он вовсе ее не знает. Однако лицом она была красоты поразительной, и хотя Чжу понимал, что это лисица, но она ему понравилась, и он сейчас же крикнул ей, чтобы подошла. Женщина приостановилась и сказала, улыбаясь:
– Кто это тебе тут служанка, что ты таким резким голосом обращаешься к человеку?
Чжу засмеялся, встал, взял ее за руку, посадил и стал извиняться. Потом прижался к ней любовно и плотно…
И так они долго жили как муж и жена. Как-то неожиданно лиса вдруг говорит Чжу:
– Тебя, знаешь, скоро повысят в должности, и уже наступает день нашей разлуки.
Он спросил ее: когда же? Она ответила, что это – вот, на носу. Только будет так, что в то время, как поздравляющие будут в его воротах, соболезнующие горю будут у него на родине, и в новой должности быть ему уж не придется.
Через три дня действительно пришло известие о повышении в должности, а на следующий день он получил пакет с извещением о смерти матери. Чжу сложил с себя должность и хотел вернуться домой вместе с лисой, но та не сочла это возможным. Проводила его до реки. Он силой потащил ее в лодку, но она сказала ему:
– Ты, конечно, не знаешь, что лисица не может перейти реку.
Чжу не мог вынести разлуки и любовничал с ней на берегу. Лиса вдруг ушла, сказав, что идет повидать свою приятельницу, и через некоторое время вернулась. Тут как раз пришел гость отдать визит, и женщина говорила с ним в отдельной комнате. Когда же гость ушел, она вышла к Чжу и стала проситься сейчас же в лодку.
– Я тебя провожу через реку, – сказала она.
– Ты ведь только что говорила, что не можешь переехать реку, как же теперь говоришь другое? – удивлялся Чжу.
– Гость, который сейчас приходил, – отвечала лиса, – не кто иной, как бог реки[2]. Я для тебя просила у него особого разрешения, и он дал мне срок в десять дней на путь туда и обратно. Значит, на это время я еще побуду возле тебя.
Перебрались вместе. Через десять дней лиса действительно простилась и ушла.
Как он хватал лису и стрелял в черта
Ли Чжу-мин был человек храбрый, открытый, не знавший неудовлетворенности и не пятившийся назад. Он был сводным братом Ван Цзи-ляна, у которого дом состоял из множества зданий, где постоянно видели разную чертовщину. Ли часто летом там жил, ему нравилось сидеть на вышке, когда наступала вечерняя прохлада. Ему говорили о причудах чертовщины, но он смеялся и не слушал, и даже наоборот – велел там поставить себе кровать. Хозяин дома исполнил его просьбу, но велел слугам спать вместе с барином. Тот отстранил это, сказав, что любит спать один и что всю жизнь не понимал, что такое вообще необыкновенное явление. Хозяин велел раздуть в жаровне потухшие курильные свечи, спросил, как ему постлать поудобнее постель, затем задул свечу, прикрыл дверь и вышел.
Ли лег на подушку. Через некоторое время он видит вдруг в лунном свете, что чайная чашка на столе то опрокидывается, то встает боком, то вертится и кружится, причем не падает, но и не перестает двигаться. Ли прикрикнул, и сейчас же возня прекратилась. Потом как будто кто-то взял курильную свечу и стал светить, помахивая ею в воздухе то туда, то сюда и образуя фигурные нити. Ли вскочил и закричал:
– Что за тварь, черт или дьявол, смеет тут быть?
Голый, он слез с кровати, желая сейчас же поймать беса. Стал ногой шарить под кроватью, ища туфли, но нашел только одну. Некогда было дальше искать впотьмах, и вот он босой ногой хватил по тому месту, где было мелькание, и свечка сейчас же воткнулась в жаровню – стало тихо и спокойно.
Ли нагнулся и стал шарить повсюду, во всех темных углах…
Вдруг какая-то вещь прыгнула и ударила его по щеке, и ему почудилось, что это как будто туфля. Припал к полу, стал искать – нет ее, так и не нашел. Открыл дверь, спустился вниз, крикнул слугу, велел зажечь огонь и посветить… Пусто… И опять лег спать.
Наутро велел нескольким слугам искать туфлю. Перевернули матрацы, опрокинули кровать – неизвестно, где туфля. Хозяин дал ему взамен потерянной туфли другую. Через день-два он как-то случайно поднял голову вверх и увидел туфлю, засунутую в балки; достали ее оттуда, оказывается, это его туфля и есть.
Ли сам был из Иду, но снимал квартиру в доме некоего Суня в Цзя. Дом был огромный, просторный, все помещения были свободны, и Ли занимал только половину их. Южный двор примыкал к высокому дому, отделяясь от него всего одной стеной. По временам было видно, как в этом доме двери сами собой то открываются, то закрываются. Ли не обращал на это внимания.
Как-то раз он разговаривал со своими во дворе. Вдруг появился какой-то человек и уселся лицом к северу. Ростом он был весь фута три. Одет был в зеленый халат и белые чулки. Все тут бывшие стали смотреть на него, указывая пальцами, но тот не шевелился.
– Это лисица, – сказал Ли, быстро схватил лук и стрелу, нацелил и хотел стрелять, но карлик, увидев это, охнул, словно дразня его, и стал невидим. Ли схватил нож, полез наверх, бранясь и ища, – но так-таки ничего и не увидел. Вернулся. Чертовщина после этого прекратилась, и Ли прожил здесь еще несколько лет: все было, как следует быть – без неприятностей.
Старший сын его Ю-сань мой свояк. Все это он видел собственными глазами.
Поздно, знаете, я родился. Не удалось самому послужить господину Ли. Но, послушать стариков, это, вероятно, был крупный человек, с большим темпераментом и решительный, что, впрочем, можно видеть хотя бы из этих двух его приключений. Раз есть в человеке живой и сильный дух, то черт там или лис – что они могут с ним поделать?
Фея лотоса
Цзун Сян-жо из Хучжоу где-то служил. Однажды осенним днем он осматривал поля и заметил в густоте хлебов необыкновенно сильное движение и колыхание. Недоумевая, что бы это могло быть, он пошел прямо через межи поглядеть – оказывается, мужчина с женщиной совершают внебрачное соитие. Он расхохотался и уже хотел идти назад, но, увидев, что мужчина, весь красный, завязал кушак и опрометью бросился бежать, а женщина тоже поднялась с земли, он стал ее пристально рассматривать и нашел, что она изящна, мила, очаровательна, понравилась ему очень… Захотелось тут же с ней свиться, но, по правде говоря, застыдился этой гнусной пакости и стал подходить к женщине понемножку, смахивая с нее пыль.
– Ну что, – сказал он, – эта, как говорится, прогулка «Среди тутов»[3] ничего, приятна?
Дева смеялась и молчала. Цзун подошел к ней, стал расстегивать ей платье: тело у нее было жирное и гладкое, как помада. И давай гладить по телу вверх и вниз – этак несколько раз.
– Ты, студент вонючий… Чего хочешь, так бери… А щупать меня, как оголтелый, это зачем?
Стал спрашивать, как ее зовут.
– Весенний ветерок раз дунет нам страстью, – отвечала она, – и ты направо, я налево. Зачем давать себе труд допрашивать и доискиваться? Ты уж не собираешься ли сохранить мое имя, чтобы написать его на арке, которую ты построишь в честь моей добродетели?[4]
– В пустом поле, среди трав и растений это делают только деревенские пастухи и свиные подпаски, – возражал Цзун. – Я не имею этой привычки. С такой красавицей, как ты, милая, я условлюсь просто с глазу на глаз – и это будет вполне серьезно. К чему бы мне быть таким, как ты говоришь, назойливым и мелочным?
Дева, услыша эти слова, с величайшим удовольствием согласилась и похвалила его. Цзун сказал, что его скромный кабинет отсюда недалеко и что он приглашает ее побывать у него.
– Я уже давно из дому, – сказала дева, – боюсь, как бы дома не подумали чего. В полночь можно будет.
Спросила, где и как расположен дом Цзуна, какие приметы и вообще все в высшей степени подробно. Затем пошла по косой тропинке, заторопилась и побежала.
В начале ночи она и в самом деле пришла в кабинет Цзуна, и вот полил, так сказать, изнемогающий дождь из набухших туч в их самой полной любовной близости. Прошли месяцы, а все было втайне и никто ни о чем не знал.
Раз зашел и остановился в сельском храме какой-то иностранец, буддийский монах. Он поглядел на Цзуна и испугался.
– В вас сидит нечистый дух, – сказал он. – Что с вами сделалось?
Цзун отвечал, что ничего не произошло, но через несколько дней вдруг приуныл и захворал. А дева приходила каждый вечер и приносила ему чудесные фрукты, лаская его, заботясь усердно и сердечно, – совершенно как жена, любящая своего мужа. Однако, улегшись в постель, она сейчас же требовала, чтобы он, хотя бы и через силу, с ней соединялся, а Цзун, совсем больной, совершенно не был в состоянии это выдержать. Он понимал уже, что она не человек, но не мог ничего придумать, чтобы отвязаться от нее и прогнать.
– На днях мне говорил монах, – сказал он ей, – что меня мутит злое наваждение. Вот я и захворал; его слова, значит, оправдались. Завтра пойду уломаю его, чтобы пришел ко мне, и буду просить сделать заговор и написать талисман.
Дева при этих словах сделала кислую гримасу и изменилась в лице, после чего Цзун еще сильнее стал подозревать в ней нечистую силу.
На следующий день отправил человека к монаху и рассказал ему, как обстоят дела.
– Это лисица, – сказал монах, – чары которой, однако, еще не сильны, и ее легко будет засадить в капкан.
Сказав это, написал две полосы талисманных фигур и передал их человеку Цзуна, дав при этом следующее наставление:
– Ты приедешь домой, возьмешь чистый жбан из-под вина и поставишь его перед постелью больного. Затем тут же налепи один талисман вокруг отверстия жбана и жди, пока лисица туда не влезет. Тогда быстро накрой тазом и на него налепи второй талисман. Затем поставь в котел и кипяти: лисица сдохнет.
Человек пришел домой и поступил, как велел монах. Была уже глубокая ночь, когда пришла дева. Она достала из рукава золотистых апельсинов и только что хотела лечь в постель и спросить, хорошо ли больной себя чувствует, как вдруг послышался вой вихря в жбанном горле, и дева была туда втянута. Слуга быстро вскочил, покрыл жбан, налепил талисман и уже хотел ставить варить, как Цзун, увидев рассыпавшиеся по всему полу золотистые апельсины и вспомнив всю ее любовь и милое отношение к нему, в порыве сильного чувства и горького отчаяния, велел отпустить ее, содрал талисманы и сбросил крышку. Дева вышла из жбана, шатаясь и в крайнем изнеможении, поклонилась ему до земли и сказала:
– Мое великое дао[5]уже готово было завершиться, как вдруг в один день я чуть было не превратилась в пепел. Ты милосердный человек. Клянусь, я непременно отблагодарю тебя!
И ушла. Через несколько дней Цзун еще более ослабел, и слуга побежал в лавку покупать доски для гроба. По дороге он встретил какую-то деву.
– Ты не слуга ли Цзун Сян-жо? – спросила она.
– Да, – отвечал тот.
– Господин Цзун – мой двоюродный брат. Я узнала, что он очень болен, и собралась уже идти навестить его, но как раз тут подоспели разные дела, и мне не удалось пойти. Будь добр, потрудись передать ему этот пакетик с лекарством, которое прямо-таки творит чудеса.
Слуга взял, принес домой. Цзун стал вспоминать, но никакой двоюродной сестры вспомнить не мог и понял, что это и есть ответная благодарность лисицы, о которой она говорила. Принял принесенное лекарство, и оно в самом деле сильно помогло, так что в какие-нибудь десять дней он совершенно поправился и почувствовал в душе к своей лисе благодарность и умиление, стал молиться ей, обращаясь в пространство и выражая свое желание увидеть ее раз или два.
Однажды ночью он запер двери, сидел и одиноко пил. Вдруг слышит: кто-то легонько стучит пальцем в окно. Отодвинул щеколду, вышел посмотреть – оказывается, дева-лиса. Обрадовался страшно, схватил ее за руки и стал выражать свою благодарность. Пригласил ее остаться и вместе с ним пить.
– С тех пор как мы расстались, – говорила дева, – сердце у меня так и горело беспокойством: мне все казалось, что мне нечем отблагодарить тебя за твою высокую и добрую душу. А теперь я нашла тебе чудесную подругу. Может быть, этим мне и удастся вполне погасить свой долг. Как ты думаешь?
– Кто же это? – осведомился Цзун.
– Это не из твоих знакомых, – отвечала дева. – Завтра с раннего утра отправляйся к южному озеру, и как только увидишь девушку, рвущую водяные каштаны и одетую в прозрачную креповую накидку, то сейчас же нагоняй ее на лодке. Если потеряешь ее следы, то посмотри у запруды: там увидишь лотос с коротким стеблем, укрывшийся под листком. Сейчас же сорви и поезжай домой. Возьми свечку и подпали стебелек – и получишь красавицу-жену, а вместе с ней и продление своей жизни.
Цзун с вниманием все это выслушал и воспринял. Вслед за тем дева стала прощаться. Цзун упорно удерживал ее и тащил к себе, но она не хотела и говорила:
– С тех пор как со мной приключилась та, помнишь, беда, я вдруг прозрела и поняла великое дао. Неужели же я стану теперь из-за любви под одеялом навлекать на себя злобу и ненависть человека?
Сказала это с серьезным, строгим видом, простилась и ушла.
Цзун поступил, как она ему указала. Пришел к южному озеру. Видит: среди лотосов толпами колышутся красивые женщины, а между ними девушка с челкой, одетая в креповую накидку, – красавица, на земле не встречаемая. Быстро погнал он лодку и стал уже вплотную настигать, как вдруг потерял всякий ее след. Сейчас же раздвинул гущу лотосов и в самом деле нашел красный цветок, у которого стебель был не выше фута. Сорвал и принес домой, где поставил на столе, а рядом с ним огарок свечи. Только что хотел поджечь, оглянулся – цветок уже стал красавицей. Цзун в крайнем изумлении и радости пал ниц и поклонился.
– Ты глупый студент, – говорила девушка. – Я ведь оборотень лисы и буду твоим мучением!
Но Цзун не хотел и слушать.
– Кто тебя научил? – допытывалась лиса.
– Я сам, – отвечал тот, – твой ничтожный студент сам сумел тебя узнать, милая. К чему было бы меня учить?
Схватил ее за руку и потащил… И вдруг она упала вслед за движением его руки, упала и превратилась в причудливый камень, высотой приблизительно с фут, весь фигурный, резной, с какой стороны ни взгляни. Цзун взял его, положил с почетом и вниманием на стол, возжег курения, поклонился ему и раз и другой, произнося молитвы. Наступила ночь. Он запер все двери, заложил все отверстия – все боялся, что камень уйдет. Утром стал его рассматривать – глядь: опять уж не камень, а креповая накидка, от которой как-то издали доносился запах духов. Раскрыл накидку и видит, что на воротничке и на груди еще сохранились следы тела. Цзун накрыл накидку одеялом, обнял ее и лег с ней. Вечером он встал, чтобы зажечь свечу; когда же вернулся в постель – на подушке уже лежала девушка с челкой. В безмерной радости, боясь, что она снова изменит свой образ, он сначала умолял ее сжалиться и тогда только приник к ней.
– Что за несчастье! – смеялась девушка. – Кто это, в самом деле, дал волю своему языку и наболтал этому сумасшедшему, который насмерть измолол меня…
И больше уже не сопротивлялась. Однако в самые любовные моменты она делала вид, что больше не может, и все время просила перестать, но Цзун не обращал внимания…
– Если ты так, то я сейчас же изменю свой вид, – грозила дева. Цзун пугался и переставал.
С этих пор у обоих чувства пришли к полному единению. А между тем серебро и всякая одежда наполняли сундуки, причем неизвестно было, откуда все это бралось. Дева в обращении с людьми говорила только «да-да», словно ее рот не мог выговорить ни слова. Студент тоже избегал говорить о ее чудесных похождениях.
Она была беременна более десяти месяцев. Сосчитала, когда должна была родить, вошла в комнату, велела Цзуну запереть двери, чтобы никто не постучался. Затем сама взяла нож, отрезала себе пуповину, вынула ребенка и велела Цзуну нарвать тряпок и завернуть его. Прошла ночь – она уже поправилась. Прошло еще шесть-семь лет. Как-то раз она говорит Цзуну:
– Мои прежние грехи я искупила полностью – позволь с тобой проститься!
Цзун, услыша это, заплакал:
– Милая, когда ты ко мне пришла, я был беден и без положения. Теперь благодаря тебе я понемногу богатею. Могу ль я вынести, чтобы ты так скоро уже заговорила о разлуке и об уходе куда-то далеко? Кроме того, у тебя ведь нет ни дома, ни родных. В дальнейшем сын не будет знать своей матери – а ведь это тоже вещь неприятная, вечная досада.
Дева грустно задумалась.
– Соединение, – сказала она, – влечет разлуку. Это уж непременно и всегда так. Счастье нашего сына обеспечено. Ты тоже будешь долго жить. Чего ж вам еще? Моя фамилия Хэ. Если соблаговолишь когда-нибудь вспомнить обо мне, возьми в руки какую-нибудь из моих прежних вещей и крикни: «Третья Хэ!» И я появлюсь!
Сказала и добавила, как бы освобождаясь от земли:
– Я ухожу.
И на глазах у изумленного Цзуна она уже летела вверх над его головой. Цзун подпрыгнул, быстро схватился за нее, но поймал только башмачок, который вырвался из рук, упал на пол и стал каменной ласточкой[6], красною-красною, ярче киновари, причем снаружи и изнутри она сияла и переливалась, словно хрусталь. Цзун подобрал ее и спрятал. Пересмотрел вещи в сундуке. Нашел там креповую накидку, в которую дева была одета, когда появилась впервые.
Каждый раз, как вспоминал о ней, брал в руки накидку и кричал:
– Третья!
И перед ним являлось полное подобие девы, с радостным лицом и смеющимися бровями. Совершенно как живая. Только вот что не говорит!
«Если б цветы нашу речь понимали – много бы было хлопот нам. Камень – тот говорить не умеет: нравится сильно он мне». Это прекрасное двустишие Фан-вэна[7] можно было бы сюда приписать: подошло бы хорошо!
Военный кандидат
Военный кандидат, некий Ши, взяв в кошель деньги, поехал в столицу, чтобы там добиваться назначения на соответственную должность. Доехав до Дэчжоу[8], он вдруг заболел, захаркал кровью и не мог вставать – так и лежал все время в своей лодке. Слуга украл его деньги и скрылся. Ши был совершенно вне себя от гнева, и ему стало еще хуже. Запасы денег и провизии иссякли, и лодочники решили его где-нибудь бросить. Как раз в это время какая-то женщина ночью, при свете луны, подошла к их стоянке и, узнав об их решении, вызвалась перенести Ши в свою лодку. Лодочники были очень рады и помогли Ши перелезть в лодку женщины.
Ши смотрел на нее: ей уже за сорок, но одета она великолепно и в ней все еще сохранилась тонкая красота. Ши простонал ей свою искреннюю благодарность. Женщина подошла к нему, посмотрела на него внимательно и сказала:
– В вас давно, знаете, сидело чахоточное начало. Ну а теперь ваша душа гуляет у могилы.
Услышав это, Ши жалобно зарыдал.
– У меня есть одно снадобье, – говорила ему женщина, – оно может и мертвого воскресить. Если болезнь ваша от него пройдет, так уж не забудьте обо мне!
У Ши покатились из глаз слезы, он стал клясться ей в вечной дружбе. Тогда она дала ему принять пилюлю, и в тот же день он почувствовал некоторое улучшение. А женщина садилась у кровати и кормила его сладким и вкусным, ухаживая за ним и заботясь куда больше, чем жена о муже. Ши был тронут и обожал ее сильнее и сильнее. Через месяц с небольшим болезнь почти прошла, и Ши ползал на коленях перед женщиной, выражая ей почитание, как своей родной матери.
– Я бедная, одинокая женщина, – говорила она, – у меня никого нет. Если вам не противна моя увядшая уже красота, то я хотела бы, так сказать, услуживать вам при туалете.
Ши в это время было с небольшим тридцать. Он год тому назад потерял жену и, слыша такие слова, обрадовался, ибо это превосходило всякие расчеты, и слюбился с ней великолепно.
Женщина вынула из сундука деньги и дала кандидату, чтобы он мог проехать в столицу и найти себе должность. Они уговорились при этом, что он вернется к ней и они оба поедут домой вместе.
Ши поехал. В столице он нашел протекцию и получил должность по государственной обороне, а на остальные деньги купил себе лошадь и седло. Облачился в свою нарядную форму и стал думать, что его женщине лет-то уж очень много и она, конечно, не годится в настоящие жены. И вот он за сто ланов устроил себе свадьбу с девицей Ван, сделав ее второй женой. Однако в душе его поселился страх: он боялся, как бы женщина не узнала об этом, и поэтому сделал изрядный крюк, избегая проезда через Дэчжоу. Затем прибыл к месту служения.
Целый год, а то и больше от нее не было никаких известий. Но вот один родственник Ши, приехав случайно в Дэчжоу, оказался соседом этой женщины. Узнав, кто он, она явилась к нему и стала расспрашивать о Ши. Родственник рассказал ей все как следует. Женщина начала браниться и затем сообщила все, как было. Родственнику стало как-то неловко перед ней, и он принялся ее уговаривать.
– Может быть, у него на службе слишком много дела, – старался он объяснить поведение Ши, – и он просто все еще не удосуживается вам написать. Пожалуйста, напишите ему письмецо, и я ему от вас, милая сноха, его вручу.
Женщина написала. Родственник с почтением передал письмо Ши, который не обратил на него ровно никакого внимания.
Так прошел еще с чем-то год. Женщина тогда отправилась сама, чтобы поселиться у Ши. Она остановилась в гостинице и попросила лакея, служившего у Ши, доложить о ней, назвав ее фамилию и имя. Ши велел отказать.
Однажды, когда он сидел за большим обедом и пил, он услыхал оглушительную брань. Отнял от губ чарку, стал прислушиваться, а женщина уже входила, подняв дверной полог. Ши страшно испугался. Лицо его стало цвета пыли. Женщина, тыча ему пальцем в лицо, ругательски ругалась:
– Бессердечный ты человек, небось, веселишься! Ну-ка подумай, все твое богатство и весь твой почет – откуда все это? У меня к тебе чувство не легковесное, и не легкомысленно мое увлечение… Если ты захотел купить себе наложницу, посоветовался бы со мной, что за беда?
У Ши как-то отнялись ноги, дыханье сперло – в ответ ей он не мог сказать ни звука и долго сидел молча. Потом опустился на колени и, отдавая себя в ее власть, выдумывал всякую ложь, лишь бы она его простила. Гнев женщины стал понемногу утихать, и она успокоилась.
Ши стал теперь уговаривать свою Ван пойти и приветствовать эту женщину, как младшая сестра старшую. Ван это совершенно не понравилось, но Ши усердно и настойчиво упрашивал ее, и она пошла. Ван поклонилась женщине, та ответила тем же.
– Ты не бойся, сестрица, – говорила та, – я не из ревнивых и наглых женщин. То, что было, ведь действительно нечто такое, чего человек вынести совершенно не может. Но и тебе, милая, не следует обладать этим человеком!
И рассказала ей все, от начала до конца.
Ван тоже овладела досада и злость, и они обе пошли к Ши браниться. Ши не мог уже стать на почву какого-нибудь определенного решения и только просил дать возможность откупиться. На этом и успокоились.
Дело, оказывается, было так. Еще до прибытия женщины в его дом Ши запретил привратникам ее впускать. Теперь он рассердился на них и стал потихоньку их допрашивать и бранить. Но привратники решительно заявили, что ключа никому не давали и что никто не входил, так что они не виноваты. Ши пришел в недоумение, но не посмел обо всем этом женщину расспросить.
И обе стали жить вместе, но, хотя и разговаривали, смеялись, конечно, все это было не то: настоящего ладу не было. К счастью, женщина оказалась милой и мягкой. Она не стала требовать себе у Ши вечеров; после ужина закрывала свою дверь и укладывалась спозаранку спать, не интересуясь даже, где спит ее милый друг. Ван сначала тревожилась, считая ее для себя опасной, но, видя теперь, какая она, преисполнилась к ней уважения, ходила приветствовать ее по утрам, делая вид, что прислуживает ей как тетке.
Женщина в обращении со слугами была мягка, приветлива и в то же время умна, проницательна, как божество. Однажды у Ши пропала его казенная печать. Вся канцелярия была поднята на ноги, кипела, металась, суетилась, роясь во всех углах, – и ничего не могли поделать. Женщина смеялась и говорила, что беспокоиться не стоит: надо лишь вычистить колодезь. Ши послушал ее, и действительно – там нашли печать. Ши стал расспрашивать ее, как это случилось, – она смеялась и не отвечала, что-то скрывая, словно по уговору, и как бы зная, как зовут вора.
Так прожила она у него целый год. Ши, заметив в ее поведении много странностей, стал думать, что она не человек, и посылал к дверям ее спальни слугу подглядывать и подслушивать. Однако тот только слышал шорох переворачиваемого на постели платья, не понимая, что это она делает.
Женщина очень сильно любила молодую Ван. Однажды вечером, когда Ши, сказав, что пойдет к судье, не вернулся домой, она села с Ван пить и незаметно напилась совершенно пьяной, легла тут же у стола и превратилась в лисицу. Ван смотрела на нее любовно и ласково, покрыла ее расшитым матрасиком. Вскоре вошел Ши. Ван рассказала ему про эти чудеса, и тот хотел ее убить.
– Пусть она даже лисица, – протестовала Ван, – чем же она перед тобой-то провинилась?..
Но Ши не слушал, нащупал свой карманный нож. А женщина уже проснулась и принялась его бранить:
– Ты человек с поведением гада, душой волка и шакала! Конечно, с тобой дольше жить нельзя. Соблаговоли-ка сейчас же вернуть мне то лекарство, которым я тебя в свое время накормила…
И плюнула ему в лицо. Ши почувствовал резкий холод, словно в него прыснули ледяной водой. В горле вдруг страшно зазудело. Он плюнул, и вышла прежняя пилюля в том самом виде. Женщина подобрала ее и в сердцах вышла. Ши побежал за ней – ее уже и след простыл.
Ночью к Ши вернулась прежняя болезнь, он стал харкать кровью без конца и через полгода умер.
Мужик
Мужик полол под горой. Жена принесла ему в горшке поесть. Закусив, он поставил горшок с краю, на меже. К вечеру смотрит – оставшаяся в горшке каша вся съедена; и так не раз и не два. Недоумевая, мужик решил наблюдать получше, чтоб доглядеть, кто это делает.
Вот прибегает лисица, сует голову в горшок. Мужик с мотыгой в руке подкрадывается и хвать ее изо всей силы. Лисица в испуге пустилась наутек, но горшок сдавил ей голову, и она с большими мучениями старалась от него освободиться, но не могла. Мотаясь в остервенении, она треснула горшком о землю: тот разбился и упал, а она вытащила голову, увидела мужика и принялась бежать все быстрее и быстрее, перебежала через гору и исчезла.
Через несколько лет после этого по ту сторону горы в одной знатной семье девушка мучилась от привязавшегося к ней лисьего наваждения. Писали талисманы – не помогло, и лис говорил девушке:
– Что мне все эти ваши заклинания, написанные на бумаге?
А девушка притворялась и спрашивала его:
– Твоя божественная сила, конечно, очень велика, и, к счастью, мы с тобой в вечной дружбе. Вот только не понять мне, есть ли на свете что-нибудь, чего бы ты боялся.
– Я решительно ничего не боюсь, – отвечал лис. – Однако лет десять тому назад, когда я был по ту сторону горы, я как-то украдкой поел на полевой меже, и вдруг явился какой-то человек в широкой шляпе, с орудием, искривленным на конце, в руках – и чуть было меня не убил. До сих пор еще его боюсь.
Девушка рассказала отцу. Тот решил отыскать того, кого лис боится, но не знал, как того зовут и где он живет, да и спросить было не у кого. Затем как-то случилось, что слуга из этого дома зашел по делам в горную деревню и с кем-то заговорил об этом происшествии. Человек, стоявший у дороги, в сильном изумлении сказал:
– То, что вы рассказываете, совершенно похоже на то, что со мной в свое время случилось. Уж не тот ли это лис, которого я тогда прогнал, творит теперь наваждение?
Слуге это показалось странным. Он пришел домой и рассказал господам. Господин его пришел в восторг и велел ему сейчас же взять с собой лошадь и пригласить к ним мужика. Слуга с почтением обратился к мужику и изложил, о чем его просят.
– Что было, то, конечно, было, – смеялся тот. – Но ведь не обязательно, чтоб эта самая тварь у вас и поселилась. Да и то сказать: уж если она умеет так чудесно превращаться, то неужели она после этого испугается какого-то мужика?
Однако богатая семья настаивала и силой принудила мужика одеться в то самое платье, которое он носил тогда, когда ударил лиса.
Вот он вошел в комнату, поставил свою мотыгу на пол и закричал:
– Я тебя ищу каждый день и все не могу найти, а ты, оказывается, здесь укрываешься! Вот теперь мы встретились, и я решил тебя убить без всякого сожаления!
Как только мужик это проговорил, сейчас же послышался в комнате вой лиса. Мужик принял еще более грозный вид. Лис жалобно заговорил, прося оставить ему жизнь. Мужик кричал:
– Вон отсюда сейчас же! Тогда пропущу!
И девушка увидела лиса с опущенной головой, который юркнул как мышь и исчез.
С той поры в доме стало спокойно.
Студент Го и его учитель
Студент Го жил у восточных гор в нашем уезде. Он смолоду отличался любовью к ученью, но в глухой горной деревушке некому было его поправлять, и вот ему уже было за двадцать лет, а писал он с большими ошибками.
Давно уже в его доме терпели от лисьего наваждения. И платье и посуда часто куда-то пропадали, так что все были в постоянной тревоге и сильно горевали.
Однажды ночью студент сидел и занимался, положив книгу на стол. Лиса вдруг все измарала – черным-черно, так что в тех местах, где она особенно старалась, нельзя было уж разобрать ни строк, ни букв. Пришлось отобрать листы, оставшиеся еще сравнительно чистыми, сложить их и читать. Оказалось, из всей книги – всего-навсего шестьдесят или семьдесят отрывков. Брала досада и злость до глубины души, но делать было нечего.
Студент написал двадцать приблизительно сочинений на разные темы[9], нужные для экзамена, и готовился дать их на просмотр одному известному лицу. Утром он встает, смотрит, а его сочинения валяются по столу, словно на развале, перевернутые как попало и так густо измазанные тушью, что от написанного не осталось живого места. Досада Го была неописуема.
Как-то раз пришел по делам к ним в горы студент Ван. Он был в дружбе с Го и зашел его навестить. Увидел измаранные тетради, стал расспрашивать, и Го рассказал ему о всех своих мучениях, причем показал то, что еще осталось неизмаранным. Ван стал внимательно просматривать, и то, что осталось от вымарывания, по-видимому, содержало в себе все лучшее, как бы сказать, знаменитую «Летопись» Конфуция… А затем он стал пересматривать и измазанные тетради – там, по-видимому, было лишнее, сборное, вообще все, что можно бы выбросить.
– Знаешь что, – сказал он приятелю с изумлением, – в этой лисе есть смысл! Не только тебе нечего горевать, но именно ее-то и надо тебе сделать своим учителем!
Через несколько месяцев Го просмотрел свои старые сочинения и вдруг понял, что все измазанное было измазано правильно. Теперь он написал еще на две темы уже по-иному и положил на стол, чтобы посмотреть, какое с ними будет чудо. Наутро написанное опять оказалось измазанным. Прошел, однако, еще год – и тетради более не марались, только жирною тушью там и сям делались огромные круги[10], которыми пестрела вся страница.
Го страшно удивился, взял с собой тетради и пошел показать их Вану. Тот, посмотрев их, сказал:
– Лисица, брат, твой настоящий учитель. Эти прекрасные сочинения прямо-таки продавать можно!
Действительно, Го в этот самый год выдержал экзамены в уездном городе, и это привело его в умиление перед лисой, которой он теперь стал ставить курицу и кашу, предлагая ей вволю есть и пить. Каждый раз как он покупал в лавке сочинения известных авторов[11], то выбирал их не сам, а ждал окончательного решения лисы.
После этого он на двух экзаменах подряд оказался в первых именах, а затем и на крупном экзамене прошел во вторые кандидаты.
В это время сочинения господ Е и Мяо считались особенно тонкими и изящными по стилю. Их передавали из семьи в семью, и каждый их штудировал. У Го была рукописная копия этих сочинений, которой он страшно дорожил, как любимою вещью, и вдруг на нее вылилась чуть не целая чашка жирной туши, и все было так измазано, что не осталось ни буквы. Кроме того, он, подражая этим мастерам слова, сам написал кое-что, чем был приятно удовлетворен, – и все это было также измазано прямо волнами туши. С этих пор он уже мало-помалу перестал доверять лисе.
Через некоторое время сочинения Е в своей основной части были закончены и убраны, и Го начал понемногу уважать те, что видел раньше; однако всякий раз как он заканчивал какое-либо сочинение, то, как бы ни трудился, ни старался в горьком и благородно-простом усилии, его писания оказывались всегда зачеркнутыми. Сам он, ввиду того что неоднократно вырывал, так сказать, знамена из рук передовых бойцов, дух имел весьма гордый. И от всего этого он еще более стал разочаровываться в лисе, считая ее взбалмошной.
Желая испытать лису, он переписал то, что раньше было испещрено кругами жирной туши. Лиса все это измазала.
– Ну, ты и впрямь с ума сошла! Почему, в самом деле, вчера это хорошо, сегодня плохо?
Вслед за этим перестал ставить перед ней обед, взял учебные тетради и запер на замок в сундук. Наутро он заметил, что сундук закрыт и запечатан весьма основательно, но когда открыл, то увидел, что на обложке тетрадей намазано четыре черты толщиной больше пальца. В первом сочинении проведено пять таких черт, во втором тоже пять, а на остальных ничего. С этой поры лиса окончательно замерла.
Го на одном экзамене прошел четвертым, на двух других – пятым и понял, что эти черты были знамением ему, ибо в чертах был смысл.
Оживший Ван Лань
Ван Лань из Лицзиня скоропостижно умер. Янь-ван[12], пересмотрев дело о его смерти, нашел, что это произошло по ошибке одного из бесов, и велел взять Вана из ада и вернуть к жизни. Оказалось, однако, что труп Вана уже разложился. Бес, боясь наказания, стал говорить Вану:
– Быть человеком, стать нечистой силой – это мука. Быть нечистой силой, стать святым – это радость. Если это радость, то к чему обязательно рождаться к жизни?
Ван согласился, что это так.
– Здесь есть некая лисица, – продолжал бес, – у которой золотая красная ярь бессмертия[13] уже готова. Если украсть эту пилюлю и проглотить – душа не уйдет и жить можно долго. Ты только дай мне идти, куда я поведу, – все будет так, как тебе желательно. Хочешь ты или нет?
Ван согласился, и бес повел его.
Вошли они в высокий дворец. Видят – высятся большие здания, но томительно-грустно и пустынно. Какая-то лисица сидит под луной, подняв голову кверху и смотря в пространство. Выдохнет – и какой-то шарик выходит изо рта, и взвивается вверх, и там влетает в середину луны. Вдохнет – и он падает обратно. Поймает его ртом и опять выдохнет… И так до бесконечности. Бес подкрался и стал выслеживать, поместившись у нее сбоку. Дождался, когда она выплюнула шарик, быстро схватил его в руку и дал Вану проглотить. Лисица испугалась и с грозным видом обернулась к бесу, но, увидев, что тут двое, побоялась, что ей не справиться, и, разъяренная досадой, убежала. Ван простился с бесом и пошел домой.
Когда он пришел домой, то жена и дети, увидев его, испугались и попятились. Ван, однако, все рассказал, и они стали мало-помалу сходиться. Ван стал спать и жить по-прежнему. Его приятель Чжан, услыхав про все это, пришел проведать. Свиделись, разговорились о здоровье и других делах.
– Мы с тобой были всегда бедны, – говорил Ван Чжану. – А теперь у меня есть секрет – можно им добыть себе богатство. Пойдешь со мной, куда я пойду?
Чжан нерешительно соглашался.
– Я могу лечить без лекарства, – продолжал Ван. – Решать будущее без гаданья. Я хотел бы принять свой вид, но боюсь, что те, кто меня знает, испугаются меня как наваждения. С тобой я пойду и при тебе буду. Согласен?
Чжан опять сказал «да», и они в тот же день собрались и пошли.
Пришли они к границе губернии Шаньси. Там в одном богатом доме вдруг захворала девушка, перестала видеть и погрузилась в обморок. Пичкали ее всеми лекарствами, служили всякие молебны – словом, все испробовали, что было можно. В это время Чжан пришел в дом и стал хвастаться своим искусством. У богатого старика она была единственная дочь, он ею дорожил и любил ее, говоря, что тому, кто сможет ее излечить, он даст в награду тысячу ланов. Чжан просил разрешения посмотреть девушку и в сопровождении старика вошел в комнату. Видит: она лежит в забытьи. Открыл одеяло, пощупал тело. Девица в полном обмороке, ничего не чувствовала. Ван шептал Чжану:
– Ее душа ушла. Пойду поищу ее.
– Хотя и опасна болезнь, – заявил Чжан старику, – однако спасти можно.
Старик спросил, какое здесь нужно лекарство, но Чжан ответил, что никакого лекарства не нужно.
– Душа барышни, – говорил он, – ушла куда-то в другие места, и я уже послал духа искать ее.
Часа так через два вдруг появился Ван и сказал, что нашел душу. Тогда Чжан еще раз попросил у старика позволения войти. Опять пощупал, и сейчас же девица стала потягиваться, и глаза ее открылись. Старик очень обрадовался, стал ласково ее расспрашивать.
– Я играла в саду, – рассказывала девушка, – и вдруг вижу: какой-то юноша с самострелом в руке стреляет в птицу. Несколько человек ведут прекрасных коней и идут за ним. Я хотела сейчас же убежать, но мне нагло загородили дорогу. Юноша дал мне лук и велел стрелять. Я застыдилась и закричала на него, но он сейчас же схватил меня и посадил на лошадь, сел со мной, и мы поскакали. «Я люблю с тобой играть, – говорил он мне, – не стыдись!» Через несколько верст мы въехали в горы. Я сидела на коне, кричала и бранилась, юноша рассердился и столкнул меня так, что я упала у дороги. Хотела идти домой, но не знала куда. Но вот идет какой-то человек, берет меня за руку, и мы быстро мчимся, словно скачем на коне… И в мгновенье ока мы дома. Все это произошло быстро, словно во сне, от которого просыпаюсь.
Старик боготворил Чжана и действительно подарил ему тысячу ланов. Ван ночью решил с Чжаном так: они оставят двести ланов на путевые расходы, а все остальное Чжан унесет, постучится к Вану в ворота и передаст деньги его сыну, веля при этом послать триста ланов в подарок Чжанам. Затем он вернется.
На следующий день Чжан пошел прощаться со стариком, но и не взглянул даже, где лежат деньги, чему тот еще более удивился и проводил его с самым большим почетом.
Через несколько дней Чжан встретил на окраине города своего земляка Хэ Цая. Цай пил и играл, не занимаясь трудом, и был до смешного беден, словно нищий. Услыша, что Чжан добыл секрет, которым загребает деньги без числа, побежал и отыскал его. Ван стал советовать дать ему поменьше и отправить обратно. Но Цай не исправил своего прежнего образа жизни и в какие-нибудь десять дней все промотал до конца. Хотел опять идти искать Чжана, но Ван уже об этом знал и говорил Чжану:
– Цай – сумасшедший наглец, с ним жить нельзя. Нужно сунуть ему что-нибудь – и пусть убирается. Все-таки меньше будет беды от его поведения.
Через день Цай действительно явился и стал жить у Чжана против его воли.
– Я знал, конечно, что ты снова придешь, – говорил ему Чжан. – Если целые дни проводишь в пьянстве и картеже, то и тысяча ланов не смогут наполнить бездонную дыру. Вот если ты серьезно исправишься, я тебе подарю сотню ланов.
Цай изъявил согласие. Чжан отсыпал ему деньги, и тот ушел.
Теперь, с сотней в кармане, Цай стал играть еще азартнее, да к тому же связался со скверной компанией и стал мотать и сыпать деньги, словно пыль. Сторож в городе, заподозрив неладное, задержал его и представил в управление, где его пребольно отдубасили, и он рассказал всю правду о том, откуда взялись эти деньги. Тогда его послали под конвоем, чтобы арестовать Чжана, но через несколько дней раны его стали болеть, и он по дороге умер.
Однако его душа не забыла Чжана и опять пристала к нему – встретилась, значит, с Ваном. Однажды они собрались и пили вместе у какого-то холма, одетого туманом. Цай напился страшно и стал орать как сумасшедший. Ван пробовал его остановить, но тот не слушал. Как раз в это время проезжал местный цензор. Услышал, что кто-то кричит, велел искать. Нашли Чжана, который в испуге рассказал все по правде. Цензор рассердился, велел дать ему палок и послал с бляхой к духу. Ночью ему явился во сне человек в золотых латах и заявил следующее:
– Дознано, что Ван Лань умер без вины, а теперь является блаженным бесом. Леченье – милосердное искусство. Нельзя узаконивать его силой бесовщины. Сегодня я получил приказание Владыки вручить ему титул вестника чистого дао. Хэ Цай подл и развратен. Он уже казнится, скрытый в горе Железной Ограды[14]. Чжан невинен, его надо простить.
Цензор проснулся и подивился сну. Отпустил Чжана, который собрал свои пожитки и вернулся на родину. У него в мошне оказалось несколько сот ланов, из которых он половину почтительно передал семье Вана, и ей эти деньги принесли богатство.
Тот, кто заведует образованием
Некий учитель был сильно глух, но дружил с лисой, которую слышал, даже когда она шептала. Всякий раз, как он представлялся начальству, то брал с собой лису, и никто не знал, что он на ухо туг.
Через пять-шесть лет лиса простилась и ушла, наказав ему:
– Вы словно истукан! Стоит сыграть с вами злую шутку, и все пять ваших чинов слетят. Вместо того чтобы по глухоте своей проштрафиться, не лучше ль было бы вам пораньше уйти со службы, оставшись на высоте?
Учитель любил деньги и не сумел последовать этим словам. Ответы его стали часто весьма странны, и инспектор просил разрешения прогнать его, но он умолил начальника, который ласково уговорил инспектора этого не делать.
Однажды учитель был на государственном литературном экзамене. Когда кончили выкликать учеников, инспектор удалился к себе и сел обедать вместе с преподавателями. Все преподаватели лезли в книжные сумки и делали инспектору подношения, чтобы при его посредстве выхлопотать себе дальнейшее продвижение по службе. Наконец инспектор с улыбкой обращается к нашему учителю:
– Почтенный педагог, почему же вы один ничего не подаете?
Учитель растерянно смотрел, не расслышав. Сосед его по столу толкнул его локтем и рукой полез в сумку, чтобы показать, в чем дело. Учитель как раз только что взял с собой по поручению одной своей родственницы известный суррогат-секрет супружеской спальни, чтобы продать его, и спрятал его в сумку. Куда бы он ни приходил, всюду и всем предлагал эту штуку купить. Видя, что инспектор улыбается, он решил, что ему требуется эта вещь, и с поклоном, весь согнувшись, ответил:
– Самые лучшие, позвольте заметить, на восемь цяней[15], а уж этот ваш покорнейший слуга не смеет вам поднести.
Весь стол фыркал. Инспектор велел вывести учителя и лишил его должности.
Область Пинъюань в древности одна ничего не имела представить[16]. Да, ее князь был словно скала среди течения! А здесь инспектор – и вдруг требует себе подношений. Конечно, ему нужно было поднести как раз это самое. А человека за это, изволите видеть, увольняют. Что за несправедливость!
Плотник Фэн
Генерал Чжоу Юдэ, желая перестроить заново чей-то старый дворец под свое министерство, начал набирать рабочих. Плотнику Фэн Мин-хуаню пришлось спать на постройке. Только что он стал укладываться на ночь, как вдруг видит, что оклеенное бумагой окно[17] наполовину приоткрылось и луна светла, словно это день, не ночь. В отдалении, за окном, виден был невысокий забор, а на заборе красный петух. Фэн уставился на него, и в это время петух слетел наземь.
Вдруг какая-то молодая девушка подошла, просунулась наполовину в окно и поглядела на Фэна. Он решил, что ее захороводил кто-нибудь из товарищей, и стал тихо прислушиваться, но все уже крепко спали. И сердце его, объятое своевольной мечтой, стало сжиматься: в него закралась надежда, что дева ошибется и придет к нему. Вскоре она действительно влезла в окно и прямо прошла в его объятия. Фэн, полный радости, молчал, не говоря ни слова… Когда наслаждение кончилось, дева ушла также в окно. Но с этой поры она стала приходить каждую ночь. Сначала плотник все еще не говорил, кто он, но потом однажды решился открыто заявить ей это.
– Я и не ошиблась, – отвечала ему дева, – когда к тебе пришла. Нет, я отдалась тебе сознательно и с уважением.
И любовь их с каждым днем становилась все крепче. Затем работы кончились, и Фэн решил идти домой. Дева уже ждала его в поле. Деревня, где жил Фэн, от города была совсем недалеко, и дева пошла за ним. Но когда она вошла в дом плотника, никто из семьи Фэна ее не видел, и Фэн теперь только понял, что она не человек.
Прошло несколько месяцев. Его силы стали падать и падать, и это вызвало в нем страх за жизнь. Он пригласил мага, чтобы тот своим заклятием задавил и изгнал нечистую силу, но из этого ничего не вышло.
Однажды ночью явилась дева в роскошном наряде.
– Всякая связь в этом мире имеет свой определенный счет дней, – заявила ему она. – Раз суждено ей быть, то гони ее – не прогонишь. Если ей положено прекратиться, то хоть держись обеими руками – не удержишь. Сегодня я с тобой прощусь.
И ушла.
Студент-пьяница Цинь
Студент Цинь из Лайчжоу сделал настойку из трав и по ошибке положил туда яду. Вылить вино было выше его сил; он запечатал жбан и поставил стоять.
Через год как-то ночью ему захотелось пить, а вина нельзя было нигде достать. Вдруг он вспомнил про спрятанную настойку. Сорвал печать, понюхал: аромат замечательный, ударяет в нос до умопомрачения, кишки зудят, слюна так и бежит… Не мог справиться с собой, взял чарку и хотел попробовать. Жена предостерегала и усердно упрашивала его не делать этого, но студент только смеялся.
– Попить всласть и умереть – куда лучше, чем умереть от мучительной жажды.
Выпил чарку, нагнул жбан и налил еще. Жена встала и разбила жбан. Вино растеклось по всему полу. Студент припал к земле и стал пить, словно корова. Вскоре в кишках начались боли, рот сомкнулся. Ночью он умер. Жена с плачем и причитаниями стала готовить гроб и уже положила его туда, но на следующую ночь явилась в дом какая-то красивая женщина ростом не более трех футов и прямо пошла к месту, где стоял гроб. Взяла воды из чашки, попрыскала на покойника, и тот разом ожил.
Он стал спрашивать, как это так случилось.
– Я фея-лиса, – отвечала женщина. – Мой муж как раз теперь пошел в семью Чэнь, украл вино, опился им и умер. Я пошла его спасать и на возвратном пути случайно проходила мимо вашего дома. Мужу стало очень жаль вас, вы и он были больны одним и тем же. Он и послал меня оживить вас остатками того лекарства, которое ему так помогло.
Сказала – и стала невидима.
Дождь монет
Некий студент из Баньчжоу сидел у себя в кабинете и занимался. Кто-то постучал в дверь. Открыл, смотрит – какой-то старик, весь белый, очень почтенной наружности. Студент, пригласив его войти, уважительно осведомился, как его зовут. Старик сказал, что его имя Ян-чжэнь, Питающий Истинное, а фамилия Ху[18].
– Сказать по правде, – говорил он, – я лис-волшебник. Восхищенный высотой и тонкостью вашего ума, я хотел бы проводить с вами все время.
Студент был свободен от предрассудков, независим и с глубоким пониманием вещей, – так что он не счел это за пугающую странность. Сел и начал говорить со стариком, споря обо всем, что когда-либо было, в древние и новые времена.
Старик оказался исключительно образованным, с большою начитанностью. С его уст не сходили тонкие цветистые выражения и словно скульптурные фразы. Попробовал студент коснуться вещей поглубже – классиков; оказалось, старик знает и понимает их так глубоко и проникновенно, что студенту с особенной силой представилась для себя полная невозможность даже постичь такую мудрость. Он пришел в крайнее изумление и, исполнившись большого почтения к старику, оставил его у себя и долго с ним жил.
Однажды он тихо взмолился старику:
– Вы любите меня, по-видимому, очень сильно, а я, как видите, бедный человек. Ведь вам стоит лишь поднять руку, и золото и деньги сейчас же появятся по вашему мановению. Почему бы вам не оказать и мне такое щедрое внимание?
Старик молчал и, казалось, не думал, что это можно сделать, но через минуту он уже смеялся и говорил студенту:
– Это очень легкое дело. Мне нужно лишь с десяток монет, так сказать, на рассаду.
Студент дал, и старик пошел с ним в комнату, где они заперлись. Там он начал ходить магическим шагом и творить заклятия. И вдруг миллионы монет зазвякали о пол. Они сыпались прямо с потолка, словно проливной дождь. Миг – и уже в деньгах вязли колени. Студент, вытащив ногу, встал и опять увяз по щиколотку. Огромная комната наполнилась на три-четыре фута, если не более.
Старик тогда говорит, смотря на студента:
– Ну как? Удовлетворены выше меры? Или, может быть, нет еще?
– Довольно с меня, – отвечал студент.
Старик махнул рукой – и поток денег остановился, словно кто провел черту запрещения. Они заперли дверь и оба ушли.
Студент был всей душой рад, считая себя разбогатевшим. Тут же он вошел в комнату, чтобы взять денег на расход… И вдруг – вся комната ведь была полна этими милыми вещами, а где же деньги? Остались лишь там и сям монеты, данные на рассаду, – только и всего.
Надежды рухнули. Студент свирепо напустился на старика, браня его за обман.
– Я ведь с вами был дружен по книгам, по знаниям, по литературе, – гневно возражал старик. – Я не думал, что, для того чтобы удовлетворить вас, мне придется с вами вместе стать вором. Вам, знаете, надо найти этого, как говорится, синьора с балки[19]. Вот тогда вы и сдружитесь с ним как следует, а мне, старику, вам не угодить.
Отряхнулся и ушел.
Пара фонарей
Вэй Юнь-ван из Пэньцюаня в Иду происходил из старинной и знатной семьи, которая, однако, впоследствии – увы – обеднела, так что у него не хватало уже средств на продолжение образования и он лет двадцати от роду прекратил занятия науками и вошел в дело по торговле вином.
Однажды вечером он лежал один в винном складе. Вдруг слышит стук чьих-то шагов. В испуге он вскочил и стал с замиранием сердца прислушиваться. Стук все ближе и ближе, вот уже ищут лестницу, идут вверх, шаги перебивают друг друга… И сейчас же две прислуги с фонарями в руках очутились у его постели. За ними появился молодой человек, из интеллигентных, который вел за руку девушку. Он подошел к постели Вэя и стал улыбаться. Вэй страшно испугался и ничего не понимал, но тут же начал догадываться, что это лисицы. Понял, и волосы на голове встали, словно деревья в лесу. Поник головой, не решаясь даже взглянуть.
– Не глядите на нас букой, – смеялся молодой человек. – Моя сестра с вами связана давней судьбой, еще до рождения. Вот ей и следует за вами поухаживать!
Вэй смотрит – молодой человек одет в расшитый шелк и соболя, глаза горят… Застыдился своего грязного вида, покраснел и не знал, что на это сказать. Молодой человек и служанка оставили фонари и исчезли.
Вэй стал внимательно рассматривать девушку, которая была светла, свежа, словно фея. Она ему сильно понравилась, но он был совершенно сконфужен и никак не мог с ней заговорить в заигрывающем тоне. Дева смотрела и смеялась…
– Послушайте, – говорила она, – ведь вы же не из этих, зарывшихся в книги… К чему этот напыщенный вид книжника? – Подошла близко-близко к постели и сунула ему на грудь руку, чтобы погреть ее.
Вэй теперь только оттаял, лицо раскрылось, и, теребя ее, начал с ней пошучивать, а затем привлек к себе и стал любить.
Еще не пробил утренний колокол, а служанка с букольками уже пришла тащить ее домой. Условились ночью опять свидеться, и действительно, поздним вечером она пришла и говорила ему, смеясь:
– Глупый мой, какое тебе счастье! Не затратил ни копейки, а получил такую красивую жену, которая каждый день к тебе сама бегает.
Вэй, обрадовавшись, что никого тут нет, поставил на стол вино и стал с ней пить. Играли в «спрятанные пальцы»[20], причем дева выигрывала в девяти случаях из десяти.
– Не лучше ль будет, – смеялась она, – если я буду прятать пальцы, а ты будешь их угадывать? Угадаешь – выиграл, нет – проиграл! Если же заставишь меня отгадывать, то никогда не выиграешь.
Сделали так и забавлялись весь вечер, а затем пошли было спать, но дева сказала:
– Вчерашней ночью на твоем одеяле и матрацах было ужасно холодно, прямо нестерпимо.
И крикнула прислугу, веля принести одеяло. Развернули его на постели – тонко вышитый нежный шелк был мягкий, весь душистый… Вэй развязал ей пояс, стал с ней любовничать… Ее красные губы блуждали, метались – совсем как «мягкое и теплое царство»[21] у ханьского государя, если даже не лучше. И с этой поры их отношения установились окончательно.
Прошло полгода. Вэй вернулся на родину. Раз ночью при луне он разговаривал с женой у окна. Вдруг видит, что его дева в роскошном наряде уселась на стене и машет ему рукой, зовет его. Вэй подошел к ней. Она взяла его руку, перелезла к нему через забор и, держа его за руки, говорила:
– Сегодня я с тобой расстанусь. Пожалуйста, проводи меня несколько шагов, окажи мне этим внимание, заслуженное, надеюсь, за полгода нашей с тобой связи.
Вэй испуганно спросил, в чем дело.
– Брачная связь имеет свою определенную судьбу. О чем тут разговаривать?
Так они шли и разговаривали, пока не пришли к окраине села, где ее ждала служанка с двумя фонарями. Они направились прямо к южным горам, и, дойдя до возвышений, дева простилась с Вэем. Тот удерживал ее, но бесполезно. Она ушла.
Вэй долго стоял, не сходя с места и устремив взор ей вслед. Он все время видел пару фонарей, то мелькающих, то исчезающих, пока они не удалились настолько, что различить что-либо было уже невозможно. С болью в душе вернулся к себе Вэй.
В эту ночь, говорят, все крестьяне видели в горах огни фонарей.
Студент Лэн
Студент Лэн из Пинчэна сначала был чрезвычайно туп. Так что, когда ему минуло уже двадцать лет, он не знал еще ни одной канонической книги. Потом к нему явилась лисица и стала с ним есть и спать. Все слышали, как он всю ночь болтает. Однако даже если спрашивали братья, он не хотел говорить об этом ни слова. И так прошло много дней.
Вдруг с ним случилась какая-то болезнь: припадки сумасшествия и вообще глубокая перемена. Бывало, сядет писать сочинение, возьмет тему, запрется и сидит, как высушенный, а немного погодя разразится раскатистым смехом… Бегут смотреть – а у него уже рука безостановочно бежит по черновику, и сочинение совершенно готово. Когда затем он оторвется, глядят опять – и что же? Все – и стиль, и мысли превосходны, изумительны.
В этом же году он вошел в храм «бассейна»[22], а на следующий год был уже стипендиатом. Но вообще на каждом экзамене хохотал так, что эхо гудело в стенах зала. С этих пор имя хохочущего студента стало известным повсюду.
К его счастью, инспектор уходил в это время отдыхать и смеха не слыхал. Но потом назначили такого, у которого во всем была суровая строгость и порядок. Он целый день сидел в зале, не пошевелившись, и вдруг слышит раскаты смеха. Рассердился, велел схватить студента и уже готов был наложить на него кару, но заведующий канцелярией рассказал о его помешательстве, и гнев инспектора стал утихать. Однако его имя он вычеркнул.
С этих пор студент принял безумный вид и погрузился в поэзию и вино. У него есть сборник стихотворений в четырех книгах под заглавием «Наброски свихнувшегося». Стихи парят где-то вне земли, подымают ввысь… Стоит читать!
Запереться и хохотать – чем это отличается, по существу, от буддийского прозрения? Смеяться вовсю и в то же время сочинить цельную вещь – это ведь одно из живых и радостных явлений. Разве можно дойти до того, чтобы за это уволить студента? Такое начальство, знаете, очень уж далеко заходит!
Расписная стена
Мэн Лун-тань из провинции Цзянси был как-то наездом в Пекине, вместе с кандидатом Чжу. Случайно, во время прогулки, забрели они в буддийский храм. Видят: его здания, пристройки, монашеские кельи и прочее, в общем, не очень обширны. Никого нет, сидит только старик хэшан[23], повесив рядом свою хламиду. Увидев посетителей, он ушел к себе, оделся как следует и вышел им навстречу; затем повел их по храму посмотреть, что есть.
В главном храме стояла глиняная статуя, изображавшая святителя Бао-чжи[24]. Обе стены, прилежащие к статуе, были покрыты тонкою прекрасною росписью, и люди на ней были как живые. На восточной стене была изображена Небесная Дева[25], сыплющая цветами, и в ее свите какая-то девушка с челкой, которая держала в руках цветы и нежно улыбалась. Ее губы-вишни, казалось, вот-вот зашевелятся, а волны ее очей готовы были ринуться потоками.
Чжу уставил на нее свои глаза и долго-долго стоял перед картиной. Он весь застыл в упорной думе, у него закружилась голова, и он не заметил, как душа его заколебалась и рассудок был словно кем-то отнят. И вдруг его тело стало легким-легким, вспорхнуло и полетело, как на туче-тумане… Глядь, он уже на стене. Видит перед собой громадные храмы, величественные здания, одно за другим, одно над другим… Очевидно, думалось ему, здесь уже больше не человеческий мир.
Смотрит дальше – видит: сидит на кресле старый хэшан и проповедует учение Будды. Вокруг него стоят, на него взирая, монахи-ученики, одетые в хламиды с закинутыми за одно плечо концами. Их было очень много, и Чжу вмешался в их толпу, стоял и слушал учителя.
Через несколько времени ему показалось, что кто-то его слегка, и стараясь не дать этого заметить другим, дергает за рукав. Оглянулся – оказывается, это девушка с челочкой. Засмеялась и убежала. Чжу сейчас же бросился за нею по следам, обогнул извивы палисадника и очутился в небольшом домике. Здесь он остановился в нерешительности, не смея двинуться дальше. Девушка обернулась, подняла перед собой цветок, что был в руке, и стала издали махать ему, как бы призывая. Чжу побежал. В комнате было тихо, ни души. Чжу бросился ее обнимать. Девушка еле сопротивлялась, и Чжу слился с ней в бесстыдной любви.
Затем она убежала и закрыла дверь, причем велела Чжу сидеть тихо и даже не кашлять. Ночью она снова пришла к нему, и так продолжалось два дня. Однако подруги девушки пронюхали и отыскали нашего кандидата.
– Маленький паренек, – смеялись они над ней, – у тебя в брюшке уже порядочно вырос, а ты все еще продолжаешь распускать волосы, изображая невинность, сидящую в тереме!
Тотчас же поднесли ей шпильки, булавки, серьги и велели поскорее взбить прическу замужней дамы. Девушка, застыдясь, молчала.
Затем одна из подруг спохватилась и сказала:
– Сестрицы, нам нельзя здесь долго быть. Смотрите, как бы на нас не было нареканий!
И все убежали.
Чжу посмотрел на свою милую. Тучи ее волос высоко крутились над головой, и с них свешивались вниз булавки-фениксы. Она стала еще красивее, чем с челкой. Увидев, что никого вблизи нет, он подошел к ней и стал интимно ласкаться. Запах мускусных духов напоил ему душу…
Не кончив еще своего наслажденья, они вдруг услыхали грозный и решительный стук кожаных сапог[26], резко и громко отдающийся в воздухе. Бряцали цепи оглушающим звоном… Затем послышался смешанный гул и шум каких-то резких споров…
Девушка в испуге вскочила и стала вместе с Чжу глядеть в щель двери. Они увидели воина в золотых латах, с черным, словно лаком намазанным лицом, с булавой и цепями в руках. Его окружали девушки.
– Вы все здесь? – спросил воин.
– Да, все, – отвечали девы.
– Если у кого-нибудь из вас спрятан здесь человек из нижнего мира, сейчас же выдать мне его головой! Смотрите – не навлекайте на себя горя!
Все опять хором отвечали, что таких нет. Воин обернулся, окинул всех недоверчивым взглядом и как будто собирался искать спрятанное.
Дева, в сильном испуге, с лицом, похожим на мертвый пепел, в крайнем смятении велела Чжу быстро спрятаться под кровать. Затем открыла маленькую дверь в стене и быстро выбежала.
Чжу, лежа под кроватью, не смел дохнуть. Вдруг он слышит шаги кожаных сапог уже в спальне. Затем из спальни вышли, и понемногу шум и крики стали удаляться. На сердце Чжу полегчало. Однако за дверями все еще ходили и разговаривали, и Чжу пришлось еще долго лежать, не разгибаясь. И вот он уже чувствует, как в ушах у него жужжат цикады, а из глаз рвется огонь. Выдержать долее не было сил, а он все терпеливо прислушивался и ждал, не вернется ли дева. Наконец он перестал помнить, откуда он сам-то сюда попал.
А в это время Мэн Лун-тань, стоя в храме и заметив исчезновение Чжу, в недоумении обратился с вопросом к хэшану.
– Пошел слушать проповедь, – смеясь отвечал тот.
– Куда?
– Да недалеко отсюда!
Вслед за тем хэшан постучал пальцем в стену и закричал:
– Послушайте, благодетель Чжу, что это вы так загулялись? Даже возвратиться не желаете?
И сейчас же на картине появилась фигура Чжу, который, стоя напряженно и приникнув ухом, к чему-то прислушивался, словно желая что-то разобрать.
– Ваш приятель давно уже ждет, – закричал опять хэшан. И вслед за этими словами Чжу быстро слетел со стены вниз. Он стоял теперь как истукан, с замершим, как зола, сердцем и неподвижными глазами. Ноги его не слушались, словно размякли.
Мэн сильно изумился и стал осторожно расспрашивать. Оказывается, Чжу, лежа под кроватью, услышал, как кто-то стучит, словно громом, над его головой. Он и вышел из спальни, чтобы посмотреть и прислушаться.
Оба стали теперь смотреть на девушку, державшую на картине цветы. Ее прическа была взбита кверху, как раковина, челки уже не было. Чжу, растерявшись, поклонился хэшану в пояс и спросил, как это могло случиться.
– Чудесное рождается от самих же людей. Где мне, старому монаху, это понимать? – смеялся хэшан.
У Чжу душа как-то сселась, поблекла. Сердце Мэна исполнилось тревоги и потеряло нить. Они сейчас же поднялись, спустились с крыльца и пошли прочь.
«Чудесное рождается от самих же людей!» В этих словах, пожалуй, есть глубочайшая правда.
У человека блудливая душа – и вот она создает развратную обстановку. У человека душа развратная – и она рождает все, что наводит страх.
Бодхисатва волшебной рукой перерождает человеческие заблуждения, и разом создаются тысячи химер… Да, но все они возбуждаются самим же сердцем человека.
Буддийской мудростью окрепло сердце старого монаха. Как жаль, что оба приятеля не услышали за его словами величайшего прозрения!
Тогда они, наверное, растрепали бы свои волосы и устремились в горы.
Как он садил грушу
Мужик продавал на базаре груши, чрезвычайно сладкие и душистые, и цену на них поднял весьма изрядно. Даос в рваном колпаке и в лохмотьях просил у него милостыню, все время бегая у телеги. Мужик крикнул на него, но тот не уходил. Мужик рассердился и стал его ругать.
– Помилуйте, – говорил даос, – у вас их целый воз, ведь там несколько сот штук. Смотрите: старая рвань просит у вас всего только одну грушу. Большого убытка у вашей милости от этого не будет. Зачем же сердиться?
Те, кто смотрел на них, стали уговаривать мужика бросить монаху какую-нибудь дрянную грушу: пусть-де уберется, но мужик решительно не соглашался. Тогда какой-то мастеровой, видя все это и наскучив шумом, вынул деньги, купил одну грушу и дал ее монаху, который поклонился ему в пояс и выразил свою благодарность.
Затем, обратясь к толпе, он сказал:
– Я монах. Я ушел от мира. Я не понимаю, что значит жадность и скупость. Вот у меня прекрасная груша. Прошу позволения предложить ее моим дорогим гостям!
– Раз получил грушу, – говорили ему из толпы, – чего ж сам не ешь?
– Да мне нужно только косточку на семена!
С этими словами он ухватил грушу и стал ее жадно есть. Съев ее, взял в руку косточку, снял с плеча мотыгу и стал копать в земле ямку. Вырыв ее глубиной на несколько вершков, положил туда грушевую косточку и снова покрыл ямку землей. Затем обратился к толпе с просьбой дать ему кипятку для поливки.
Кто-то из любопытных достал в первой попавшейся лавке кипятку. Даос взял и принялся поливать взрытое место. Тысячи глаз так и вонзились… И видят – вот выходит тоненький росток. Вот он все больше и больше – и вдруг это уже дерево с густыми ветвями и листвой. Вот оно зацвело. Миг – и оно в плодах, громадных, ароматных, чудесных.
Вот они уже свисают с ветвей целыми пуками.
Даос полез на дерево и стал рвать и бросать сверху плоды в собравшуюся толпу зрителей. Минута – и все было кончено. Даос слез и стал мотыгой рубить дерево. Трах-трах… Рубил очень долго, наконец срубил, взял дерево – как есть с листьями, – взвалил на плечи и, не торопясь, удалился.
Как только даос начал проделывать свой фокус, мужик тоже втиснулся в толпу, вытянул шею, уставил глаза и совершенно забыл о своих делах. Когда даос ушел, тогда только он взглянул на свою телегу. Груши исчезли.
Теперь он понял, что то, что сейчас раздавал монах, были его собственные груши. Посмотрел внимательнее: у телеги не хватает одной оглобли, и притом только что срубленной.
Закипел мужик гневом и досадой, помчался в погоню по следам монаха, свернул за угол, глядь: срубленная оглобля брошена у забора. Догадался, что срубленный монахом ствол груши был не что иное, как эта самая оглобля.
Куда девался даос, никто не знал.
Весь базар хохотал.
Мужчина грубый и глупый. Глупость его хоть рукой бери. Поделом смеялся над ним базар.
Всякий из нас видел этих деревенских богачей. Пусть лучший друг попросит у него риса – сейчас же сердится и высчитывает: этого-де мне хватит на несколько дней.
Иногда случается его уговаривать помочь кому-либо в беде или накормить сироту. Он опять сердится и высчитывает, что этого, мол, хватило бы на десять или пять человек. Доходит до того, что отец, сын, братья между собой все высчитывают и вывешивают до полушки.
Однако на разврат, на азартную игру, на суеверие он не скупится – о нет, – хотя бы на это ушли все деньги. Ну-ка, пусть его голове угрожает нож или пила – бежит откупаться без разговоров.
Даос с гор Лао
В нашем городе жил некий Ван, из ученых, седьмым был по счету средь братьев. Был сыном старинной богатой семьи. Смолоду он пристрастился к даосским идеям. Узнав, что в горах Лаошань[27] есть много блаженных даосских людей, сложил свои книги в котомку, пошел побродить.
Взошел на одну из вершин. Там, видит, стоит храм даосского типа, необычайно поэтичный!
Какой-то даосский монах сидит на рогожке простой. Волосы – белые пряди, свисают на плечи ему, а божественный взгляд, от земли уходя, вдохновеньем и счастьем горит. Поклонился студент до земли и завел с ним беседу.
Он правду вещал вековечных исконных начал, зачаровывавших.
Ван попросил разрешения у старца считать его наставником своим. Даос сказал ему на это:
– Боюсь я вот чего: ты неженка, лентяй, не сможешь ты нести страду работы.
А Ван сказал, что может и сумеет. У старца оказалось очень много учеников, которые к вечеру все собрались в храм, и Ван каждому поклонился до земли. Он остался в храме.
Перед рассветом даос крикнул Вана и велел ему идти. Дал топор и послал рубить дрова вместе с остальными. Ван смиренно и с усердием принял послушание.
Через месяц после этого руки и ноги бедного студента покрылись толстыми мозолями. Работа была ему невтерпеж, и он уже стал подумывать о возвращении домой.
Однажды вечером он приходит в храм и видит, что два каких-то человека сидят с учителем и пьют вино. Солнце село, а свечей еще не было. Учитель вырезал из бумаги круг, величиной с зеркало, и налепил его на стену. Миг – и сияние луны озарило стены, лучи ее осветили все, до тончайших волосков и пылинок.
Ученики стояли вокруг стола, бегали, прислуживая, туда и сюда.
Один из гостей сказал:
– Эту прекрасную ночь, это восхитительное наслаждение нельзя не разделить со всеми.
С этими словами он взял со стола чайник с вином и дал его ученикам, велев им всем пить допьяна.
«Нас семь или восемь человек, – думал про себя Ван. – Как может на всех хватить одного чайника вина?»
Теперь каждый побежал за чаркой, и все торопливо выпили по первой, перехватывая друг у друга и боясь остаться с пустой чаркой, все время наливали и выпивали, – а в чайнике вино нисколько не убывало.
Ван диву дался.
Говорит учителю другой гость:
– Учитель, ты пожаловал нас светом полной луны. И что же? Мы сидим и в молчании пьем. Почему бы нам не позвать сюда фею Чан-э[28]?
Сказав это, взял одну из палочек, которыми ел, и бросил в луну. И вот все видят, как из лучей луны появляется красавица, сначала маленькая, не выше фута, а затем, очутясь на полу, в полный рост человека. Тонкая талия, стройная шейка…
Запорхала в танце фей, одетых в зарницы. Протанцевав, запела:
- О святой, о святой!
- Ты верни меня!
- Ты укрой меня снова в студеный просторный дворец!
Пела чистым, звонким голосом, переливающимся отчетливою трелью, словно флейта.
Пропела, покружилась, вскочила на стул, на стол – и на глазах изумленных зрителей снова стала палочкой.
Все трое хохотали.
Первый гость говорит опять:
– Нынешняя ночь доставила нам отменное удовольствие. Однако с винной силой нам не справиться… Проводи-ка нас в лунный дворец. Хорошо?
И все трое стали двигать стол, мало-помалу въезжая в луну. Все видят теперь, как они сидят в луне и пьют. Виден каждый волосок, каждая бровинка, словно на лице, отражаемом в зеркале.
Прошло несколько минут – и луна стала меркнуть. Пришли ученики со свечой… Оказалось, что даос сидит один, а гости исчезли.
Впрочем, на столе все еще оставались блюда и косточки плодов. Луна же на стене оказалась кругом из бумаги, в форме зеркала.
Только и всего.
Даос спросил учеников, все ли они вдосталь напились.
Отвечали, что совершенно довольны.
– Ну если довольны, то ложитесь пораньше спать. Не сметь у меня пропускать время рубки и носки дров!
Ученики ответили: «Хорошо» – и ушли спать.
Ван от всего этого пришел в полный восторг и всей душой ликовал, перестав думать о возвращении домой. Однако прошел еще месяц, и работа опять стала невыносимой. Между тем даос так и не передавал ему ни одного из своих волшебных приемов. Душа больше ждать не могла; Ван стал отказываться от послушания.
– Я, – говорил он, – твой смиренный ученик, прошел сотни верст, чтобы принять от тебя, святой учитель, святое дело. Допустим, что я не могу постичь волшебных путей, ведущих к долговечности. Но даже какое-нибудь незначительное волшебное наставление и то доставило бы утешение моей душе, которая ведь так ищет восприятия твоих учений. Между тем вот уже прошло два, даже три месяца, а что я здесь делаю? Только и знаю, что утром иду за дровами, а вечером прихожу домой. Позволь тебе сказать, учитель, что я у себя дома такой работы никогда не знал.
– Я ведь твердил тебе, – отвечал даос с улыбкой, – что ты не можешь у нас работать. Видишь – сбылось. Завтра утром придется тебя отпустить. Иди себе домой.
– Учитель, – продолжал Ван, – я здесь трудился много дней. Чтобы мое пребывание не оставалось без награды, дай мне, пожалуйста, овладеть хоть каким-нибудь чудесным приемом.
Даос спросил, о каком именно приеме он просит.
– А вот, например, – отвечал Ван, – я вижу, что, куда бы ты ни пошел, на пути твоем никакая стена не преграда. Вот хоть этим волшебным даром овладеть – с меня было бы достаточно.
Даос с усмешкой согласился.
Он стал учить Вана заклинанию и велел наконец ему произнести эти слова самостоятельно. Когда Ван произнес, даос крикнул: «Входи!» Ван, упершись лицом в стену, не смел войти.
– Ну, пробуй же, входи!
Ван и в самом деле легко и свободно опять начал входить, но, дойдя до самой стены, решительно остановился.
– Нагни голову, разбегись и войди в стену, – приказывал даос. – Нечего топтаться на месте!
Ван отошел от стены на несколько шагов и с разбегу бросился в нее. Когда он добежал до стены, то вместо нее было пустое место, как будто там ничего и не было. Обернулся, смотрит – он и на самом деле уже за стеной.
Пришел в восторг, пошел благодарить старца.
– Смотри, – сказал ему тот, – дома храни эту тайну в полной чистоте. Иначе – не выйдет.
Вслед за этим даос дал ему на дорогу всего, что нужно, и отправил домой.
Ван пришел домой и стал хвастать, что знает святого подвижника и что теперь никакая стена, как ни будь она крепка, ему не препятствие. Жена не поверила. Ван решил показать, как он это делает. Отошел от стены на несколько шагов и с разбегу ринулся.
Голова его ударилась в крепкую стену, и он сразу же повалился на пол. Жена подняла его; смотрит, а на лбу вскочил желвак, величиной с большое яйцо. Засмеялась и стала дразнить.
Ван сконфузился, рассердился.
– Какой бессовестный этот даос, – ругался он.
Тем и кончилось.
Услыхав про такие дела, кто, право же, не захохочет! Меж тем мы слишком часто забываем, что людей, подобных Вану, еще очень немало.
И вот является какой-нибудь дурак, которому приятней жить в отраве и болях, но он боится камня, что лечит нас.
А за таким идут еще другие, что в рот возьмут хоть чирей и язву пососут, расхваливая мощь и славу своего патрона, стараясь угодить его мечтам. Да еще ему врут, что с этими приемами-де можно идти куда захочешь, по всей земле; никто тебя не остановит, да и препятствий никаких…
Действительно, сначала, когда испробует на ком-нибудь такое, кой-где и будет результат, хотя бы и ничтожный сам по себе.
А он сейчас же уж кричит, что в мире нашем Поднебесном, во всей великой широте его земли, везде, везде нам надо действовать вот так!
И до тех пор, пока он не дойдет до случая боднуть, нагнувшись, головой в упор о каменную стену и кувыркнуться прямо на пол, не остановится никак.
Душа чанцинского хэшана
Хэшан из уезда Чанцин отличался высокой религиозною нравственностью и чистотою жизни. Ему было уже за восемьдесят, а он был все еще бодр. В один прекрасный день он вдруг упал и не мог встать. Хэшаны сбежались со всего монастыря ему на помощь, а он уже, как говорят буддисты, погрузился в «круглое безмолвие».
Между тем сам хэшан не знал, что он умер и его душа выпорхнула и полетела к границе соседней губернии Хэнань. А там в это время знатный молодой человек с десятком конных слуг охотился с соколами на зайцев. Вдруг лошадь понесла, он упал и убился насмерть. И вот душа монаха как раз в это время встретилась с бездыханным телом, прильнула к нему и слилась с ним. Тело стало оживать.
Слуги обступили его кругом и участливо спрашивали, как он себя чувствует. Молодой человек открыл глаза и сказал:
– Как это я сюда попал?
Его подняли и принесли домой. Как только он вошел в ворота, его обступили накрашенные, насурьмленные черноглазые наложницы, наперерыв засматривали ему в глаза и расспрашивали.
– Да ведь я монах! – воскликнул он в крайнем изумлении. – Зачем я здесь?
Домашние, видя, что он заговаривается, брали его за ухо и старались внятно говорить, чтоб он понял, где он и кто он. Но хэшан не дал себе труда объяснить, чего хотел, закрыл глаза и не стал больше говорить.
Когда ему давали есть обмолоченную крупу, то он ел, а мясо и вино от себя отталкивал. Ночью он спал один, не принимая услуг ни от жены, ни от наложниц.
Через несколько дней ему вдруг вздумалось походить. Все сильно обрадовались. Вот он вышел, затем отдохнул, и сейчас же к нему явилась целая толпа слуг с денежными счетами и хозяйственными делами, друг перед другом прося его просчитать и проверить. Барич сказал, что он болен и устал, и всех их отпустил. Он только спросил их, не знают ли они дорогу в уезд Чанцин Шаньдунской губернии. Слуги отвечали, что знают.
– Мне скучно, мне здесь не по себе, – сказал им хозяин. – Я хочу туда съездить, посмотреть на те места. Сейчас же соберите меня в дорогу.
Слуги и домашние стали указывать ему на то, что человеку, только что выздоровевшему, не следовало бы пускаться в далекий путь, но он не слушал их и на следующий же день отправился. Доехав до Чанцина, он уже смотрел на эти места как на только что вчера покинутые, никого расспросами не беспокоил, как и куда ехать, а прямо направился к своей обители.
Братия, увидев, что приехал знатный посетитель, встретила его с низкопоклонством и чрезвычайною почтительностью.
– Куда ушел старик-хэшан? – спросил гость.
– Наш учитель, – отвечали ему хором, – давно уже преставился.
Гость спросил, где его могила. Его провели. Смотрит: перед ним одинокая могила в три фута вышиной, еще не вполне покрытая травой. Монахи недоумевали, что все это значит, а он уже велел запрягать и перед отъездом наставительно говорил им:
– Ваш учитель был хэшан сурового воздержания. Вам следовало бы благоговейно чтить и соблюдать даже следы его рук, как заветы отца, не допуская, чтобы они нарушались и пропадали.
Монахи вежливо поддакивали. Гость уехал. Когда он вернулся домой, то уселся как истукан и с какой-то омертвелой, словно холодная зола, душой не стал заниматься никакими домашними делами.
Так прошло несколько месяцев. Раз он вышел из ворот и побежал прямо к старой обители. Там он заявил своим ученикам, что он их учитель. Те, думая, что он все еще находится в заблуждении, переглядывались и пересмеивались. Тогда прибывший стал рассказывать, как вернулась к жизни его душа, что и как он делал всю свою жизнь. Все было совершенно точно, и братия поверила. Посадили его на прежний одр и стали служить ему, как служили раньше.
Затем из барского дома стали часто приезжать и слезно упрашивать его вернуться. Хэшан не обращал на них никакого внимания.
Прошел еще год. Жена его отправила в обитель слуг с разными подарками. Золото и шелк он возвратил, оставив себе лишь холщовый халат.
Один из его друзей, побывав в тех местах, посетил его и выказал ему знаки уважения. Перед ним сидел человек, сурово молчащий, весь проникнутый истиной и большою волей. Возраста он был, как говорит Конфуций, того, когда люди только что «устанавливаются»[29], а рассказывал о делах, случившихся более чем восемьдесят лет тому назад.
Человек умирает – душа исчезает. Если же она не исчезает, промчавшись тысячи верст, это значит, что нравственная ее природа совершенно утвердилась.
В этом хэшане я удивляюсь не тому, что он дважды родился, а тому, что он, очутившись в месте, где царили красота и роскошь, сумел отрешиться от людей и убежать.
А то ведь если все это сверкнет в глаза и мускусные женские духи попадут человеку в сердце, то бывает, что он смерти ищет от них и не находит. Тем более странно видеть такую вещь в монахе!
Превращения святого Чэна
Студент Чжоу из уезда Вэньдэн был с самого детства товарищем студента Чэна, как говорится, «по кисти и туши»[30]. Оба решили быть друзьями «ступы и песта»[31]. Чэн был беден и чуть не целый год пользовался поддержкой Чжоу. Он был моложе Чжоу по годам и называл его жену своей старшей золовкой. При домашних церемониях, например при выходах в горницу по праздникам, они оба держали себя как члены одной семьи.
Жена Чжоу родила сына и после родов внезапно скончалась. Чжоу взял вторую жену из семьи Ван.
Чэн, как младший, никогда не просил своего старшего друга-брата представить его новой жене.
Однажды Ван, ее брат, пришел навестить сестру, и они все сидели в ее комнате и выпивали. Как раз в это время зашел Чэн. Прислуга прямо прошла туда доложить. Чжоу велел пригласить его, но Чэн не вошел, отказался от приглашения и пошел обратно. Чжоу велел перенести стол в гостиную, погнался за ним и вернул.
Только что они уселись, как пришли доложить, что слуга Чжоу, живший на его даче, был сурово наказан палками по приказу местного уездного начальника. Дело было в том, что незадолго перед этим работник в доме Хуана, служившего в Министерстве чинов, прогнал коров по полям Чжоу, за что и был слугою Чжоу изруган. Тогда работник побежал к хозяевам и пожаловался. Слугу Чжоу схватили и потащили к уездному начальнику, а тот велел дать ему палок.
Расспросив об этом происшествии подробно, Чжоу сильно рассердился.
– Как? – кричал он. – Этот свинопас Хуан и вдруг посмел… Да ведь его предки были слугами у моего покойного деда. Теперь он вдруг добился чиновного положения, и что ж? – значит, для него никто и не существует!
Гнев сдавил ему горло и грудь. Он вскочил и бросился к Хуану. Чэн схватил его за руку и стал удерживать.
– В этом мире насилия никогда не было черного и белого. Стоит ли тем более считаться с нынешними чиновниками, из которых половина – грубые разбойники… Кто из них, скажи, не грозит нам оружием?
Чжоу ничего не хотел слышать. Чэн старался всячески его унять, наконец сам расплакался, и тогда только Чжоу остановился, но гнев его отнюдь не прошел, и он всю ночь до утра проворочался в постели. Утром он заявил семье:
– Хуан меня оскорбил. Он мне враг. Пусть! Оставим его… Но начальник-то нам дан правителем от царя, а не от разных влиятельных господ. Если двое заспорили, то ведь надо же выслушать обе стороны! Можно ли дойти до того, чтобы, как пес, бросаться на человека, на которого тебя натравливают? Вот и я возьму да напишу прошение, чтобы он наказал Хуанова работника; посмотрим, как он тогда поступит!
Все в семье принялись его подзадоривать, и он наконец решился. Написал бумагу, отнес ее к начальнику, но тот разорвал ее и выбросил. Чжоу вспылил и оскорбил начальника словами. Тот возмутился, велел схватить Чжоу и связать.
Днем Чэн зашел повидать Чжоу и узнал от домашних, что тот поехал в город подать жалобу. Чэн бросился за ним бегом, чтобы отговорить его, но нашел Чжоу уже в тюрьме.
Потоптался, потоптался Чэн, но ничего придумать не мог.
Как раз в это время поймали троих пиратов. Начальник и Хуан подкупили их, приказав им показать на Чжоу как на сообщника. На основании их словесных заявлений пришел приказ снять с Чжоу костюм ученого и жестоко наказать палками. Чэн пришел в тюрьму, посмотрел на Чжоу с острой жалостью и посоветовал ему обратиться к государю.
– Тело мое привязано здесь целым рядом тюремных псов, – сказал Чжоу. – Я как птица в клетке. Хоть и есть у меня младший брат, но ведь у него хватит сил лишь на то, чтобы доставлять мне в тюрьму пищу.
– Я берусь за это, – смело сказал Чэн. – Это мой долг. Не помочь человеку в беде – зачем тогда иметь друга?
Сказал и ушел. Брат Чжоу хотел дать ему на дорогу денег, но Чэн, оказывается, давно уже отправился.
Добравшись до столицы, он увидел, что проникнуть с жалобой во дворец у него путей нет. Но как раз в это время прошли слухи о том, что на днях выезжает на охоту царский поезд. Чэн постарался заранее спрятаться на дровяном дворе.
Вот проходит мимо него царский поезд. Чэн выскакивает, падает ниц, корчится, стонет и громко кричит… Его выслушивают, и он получает нужное разрешение.
Императорский приказ сейчас же спешной почтой был отправлен в столицу и послан в надлежащее учреждение, которому предписывалось вникнуть в дело, разобрать и сделать донесение.
К этому времени прошло уже десять с лишком месяцев, и Чжоу был, несмотря на свою невинность, приговорен к казни. Когда палата получила императорский указ, чиновники сильно перепугались, и велено было произвести личные дознания. Хуан тоже перепугался и решил убить Чжоу. С этой целью он подкупил тюремного надзирателя, чтобы тот лишил Чжоу пищи.
Теперь, когда брат Чжоу приходил с едой, надзиратель резко запрещал ему свидание. Чэн опять побежал в палату и громко кричал о несправедливости. Наконец ему удалось добиться, чтобы было произведено дознание, но Чжоу уже умирал от голода и не мог вставать. Правитель палаты рассердился и велел забить надзирателя тюрьмы палками насмерть.
Хуан опять сильно испугался, сейчас же дал кому следует несколько тысяч ланов, чтобы только как-нибудь все устроить и выпутаться. Действительно, ему удалось этим путем кое-как замазать дело и устраниться от суда. Но уездный начальник за преступление и нарушение закона был присужден к изгнанию, а Чжоу отпущен домой.
Теперь он еще больше привязался к Чэну, а тот после всех этих судов и тюрьмы окончательно умер для мира и его дел. Он стал настойчиво звать Чжоу уйти с ним вместе от мира. Но Чжоу, весь утонув в любви к своей молодой жене, только смеялся над его чудачеством и не соглашался. Чэн не возражал, но в мыслях своих уже принял твердое решение.
И вот прошло несколько дней с тех пор, как они расстались после этого разговора, а Чэн не появлялся. Чжоу послал к нему на дом узнать, что с ним, но домашние Чэна решили, что он сидит у Чжоу, и, таким образом, ни там, ни здесь никто ничего о нем не знал.
Чжоу начал подозревать, что Чэн исполнил то, о чем говорил, и, зная о его странностях, послал своих людей разыскивать следы его местопребывания. И вот обшарили буквально все монастыри, как буддийские, так и даосские, все горы и долы в окружных местах, но Чэна не нашли.
Чжоу от времени до времени из жалости и любви к сыну Чэна давал ему золото и шелка…
Так прошло лет восемь-девять.
Вдруг как-то неожиданно Чэн сам появился в желтой шапке и шубе из перьев[32], с возвышенно устремленным выражением лица – настоящий даос! Чжоу ему сильно обрадовался, схватил за руки и сказал:
– Дорогой мой, куда ты исчез? Ты заставил меня обыскать чуть не весь мир!
– Одинокое облако и дикий журавль, – говорил ему на это Чэн, – останавливаются и гнездятся где придется. Нет у них определенного места. С тех пор как расстались с тобой, я, к счастью, все время был цел и здоров.
Чжоу велел подать вина, стал рассказывать, как и что тут было. Он хотел, чтобы Чэн хоть ради него оставил свой даосский наряд и сменил его на прежнее платье. Чэн улыбался и молчал.
– Глупый ты, – продолжал Чжоу. – Как можно так бросить жену и детей, словно они не люди, а рваные туфли?
– Неправда, – смеялся Чэн. – Это люди хотят меня бросить, а не я людей.
Чжоу спросил друга, где же он поселился, и услышал в ответ, что он пребывает в Верхнем Чистом храме, среди гор Лао.
Затем они улеглись спать, поставив свои кровати рядом. Чжоу приснилось, будто Чэн совершенно голый лежит на его груди и давит так, что Чжоу не может дышать. В крайнем изумлении Чжоу спрашивает, что он делает, но тот не отвечает, молчит… И вдруг Чжоу в сильном испуге проснулся и окликнул Чэна. Чэн не отозвался. Чжоу сел на лавку и начал искать, но место было пустое, и куда Чэн исчез, было неизвестно.
Слегка оправившись от испуга, через некоторое время Чжоу вдруг заметил, что лежит на кровати Чэна.
– Как странно, – дивился он. – Вчера я пьян не был. Как это вдруг получилась такая путаница?
Позвал домашних. Вошли, зажгли огонь. Смотрят – он совершеннейший Чэн!
У Чжоу всегда на лице было много волос. Пощупал рукой – жидко-жидко, всего несколько волосков. Схватил зеркало, посмотрелся и в испуге вскричал:
– Чэн вот здесь, а куда же девался я?
И понял Чжоу, понял на этот раз глубоко и ясно, что Чэн волшебным способом зовет его уйти от мира.
Затем ему захотелось пройти к жене, но его брат, видя его необыкновенную наружность, воспротивился и не пустил его. Чжоу не мог, конечно, ничем доказать, что это он сам.
Тогда он велел слуге оседлать лошадей и поехал искать Чэна. Через несколько дней он уже был в горах Лао. Лошадь Чжоу шла быстро, слуга не мог за ним поспевать. Тогда он остановился под каким-то деревом и стал отдыхать. Видит, мимо ходят монахи, «пернатые гости»[33], один из них пристально посмотрел на Чжоу. Тот воспользовался этим, чтобы спросить о Чэне. Даос улыбнулся и сказал:
– Я слышал о нем, знаю его по имени. Кажется, он живет в Верхнем Чистом храме.
Сказал и пошел дальше. Чжоу проводил его глазами и увидел, что на расстоянии полета стрелы даос опять заговорил с каким-то человеком и, также сказав несколько слов, ушел.
Теперь этот человек подходил к Чжоу, и он узнал в нем студента, своего земляка и товарища. Увидев Чжоу, тот сильно изумился:
– Сколько лет мы не видались! – восклицал он. – Как же это так? Люди говорят, что вы погрузились в изучение дао на святых горах, а оказывается, вы весело разгуливаете среди нас, смертных!
Чжоу рассказал свою чудесную историю. Студент в совершенном изумлении сказал:
– Да ведь тот, с которым я только что встретился… это кто же? Ведь я думал, что это были вы! Впрочем, он ушел недавно и, вероятно, не должен быть отсюда далеко.
– Как странно, – бормотал совершенно сбитый с толку Чжоу. – Своего собственного лица не узнать!
Подъехал наконец слуга, и они помчались, но никаких следов и признаков ушедшего не обнаружили. Куда ни глянь – всюду было просторно и пустынно, и трудно было решить, идти ли вперед или обратно. Чжоу, помня, что у него теперь нет дома и что деваться ему все равно некуда, твердо решил искать до конца.
Однако его крайне смущали крутизны окружающих гор, по которым уже невозможно было пробираться верхом. Тогда он отдал свою лошадь слуге и отпустил его домой, а сам пошел куда глаза глядят, то прямо, то сворачивая в сторону.
Где-то он заприметил мальчика, сидящего в одиночестве, и устремился к нему, чтобы спросить дорогу. Рассказал ему, куда идет и зачем. Мальчик сказал ему, что он ученик Чэна, взял у него его одежды, припасы и понес. Чжоу пошел за ним.
Идти пришлось очень далеко. Под звездами ели, в росе спали. Только через три дня пришли, но этот Верхний Чистый храм оказался не тем, который был всем известен под этим именем.
Стояла уже десятая луна, даже в середине, но горные цветы покрывали все дороги, так что было совершенно непохоже на начало зимы.
Мальчик пошел доложить о госте, и Чэн сейчас же вышел к нему. Тут только Чжоу узнал свою собственную наружность. Чэн взял его за руки, ввел к себе, поставил вина, и они стали за вином беседовать.
Чжоу увидел птиц с перьями причудливых, невиданных цветов, которые слушались человека и не боялись его. Их голоса напоминали флейту. По временам они садились на кресла и пели. Чжоу сильно дивился, видя их. Однако мирские заботы и чувства крепко владели его помыслами, и ему не хотелось здесь оставаться.
Чэн посадил его с собой на рогожный коврик, лежавший рядом с другими такими же на полу, и вот после второй стражи[34] все тысячи человеческих забот в Чжоу окончательно замолкли, и он вдруг, как ему показалось, на мгновение смежил очи и вздремнул, причем сейчас же почувствовал, что он поменялся с Чэном местами. Усомнившись в себе, он хватился за подбородок, а длинные-длинные пряди бороды были опять на прежнем месте.
С рассветом он опять размечтался о доме и захотел отсюда уйти. Чэн всячески старался его удержать, но через три дня сказал ему:
– Прошу тебя, сосни немного. Утром я тебя отправлю в путь.
Только что Чжоу закрыл глаза, как слышит, что Чэн кричит ему:
– Вещи собраны!
Чжоу встал и пошел за ним. Пошли они совершенно иной дорогой, не той, что прежде, и, как показалось Чжоу, через очень короткое время родное село было уже перед ним. Чэн сел у дороги и ждал, пока Чжоу уйдет домой. Он хотел, чтобы друг его шел один, но Чжоу тащил его силой идти вместе. Однако это ему не удалось, и Чжоу доплелся домой одиноко.
Дойдя до ворот своего дома, он постучал, но не мог достучаться. Тогда ему вздумалось перелезть через забор, и вдруг он почувствовал, как тело его стало легким-легким, словно лист на ветре. Он легко подпрыгнул и оказался по ту сторону забора. Со двора на двор он точно так же перепорхнул через несколько стен и наконец добрался до спальни. Свечи горели, жена еще не спала, а с кем-то тихонько разговаривала.
Чжоу лизнул оконную бумагу, промочил ее и, сделав отверстие, заглянул в комнату. Он увидел тогда, что его жена пьет вино из одной чарки со слугой, и вид у обоих самый непристойный.
Чжоу закипел гневом, словно его зажгли, и уже хотел накрыть их, но подумал с опаской, что одному ему трудно будет справиться. Тогда он тихонько открыл ворота, вышел из дома, побежал к Чэну, рассказал ему все, что видел, и просил прийти на помощь. Чэн с полной готовностью пошел за ним. Они прошли прямо к спальне.
Чжоу поднял камень и бросил им в дверь. Внутри страшно засуетились. Чжоу ударил еще крепче. Дверь закрыли еще плотнее. Тогда Чэн ткнул ее мечом, и она разом открылась. Чжоу вбежал в спальню. Слуга бросился в открытую дверь и побежал, но Чэн, стоя за дверью, ударил его мечом и отсек ему плечо с рукой. Чжоу схватил жену и стал требовать ответа. Выяснилось, что как раз в то время, когда муж был забран, она вступила в связь со слугой.
Чжоу взял у Чэна меч и отрубил ей голову, а кишки намотал на дерево, росшее во дворе. Затем вместе с Чэном вышел. Они разыскали дорогу и вернулись в храм…
И вдруг Чжоу проснулся, словно его встряхнули. Оказалось, что он лежит на кровати.
– Какой странный я видел сон, – сказал он в испуге Чэну, – какой причудливый и страшный! Он так напугал меня, что я весь дрожу.
– Ты свой сон считал действительностью, – отвечал с улыбкой Чэн, – ну а настоящую-то действительность придется все-таки считать твоим сном.
Чжоу выразил недоумение и спросил, как это понять. Тогда Чэн вынул меч и показал ему: струи крови так и остались на клинке. Чжоу трясся от страха чуть не до обморока и думал про себя, что Чэн морочит его своими чарами. Тогда тот, зная уже его мысли, стал торопить его собираться в путь и проводил до дому.
Вяло добрели они до ворот села.
– Помнишь, – спросил Чэн, – ту недавнюю ночь, когда я с мечом в руке ждал тебя здесь? Не на этом ли месте это было? Мне противно глядеть на подлость и грязь. Позволь я опять останусь тебя здесь ждать. Если ты после полудня не придешь, я уйду один.
Чжоу пришел домой. Дом оказался запертым и заброшенным, как будто здесь никто не жил. Чжоу зашел в дом к брату. Тот при виде Чжоу заплакал.
– Когда ты ушел, братец, – говорил он, роняя на землю слезы, – вор ночью убил твою жену, вырезал кишки и убежал… Мне так горько и обидно… А до сих пор власти так и не нашли злодея!
Чжоу, очнувшись словно от сна, рассказал брату все, как было, и предупредил его, чтобы злодея дальше не разыскивали. Брат долго стоял в полном изумлении.
Чжоу спросил теперь о своем сыне. Брат велел няньке принести его.
– Это существо, лежащее здесь в пеленках, – говорил Чжоу, – важно для продолжения рода наших предков. Ты хорошенько присматривай за ним, а я хочу распроститься с миром и людьми.
Поднялся и пошел в путь. Брат бросился за ним, со слезами умоляя остаться, но Чжоу шел смеясь и не обращая внимания. Вышел за околицу в поле, нашел Чэна и пошел вместе с ним. Затем уже издали повернул голову и крикнул брату:
– Терпение – вот высшая радость!
Брат хотел что-то сказать, но Чэн, расправив свой широкий рукав, поднял Чжоу, и оба стали незримыми.
Брат Чжоу печально постоял и затем весь в слезах вернулся домой.
Он оказался слишком простым, нерасторопным, непригодным к устройству дома и порядка в нем. Не умел и наживать добро, так что через несколько лет семья обнищала.
Сын Чжоу тем временем подрастал. Однако нанять ему учителя дядя уже не был в состоянии и учил его сам. Однажды рано утром, войдя в кабинет, он нашел на столе пакет с письмом, запечатанным весьма плотно.
На конверте была надпись: «Вскрыть Чжоу Второму». Посмотрел внимательно: почерк брата. Вскрыл – в пакете не оказалось ничего, кроме одного ногтя длиной в два с лишком пальца. Подивился, недоумевая, что это значит, и положил ноготь на камень для растирания туши, а сам вышел спросить у домашних, откуда взялся этот пакет. Никто не знал.
Вернулся в кабинет, посмотрел на ноготь, – а камень, на котором он лежал, так и сиял: он превратился в желтое золото. Пробовали его на меди и на железе – верно, золото!
Чжоу разбогател. Сейчас же дал тысячу ланов сыновьям Чэна.
Теперь все говорят, что обе эти семьи владеют тайной делать золото.
Даос Цзюй Яо-жу
Цзюй Яо-жу жил в Цинчжоу. Жена у него умерла, он бросил дом и ушел. Через несколько лет после этого он появился в даосской одежде, неся на себе молитвенную циновку.
Проведя одну ночь, собрался уходить. Родня и родственники силком оставили дома его одежду и посох. Цзюй сказал, что пойдет побродить, и дошел до конца деревни. Вышел он в поле, и вот все его одежды и вещи плавно-плавно вылетели из дома, устремившись за ним вслед.
Остров Блаженных Людей
Ван Мянь, по прозванию Минь-чжай, из Линшаня, был очень талантлив, и неоднократно на литературных экзаменах его имя было выше всех. Мнения о себе он был очень высокого, любил издеваться над другими, и многим приходилось терпеть от его нападок и оскорблений.
Как-то раз попался ему навстречу некий даос, который посмотрел на него и сказал:
– Твое лицо являет признаки высших будущих почестей. Однако от скверного легкомыслия и недоумия тебе придется сократиться и потерять их, так что всему этому наступит едва ли не конец. Если же с твоим умом и талантом ты отвернешься от земли и обратишься к совершенствованию в себе дао, то тебе еще, пожалуй, будет возможно попасть в книгу бессмертных.
– Знаешь что, – ответил, смеясь над даосом, Ван, – счастье и блага земные, сказать по правде, знать не дано. А разве в нашем мире существуют бессмертные, блаженные люди?
– Ай как мало ты видел! – возражал даос. – Нечего и искать их где-нибудь в других местах… Вот я, например, как раз такой вечно блаженный человек.
Ван начал еще пуще прежнего хохотать над нелепостью даоса.
– На меня, – продолжал даос, – дивиться не стоит. А вот если ты можешь пойти за мной, то сейчас же увидишь настоящих бессмертных, и не один десяток!
– Где же это? – спросил Ван.
– Да вот, не далее фута от тебя.
С этими словами даос взял свой посох, сжал его между ногами, а другой конец подал студенту, веля ему сделать такой же жест. Затем он приказал ему закрыть глаза и крикнул:
– Вздымайся!
Ван почувствовал, как посох стал толще, чем мешок в пять мер, и они вместе взвились в пустоты. Ван стал потихоньку нащупывать: чешуйчатая броня так и торчала зуб за зубом. В страхе, в ужасе он уже более не решался пошевелиться.
Через некоторое время даос опять крикнул:
– Стой!
И тут же выдернул посох. Они опустились среди очень большого поселения, в котором высокие дома шли целыми рядами, дворцы так и тянулись. Похоже было на царское местопребывание.
Возвышалась терраса, более нежели на сажень от земли. На ней покоились чертоги в одиннадцать колоннад, обширные, прекрасные, ни с чем не сравнимые. Даос с Ваном поднялись. Затем даос велел отрокам накрыть столы. И вот в зале наставили несколько десятков столов, накрыв их так, что слепило глаза. Даос переоделся в великолепное платье и стал ждать гостей.
Вскоре из пустот начали прибывать гости, кто верхом на драконе, кто на тигре, кто на фениксе хуане, кто на фениксе фэне и так далее – все по-разному. Каждый нес с собой по музыкальному инструменту. Среди них были женщины, были и мужчины. У тех и других ноги были босы.
Выделялась одна какая-то красавица, сидевшая на ярко-красочном фениксе, одетая и причесанная как придворная дама. При ней был отрок-слуга, державший в руках музыкальный инструмент. Это было нечто размером в пять с чем-то футов; не то цитра цинь, не то гусли сэ[35] – неизвестно, как назвать.
Вино обошло гостей, и сейчас же стали появляться самые роскошные кушанья, которые, попадая в рот, имели восхитительный вкус, совершенно необыкновенный для ежедневных блюд.
Ван сосредоточенно молчал и сидел неподвижно, уставив глаза на красавицу. Сердце его уже любило женщину, но ему все же хотелось послушать ее музыку. Он втайне боялся, что ей не придется ни разу во весь вечер поиграть.
Кончили пить вино. Какой-то старец первый взял слово и сказал:
– Мы удостоились от вас, Истиной Объятый Цуй, лестного приглашения… Сегодня, могу сказать, наше собрание великолепно, и, само собой разумеется, наслаждение нужно исчерпать полностью. Прошу поэтому всех, у кого инструменты одинаковы, собраться по группам и исполнить свои мелодии.
Тогда каждый из гостей присоединился к той или иной группе, и вот полились звуки струнных и других инструментов, проносясь по тучам и звездной Хани[36]. Оставалась одна лишь всадница на фениксе, у которой не было партнера по искусству, и только когда все звуки смолкли, отрок открыл расписной шелковый футляр и положил инструмент поперек стола. Женщина вытянула свою яшмовую ручку, придав ей положение, напоминающее игру на настольных гуслях чжэн. Прозрачностью звука эта вещь во много раз превосходила цитру цинь. Яркий, сильный тембр так и раскрывал человеку грудь. Мягкий, нежный тон мог взволновать все существо.
Она поиграла не меньше чем на половину времени, нужного для кипения воды, но вся зала так и замерла: никто даже не кашлянул… Теперь она, кончая, взяла аккорд, и казалось, что она словно ударила по чистозвучному камню цину[37].
Все бросились хвалить игравшую, восклицая:
– Дама с горы Юньхэ[38], ваша музыка вне сравнений!
Затем гости поднялись всей толпой и стали прощаться… Закричали их журавли[39], завыли драконы – и сразу все разлетелись в разные стороны.
Даос велел поставить дорогую кровать и накрыть ее парчовой постелью, приготовив Вану для почивания.
Когда Ван впервые увидел красавицу, у него уже взволновалась вся душа. Теперь же, когда он услышал ее музыку, его мысли и чувства заработали с особенной силой. Ему представилось, что с таким талантом, как у него, заполучить, как говорится, «синие и пурпурные шнуры к печати»[40] будет не труднее, чем подобрать травинку, а коль скоро он станет богат и знатен, то можно ли представить себе что-нибудь такое, что бы он захотел достать и не получил бы?
И в один миг сотни мыслей и картин пронеслись хаотическими рядами, словно по ветру летучая полынь.
Даос, по-видимому, уже знал это.
– Слушай, – сказал он Вану, – ты в своем предыдущем рождении был моим товарищем по даосскому учению, но потом, за неверность мыслей и настроений, был свергнут в мир праха и всяческих тенет. Я вовсе не чураюсь тебя и искренне хотел бы вытащить тебя из злостной гущи мира… Я не ожидал, однако, чтобы твое заблуждение, твоя помраченность оказались такими глубокими, такими мутными – как тяжелый сон, от которого невозможно человека пробудить. Придется сейчас же проводить тебя в путь… Нельзя, конечно, утверждать, что не настанет время, когда мы увидимся еще раз; однако для того, чтобы тебе стать блаженным в небесах, придется ждать еще целую вечность!
С этими словами он указал Вану на длинную плиту, лежавшую у крыльца, и велел сесть на нее, зажмуря глаза… Затем настойчиво подтвердил, чтобы он не смел смотреть.
Ван сел, даос взял плеть и стегнул камень, который взвился вверх. Шум ветра потоком хлынул в уши Вана.
Сколько он летел, он уже не знал. Вдруг ему пришло в голову, что он так и не рассмотрел, какова область нижнего мира, и вот он тихонько, еле-еле, на одну ниточку приоткрыл оба глаза. Он увидел огромное море, мутное и безбрежное. В крайнем ужасе он сейчас же снова закрыл глаза, но уже вместе с камнем падал в море… Шшлепп! И с этим звуком он нырнул в воду, словно чайка.
К счастью, Ван, с малолетства живя у моря, кое-как умел нырять и плавать… И вот он слышит, как кто-то, хлопнув в ладоши, кричит:
– Красиво, ай как красиво упал!
В самый опасный миг какая-то дева спасла его, втащив в лодку.
– Счастье, счастье его! – приговаривала она. – Кандидат наш насквозь мокрый!
Посмотрел на нее Ван – лет ей семнадцать-восемнадцать, лицо сверкает красотой и привлекательностью… Выйдя из воды, Ван трясся в ознобе и попросил дать ему огня посушить платье.
– Идемте ко мне, – сказала дева, – я вас устрою, помещу… Если вам там понравится, не забудьте обо мне.
– Что это за речи? – возразил Ван. – Я признанный талант Срединных Равнин[41], и если случайно попал в такое смешное положение, то, как только это пройдет, я думаю отблагодарить вас хоть жизнью… Можно ли говорить о том только, чтобы не забыть вас?
Дева гнала лодку веслом с быстротой ветра, который гонит дождь. Глядь – они уже пристали к берегу. Дева захватила с кормы пучок лотосов, ею набранных, и повела за собой Вана. Через полверсты они вошли в деревню. Ван увидел красные ворота[42], раскрытые на юг, вошел и прошел за девой через несколько дверей. Дева побежала вперед, и вскоре из покоев вышел какой-то человек, лет за сорок, который сделал Вану приветствие и поднялся с ним на крыльцо. Тут он велел слуге принести шапку, халат, чулки и туфли и дать Вану переодеться.
Только что он стал спрашивать Вана, чей он и откуда, как тот сейчас же ответил:
– Я не обманываю вас: о моих талантах и моем имени можно слышать везде. Объятый Истиной Цуй, любя меня и относясь ко мне как к близкому, вызвал меня в небесные чертоги. Однако, определив сам, что для меня получить высокий пост и славу, как говорит Конфуций, не труднее, чем повернуть ладонь, я не пожелал устроиться в этом гнезде уединения.
Человек встал с места и сказал с полным почтением:
– Это место называется островом Блаженных Людей. Остров наш лежит вдали от человеческого мира. Я Вэнь-жо, ношу фамилию Хуань… Живу здесь все время в скромном захолустье; как счастлив я, что мне удалось повидать знаменитость!
С этими словами он принялся усердно ухаживать за Ваном и велел подать вина.
– У вашего покорного слуги, – сказал он между прочим и нисколько не подчеркивая, – есть две дочери. Старшую зовут Фан-юнь, Цветущее Облако. Ей шестнадцать лет, однако до сих пор ей не встречалось подходящей пары. Мне хотелось бы отдать ее человеку, как вы, высоких достоинств, и пусть она имеет счастье вам служить. Что вы на это скажете?
Ван решил, что это, конечно, та самая, которая рвала лотосы, вышел из-за стола и изъявил ему свою благодарность.
Хуань велел вызвать из села двух-трех лиц постарше и подостойнее, а затем, обернувшись, позвал дочь. Не прошло и нескольких минут, как ворвались густой струей необыкновенные духи, и более десятка красавиц вошли, ведя под руки Фан-юнь. Ее сияющая красота, ее светящее очарование напоминали лотос, освещенный утренним солнцем.
Она поклонилась гостю и села. Толпа красавиц разместилась, служа ей, тут же сбоку. Оказывается, та, что срывала лотосы, была также среди них. Когда вино обошло уже несколько раз, из покоев вышла девушка с нависшей челкой, которой было не более десяти-одиннадцати лет, но красота и изящество манер уже соединились со стройным сложением и привлекательностью. Она с улыбкой подошла и прильнула к локотку Фан-юнь, а осенние волны ее глаз так и двинулись потоками…
– Почему ты, девочка, не в своей комнате, – спросил Хуань, – за каким это делом ты сюда вышла? Это, – добавил он, обратясь теперь к гостю, – Луюнь, Зеленое Облако, моя младшая дочь. Она очень сметливая и способная, может помнить наизусть всех древних классиков.
И велел ей продекламировать гостю стихи. Девочка стала напевно читать третью часть песен «Бамбуковых ветвей»[43]. Читала мило, грациозно – стоило слушать! Когда она кончила, отец велел ей сесть в углу возле своей сестры.
Вслед за этим Хуань обратился к гостю.
– Господин Ван, – сказал он, – вы человек с талантом от Неба. У вас, наверное, обильный запас готовых произведений. Не дадите ли вы вашему покорному слуге возможность услышать и, так сказать, поучиться?
Ван с полной охотой продекламировал одно свое стихотворение в современном стиле и смотрел на всех, сознавая себя могучим. В этом стихотворении были, между прочим, следующие две строки:
- Во всем теле остались всего лишь усы и брови жить…
- Немного выпив, могу заставить глыбу камней растопиться[44].
Старец, сосед Вана, повторил эти строки нараспев и раз, и два, и три. Фан-юнь тихо заявила:
– Первая строка – это путник Сунь, уходящий от пещеры Огненных Туч. Вторая же – это Чжу Ба-цзе[45], переходящий реку Сына и Матери.
Вся зала захлопала в ладоши и громко хохотала. Хуань попросил Вана прочесть еще что-нибудь. Ван тогда стал читать и объяснять свои стихи «Речные птицы». Там встречалась такая фраза:
- В затонах кричат ге-ге…
…И вдруг забыл следующую строку. Только он стал сосредоточиваться, стараясь вчитаться, как Фан-юнь, склонившись к сестре, зашептала ей что-то на ухо тихо-тихо, а затем закрыла рот рукой и стала смеяться. Лу-юнь обратилась к отцу.
– Она продолжает стихи моего зятя, – сказала маленькая, – и дает вторую фразу так:
- Собачий зад гремит пхын-бба…
Весь стол так и засверкал зубами, а Ван горел от стыда. Хуань поглядел на Фан-юнь гневным взором, и лицо Вана стало понемногу принимать нормальный цвет.
Хуань стал снова просить Вана насчет его изящной прозы. Ван решил, что люди, живущие вне мира, наверное, не знают о восьмичленных изложениях[46].
И вот он хвастнул своим сочинением, которое, как говорится, сделало его «венцом войска» экзаменующихся. Темой были следующие фразы[47]: «Как сыновне-почтителен – (этот) Минь Цзы-цянь!»
«Разламывание» темы у Вана гласило так: «Совершенный человек»[48] «похвалил сыновнее благочестие великого доблестного человека…»
Лу-юнь сказала тут, обращаясь к отцу:
– Совершенный человек ни разу не величает своих учеников по их прозванию[49]. Фраза «Как сыновне-почтителен!» – это как раз чужие слова.
Слыша это, Ван почувствовал, как настроение и вдохновение разом пропали, он стал тускло-унылым. Хуань улыбнулся.
– Девочка, что ты понимаешь? – сказал он дочери. – Не в этом дело… Суди исключительно о литературных качествах!
Ван опять принялся за декламацию. Но как только он произносил несколько фраз, каждый раз сестры непременно шептали что-то друг дружке – по-видимому, слова критики и осуждения. Впрочем, их шепот был неясен, ничего нельзя было разобрать.
Декламируя, Ван дошел до самого красивого места и заодно передал слово судьи-экзаменатора, как его именуют – «патриарха литературы»[50]. Там, между прочим, была следующая фраза: «Что ни знак, то больно подходящ!»
Лу-юнь при этом заявила отцу:
– Сестра говорит, что надо бы вычеркнуть слово «подходящ».
Публика не понимала. Однако Хуань, боясь, как бы эти слова не были издевательством, не решился расспрашивать далее.
Ван кончил декламировать и опять сообщил общий отзыв о сочинении, где, между прочим, стояло следующее:
– Барабан из гэ[51]раз ударит – тысячи цветов одновременно упадут.
Фан-юнь опять, прикрыв рот, говорила с сестрой, и обе они так смеялись, что не могли поднять головы.
Лу-юнь опять сказала вслух:
– Сестра говорит, что барабан из гэ должен бы, собственно, ударить четыре раза!
Публика опять не поняла. Лу-юнь открыла рот, желая сказать, но Фан-юнь, сдержав смех, крикнула на нее:
– Смей только сказать, девчонка! Забью насмерть!
Публика пришла в большое смущение, и все стали друг перед другом догадываться и судить… Лу-юнь не могла вытерпеть.
– Вычеркнуть слово «подходящ» – это значит тогда: «Что ни знак, то больной, и, следовательно, не идет»[52]. В барабан ударить четырежды – это значит: «Не идет, и опять не идет!»[53]
Публика хохотала.
Хуань сердито выбранил дочь. Затем он встал со своего места и налил Вану чарку, извиняясь перед ним бесконечно…
Раньше Ван, хвастаясь и кичась своим талантом и своею славой, совершенно искренне не признавал тысячелетий… Теперь же, когда дошло до этого, дух его как-то осекся, упал… Он сидел и только потел, потел неистово.
Хуань, желая польстить Вану и утешить его, сказал:
– У меня, кстати, есть одно словечко… Прошу всех за столом дать ответное построение:
«У почтеннейшего Вана на теле повсюду нет ни одной крапинки, которая не напоминала бы яшму-драгоценность»[54].
Еще не успела публика справиться с антитезой, как Лу-юнь в тон отцу уже говорила:
«У досточтимого Миня на голове – еще проведи он полвечера – сейчас же образуется черепаха».[55]
Фан-юнь усмехнулась[56], но сердито крикнула и рукой раза четыре повернула у девочки в ребрах.
Лу-юнь выскользнула от нее.
– Разве я вмешиваюсь в твои дела? – сказала она. – Ты же ругаешь его все время и не считаешь это проступком… А если фраза от кого другого, так уж и не позволяется?
Хуань крикнул ей, чтоб убралась, и она наконец со смехом ушла.
Соседи-старцы стали прощаться. Служанки проводили мужа и жену во внутренние покои, где лампы, свечи, ширмы, постели и вся мебель окружала их в самом полном и изысканном отборе. Ван поглядел еще – и в самой спальне, в альковах, увидел целые этажерки книг в костяных застежках[57], нет такой, которой бы здесь не было. Стоило осведомиться о чем-либо трудном, как бы незначительно то ни было, книги, как эхо, отвечали бесконечностью[58]. Вот тут только Ван уразумел наконец безмерную безбрежность[59] и познал стыд.
Дева позвала Мин-дан, и сейчас же, в ответ на зов, прибежала та, которая рвала лотосы, после чего Ван только и узнал ее имя.
Вану неоднократно приходилось сносить от жены насмешки и оскорбления, и он уже стал бояться, что на женской половине он лишается уважения. К счастью, хотя Фан-юнь на словах была резка, но в самой спальне, за занавесями, все-таки любилась и миловалась.
Вану жилось покойно. Делать было нечего – и он декламировал и напевал стихи. Жена сказала ему раз:
– У меня, дорогой муж, есть для вас хорошее словечко. Не знаю, согласитесь ли вы только его достойно принять?
– Что же это за слово? – спросил Ван.
– Начиная с сегодняшнего дня не писать стихов – этот один из путей, ведущих к прикрытию своей грубости.
Ван был сильно посрамлен и с этих пор, как говорится, «оторвал кисть»[60].
С течением времени Ван стал теперь все более и более заигрывать с Мин-дан и как-то раз заявил жене:
– Мин-дан мне представляется благодетельницей: она спасла мне жизнь. Я бы хотел, чтобы мы обратили на нее внимание и словом, и иным выражением!
Фан-юнь была согласна, и теперь всякий раз, как в комнатах чем-нибудь развлекались, звали и ее принять участие. У нее и у Вана чувства стали еще живее. Иногда он давал ей знать взглядом и выражением лица, а рукой уже говорил. Фан-юнь стала понемногу замечать и громоздила на мужа упреки и брань. Ван только и мог, что мекать да некать, употребляя все усилия, чтобы только как-нибудь от нее отвязаться.
Однажды вечером он сидел с женой и наливал вино. Ему показалось скучно, и он стал уговаривать жену позвать Мин-дан, но та не согласилась.
– Милая, – сказал тут Ван, – нет ведь такой книги, которой бы ты не читала. Что же ты не помнишь эти слова: «Одному наслаждаться музыкой…»[61] и так далее?
– Я уже говорила вам, – отвечала Фан-юнь, – что вы бестолковы! Сейчас это вы доказали с еще большей очевидностью: вы не знаете, кажется, где в этой фразе полуостановка и остановка[62]. «Один хочешь, – да, это веселее, чем если другие хотят. Спроси об удовольствии: кто его хочет? – Отвечу: не я!»
Засмеялась и прекратила разговор.
Как-то раз случилось, что Фан-юнь с сестрой отправились в гости к соседней девушке. Ван воспользовался их отсутствием, сейчас же вызвал Мин-дан, и они свились клубком в самом полном наслаждении. К вечеру Ван почувствовал в «малом брюшке» небольшую боль. Боль прошла, но передняя тайная вещь целиком вобралась внутрь. Страшно напуганный, Ван сообщил об этом Фань-юнь.
– Это уж, конечно, милая благодарность Мин-дан, – сказала она ему.
Ван не смел скрыть и изложил все в настоящем виде.
– Скажу тебе по правде, – отвечала она, – эту беду, которую ты сам же наделал, нет возможности поправить никакими мерами. Раз не болит, ну пусть так, терпи.
Прошло несколько дней, улучшения не было. Ван был в тоске и унынии, радостей стало маловато. Фан-юнь понимала его настроение, но не интересовалась и не расспрашивала. Она только глядела на него в упор, и осенние воды ее глаз так и перекатывались, светлые, чистые, словно утренние звезды.
– Про тебя, милая, – говорил ей Ван, – можно сказать словами: «Если на душе чисто, то зрачки светлые».
– Про тебя, милый, – отвечала, смеясь, Фан-юнь, – можно сказать словами: «Если на душе нечисто, то ляоцзы исчез».
Надо заметить, что слово му[63]– «нет», как, например, в выражении му-ю – «не имеется», небрежно читают вроде моу – «зрачок»[64]. Этим она и воспользовалась для шутки.
Ван проронил улыбку и стал жалобно умолять дать ему какого-нибудь снадобья.
– Вы, сударь, – отвечала она, – не изволили слушать хорошие слова. Раньше, до этого, вы, не правда ли, думали, что я ревную, не зная, что эту прислугу нельзя было к себе допускать. До этого я вас действительно любила, а вы вели себя вроде, знаете, «весеннего ветерка, подувшего коню в уши»[65]. Вот поэтому-то я и плюнула на вас, бросила и нисколько не жалела… Однако делать нечего: попробую полечить, так и быть. Впрочем, врачу полагается непременно осмотреть поврежденное место!
И вот она полезла в одежду и стала приговаривать:
– Желтая птичка, желтая птичка! Не сиди в шиповнике![66]
Ван не заметил, как расхохотался вовсю. Похохотал и… выздоровел.
Через несколько месяцев Ван стал думать, что отец у него стар, а сын мал, – крепко-крепко все время об этом думал. Наконец сказал об этом жене.
– Что ж, – сказала она, – вернуться тебе домой нетрудно. Только уж соединиться нам снова время не наступит!
Ван заплакал, и слезы покатились по обеим щекам. Он стал упрашивать ее идти домой вместе с ним. Тогда она стала об этом так и этак раздумывать; наконец согласилась.
Старый Хуань перед их отъездом дал прощальный обед. На обед пришла Лу-юнь с корзиночкой.
– Нам с тобой, сестра, приходится проститься перед дальним путем. Мне нечего подарить тебе. Однако я все боялась, как бы вы, добравшись до южного берега моря, не остались без дома, и вот дни и ночи я сидела над изготовлением для вас помещений… Не обессудь же на моей неуклюжей работе!
Фан-юнь приняла подарок с поклоном и стала внимательно его рассматривать. Оказалось, что сестра из тонких трав сделала дома и терема. Те, что побольше, были величиной с душистый лимон, а те, что поменьше, – с мандарин. В общем, таких домиков она сделала больше двадцати штук, причем в каждом из них все балки, стропила, столбы, скрепы – хоть считай: все отчетливо-отчетливо сделано одно за другим. В комнатах же мебель вроде кроватей с пологами, диванов и т. п. была сделана величиной с зерно конопли.
Ван отнесся к этому как к детской забаве, но в душе изумился такому мастерству.
– Я должна вам, сударь, сказать теперь все по правде. Мы все здесь земные блаженные[67]. Так как у нас с вами была заранее предопределенная судьба, мне пришлось с вами соединиться. Собственно говоря, мне не хотелось бы пойти по красному, как говорится, праху[68], и, только приняв во внимание, что у вас есть старик-отец[69], я не позволила себе воспротивиться. Подождем, пока небо не решит его годы, и обязательно вернемся сюда.
Ван выразил ей свое уважение и согласился.
Хуань спросил:
– Вы как? Посуху? В лодке?
Ван, зная, что морские волны представляют опасность, пожелал ехать сухим путем. Только они вышли из дому, а кони и экипажи уже ожидали их у ворот. Простились, откланялись, сказали: «Поехали!»
Мчались с огромной быстротой. В мгновение ока очутились уже на берегу моря. Ван, видя, что дальше нет сухого пути, приуныл. Тогда Фан-юнь вынула штуку белого шелка и бросила ее по направлению к югу – и шелк превратился в длинную плотину, шириной в несколько сажен. Миг – и проскакали через нее. Теперь она начала понемногу сдавать, и в одном месте ее уже промывали воды прилива. Куда ни глянь, на все четыре стороны расстилались бесконечные дали.
Фан-юнь остановила коней, слезла с повозки и, вытащив из коробочки изделия из соломы, вместе с Мин-дан и другими служанками разложила их и расставила, как требовалось. Не успел Ван отвернуть глаза, как все это превратилось в огромные постройки.
Муж с женой вошли, переоделись, не видя ни малейшей разницы с той обстановкой, которая была у них на острове. Даже в спальне столы, кровати и все-все было премило.
Дело было уже к вечеру, они так и остались ночевать.
Рано утром жена велела Вану пойти встретить и привезти того, кого собиралась кормить-поить. Ван велел оседлать коня и помчался в родное село.
Прибыв туда, он увидел, что его дом принадлежит уже другой семье. Стал расспрашивать односельчан и узнал, что мать и жена уже, как говорится, по закону живых существ стали былью. Отец же старик был еще жив, но так как сын Вана пристрастился к азартной игре и вся земля с хозяйством исчезла, то он, видя, что у своих родных внуков нечего искать пристанища, нанял себе угол в деревушке к западу от них.
Когда Ван еще только ехал домой, мечты о службе и славе все еще в его душе не остывали. Теперь же, слыша о всех этих делах, почувствовал глубокую боль и огромную печаль. «Пусть даже, – думал он, – богатство и знатность можно захватить и унести… Чем это будет отличаться от пустого цветка?»
Погнал лошадь к западной деревушке. Увидел на отце грязную, рваную одежду… Весь он был дряхлый, хилый, жалкий. Встретились отец с сыном и давай плакать до потери голоса.
Спросил, где его негодный сын. Оказывается, он пошел играть и до сих пор еще не вернулся.
Ван посадил отца в повозку и поехал с ним обратно. Фан-юнь явилась на поклон, потом велела разогреть воду и пригласила старика вымыться. Поднесла ему парчовые одежды и поместила в надушенных покоях. Мало того – велела привести к нему, невзирая на даль, его приятелей, стариков, чтобы ему было с кем потолковать и вместе выпивать. Вообще, она угощала его и ухаживала за ним лучше, чем то бывает в какой-либо знатной и родовитой семье.
Вдруг неожиданно в один прекрасный день в этих местах появился сын Вана. Ван отказался его принять: не велел даже впустить его. Дал двадцать ланов, велев передать ему через людей, чтобы он взял эти деньги и купил на них жену, озаботясь затем добыванием средств к жизни. Если же он еще раз появится, то, мол, под ударами плетей тут же умрет.
Сын заплакал и ушел.
С тех пор как Ван приехал домой, он с людьми не очень-то охотно вел знакомства и обычные приемы. Однако, если случайно к нему заходил кто-нибудь из друзей, он обязательно принимал и угощал роскошно и щедро, в смиренной вежливости уйдя далеко от своих прежних дней.
Был только один друг, некто Хуан Цзы-цзе, который в былое время учился с ним вместе и был, между прочим, один из знаменитых, но застрявших на пути ученых-стилистов. Его Ван оставлял у себя как можно дольше и постоянно говорил с ним по душам, одаряя его при этом и деньгами и прочим в высшей степени щедро.
Так они прожили года три-четыре. Старик Ван умер. Ван израсходовал десятки тысяч на гадателей[70], выбиравших для могилы место, и затем похоронил со всею сложностью обряда.
К этому времени Ванов сын уже успел взять жену, которая забрала его в руки, и он стал играть уже с некоторыми перерывами. И вот в день похорон, подойдя к гробу, он наконец получил возможность быть признанным со стороны второй матери; Фан-юнь, увидя его, тотчас же признала, что он может вести дом, и подарила ему триста ланов на расходы по покупке поля и хозяйства.
На следующий день Хуан и Ванов сын отправились к Ванам навестить их. Глядь – все постройки и здания исчезли, и куда все делось – неизвестно.
Талисман игрока
Даос Хань жил в храме Небесного Правителя[71], находящемся в нашем уездном городе. Он делал много волшебных превращений, и все звали его святым гением. Мой покойный отец был особенно дружен с ним и всегда, когда бывал в городе, его навещал.
Однажды они с покойным дядей направились в город и решили проведать Ханя. Как раз он им встречается на дороге, дает ключ и говорит:
– Пожалуйста, идите вперед, откройте дверь и усаживайтесь. Через самое небольшое время я тоже приду.
Они делают, как он говорит, являются в храм, отпирают замок – а Хань уже сидит в комнате. И вещей в таком роде было очень много.
Один из моих родственников – давно уж это было – имел пристрастие к азартным играм. Через моего покойного отца он тоже познакомился с Ханем. Как раз в это время в храме Небесного Будды появился некий хэшан, специализировавшийся на игре в домино. Игру он вел очень широко, и вот мой родственник увидел это и пристрастился. Собрал все свои деньги и пошел играть. Последовал крупный проигрыш, после которого душа его загорелась еще сильнее. Переписал, заложил землю и хозяйство – опять пошел. К концу ночи все было спущено. Побрел с унылым, грустным видом неудовлетворенного человека и на пути зашел к Ханю. Настроение у него было тяжелое, безрадостное, говорил, теряя нить и порядок мыслей…
Хань стал расспрашивать, и человек рассказал ему все как есть.
– При постоянной игре, – смеялся Хань, – не бывает без проигрышей. Вот если бы ты мог перестать, закаяться, – я б тебе все это вернул.
Мой родственник сказал ему тогда:
– Если только удастся, как говорится, «жемчужинам вернуться в залив Хэ»[72], то я железным пестом разобью кости вдребезги.
Тогда Хань взял бумагу и написал талисман; вручил его родственнику для ношения в поясе и сделал ему наставление:
– Можешь только вернуть свои прежние вещи, и сейчас же остановись. Не смей, как говорится, взяв земли Лун, смотреть затем на земли Шу[73].
Кроме того, он вручил ему тысячу мелких монет, условившись, что он выиграет и отдаст.
Мой родственник пришел в полный восторг и отправился играть. Хэшан, посмотрев его деньги, нашел, что это ничтожно и что не стоит по мелочам играть. Однако тот настаивал, приглашая бросить хоть раз. Хэшан с улыбкой согласился. Родственник поставил сразу целиком всю тысячу, как одну монету. Хэшан бросил: ни выигрыш, ни проигрыш. Родственник принял кости сам, бросил – и выиграл. Хэшан поставил две тысячи – и опять проиграл. Затем стал мало-помалу увеличивать и догнал до десяти с чем-то тысяч. При этом явно лежат черняки – крикнет – и вдруг все они становятся белым жиром.
Родственник прикинул – оказалось, что все то, что он ранее проиграл, в мгновение ока полностью вернулось. И стал втайне думать, что выиграть еще несколько тысяч было бы тоже очень хорошо; опять стал играть, но кости уже стали все хуже и хуже. Удивился, встал, посмотрел в пояс – талисман, оказывается, уже исчез.
Сильно перепугался и перестал играть. Забрал деньги, пришел в храм. Оказалось, по общей раскладке, что за вычетом долга Ханю и того, что он проиграл в самом конце, как раз выходит то, что он имел до игры. Обнаружив это, со стыдом стал извиняться перед Ханем за свой грех – потерю амулета.
