Утешение философией
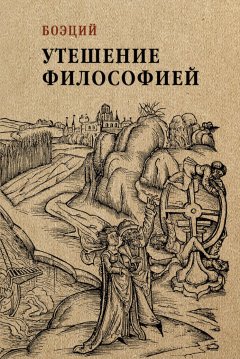
Перевод на русский язык В. Уколовой, М. Цейтлина
Вступительная статья А. Маркова Примечания В. Уколовой
© Марков А. В., вступительная статья, 2017
© Уколова В. И., перевод на русский язык, 2017
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
Александр Марков
Философский роман Боэция
Аниций Манлий Северин (в некоторых рукописях добавлено еще имя Торкват, «Сутулый», совершенно недостоверное и больше похожее на прозвище), прозванный Боэцием, или, по-гречески, «Помощником», римский гражданин, римский консул 510 года, мученик римского имени. Последний политик античного мира, первый вундеркинд Европы, первый и последний знаток и ясный толкователь одновременно обоих великих философов, Платона и Аристотеля – до него и после него платоники и аристотелики не всегда и не сразу понимали друг друга. Хотя неоплатонизм уже давно привлекал Аристотеля для изъяснения божественного Платона, но только Боэций еще и призвал Платона для вдохновенного объяснения мыслей и намерений Аристотеля.
Родился Манлий около 480 г. в знатной семье. Рано оставшись без отца, он был поручен на воспитание Симмаху, крупнейшему государственному деятелю Рима, став его главным помощником и союзником во всех делах. С детства он бывал на заседаниях Сената, следил за работой официальной машины, видел, как Рим под натиском судьбы сурово бережет свою честь и достоинство. Стать политика, величие решений были для него не менее важны, чем их действительные эффекты. Но, наверное, Манлий был первым, кто ходил в присутствие не только с готовыми речами или восковыми табличками для деловых записей, но с глубокомысленными свитками в руках и мог в разгар бурных дебатов читать книги поэтические и философские. Прекрасная память позволила ему запоминать самые сложные философские концепции, уносясь мечтой к разным философским школам и примиряя их в уме под гулкий шум политических споров.
Скорая административная карьера А. Манлия Северина не помешала его литературному дебюту. Известно, что он выпустил сборник буколических стихотворений, вступив в литературу так же, как некогда великий Вергилий. Об этом цикле упоминает современник Боэция, историк и систематизатор грамматики Кассиодор. К сожалению, буколики Боэция до нас не дошли, но мы можем сказать, что буколический жанр был одним из важнейших экзаменов для любого выдающегося ритора. Написать буколики для будущего вождя толп – это как написать исторический труд для политика XIX века или защитить диссертацию по макроэкономике или социологии для государственного деятеля наших дней. Дело в том, что пастушеские песни создавали идеальный мир, который должен был стать убедительным в своей приятности; как бы мы сказали, они представляли собой комплексное деловое моделирование политических процессов, но, в отличие от современного, основанное на сладости образов и звуков. Кто умел подчинить себе звуки в создании завершенных высказываний об идеальном в мирной приятности мире, тот мог, идеализируя любой политический тезис, склонить на свою миротворческую сторону сенат и народ Рима.
Боэцию, кажется, не было и двадцати, когда он стал писать учебники квадривиума, четырех математических наук, вошедших в канон среднего, или «энциклопедического», образования. Трудно сказать, почему он не написал учебники по наукам тривиума, логико-литературным: вероятно, потому, что Боэций понимал уже логику как способ общения с великими умами прошлого, с Платоном и Аристотелем, а не как содержание учебников. К наукам квадривиума принадлежат арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Если содержание первых трех учебников Манлия было, по видимости, остроумным, но прорывом в культуре не было, то учебник музыки стал нормативным для всех Средних веков, более того, его влияние прослеживалось и дальше, включая весь европейский романтизм. Когда мы говорим «я расстроен (а)», «играть на нервах» (латинское nervi означает струны), «я в напряжении», мы, сами того не зная, добросовестно воспроизводим музыковедение Боэция.
Опираясь на наследие Пифагора, отчасти досочиненное за кротонского мудреца уже в римскую эпоху, когда пифагорейцам, для соперничества с другими философскими школами, понадобилось свое Писание, и, конечно, божественного Платона, Боэций обосновал систему трех уровней музыки, несомненную для трубадуров (trovatore – изобретатель мелодий) или Данте Алигьери и работающую даже у романтиков, хотя и в очень превращенной форме. Высший уровень – мировая музыка, musica mundana: гармония небесных тел, пение аккорда семи планет, законы движения небосвода, порядок в мире, космос в широком смысле, как самый желанный предмет созерцания. Средний уровень – человеческая музыка, musica humana, в широком смысле здоровье: правильная работа всех органов тела, правильное течение всех соков, бодрость и гибкость, звучность и приятность внешнего вида настолько же, насколько приятен звук хорошо построенного и хорошо настроенного инструмента. Наконец, низший уровень, инструментальная музыка, musica instrumentalis, – уже привычная нам музыка отдельного инструмента или целого ансамбля, или голоса как инструмента, или ладоней: приятнейший концерт и аплодисменты, пение а капелла и игра на самом фантастическом устройстве – всё это равно пройдет по разряду инструментальной музыки. Низшие уровни музыки подражают высшим: созерцая звезды, мы становимся лучше. Но и низшие уровни могут за себя постоять перед высшими: можно облегчить болезнь, играя на струнах.
Для настоящего римлянина ученые занятия были «досугом» (otium), досужим занятием с досужими размышлениями, в отличие от государственной деятельности (negotium, когда всегда «недосуг»). Но Боэций нашел способ и на вершинах власти заниматься философией – именно, комментарий. Некоторые его сочинения прямо являются комментариями, как подробные комментарии к трудам неоплатоника Порфирия, ученика Плотина, некоторые представляют собой проблемные трактаты, но на самом деле подробно поясняющие какой-то тезис философии или христианского богословия Троицы. Здесь нужно сразу оговорить, что комментарий был в Античности жанром не служебным, а вполне самостоятельным: его нужно сопоставить с нашими конспектами, деловыми записками, деловыми проектами или исследованиями по социальным наукам. Всё это тоже легко объявить обслуживающим деловой мир, но мы никогда не будем отрицать, что это самостоятельные формы. Так и комментарий позволил Боэцию взяться за те проблемы, которые он не мог бы рассмотреть ни в учебнике, ни в философском трактате или философском диалоге.
Это, прежде всего, логическая проблема общих понятий, осмысленная как философская проблема общего бытия и общего знания. Никто с такой смелостью до Боэция не перекидывал мост между логикой и бытием – до него в логике «упражнялись», а в бытии упражняться не посмели бы. Но Боэций смотрит на то, как логические соответствия оказываются и возможностью говорить о невыразимом, или обратиться к бытию, или обратить внимание на бытие, или услышать, что еще может сказать нам бытие. Логика делается из способа примириться с недостатками своего словесного выражения, с недостаточной проницательностью собственной мысли, способом достичь в мысли размаха, который будет окликнут бытием, достичь той амплитуды, которая точно заденет строение мира. Боэций – христианский мыслитель, который призван как пророк, призван знамениями, чудесно совпавшими с логическими значениями.
За несколько лет А. Манлий Северин Боэций сделал изумительно много: он перевел с греческого на латынь все логические труды Аристотеля; создал труды по логике, одни названия которых повергают в трепет: «О категорическом силлогизме», «О делении», «О гипотетических силлогизмах», «О различиях в топиках» (т. е. почему одни и те же логические утверждения могут означать разные вещи), «Введение в категорические силлогизмы, или Книга перед предикаментами» (а это о том, как содержание наших суждений определяет порядок рассмотрения вещей); наконец, написал огромный комментарий к Топике Цицерона, хотя, вероятно, не дописал его из-за ареста. Он умел создавать целые трактаты по поводу одной фразы, объясняя самые азы понимания философских проблем и восходя от этих азов к самостоятельной работе с проблемами.
Боэций так бы и продолжал вдохновенную деятельность пророка из философов, если бы не тяжкие для него, всего Рима и всего мира обстоятельства. Теодорих, предводитель готов, взявший Рим, но не посмевший назваться императором, но лишь королем (гех), заподозрил Симмаха и Боэция в попытке восстановить полноту полномочий Сената. Они были без вины отправлены бессрочно в тюрьму как виновники не бывшего государственного переворота. В тюрьме Боэций, ожидающий казни и не надеющийся на свободу, и пишет ту книгу, которой зачитывались в Средние века, которую перевел на английский Чосер и которая находит преданных читателей и до сего дня. 524 год вошел и в церковный календарь как мученичество Боэция в Павии, нынешней Падуе, безупречного в догматах христианской веры, которые и открывали ему свет бытия.
Не следует считать Теодориха варваром: его двор в Равенне был блистательным, и тонкость не была чужда королю. Но в том и трагедия всей ситуации, что одна только тонкость, или открытость культуре, или навыки государственного управления, или вполне состоявшееся взаимопонимание римских патрициев и варваров не могли взять на себя вызов бытия, которое застает врасплох все наши дискуссии и смешивает все наши карты. Этот вызов взял на себя Боэций, в одиночной камере лишенный возможности даже не только высечь себе эпитафию на камне, но любых видимых миру прав гражданства.
«Золотая книга» Боэция, De consolatione Philosophiae, переводится на русский обычно как «Утешение Философией», мы бы перевели как «Утешение Философии», имея в виду, что персонифицированная Философия утешает отчаявшегося мыслителя. Тогда название встанет в один ряд с другими заголовками философских книг, как «Критика чистого разума», учащими встать на позиции философии или разума, чтобы оглянуться на дело своего мышления.
Образ Философии – уже типичная средневековая аллегория, требующая, чтобы умозрительная фигура была снабжена и узнаваемыми атрибутами в обеих руках, и узнаваемой подписью, – как невозможно представить икону без подписи имени святого и атрибутов святости. Обе руки Философии заняты: она держит скипетр и книги; иначе говоря, повелевает миром, но и хранит смыслы мира при себе – этим она напоминает заботливую Софию христианской традиции. Подпись – это греческие буквы «П» и «Т» на ее собственноручно вышитых одеждах (культурная память о Софии как о мастерстве), означающие восхождение от практики к теории. Практика понимается не как опыт, а как публичная деятельность, а теория – не как обобщение, а как умение быть рядом с высокими идеями.
Замечательно, что эта женская фигура, уходящая головой в облака, чудесное видение, присаживается рядом с философом на шконку и вдумчиво объясняет ему, почему никакая перемена положения от лучшего к худшему не должна даже в мысли становиться поводом для отчаяния. Аргументация пяти книг «Утешения Философией» по-романному неожиданна, и никогда не сводится к банальным указаниям на изменчивость человеческих судеб или к умению насильно находить приятные стороны даже в самом тяжелом положении. Мудрость друзей библейского Иова – не для Боэция; скорее, он бы одобрил мудрость Робинзона Крузо, создающего полноценную цивилизацию в наихудшем из возможных положений.
Философское утешение следует из созерцания естественного порядка вещей, так что земные удовольствия, почести и награды оказываются не просто ложными, преходящими и суетными, а изменившими природе, предавшими природу и тем самым опозорившими себя. В этом грань между Боэцием и философами стоической школы, которые могли говорить о суетности богатства или славы в сравнении с внутренним самообладанием, но которые все равно исходили из того, что слава лучше и ценнее бесславия, даже если реальность этой славы сомнительна. Стоики утверждали, что человек может быть счастлив и в тюрьме, если он хранит верность своей душе и ничем не нарушает самообладание, но ни один стоик не стал бы философствовать в тюрьме: он бы занялся практикой жизни, тогда как теорию бы предназначил для тех, кого после него настигнет более счастливая судьба. Боэций научился быть теоретиком и в тюрьме и открыл дверь созданию философских и богословских трудов в тюрьме: достаточно упомянуть Григория Паламу с его защитой созерцательного монашества и Томмазо Кампанеллу с его гражданством Города Солнца.
Философия объясняет Боэцию, что почести и награды, включая привилегии свободного гражданина, противоестественны, ведь в природном мире подобное тянется к подобному, природа дружелюбна к себе, тогда как почести и награды слишком часто достаются самым порочным людям. Доказательство от противного просто, тогда как положительное доказательство, что можно быть счастливым и в тюрьме, требует особого логического построения – корролариев, иначе говоря, одновременного соотнесения нескольких понятий, удержания в поле зрения сразу нескольких осмысленных вещей с их вполне проявленными действиями. Как доказать, что ты счастлив уже потому, что добродетелен? Простодушно высказывать удовлетворение своей добродетельностью или выжимать из своей добродетельности нужные чувства – прямой путь к внутренней катастрофе. Но можно ввести дополнительные понятия: сказать, что добродетель милосердна, что милость лучше любых наград, что растроганность в тюрьме может быть содержательнее любого земного наслаждения, что улыбка воспоминания уже чище любых памятных событий. Это освобождает философию от того учета удовольствий, которое мы знаем из учения Эпикура, что жаждущему капля воды покажется слаще любого вина. Для Боэция капля воды может быть тоже горестной, если насыщена горестными воспоминаниями, но сладость появляется там, где события не только жестоки, но и милостивы. Да, Теодорих обошелся с философом жестоко, но сам философ обошелся наилучшим образом и со своей честью, и со своей должностью, и с самим собой – не только потому, что никого не предал, но и потому, что не допускал такого предательства даже в мысли, оставив в мысли место для корролариев – сопоставления сразу нескольких действительных понятий.
Так, Боэций создает поэтику романа (пали Romani – родился роман!), в котором воспоминания и думы, переживания и реплики не менее важны, чем канва событий. Именно этим объясняется странная для нас форма произведения Боэция – моралистическая проза, перемежающаяся стихами.
Эти стихи – не иллюстрации, не виньетки, не лирические зарисовки. Это реплики разума, который настолько удивлен происходящим, что может только сказать об этом в стихах, выразив и сожаление, и надежду и ища в строении мира основание, чтобы продолжать мыслить разумно. Стихи – лучший способ для разума не лишиться себя, не лишить философа разума. Недавно специалисты по средневековой музыке реконструировали музыкальное сопровождение этих стихов.
Такое сочетание стихов и прозы восходит к философу-нонконформисту Мениппу; великий русский ученый М.М. Бахтин назвал такое сочетание «мениппеей», увидев в нем образец философской сатиры, возможность посмотреть со стороны на весь мир, включая и себя. Такую «мениппею» Бахтин видел и в «Утешении Философии», и отчасти в романах Рабле и Сервантеса, и даже в «Бобке» Достоевского. Венедикт Ерофеев хотел дать «Москве – Петушкам» подзаголовок «мениппея»: как оглянувшись на все вокруг и на себя, оглянувшись на всё, что гибелью грозит и уже принесло гибель, не впасть в отчаяние. В таком случае круг замкнулся: Боэций подчинил судьбу музыке веры, а Веничка, слышавший пение ангелов, стал жертвой судьбы и спасением русской литературы.
Конечное рассуждение «Утешения Философии» – о промысле Божием. Не признать, что Бог знает всё наперед, было бы оскорбительным для божественного совершенства и всемогущества; но гражданскую мысль о Боге оскорбят и предположения, что Бог потакает пороку людей, зная наперед порочные решения, или что Бог должен вмешаться в дела людей, вступая тем самым в азартную игру с пороком. На самом деле Бог, говорит Философия Боэцию, зная дурные поступки людей, не предопределяет их. Только человек предопределяет себя своими ошибками. А Бог в последний момент, как молния предельной ясности, возносит человека над его путами: кто-то раскаивается перед смертью, кто-то ценит миг счастья, кто-то вдруг вновь влюбляется или вновь ценит свою гражданскую свободу. Боэций, сам того не замечая, создает настоящую галерею романных героев в зерне строгого богословского рассуждения.
Произведение Боэция – дальний предшественник исповедальных дневников, романов, над которыми лили слезы по ночам, самоуглубления и поиска правды изнутри личной жизни, подросткового выяснения границ собственной личности и совершенно взрослой строгости к содержанию каждого дня. Каждое принятое на себя нами обязательство может быть как стена тюрьмы, но содержание нашей жизни не просто возносит нас над стеной, как было в античной философии, – ему просто стены оказываются не нужны. Лира мифологических Зета и Амфиона созидала стены Фив, лира Боэция разрушила стены тюрем фатализма.
Произведение Боэция – вдохновение для богослова, который стремится к точности определений, для философа, уже исходившего коридоры этики, для общественного деятеля, которому нужны универсальные обоснования самых справедливых его решений. Но также оно вдохновение для каждого из нас, потому что мы и в нашей обычной жизни сталкиваемся с универсальными правилами, как вести себя с друзьями и врагами, старшими и младшими, как встречать опасности, угрозы и внезапные дары. Настоящую универсализацию этих универсальных правил и дает «Утешающая Философия». Встречаясь с мыслью Боэция, мы встречаемся со вселенной Разума, картой нравственных решений и Философией, прошедшей все испытания любви.
Книга первая
- I. Песни, что раньше слагал в пору цветенья и силы1.
- Вынужден ныне на путь скорбный направить, увы!
- Снова, в слезах, мне писать повелевают Камены2
- С ликом заплаканным, вновь – на элегический лад.
- Страх никакой победить их не сумел ведь ни разу,
- Чтобы заставить свернуть с избранной нами стези3.
- Славою был я богат в юности ранней когда-то,
- Ныне судьбу старика грустного им утешать.
- Беды ускорили старость, что наступила нежданно,
- И приказала болезнь с нею сдружиться навек.
- Снегом моя голова будто покрылась глубоким,
- Немощно тело мое, старчески кожа дрожит.
- Радостна смерть для людей, если является кстати,
- Коль ее ждут и когда нить она счастья не рвет4.
- К бедным глуха и строга, к ним обернуться
- не хочет,
- Очи прийти им закрыть, полные слез навсегда.
- Баловнем был я пока щедрых подарков Фортуны5,
- Смертный случайно лишь час жизнь
- не окончил мою.
- Лик ее лживый когда ж тучи совсем затянули, —
- Тянется жалкая жизнь, – длится постылый мой век.
- Как нас хвалили друзья, превозносили за счастье,
- Только нестойким был тот, кто тяжело так упал!
I. Тем временем, пока я в молчании рассуждал сам с собою и записывал стилем на табличке6 горькую жалобу, мне показалось, что над моей головой явилась женщина с ликом, исполненным достоинства, и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой; хотя была она во цвете лет, никак не верилось, чтобы она принадлежала к нашему веку. Трудно было определить и ее рост. Ибо казалось, что в одно и то же время она и не превышала обычной человеческой меры, и теменем касалась неба, а если бы она подняла голову повыше, то вторглась бы в самое небо и стала бы невидимой для взирающих на нее людей7. Она была облачена в одежды из нетленной ткани, с изощренным искусством сплетенной из тончайших нитей; их, как позже я узнал, она соткала собственными руками. На них, как на потемневших картинах, лежал налет забытой старины. На нижнем их крае была выткана греческая буква тг, а на верхнем – ©8. И казалось, что между обеими буквами были обозначены ступени, как бы составляющие лестницу, по которой можно было подняться снизу вверх. Но эту одежду рвали руки каких-то неистовых существ, которые растаскивали ее частицы, кто какие мог захватить. В правой руке она держала книги, в левой – скипетр9. Когда же взор ее остановился на поэтических музах, окружавших мое ложе и облекавших в слова мои рыдания, она выказала легкое возмущение и, гневно сверкнув глазами, промолвила:
– Кто позволил этим распутным лицедейкам приблизиться к больному, ведь они не только не облегчают его страдания целебными средствами, но, напротив, питают его сладкой отравой? Они умерщвляют плодородную ниву разума бесплодными терзаниями страстей и приучают души людей к недугу, а не излечивают от него. Но если бы их ласки увлекли кого-либо непросвещенного, что вообще им присуще, я думаю, что перенесла бы это менее болезненно, ибо тогда моему делу не было бы нанесено никакого ущерба. Но его, взращенного на учениях элеатов и академиков?10 Ступайте прочь, сладкоголосые Сирены, доводящие до гибели, и предоставьте его моим музам для заботы и исцеления.
После этих упреков толпа муз, опустив опечаленные лица к земле и покраснев от стыда, грустя, покинула мое жилище. А я, чей взор был замутнен слезами, не мог распознать, кто же эта женщина, обладающая столь неоспоримой властью, и, потупив долу глаза в глубоком изумлении, молчаливо ждал, что же будет дальше. Она же, подойдя поближе, присела на край моего ложа и, глядя мне в лицо, исполненное тягостной печали и склоненное скорбью к земле, стала стихами корить меня за то, что душу мою охватило смятение.
- II. В бездну повергнутый ум быстро тупеет,
- Свет погасил свой. В мрак его увлекают,
- Тянут его в темноту неоднократно
- Тьмы предрассудков земных и человечьих
- Вредных ненужных забот, рост чей безмерен.
- В небе кто лучше умел видеть дороги,
- Звездные эти пути, строгий порядок
- Розовых солнца планет, лун изменений?
- Звезд он движенья следил, знал их орбиты,
- Все их блужданья умел и возвращенья
- В числах простых показать прямо на тверди,
- Как, изгибаясь, дрожит млечный поток в ней;
- Также и ветры зачем всю возмущают
- Моря широкого гладь, сила какая
- Круг неподвижный земли вечно вращает;
- И почему, погрузившись в закат, Геспер
- холодный11
- Утром восходит звездой снова блестящей;
- Что управляет весны кротким покоем,
- Чтобы украсить могла землю цветами;
- Кто виноград нам дарит в год урожайный.
- Но, кто пытливым умом тайны природы,
- Тайны искал естества всюду обычно12,
- Ныне лежит словно труп в тяжких оковах,
- Шею сдавивших ему грубым железом.
- Свет угасает ума, с ликом склоненным
- Вынужден видеть, увы, мир безрассудный.
II. – Но сейчас время для лечения, а не для жалоб, – сказала она и, устремив на меня внимательный взор, воскликнула: – Неужели это ты! Ты, которого я вскормила своей грудью, молоком своим, чтобы ты обрел мужество и силу духа? Ведь я дала тебе такое оружие13, которое помогло бы тебе сохранить непоколебимую стойкость, если бы ты только сразу же не отбросил его. Не узнаешь меня? Что молчишь? Безмолвствуешь от стыда или от изумления? Я бы предпочла стыд, но чувствую, что ты поражен изумлением. – Когда же она увидела, что я не просто молчу, а совершенно утратил дар речи, легко коснулась рукой моей груди и сказала: – Никакой опасности, он страдает летаргией, обычной болезнью расстроенного ума. Он ненадолго забылся, но легко придет в себя, раз он был знаком со мною прежде. Чтобы он смог [это сделать], мы немного протрем ему глаза, затуманенные заботами о бренных вещах.
Сказав так, она осушила мои глаза, наполненные слезами, краем своей одежды, собранным в комок.
- III. После того как рассеялась ночь и растаяла
- в свете,
- Снова вернулась ко мне моя прежняя сила.
- Так же бывает, когда собираются тучи нежданно,
- Северо-запад их шлет, гонит ветром их Кавром14,
- Ливни хлестать начинают, скрывается солнце
- со свода,
- Звезд еще нет, хотя тьма уже все затопила.
- Если ж с фракийских просторов Борей15
- принесется холодный,
- С туч он завесу сорвет, снова день засияет,
- Выйдет сверкающий светом лучистым из тучи
- внезапно
- Феб, изумленных людей всех глаза отлепляя.
III. После того как рассеялись тучи скорби, я увидел небо и попытался распознать целительницу. И когда я устремил глаза на нее и сосредоточил внимание, то узнал кормилицу мою – Философию, под чьим присмотром находился с юношеских лет.
– Зачем, – спросил я, – о наставница всех добродетелей, пришла ты в одинокую обитель изгнанника, спустившись с высоких сфер? Для того ли, чтобы быть обвиненной вместе со мной и подвергнуться ложным наветам?
– О мой питомец, – ответила она, – разве могу я покинуть тебя и не разделить вместе с тобой бремя, которое на тебя обрушили те, кто ненавидит самое имя мое! Ведь не в обычае Философии оставлять в пути невинного без сопровождения, мне ли опасаться обвинений и устрашат ли меня новые наветы? Неужели ты сейчас впервые почувствовал, что при дурных нравах мудрость подвергается опасности? Разве в древние времена, еще до века нашего Платона, я не сталкивалась часто с глупостью и безрассудством в великой битве? А при его жизни учитель его Сократ разве не с моей помощью добился победы над несправедливой смертью? А позже, когда толпа эпикурейцев16 и стоиков17 и прочие им подобные стремились захватить его наследие, каждые для своей выгоды, они тащили меня, несмотря на мои крики и сопротивление, как добычу, и одежду, которую я выткала собственными руками, разорвали и, вырвав из нее клочья, ушли, полагая, что я досталась им целиком. Поскольку же у них [в руках] были остатки моей одежды, они казались моими близкими, а неблагоразумие низвело некоторых из них до заблуждений невежественной толпы. Если бы ты не знал ни о бегстве Анаксагора18, ни о яде, выпитом Сократом, ни о пытках, которым подвергли Зенона19, так как все это было в чужих краях, то ты мог слышать о Кании20, Сенеке21, Соране22, воспоминания о которых не столь давни и широко известны. Их привело к гибели не что иное, как то, что они, воспитанные в моих обычаях и наставлениях, своими поступками резко отличались от дурных людей. Поэтому не должно вызывать удивления то, что в житейском море нас треплют бури – нас, которым в наибольшей мере свойственно вызывать недовольство наихудших [из людей]. Их воинство, хотя и многочисленно, однако заслуживает презрения, так как оно не управляется каким-либо вождем, но влекомо лишь опрометчивым заблуждением и безудержным неистовством. Если же кто-нибудь, выставляя против нас войско, оказывается сильнее, наша предводительница стягивает своих защитников в крепость, а врагам же достаются для расхищения лишь не имеющие ценности вещи. И мы сверху со смехом взираем на то, как они хватают презреннейшие из вещей, а нас от этого неистового наступления защищает и ограждает такой вал, который атакующие воины глупости не могут даже надеяться преодолеть.
- IV. Всякий, кончив свой век, пройдя, как должно,
- Путь весь, топчет ногой бесстрашно жребий
- Счастья гордых людей, следя спокойно
- С ясным твердым лицом судеб различья23.
- Ярость бурных морей не тронет этих
- Смелых, стойких людей, хотя бы волны
- Встали с глубин, как смерч, в кипенье диком.
- Пусть хоть дым и огонь Везувий шлет им,
- Жар своих очагов, не раз, а часто.
- Пусть хоть башни крошат зигзаги молний24,
- Что вам злоба и гнев тиранов диких?!
- Слабы духом зачем? Они – бессильны!
- Прочь надежду совсем, и страхи тоже —
- Этим выбьешь из рук тиранов оружье!
- Кто же в трепет повергнут, покорен страсти, —
- Стойким в праве не будет своем от страха25
- Щит отбросит он прочь и, с места сбитый,
- Сам ковать присужден себе оковы.
IV. Чувствуешь ли ты, как эти истины проникают в твою душу? Ὄνοζ λύραζ?26 Почему плачешь? Зачем источаешь слезы? Έξαύδα; μή κεύϑε νόφ27. Если ждешь, чтобы я начала лечение, следует тебе открыть рану.
Тогда я, собравшись с духом, сказал:
– Разве не служит напоминанием и не говорит ли достаточно сама за себя суровость судьбы, ожесточившейся против нас? Неужели не поражает тебя вид этого места? Разве это библиотека, которую ты избрала себе надежнейшим местопребыванием в моем доме? Та самая [библиотека], где часто, расположившись со мной, ты рассуждала о познании вещей человеческих и божественных? Такой ли вид, такое ли лицо были у меня, когда я вместе с тобой исследовал тайны природы, а ты рисовала мне пути созвездий палочкой для черчения математических фигур и направляла мои нравственные устремления и порядок жизни соответственно небесным установлениям? Разве такая награда полагается мне, следовавшему за тобой? Ведь ты освятила такое выражение устами Платона: «Блаженствовало бы государство, если бы им управляли ученые мудрецы или его правители стремились бы научиться мудрости»28. Ты словами этого мужа внушала мне, что необходимо, чтобы мудрые приняли на себя управление, чтобы оно, оставленное каким-либо порочным людям и злодеям, не принесло бы несчастья и гибели добрым 29. Следуя этому авторитетному суждению, полученному во время наших уединенных занятий на досуге30, я пожелал осуществить его на практике общественного управления. Свидетели в том – ты и Бог, который вложил тебя в умы мудрых, ничто иное не побуждало меня заниматься государственными делами31, кроме стремления быть полезным всем добрым людям. Поэтому и происходили непримиримые и тяжелые разногласия с нечестивцами и частые столкновения с сильными мира сего, бывшие следствием свободы моих суждений, на них я не обращал внимания, если речь шла о соблюдении законности. Сколько раз препятствовал я Конигасту32, когда тот намеревался посягнуть на имущество какого-нибудь беззащитного; сколько раз предостерегал Тригвиллу33, управляющего королевским дворцом, от замышлявшегося им или готового свершиться беззакония; сколько раз несчастных, которые постоянно подвергались козням из-за непомерного и безнаказанного корыстолюбия варваров, защищал я от опасностей, пользуясь своей властью! Никто и никогда не мог заставить меня поступиться справедливостью и свершить беззаконие. В то время, когда благосостояние провинциалов было погублено34 как грабежами частных лиц, так и государственными податями, я сокрушался не менее тех, кто пострадал. Когда во время жестокого голода принудительные тяжкие и невыполнимые закупки хлеба могли обречь на крайнюю нужду Кампанскую провинцию35, я выступил против префекта претория ради общего блага и добился того, чтобы дело было отдано на пересмотр королю, вследствие чего закупки не состоялись. Консуляра Павлина36, чье богатство палатинские псы37 с вожделением надеялись проглотить, я вытащил из пасти алчущих. А разве не навлек я на себя ненависть доносчика Киприана38, стараясь освободить консуляра Альбина39 от наказания по заранее подготовленному обвинению? Неужели не довольно той враждебности, которая пала на меня? Но ведь я должен бы быть лучше защищенным в глазах прочих, раз из-за любви к справедливости не сделал ничего, чтобы быть в большей безопасности среди придворных.
Какими же доносчиками был я сражен? Один из них – Василий40, некогда изгнанный с королевской службы, которого выступить с обвинениями против меня побудили долги. Затем Опилион41 и Гауденций42, им королевская цензура43 повелела за многочисленные преступления удалиться в изгнание. Когда же они, не желая подчиниться, устремились под защиту святого убежища и об этом стало известно королю, тот приказал: если они не покинут город Равенну в предписанный срок, то после клеймения оба будут изгнаны. Что, кажется, можно добавить к этой строгой мере? Но ведь в тот же день был принят донос этих преступников на меня. И что же? Разве я заслужил это своими поступками? Или вынесенный немного ранее приговор сделал этих обвинителей порядочными людьми? И почему не устыдилась судьба, взирая на обвинение невиновного и на низость обвинителей?
Ты спрашиваешь, за какую вину я осужден. Меня обвинили в том, что я хотел спасти сенат44. Желаешь узнать, каким образом? Мне поставили в вину то, что я препятствовал клеветнику в представлении документов, которые свидетельствовали бы об оскорблении величества сенатом. Что теперь, о наставница, думаешь? Но я желал и никогда не откажусь желать здоровья сенату. Повинюсь ли? Но это будет означать отказ от борьбы с клеветником. Могу ли я назвать преступлением желание спасти сенат? А ведь он сделал все, чтобы своими постановлениями, касающимися меня, представить это в качестве преступления45. Но часто обманывающее самое себя неблагоразумие не может извратить действительные заслуги, и я полагаю, согласно предписанию Сократа, законом является то, что недостойно скрывать истину46 или соглашаться с ложью. Но судить, правильны ли были мои поступки, я предоставляю на твое усмотрение и оценке мудрых людей. А чтобы потомки не забыли ход этого дела и знали истинное положение вещей, я запечатлел их с помощью стиля. Нужно ли еще говорить о подложных письмах47, на основании которых я был обвинен в том, что надеялся на восстановление римской свободы48. Явный обман мог бы раскрыться, если бы мне удалось воспользоваться для защиты признанием самих клеветников, что во всяком разбирательстве имеет наибольшую силу. Но на какие остатки свободы можно было еще надеяться? О, если бы хоть какая-нибудь была возможна! Я бы ответил словами Кания, которые он произнес, когда узнал об обвинении, предъявленном ему Гаем Цезарем, сыном Германика49, что он был замешан в заговоре, направленном против императора: «Если бы я знал об этом, ты бы не знал».
В этих обстоятельствах не печаль притупила наш рассудок, когда я жаловался на преступления злодеев против добродетели, но я был очень удивлен тем, что они надеялись на свершение желаемого. Ведь желать дурного, быть может, наш недостаток, но возможность осуществления против невиновного того, что замышляет какой-нибудь злодей, должна выглядеть чудовищной в глазах Бога. Следовательно, справедливо интересовался один из твоих приближенных: «Если существует Бог, то откуда зло? И откуда добро, если Бога нет?»50. Пусть было позволительно злодеям, которые стремились к гибели всех честных людей и сената, погубить и меня, защищавшего, как они видели, честных людей и сенат. Но заслужил ли я того же со стороны сенаторов? Я полагаю, ты помнишь это, так как, присутствуя там, сама мне указывала, что нужно сказать и сделать; и ты помнишь о том, что, когда в Вероне51 король, желая устранить всех неугодных, замыслил перенести на весь сенат обвинение в оскорблении величества, предъявленное Альбину, я выступил в защиту невиновности сената, совершенно пренебрегая опасностью. Ты знаешь, что я говорю правду и что я никогда не находил удовольствия в самовосхвалении. Ибо утрачивается удовлетворение и достоинство, как только кто-нибудь попытается стяжать награду славы, выставляя напоказ свершенное им.
Каков же исход нашей невиновности, ты видишь. Вместо награды за истинную добродетель я подвергся наказаниям за несвершенное злодеяние. И вероятно, «очевидность» этого преступления сделала судей столь единодушными в их жестокости, что ни одного из них не поколебала ни присущая человеческой природе склонность к заблуждению, ни неустойчивость судьбы всех смертных. Даже если бы меня обвинили в том, что я желал поджечь святые храмы, или поднять преступный меч на священнослужителей, или замыслил убийство честных граждан, то и тогда приговор был бы вынесен после обсуждения в суде в присутствии обвиняемого52. Меня же теперь, удалив на пятьсот миль, оставив без защиты, присудили к смерти и конфискации имущества за усилия, направленные на пользу сената. Но никто из достойных людей не может быть осужден по подобному обвинению, ложность которого знали сами те, кто его предъявлял; они солгали, усугубив его прибавлением еще одного преступления, [заявив], что я из высокомерия отягчил совесть оскорблением святынь53, позабыв о достоинстве. Но ведь ты, проникнув в мою душу, исторгла из нее жажду всех преходящих вещей, и пред твоими очами не могло быть места святотатству. Ты ежедневно вливала в мои жадно внимавшие уши пифагорейское изречение – έπου ϑεῷ54. И не пристало гнаться за поддержкой низменных душ мне, кого ты просвещала с такой тщательностью, чтобы уподобить богу55. Кроме того, безупречные святыни дома, круг самых уважаемых друзей, святой тесть, заслуживший [всеобщее] уважение своими делами56, не менее, чем ты сама, ограждают меня от всяких подозрений в свершении подобного преступления.
Но, о ужас! Мои обвинители усматривают в тебе доказательства какой-то вины и, кажется, предполагают возможность совершения злодеяния мной только потому, что я взращен под твоим покровительством и воспитан в твоих правилах. Таким образом, разве недостаточно очевидно, что твое покровительство не принесло мне ничего [доброго], более того, поставило меня под [еще более] сильные удары. И довершило мои бедствия то, что суждение большинства принимает во внимание и [ставит] в заслугу не дела, но удачу, и считает достойным лишь то, что приносит счастье. Отсюда следует, что добрые побуждения отсутствуют прежде всего у несчастных.
Каковы теперь толки среди народа, сколь многочисленны и противоречивы мнения, мне стыдно помыслить об этом! Скажу лишь, что тяжелейшим бременем враждебной фортуны является то, что, как только несчастных обвинят в каком-либо вымышленном преступлении, [все] сразу поверят, что они заслужили выпавшее на их долю. И я, лишенный всех благ и отстраненный от государственных должностей, опозоренный молвой толпы, получил наказание как благодеяние. И представляются мне грязные притоны злодеев, погрязших в увеселениях и наслаждениях, я вижу, что какие-то нечестивцы возводят новые ложные обвинения, а честные люди, оцепенев от ужаса при виде невообразимой несправедливости по отношению ко мне, повержены, бесчестные же поощряются безнаказанностью злодеяния к наглости и наградами – к совершению преступлений, невиновные же не только не находятся в безопасности, но даже лишены защиты. Итак, я хочу воскликнуть:
- V. Звездоносного мира создатель57,
- Ты на троне предвечном своем
- Свод стремительно неба вращаешь!
- Терпят звезды Вселенной закон.
- Затмеваются меньше звезды
- Ярким светом полночной Луны —
- Тем, что братски ей Феб посылает.
- Так теряет при близости Феба
- Серп темнеющий бледный свой свет,
- Пусть холодного Геспера взлет
- Знаменует начало нам ночи,
- Перед Фебом, уже побледнев,
- Вечный путь Люцифер продолжает.
- В листопаде ненастной зимы
- Ты сжимаешь дневной промежуток
- И торопишь дневные часы
- С наступленьем горячего лета.
- Мудро смену времен ты назначил,
- Чтоб листву, что уносит Борей,
- Вновь Зефир58 нам весной возвратил бы,
- Сжег бы Сириус59 колос высокий,
- Чей посев бы увидел Арктур60.
- Все творенья свободно от века
- Сохраняют места в этом мире.
- К цели верной ты все направляешь,
- Не желая дела лишь людей
- Обуздать должной мерой, о царь,
- Почему перемены несет
- Нам судьба, угнетая невинных,
- А преступников кара бежит?
- Злые нравы зачем остаются
- На высоких местах и зачем
- Выю гнут людям честным злодеи?
- Добродетель таится в тени, —
- Свет во тьме, – кару честный несет
- За злодея вину? Почему?!
- Клятва ложная им не вредит —
- Ложь, прикрытая блеском наряда.
- Рады силою дерзкой своей,
- Пред которой трепещут народы,
- Покорять высочайших царей.
- О, взгляни на несчастную землю,
- Что покорна порядку вещей!
- Не ничтожная мира мы часть,
- Хоть бросают нас волны судьбы.
- Их обвал удержи, повелитель!
- И законом бескрайних небес
- Укрепи неподвижную землю!
V. Лишь только завершил я эту длинную скорбную песнь, как она, со спокойным лицом и не взволновавшись моими жалобами, сказала:
– Когда я увидела тебя грустным и рыдающим, то поняла, что ты несчастный изгнанник. Но не знала я, каким далеким было изгнание, пока твои речи не открыли мне это. Однако, как бы далеко ты ни был от своего отечества, ты не столько изгнан, сколько сбился с пути. И если ты покинул его, считая себя изгнанником, то скорее ты сам себя изгнал, ведь ни у кого нет права сделать это по отношению к тебе. Если вспомнишь, откуда ты родом, то не тому отечеству, в котором господствует многовластие, как у афинян61, обязан своим происхождением, но единому властелину, единому государю62, который не радуется изгнанию граждан. Руководствоваться его законами и повиноваться его правосудию есть высшая свобода. Разве ты не знаешь древнейший закон твоего государства, который священ, что никто не имеет права изгнать того, кто желает обосноваться в его пределах63. Ведь находящемуся под защитой его стен чужда боязнь, что он может быть незаслуженно изгнан. А если кто-нибудь перестает желать обитать там, в равной степени перестает этого заслуживать. Поэтому меня не столько беспокоит вид этого места, сколько твой вид. Ведь я пекусь о пристанище не в стенах библиотеки, украшенной слоновой костью и стеклом, а в твоей душе, в которой разместила не сами книги, но то, что придает книгам цену, – мысли, вложенные мною в них. И хотя ты сказал правду относительно твоих заслуг во имя общего блага, но о значении совершенных тобой дел напомнил недостаточно. Ты привел известные факты об обвинениях, как делающих тебе честь, так и ложных. Ты правильно счел, что злодеяний и коварства клеветников следует коснуться вкратце, так как они общеизвестны и обсуждены народом, знающим все лучше и полнее. Ты страстно обличал несправедливость сената, сокрушался, что меня оскорбили ложными наветами. Наконец, в твоем сердце укрепилась скорбь, и последовали упреки судьбе и жалобы на то, что награды воздаются не по достоинству и заслугам. В завершение ты строфами ожесточенной музы выразил желание, чтобы на земле царствовал порядок, подобный небесному. Но так как смятение и многие страсти гнетут тебя и разрывают тебе сердце гнев, скорбь и печаль, то при нынешнем состоянии твоей души не подходят тебе более крепкие лекарства. Поэтому мы сперва употребим легкие средства, чтобы опухоль, затвердевшая от волнений и тревог, размягчилась от [их] воздействия и ты обрел бы силы для принятия более действенных целебных средств.
- VI. Феба лучами пылает
- Тяжко Рака созвездье64.
- Вверишь ли семя земле ты
- Щедрое мертвой, иссохшей?
- Ждать бесполезно Цереру,
- Грызть тебе желуди дуба.
- Нет и фиалок в тех рощах,
- Свищет когда леденящий
- Ветер, взрывающий поле.
- Жадной рукой не пытайся
- С веток срывать, торопяся,
- Плод дивных лоз виноградных,
- Щедро дары нам приносит
- Осенью Вакх своей дланью.
- Мерится каждое время
- Только трудом, ему данным,
- Терпит создатель те смены, —
- Им заведенный порядок.
- Тех же людей, кто собьется
- С правой дороги, нарушив
- Мира закон вековечный,
- Горький исход постигает.
VI. – Позволь мне немного выяснить с помощью вопросов состояние твоей души, чтобы я поняла, какого рода лечение необходимо тебе.
– Спрашивай, о чем желаешь, – сказал я, – дам тебе ответ.
Тогда она спросила:
– Думаешь ли ты, что этот мир приводится в движение лишенными смысла и случайными причинами или же он повинуется разумному управлению?
– Никогда не допускал мысли, – ответил я, – что организованное в таком порядке создание может быть движимо слепой случайностью. Напротив, я знаю, что создатель руководит своим творением. И никогда не наступит час, который сможет поколебать мою уверенность в истинности этого суждения.
– Правильно. Ты ведь говорил об этом в стихах немного раньше и горевал, что только люди лишены божественной заботы65. Ведь в том, что все остальное управляется разумом, нельзя усомниться. Но я поражена, как при таких здравых рассуждениях в тебя проникли болезни. Однако я попытаюсь заглянуть поглубже, ибо не знаю, где скрыт изъян. Скажи мне, поскольку ты не сомневаешься, что миром правит Бог, с помощью каких установлений осуществляет Он свое правление?
– Мне, – ответил я, – не совсем понятен смысл твоего вопроса, и я даже не могу найти на него ответ.
– Неужели, – спросила она снова, – я ошибаюсь, думая, что в тебе есть изъян, через который, как через пробоину в крепком валу, проникла в твою душу болезнь смятения? Ответь же мне, какова цель всего сущего, к чему направлено стремление всей природы?
– Я слыхал об этом, но скорбь притупила мою память.
– А знаешь ли ты, откуда все берет начало?
– Это я знаю и утверждаю, что Бог существует.
Как же могло случиться, что, зная начало, ты не представляешь, что есть конечная цель всего сущего. Но таковы уж свойства страстей. Они могут потрясти человека, но отдалить его от самого себя и изменить до основания не могут. Я бы хотела, чтобы ты ответил вот еще на что: помнишь ли ты о том, что ты – человек?
– Как же, – ответствую, – мне этого не помнить?
– Можешь ли ты определить, что есть человек?
– Так ты спрашиваешь, знаю ли я, что представляю собой разумное смертное существо. Знаю и признаю, что я именно таков.
Тогда она сказала:
– Не знаешь ли ты еще чего-нибудь относительно своей сущности?
– Нет, больше ничего.
– Теперь мне понятна другая, или, точнее сказать, главная причина твоей болезни. Ты забыл, что есть сам. Так как я полнее выяснила причину твоей болезни, то придумаю, как найти средство, чтобы возвратить тебе здоровье. Ведь тебя сбило с пути забвение, поэтому ты печалишься о том, что сослан и лишен всего имущества. А поскольку ты действительно не знаешь, какова конечная цель всего сущего, то и считаешь негодяев и злодеев могучими и счастливыми, ибо предал забвению, посредством каких установлений управляется мир. Ты полагаешь, что перемены фортуны совершаются без вмешательства управителя. В этом и кроются причины, ведущие не только к болезни, но и к гибели. Но, благодарение Создателю, твоя природа еще не совсем повреждена. У меня есть средства, которые исцелят тебя, – это прежде всего твое правильное суждению об управлении мира, которое, как ты считаешь, подчинено не слепой случайности, но Божественному разуму. Не бойся ничего. Из этой маленькой искры возгорится пламя жизни. Но так как время для более сильных лекарств еще не наступило и уж такова природа [человеческой] души, что она отступает от истины, увлекаясь ложными суждениями, а порожденный ими туман страстей препятствует ясному видению вещей, то я попытаюсь немного развеять его легкими целительными и успокоительными средствами, чтобы, когда рассеется мрак переменчивых страстей, ты мог увидеть сияние истинного света.
- VII.Черною тучей
- Скрытые звезды
- Лить свой не могут
- Пламень на землю.
- Если взрывает
- Яростный Австр66
- Бурное море
- В реве прилива,
- Взору предстанут
- Пенные волны,
- Но не в кристаллах
- Ясных и чистых, —
- В мутном круженье.
- С гор высочайших
- Вниз повергаясь,
- Мчатся чрез камни
- Воды потока.
- Часто обвал им
- Бег преграждает.
- Также, коль хочешь
- В свете полдневном
- Правду увидеть,
- Правильной следуй
- В жизни дороге.
- Радость и страхи
- Дальше гони ты,
- Прочь и надежду!
- Чтобы печали
- Не было в сердце.
- Сумрачен ум тот,
- Связан уздою,
- Где они правят.
Книга вторая
I. Затем она на несколько мгновений прервала свою речь и, овладев моим вниманием благодаря благоразумному молчанию, обратилась ко мне:
– Если я достаточно глубоко поняла причины твоего недуга, то мне представляется, что ты чахнешь из-за непреодолимого желания вернуть себе прежнюю благосклонность Фортуны. И твой дух поколебало то, что она, как ты полагаешь, отвернулась от тебя. Я постигла множество обманчивых форм этой чародейки и льстивую близость, которой она постоянно дарит тех, кого желает обмануть, делая это до тех пор, пока не погружает [их] в неутолимую скорбь своим неожиданным уходом. Если же ты припомнишь ее природу, обычаи и благодеяния, то поймешь, что благосклонность Фортуны не содержит ничего прекрасного и ты ничего не утратил. Я полагаю, что тебе не составит большого труда восстановить это в памяти. Ты ведь имел обыкновение, когда она покровительствовала тебе и осыпала ласками, осуждать се исполненными суровости словами и порицать суждениями, вынесенными из нашей обители. Но всякая внезапная перемена жизни, без сомнения, пробуждает в душах какое-то смятение. Поэтому и случилось, что ты на короткое время утратил присущее тебе спокойствие духа. И вот сейчас настало время, чтобы ты попробовал мягкое и приятное лечебное средство, которое, проникнув внутрь, откроет путь для более сильных лекарств. Призовем же на помощь убеждения сладкой риторики, которая только тогда ведет верным путем, когда не отступает от наших наставлений и когда ее сопровождает музыка, сложенная ларами, и вторит ей быстрыми или медленными ладами67.
Что же, о человек, повергло тебя в такую печаль и исторгло скорбные стенания? Думаю, что ты испытал нечто исключительное и небывалое. Ты полагаешь, что Фортуна переменчива лишь по отношению к тебе? Ошибаешься. Таков ее нрав, являющийся следствием присущей ей природы. Она еще сохранила по отношению к тебе постоянства больше, чем свойственно ее изменчивому характеру. Она была такой же, когда расточала тебе свои ласки и когда, резвясь, соблазняла тебя приманкой счастья. Ты разгадал, что у слепой богини два лица, ведь еще прежде, когда суть ее была скрыта от других, она стала полностью ясной для тебя. Если ты одобряешь ее обычаи, не жалуйся. Если же ее вероломство ужасает [тебя], презри и оттолкни ту, которая ведет губительную игру, ведь именно теперь то, что является для тебя причиной такой печали, должно и успокоить. Ибо покинула тебя та, от предательства которой никто и никогда не может быть защищен. Неужели имеет для тебя цену преходящее счастье и разве дорога тебе Фортуна, верная лишь на мгновение и чуждая постоянства, уход которой приносит печаль? Если же ее невозможно удержать по воле [людей], а удаляясь, она делает их несчастными, что иное представляет быстротечное [счастье], как не некое предзнаменование будущих невзгод? Ведь недостаточно видеть лишь то, что находится перед глазами, – благоразумие понимает, что все имеет конец и что как добро, так и зло переменчивы. И не следует поэтому ни страшиться угроз Фортуны, ни слишком сильно желать [ее] милостей.
Наконец, следует тебе запастись терпением, чтобы перенести то, что происходит во владениях Фортуны, если уж однажды ты склонил шею под ее ярмом. И если бы ты пожелал установить закон, чтобы удержать ее или предугадать уход той, которую ты по своей воле избрал своей госпожой, разве было бы это правильным, ведь отсутствие терпения лишь ухудшило бы жребий, который изменить ты не в силах. Если ты отдаешь свой корабль на волю ветров, он будет двигаться не сообразно твоим желаниям, а куда повлекут его их яростные порывы. Когда ты засеваешь пашню семенами, то предвидишь годы урожайные и бесплодные. Ты отдал себя во власть Фортуны, следует, чтобы ты подчинился обычаям повелительницы. Зачем ты пытаешься удержать стремительное движение вращающегося колеса?68. О глупейший из смертных, если Фортуна обретет постоянство, она [утратит свою природу] и перестанет быть зависящей от случая.
- I. Десницей гордою толкнула колесо
- Стремительней, чем в скалах бег Эврипа69.
- Тиран раздавлен им, и вновь капризная
- Чело униженного поднимает.
- Всегда к слезам и горю равнодушная,
- Виновница всего, – смеется стонам,
- Играет так она своим могуществом.
- Привычно ей свершать дела чудесные —
- Паденье и подъем в один и тот же час.
II. Но я хотела бы немного обсудить [это] с тобой, пользуясь языком самой Фортуны70. Ты же примечай, каковы ее права. «Почему ты, человек, ежедневно преследуешь меня жалобами, какую несправедливость я причинила тебе? Какие блага отняла? Порассуждай же со мной об обладании богатством и чинами и сравни [наши мнения]. И если ты докажешь, что хотя бы нечто из принадлежащего мне является неотъемлемой собственностью кого-нибудь из смертных, я тотчас сделаю так, чтобы стало твоим то, чего ты потребуешь.
Когда тебя природа произвела из материнской утробы, еще не владеющего ничем и беспомощного, я поддержала тебя, осыпала своими щедротами и благосклонно, с любовью и нежностью воспитала, свершив все, что было в моей власти, окружала тебя роскошью и блеском, – и все это делает тебя теперь нетерпимым по отношению ко мне. Сейчас угодно мне отвести свою руку. Когда ты пользовался моей благосклонностью, ты обладал данным взаймы, поэтому ты не имеешь права жаловаться, словно утратил нечто принадлежащее тебе. Почему ты стонешь? Я не проявила к тебе никакой жестокости. Богатства, почести и прочие блага такого рода находятся в моей власти, служанки знают свою госпожу и, когда я покидаю несчастного, удаляются вместе со мной. Я решительно утверждаю, что, если бы принадлежали тебе блага, на утрату которых ты жалуешься, ты бы ни в коем случае не мог их потерять. Или мне, единственной, запрещено осуществлять свое собственное право? Ведь разрешено небу рождать светлые дни и погребать их в темных ночах, позволено временам года то украшать цветами и плодами облик земли, то омрачать его бурями и морозами. У моря есть право то ласкать взор ровной гладью, то ужасать штормами и волнами. Неужели только меня ненасытная алчность людей обязывает к постоянству, которое чуждо моим обычаям? Наша сила заключена в непрерывной игре – мы движем колесо в стремительном вращении и радуемся, когда павшее до предела возносится, а вознесенное наверх повергается в прах. Поднимись, если угодно, но при таком условии, что ты не сочтешь несправедливым падение, когда того потребует порядок моей игры. Разве тебе были неизвестны прежде мои обычаи? Разве ты не знал, что Крез71, царь лидийцев, недавно еще угрожавший Киру, вскоре вслед за тем был предан пламени костра, что само по себе достойно сострадания, и не погиб только благодаря дождю, ниспосланному с неба? Неужели от тебя укрылось, что Павел72 проливал благочестивые слезы из-за несчастий Персея, плененного им? И что иное оплакивают трагедии, как не безжалостные удары Фортуны, внезапно сокрушающей счастливые царствования? А разве ты в юности не учил, что на пороге обиталища Юпитера стояли δὺο πίθευς τὸν μὲν ἕνα κακῶν, τὸν ἕνα δὲ ἕτερον ἑάνωάων73. Подумай, не досталось ли тебе благ больше, чем горестей? Что, если от тебя я не полностью отвернулась? Ведь сама моя изменчивость дает законные основания надеяться на лучшее. Поэтому не падай духом и, подчиняясь общему для всех закону, не стремись жить по своим собственным установлениям.
- II. Если б судьба столько благ приносила74,
- Сколько у моря песка,
- Сколько звезд на полуночной тверди
- Блещет златых, если б рог
- Изобилья и не отводила Фортуна,
- Ей никогда не сдержать
- Жалоб людских, сколько б ни нисходило.
- Небо расточает дары
- Тем, кто к успеху и славе стремится.
- Мало, однако, им все,
- Ибо не знают люди предела.
- Жадность раскроет их пасть.
- Алчность жестокая их непомерна.
- Кто обуздает ее?
- Кто удержит желанья уздою?
- Сколько б ни было благ,
- Жарче только горит вожделенье
- В их ненасытной душе.
- Но не быть человеку богатым,
- Мнит кто несчастным себя.
III. – Если бы Фортуна обратилась к тебе с такой речью, ты бы не нашел никаких возражений, но, если все-таки существует нечто, чем ты мог бы по справедливости подкрепить свои жалобы, тебе следует это высказать, я предоставляю тебе такую возможность.
На это я ответил:
– Твои рассуждения убедительны и пропитаны медом сладкой риторики и музыки, но они несут утешение лишь тогда, когда их слушают; более глубоко сокрыто чувство обиды у несчастных, поэтому, как только они перестают звучать в ушах, печаль, пронизывающая меня, снова отягчает душу.
Она согласилась со мной и произнесла:
– Это еще не лекарства от твоей болезни, до настоящей минуты не поддавшейся лечению, но лишь как бы средства, облегчающие печаль. Но когда придет время, я дам тебе целительное средство, которое проникнет в глубины твоего существа. Мне хотелось бы, чтобы ты не настаивал на том, что ты несчастлив, ибо разве ты забыл меру и продолжительность своего счастья? Я умалчиваю о том, что, когда ты лишился родителей, тебя поддержала забота лучших людей, на тебя пал выбор, и ты сделался родственником первых лиц государства, что явилось наиболее ценным свидетельством расположения к тебе, но ты был уже дорог им прежде, чем стал родственником. Кто же мог не счесть себя счастливейшим из людей, имея столь именитых тестя и тещу, обладая столь целомудренной супругой и – последняя милость неба – имея сыновей.
Я уж не говорю о почетных должностях, полученных тобой еще в юношеские годы, а ведь в них бывает отказано и старикам. И чтобы возродить [в душе] радость, обрати взор к главной вершине своего счастья. Ибо если достижение блаженства возможно как результат человеческих деяний, то разве тяжесть обрушившихся на тебя несчастий способна уничтожить воспоминания о том дне, когда ты видел, как двое твоих сыновей, избранных одновременно консулами, вышли из дома и шествовали, окруженные многочисленной толпой патрициев и возбужденного народа, когда в присутствии их, восседающих в курии в курульных креслах, ты выступил с речью, прославлявшей королевскую власть, и стяжал славу за блистательное красноречие; когда в цирке в честь обоих консулов ты вознаградил ожидания толпы триумфальной щедростью.
Я представляю, как ты возносил хвалы Фортуне, пока она ласкала и согревала тебя, осыпая своими милостями. Такими дарами, как тебя, она никогда не награждала ни одного смертного. А теперь ты желаешь свести счеты с Фортуной? Ведь она впервые устремляет на тебя свой леденящий взор. Если же ты сопоставишь меру своих радостей и печалей, то не сможешь отрицать, что до сих пор был счастлив. И ты не считаешь себя счастливым лишь потому, что некогда обладал счастьем, а теперь то, что казалось радостным, ушло. Но ведь этого недостаточно, чтобы считать себя несчастным. Ведь и нынешние печали тоже пройдут мимо. Или, быть может, тебе первому на этой сцене жизни принадлежат права хозяина? Или, возможно, ты полагаешь, что постоянство присуще человеческой природе, и забываешь, что самому человеку несет гибель быстротечное мгновение. Но ведь если превратная Фортуна редко сохраняет постоянство, то и последний день [человеческой] жизни тоже знаменует смерть покинутой Фортуны. Что ты можешь возразить на это? Разве не покидаешь ты ее, умирая, так же, как она тебя, уходя?
- III. Когда с розовопламенной квадриги
- Снопами сыпет Феб свой свет,
- Звезда бледнеет пред его лучами
- И исчезает в блеске их.
- Когда при дуновении Зефира
- Лес в розовом цвету стоит,
- Примчится бурный Австр, с цепи сорвавшись,
- Раздев шиповник донага.
- В прозрачной тишине искрится море,
- Спят волны неподвижны,
- Но часто Аквилон75 вздымает бури,
- Срывая пену яростно.
- Все в мире этом так непостоянно,
- Подвержен переменам свет.
- Поверь, судьбы мгновенны, преходящи
- Дары, как мимолетный сон!
- Одно лишь в мире постоянно, вечно —
- Непостоянство, бренность всех.
IV. Тогда я обратился к ней:
– Справедливо все, что говорила ты, о кормилица всех добродетелей, и я не могу отрицать стремительнейший взлет моего процветания. Но это еще больше жжет мне душу. Ведь при всякой превратности Фортуны самое тяжкое несчастье в том, что ты был счастливым76.
– Твои несчастья, – возразила она, – являются наказанием за твои заблуждения, ибо ты не можешь правильно оценить ход событий. Ведь, если даже суетное воспоминание об исполненном случайностей счастье все еще волнует тебя, следует тебе поразмыслить вместе со мной, насколько велики и многочисленны те блага, которыми ты хотел бы обладать. Ибо, если наиболее драгоценные, по твоему мнению, дары Фортуны, которыми ты владел, по божественному соизволению оставлены в неприкосновенности, разве имеешь ты право, сохранив лучшее, сетовать на несчастья, оставаясь при этом справедливым? Ведь остался еще невредимым тесть Симмах, муж, прославленный мудростью и добродетелями, не радеющий о собственном благе, чьи деяния служат величайшему украшению человеческого рода и за которого ты отдал бы жизнь без промедления, он оплакивает твои несчастья. Жива еще супруга, скромная и наделенная целомудрием, и что более всего характеризует ее достоинства, похожая на своего отца. Она жива, – повторяю я, – но, хотя жизнь опостылела ей, сохраняет тебе преданность, и я соглашусь, что лишь одно может уменьшить твое счастье – это ее слезы и печаль, от которых она чахнет в тоске по тебе. Что мне добавить о детях, консулярах, их дарования, унаследованные от отца и деда, были выдающимися уже в раннем возрасте.
Если же важнейшая забота смертных – сохранение жизни, ты, когда оценишь блага, оставшиеся тебе, поймешь, что даже теперь они были бы всякому достаточны для счастья, и никто не усомнится, что жизнь милостива к тебе. Поэтому осуши слезы, еще не обрушила Фортуна свою ненависть на твоих близких, и на тебя наслала она не слишком сильную бурю, еще удерживают тебя надежные якоря, которые позволяют найти утешение в настоящем и [возлагать] надежды на будущее.
– О! – воскликнул я. – Если бы они у меня были! Ведь тогда, как бы ни обернулись дела, я буду спасен. Но ты видишь, как поблек мой наряд.
Она ответила:
– Мы уже несколько продвинулись, если тебе не все в твоей участи кажется столь безысходным, но я не могу вернуть тебе [былые] радости, сколько бы ты ни стенал в горести и отчаянии о том, что недостает чего-то из твоих благ. Кто обладает счастьем столь полным, чтобы не выражать недовольства своим положением или хотя бы какой-нибудь его стороной? Источником мук является стремление к обладанию мирскими благами, которые или оказываются быстротечными, или вовсе никогда не приходят. У одного есть богатства, но он стыдится низкого происхождения; другой знатен от рождения, но, придавленный нуждою, предпочел бы принадлежать к незнатной семье; третий, обладая тем и другим, печалится из-за невозможности вступить в брак; четвертый, счастливый в браке, лишен детей и копит богатства чужому наследнику; пятый, осчастливленный потомством, печально оплакивает заблуждения сына или дочери. Прибавь к этому, что у счастливого человека чувства легко ранимы, и он, не привыкнув к перенесению малейших неприятностей, бывает повержен ими, поэтому ему очень мало нужно, чтобы утратить ощущение полноты счастливейшего блаженства. Сколь много существует людей, которые считали бы себя близкими к небу, если бы им досталась хоть малая часть из оставшегося у тебя счастья?
