Под сенью девушек в цвету
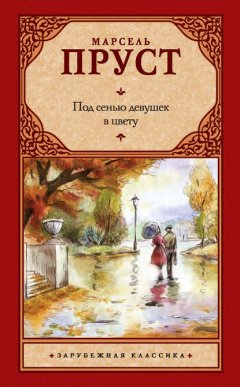
© Перевод. А. Федоров, наследники, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Часть первая
Вокруг г-жи Сван
Когда в первый раз речь зашла о том, чтобы пригласить на обед господина де Норпуа, моя мать выразила сожаление, что профессор Котар в отъезде и что сама она совершенно перестала посещать дом Свана, а ведь и тот и другой могли бы быть интересны для бывшего посла, – отец ответил, что такой замечательный сотрапезник и знаменитый ученый, как Котар, – никогда не лишний за столом, но что Сван, с его чванством, с его манерой на каждом перекрестке трубить о самых ничтожных своих связях – заурядный хвастун, которого маркиз де Норпуа, пользуясь его же языком, нашел бы, наверное, «зловонным». Этот ответ моего отца требует разъяснений, потому что иным, быть может, памятны еще некий весьма незначительный Котар и Сван, скромность и сдержанность которого достигали крайней степени изысканности в области светских отношений. Но что касается прежнего приятеля моих родных, то к личностям «Свана-сына» и «Свана – члена Жокей-клуба» он прибавил теперь личность новую (и это прибавление было не последним) – личность мужа Одетты. Подчинив жалкому честолюбию этой женщины всегда ему присущие инстинкты, желание и ловкость, он ухитрился создать себе новое положение, сильно уступавшее прежнему и рассчитанное на подругу, которая будет занимать его с ним. И тут он оказывался другим человеком. Поскольку (продолжая посещать своих личных друзей, которым он не желал навязывать Одетту, если они сами не просили его познакомить с нею) он вместе со своей женой начинал новую жизнь среди новых людей, то еще можно было понять, что, желая оценить их достоинства, а следовательно, и то удовольствие, которое он мог доставить своему самолюбию, когда принимал их у себя, он решил воспользоваться для сравнения не самыми блестящими из своих знакомых, составлявших его общество до брака, а прежними знакомыми Одетты. Но даже зная, что он ищет знакомства грубоватых чиновников или сомнительных женщин, служащих украшением министерских балов, все же удивительно было слышать, как он, – прежде, да и теперь еще умевший так изысканно скрывать приглашение в Твикенгем или в Букингемский дворец, – громко трубил, что жена помощника начальника канцелярии приезжала отдать визит г-же Сван. Может быть, скажут, что простота Свана – светского человека была только более утонченной формой тщеславия и, подобно некоторым израильтянам, прежний друг моих родных тоже мог пройти последовательные стадии, которые прошли его соплеменники, начиная самым наивным снобизмом и самой резкой грубостью и кончая самой тонкой вежливостью, что в этом – вся причина. Но главная причина – причина, имеющая значение для всякого человека вообще, – была та, что даже наши добродетели не являются чем-либо свободным, текучим, что они не всегда в нашей власти; в конце концов они в нашем представлении так тесно связываются с поступками, которые, как нам кажется, обязывают нас их проявлять, что когда перед нами открывается деятельность другого рода, она застает нас врасплох, и мы даже не можем представить себе, чтобы эти самые добродетели могли и здесь найти применение. Сван, ухаживающий за своими новыми знакомыми и с гордостью ссылающийся на них, напоминал тех больших художников, скромных и щедрых, которые, если под старость принимаются за кулинарию или садоводство, с наивным удовлетворением выслушивают похвалы своим кушаньям или своим грядкам, не допуская по отношению к ним никакой критики, хотя были бы рады ей, если бы дело шло о каком-нибудь их шедевре; или же, отдавая за бесценок свою картину, не в силах сдержать раздражение, проиграв в домино каких-нибудь сорок су.
Что касается профессора Котара, то он еще неоднократно встретится нам много дальше, у Хозяйки, в замке Распельер. Пока что ограничимся по отношению к нему прежде всего следующими замечаниями. Перемена, происшедшая в Сване, могла в конце концов удивить, потому что она уже завершилась незаметно для меня, когда я встречался с отцом Жильберты на Елисейских Полях, где, впрочем, не разговаривая со мной, он и не мог хвастать своими политическими связями (правда, если б он и стал это делать, его тщеславие, может быть, и не сразу бросилось бы мне в глаза, потому что представление, которое мы давно составили о человеке, закрывает нам глаза и затыкает уши; моя мать целых три года совершенно не замечала, что ее племянница подмазывает себе губы, как будто краска полностью и незримо была растворена в какой-то жидкости, пока одна лишняя крупинка или, может быть, какая-нибудь другая причина вызвала феномен, называемый перенасыщением; незамечаемые румяна превратились в кристаллы, и моя мать, увидев вдруг этот разгул красок, объявила, уподобившись обывательнице Комбре, что это срам, и прекратила почти всякие сношения с племянницей). Но что касается Котара, то, напротив, время, когда он в доме Вердюренов присутствовал при появлении там Свана, было уже довольно далеким, а с годами приходят почести, официальные звания; во-вторых, можно не быть широко просвещенным, можно строить нелепые каламбуры, но обладать особым даром, которого не заменит никакая общая культура, как, например, дар стратега или великого клинициста. Действительно, собратья Котара видели в нем не только скромного врача-практика, ставшего с течением времени европейской знаменитостью. Самые умные среди молодых врачей заявляли – в продолжение, по крайней мере, нескольких лет, ибо моды, порожденные потребностью в перемене, тоже меняются, – что случись им заболеть, то одному лишь Котару они доверили бы свою жизнь. Разумеется, они предпочитали общество профессоров более начитанных, обладавших художественным чутьем, с которыми они могли говорить о Ницше, о Вагнере. На музыкальных вечерах, которые давала г-жа Котар в надежде, что муж ее станет деканом факультета, и на которые приглашала его коллег и учеников, сам он, вместо того чтобы слушать, предпочитал играть в карты в соседней гостиной. Но все восхваляли меткость, проницательность, точность его глаза, его диагноза. В-третьих, что касается позы, которую Котар принимал, когда имел дело с людьми вроде моего отца, то заметим, что характер, который обнаруживается в нас во второй половине нашей жизни, если и часто, то все же не всегда является соответствием нашему прежнему характеру, развивая или заглушая его особенности, подчеркивая или затушевывая их; порою это характер совершенно противоположный, совсем как костюм, вывернутый наизнанку. Нерешительность Котара, его чрезмерная застенчивость и услужливость всюду, за исключением дома Вердюренов, привязавшихся к нему, были в его молодости причиной вечных шуток. Какой милосердый друг посоветовал ему надеть маску неприступности? Важность его положения облегчила ему это. Всюду, разве за исключением дома Вердюренов, где он невольно становился самим собой, он напускал на себя холодность, любил молчать, был безапелляционен, если надо было говорить, не упуская случая сказать что-нибудь неприятное. Эту новую манеру держаться он мог проверить на пациентах, которые, еще никогда не видев его, не могли и сравнивать и были бы очень удивлены, узнав, что он человек вовсе не суровый по природе. Больше всего он стремился к полной невозмутимости, и даже когда в больнице он изрекал один из тех каламбуров, что заставляли смеяться всех, начиная старшим врачом клиники и кончая новичком-студентом, он делал это всегда так, что не двигался ни один мускул его лица, которое к тому же стало неузнаваемо с тех пор, как он сбрил бороду и усы.
Объясним, наконец, кто был маркиз де Норпуа. До войны он был полномочным министром, а после 16 мая – послом и, несмотря на это, к великому удивлению многих, исполнял затем не раз поручения, возлагавшиеся на него радикальными правительствами, которым даже обыкновенный реакционер-буржуа отказался бы служить и которым прошлое г-на де Норпуа, его связи, его взгляды должны были бы внушать подозрение: он являлся представителем Франции в чрезвычайных случаях и даже, в качестве государственного контролера по долгам в Египте, оказал важные услуги, благодаря своим большим финансовым способностям. Но эти передовые министры, должно быть, отдавали себе отчет в том, что благодаря подобному назначению становится очевидно, каких широких взглядов держатся они, когда дело идет о высших интересах Франции, что они поднимаются выше обыкновенных политических деятелей, заслуживая даже со стороны «Journal des Debats» признания их государственными людьми; наконец они извлекали выгоду из престижа, который связан с аристократическим именем, а также из интереса, который возбуждает, подобно театральной развязке, неожиданное назначение. Они знали также, что, обращаясь к г-ну де Норпуа, они могут пользоваться этими удобствами, но опасаясь с его стороны недостатка в политической лояльности, так как происхождение маркиза служило для них не предостережением, но гарантией. И в этом правительство республики не ошибалось. Прежде всего потому, что известного рода аристократы, с детства привыкшие смотреть на свое имя как на внутреннее преимущество, которого ничто не может у них отнять (и цена которого хорошо известна людям равным им или стоящим еще выше), знают, что могут избавить себя, ибо это не даст им большего, от ненужных усилий, которые без ощутимых результатов делают столько простых буржуа, старающихся выказывать лишь благонадежные взгляды и водить знакомство лишь с благонамеренными людьми. Зато, стремясь возвыситься в глазах принцев и герцогов, от которых их отделяет всего лишь одна ступень, эти аристократы знают, что они могут этого достичь, лишь украсив свое имя тем, чего ему не было дано и благодаря чему они могут превзойти равных по рождению, то есть политическим влиянием, известностью писателя или художника, большим состоянием. И заботы, от которых не в пример заискивающему буржуа они могут воздержаться в отношениях к ненужному им дворянчику, чья бесплодная дружба не имела бы никакой цены в глазах принца, – эти заботы они станут расточать политическим деятелям, хотя бы и масонам, которые могут открыть доступ в посольства или оказать покровительство на выборах, художникам или ученым, чья поддержка помогает «пробиться» в той области, где они главенствуют, всем тем, наконец, кто в состоянии придать новый блеск вашей репутации или помочь выгодному браку.
Что же касается г-на де Норпуа, то он прежде всего в течение долгой дипломатической карьеры проникся тем отрицательным, рутинным, консервативным, «правительственным» духом, который действительно присущ всем правительствам и при всех правительствах царит главным образом в канцеляриях. В этой деятельности он почерпнул отвращение и боязливое презрение к тем более или менее революционным и, во всяком случае, некорректным методам, какими являются методы оппозиции. Если не считать каких-нибудь невежд из простого народа или же из светского общества, для которых различие духовных типов – мертвая буква, то людей связывает не общность убеждений, а кровное родство духа. Какой-нибудь академик вроде Легуве, сторонник классиков, скорее одобрил бы дифирамб Виктору Гюго, произнесенный Максимом Дюканом или Мезьером, нежели дифирамб Буало, произнесенный Клоделем. Одинаковость националистических взглядов сближает Барреса с его избирателями, которые не видят большой разницы между ним и г-ном Жоржем Берри, но не может сблизить его с коллегами по Академии, которые, разделяя его политические взгляды, однако будучи другого склада ума, предпочтут ему даже противников вроде гг. Рибо и Дешанеля, гораздо более близких последовательным монархистам, нежели Моррас и Леон Доде, хотя и они желают возвращения короля. Скупой на слова, по профессиональной привычке, внушающей сдержанность и осторожность, а также и потому, что слова благодаря этому приобретают больший вес, представляют больше оттенков с точки зрения тех, чьи десятилетние труды, направленные на сближение двух стран, выражаются, резюмируются – в речи или протоколе – простым прилагательным, казалось бы, совсем обыкновенным, но заключающим для них целый мир, – г-н де Норпуа считался человеком очень холодным в той комиссии, где он заседал рядом с моим отцом, которого все поздравляли, видя расположение к нему бывшего посла. Оно прежде всего удивляло моего отца. Ибо, не отличаясь вообще особой любезностью, он не привык к тому, чтобы за пределами круга домашних кто-нибудь старался приобрести его дружбу, и простодушно признавался в этом. Он сознавал, что предупредительность дипломата была следствием той совершенно индивидуальной точки зрения, на которую становится всякий, когда дело идет о его привязанностях, и с которой все умственные качества или эмоциональные свойства известного лица, если само это лицо сердит нас или неприятно на нас действует, не будут служить столь благоприятной рекомендацией, как прямота и веселость другого человека, который многим будет казаться пустым, легкомысленным и ничтожным. «Де Норпуа опять пригласил меня на обед; это необыкновенно; в комиссии все поражены; там он ни с кем не знаком домами. Я уверен, что он расскажет мне еще что-нибудь потрясающее о войне 70-го года». Отец мой знал, что г-н де Норпуа был, пожалуй, единственный, кто указывал императору на растущую мощь и воинственные замыслы Пруссии, и что Бисмарк питал исключительное уважение к его уму. В газетах совсем еще недавно писалось о продолжительной беседе, которой удостоил г-на де Норпуа король Феодосий в опере, во время гала-спектакля, дававшегося в честь монарха. «Надо мне будет узнать, действительно ли имеет значение этот приезд короля, – сказал нам мой отец, проявлявший большой интерес к иностранной политике. – Правда, я знаю, что старик Норпуа – очень скрытный, но со мной он так мило откровенничает…»
Что касается моей матери, то, пожалуй, посол и не отличался тем складом ума, который был для нее всего привлекательнее. И я должен сказать, беседа г-на де Норпуа была столь полным собранием устарелых формул, характерных для определенной деятельности, для определенного класса людей и для определенной эпохи – эпохи, может быть, еще и не совсем кончившейся для этого рода деятельности и для этого класса людей, – что порой я жалею, зачем я просто и точно не сохранил в памяти того, что он говорил: я достиг бы эффекта старомодности с такой же легкостью и совершенно таким же путем, как тот актер из Пале-Рояля, которого спрашивали, где он отыскивает свои удивительные шляпы, и который отвечал: «Я не отыскиваю их, я их сохраняю». Словом, моя мать, как я думаю, считала г-на де Норпуа немножко «старомодным», что отнюдь не казалось ей неприятным в смысле манер, однако меньше нравилось ей, если не в отношении взглядов, – ибо взгляды г-на де Норпуа были весьма современные, – то в смысле форм выражения. Но она понимала, что она тонко льстит самолюбию своего мужа, когда, в разговорах с ним, восхищается этим дипломатом, который относится к нему с такой исключительной благосклонностью. Поддерживая в нем высокое мнение, которое он составил себе о г-не де Норпуа, и таким путем возвышая в собственных глазах и его самого, она исполняла свой долг, состоявший в том, чтобы делать приятной жизнь мужа, так же, как когда заботилась о том, чтобы обед был хорош и чтобы прислуга молчаливо исполняла свои обязанности. А так как она не способна была лгать моему отцу, то невольно начинала восхищаться послом, чтобы иметь возможность хвалить его с полной искренностью. Впрочем, ей, разумеется, нравилось его доброе лицо, его учтивость, несколько старомодная (и настолько изысканная, что когда, идя по улице, выпрямившись во весь свой рост, он замечал мою мать, проезжавшую в экипаже, он, прежде чем снять шляпу, бросал сигару, только что закуренную); его обдуманная беседа, во время которой он как можно меньше говорил о себе и всегда помнил о том, что могло бы быть интересно собеседнику; пунктуальность, с которой он отвечал на письма и которая казалась столь необыкновенной, что когда отцу моему случалось послать письмо г-ну де Норпуа и он тотчас же после этого получал конверт, надписанный рукой маркиза, то у него прежде всего являлась мысль, что по досадной случайности письма их разошлись в дороге; можно было подумать, что для г-на де Норпуа существует особая почта. Моя мать удивлялась, как он может быть таким точным, несмотря на свою занятость, таким внимательным, несмотря на бесконечные знакомства, и не думала о том, что за этим «несмотря на» всегда скрываются «потому что» и (подобно тому как иные старики удивительно сохраняются для своего возраста, короли держатся с величайшей простотой, а провинциалы всё знают) одни и те же привычки позволяют г-ну де Норпуа заниматься таким множеством дел и быть таким аккуратным в своей переписке, иметь успех в обществе и оказывать внимание нашей семье. К тому же моя мать, как все чрезвычайно скромные люди, впадала в заблуждение, вызванное тем, что все относящееся к ней она привыкла считать заслуживающим меньшего внимания, не ставя в связь ни с чем. Быстрый ответ на письмо, имевший в ее глазах такую цену, потому что другу моего отца каждый день приходилось писать много писем, являлся для нее исключением из этого множества писем, хоть это и было только одно из них; она также не принимала во внимание, что для г-на де Норпуа обед в нашем доме – одно из бесчисленных дел в его общественной жизни; она не думала о том, что посол, будучи дипломатом, привык смотреть на званые обеды как на нечто входящее в его служебные обязанности, проявляя на них давно привычную ему любезность, и нельзя было требовать, чтобы, обедая у нас, он в виде исключения от нее отрешился.
День, когда г-н де Норпуа первый раз обедал в нашем доме, – это было еще в то время, когда я ходил играть на Елисейские Поля, – запомнился мне, потому что в этот день мне удалось услышать Берма в утреннем спектакле в «Федре», а также потому, что, разговаривая с г-ном де Норпуа, я внезапно и по-иному отдал себе отчет в том, насколько чувства, внушаемые мне всем, что касалось Жильберты Сван и ее родителей, были непохожи на чувства, которые эта самая семья возбуждала в других.
Заметив, должно быть, мое уныние по случаю приближения новогодних вакаций, в течение которых я не должен был видеться с Жильбертой, объявившей мне об этом, моя мать сказала мне, чтобы развлечь меня: «Если тебе все так же хочется слышать Берма, то, я думаю, отец позволит тебе пойти в театр; тебя сведет туда бабушка».
А надо заметить, г-н де Норпуа говорил моему отцу, что следовало бы позволить мне послушать Берма, что такие воспоминания навсегда остаются у юноши, и потому мой отец, не допускавший до сих пор и мысли, чтобы я рисковал здоровьем и тратил время на вещи, которые он, к величайшему возмущению бабушки, называл никчемушными, уже готов был смотреть на этот спектакль, реабилитированный послом, как на одно из условий, необходимых для блестящей карьеры и удачи. Бабушка, которая принесла большую жертву моему здоровью, отказавшись от намерения дать мне услышать Берма, что было бы, по ее мнению, благотворно для меня, дивилась, как одно слово г-на де Норпуа заставило позабыть все заботы о здоровье. Твердо уповая, как подобает рационалисту, на целительное действие режима, предписывавшего мне подолгу бывать на воздухе и рано ложиться спать, она сокрушалась об этом нарушении его, как о несчастье, и страдальческим голосом говорила моему отцу: «Как вы легкомысленны», – на что отец сердито отвечал: «Как? Теперь вы не хотите, чтобы он шел в театр! Это уж слишком, ведь вы все время твердили нам, что это принесет ему пользу».
Но г-н де Норпуа изменил планы моего отца по еще более существенному для меня вопросу. Отцу всегда хотелось, чтобы я стал дипломатом, а для меня невыносима была мысль, что, будучи даже временно причислен к министерству, я рискую в один прекрасный день получить назначение в столицу, где Жильберты не будет. Я предпочел бы вернуться к литературным замыслам, зародившимся во мне когда-то во время моих прогулок в сторону Германта и мною оставленным. Но отец постоянно противился моему желанию посвятить себя литературной карьере, которую он считал гораздо менее почтенной, нежели дипломатия, отказывая ей даже в названии карьеры, – вплоть до того дня, когда г-н де Норпуа, недолюбливавший дипломатических чиновников нового образца, убедил его, что и в роли писателя можно заслужить такое же уважение и оказать такое же влияние, как в дипломатической должности, сохраняя при этом большую независимость.
«Ну вот, я и не думал, что старик Норпуа отнюдь не возражает против твоего плана заняться литературой», – сказал мне отец. А так как, пользуясь сам достаточным влиянием, он считал, что нет такого дела, которое не устроилось бы, не получило благополучного разрешения в разговоре с влиятельными людьми, то и заключил: «Как-нибудь на этих днях я приведу его обедать после комиссии. Ты поговоришь с ним, чтобы он мог оценить тебя. Напиши что-нибудь получше, чтобы можно было ему показать: он в большой дружбе с редактором «Revue des Deux Mondes», он тебе туда откроет доступ, он это устроит, он ловкий старик; и право, он как будто считает, что дипломатия теперь – так…»
Радостная надежда на то, что я не буду разлучен с Жильбертой, внушала мне желание, но не давала сил написать какую-нибудь хорошую вещицу, которую можно было бы показать г-ну де Норпуа. Написав две-три страницы вступления, я от скуки ронял перо, я плакал от бешенства при мысли, что никогда не буду талантлив, что я лишен дарования и даже не способен воспользоваться счастливым случаем – предстоящим посещением г-на де Норпуа, позволявшим мне навсегда остаться в Париже. И только мысль, что мне разрешают послушать Берма, заставляла меня забыть это горе. Но так же, как бурю мне страстно хотелось видеть только на одном из тех побережий, где ярость ее всего сильнее, так и великую актрису мне хотелось видеть не иначе, как в одной из тех классических ролей, где, по словам Свана, она достигала подлинного величия. Ибо когда мы ищем известных впечатлений в искусстве или в природе в надежде на какое-нибудь драгоценное открытие, то совестимся вместо них давать доступ в нашу душу впечатлениям менее значительным, которые могут ввести нас в обман насчет точного значения Прекрасного. Берма в «Андромахе», в «Прихотях Марианны», в «Федре» – вот оно, то великолепие, которого так жаждало мое воображение. Если когда-нибудь в чтении Берма мне суждено будет слышать стихи: «Внезапный твой отъезд теперь нам возвещен» и т. д., я испытаю то же наслаждение, как в тот день, когда мне доведется наконец подплыть в гондоле к шедевру Тициана в церкви Фрари или к картинам Карпаччо в Сан-Джорджо деи Скьявони. Я знал их в том виде, как – черным по белому – они воспроизводятся в печатных изданиях; но мое сердце билось каждый раз при мысли, что, наконец, словно осуществившаяся мечта о путешествии, они действительно предстанут мне в солнечных лучах золотого голоса. Картина Карпаччо в Венеции, Берма в «Федре» – вот совершенные создания живописи или драматического искусства, которым связанное с ними обаяние придавало в моих глазах такую жизненность, то есть так тесно связывало их воедино, что если бы мне пришлось увидеть Карпаччо в Луврской галерее или Берма в какой-нибудь пьесе, о которой я ничего бы не слыхал до сих пор, я уже не ощутил бы чудесного удивления, как в ту минуту, когда наконец увидел бы воочию непостижимый и единственный предмет бесчисленных моих мечтаний. К тому же, ожидая от игры Берма откровения новых сторон благородства и страдания, я думал, что эта игра будет еще величественнее и правдивее, если в основу ее актриса положит произведение действительно замечательное, вместо того чтобы оживлять в общем правдивым и красивым рисунком ничтожную и пошлую канву.
И наконец, если бы мне пришлось слушать Берма в новой пьесе, мне было бы нелегко судить о ее мастерстве, ее дикции, ибо я не мог бы провести сравнения между текстом, неизвестным мне заранее, и его исполнением, интонациями и жестами, которые показались бы мне неразрывными с ним; между тем старые произведения, которые я знал наизусть, представлялись мне обширными просторами, где я сразу на полной свободе легко смогу оценить откровения Берма и неиссякаемые находки ее фантазии, которыми она расцветит их словно фрески. К несчастью, с тех пор как она покинула большие сцены и обогащала один бульварный театр, звездой которого была, она больше не играла в классических пьесах, и я напрасно изучал афиши, они все время объявляли только совершенно новые пьесы, состряпанные модными авторами специально для нее, – как вдруг, однажды утром, просматривая на колонке с афишами программы утренних представлений первой недели нового года, я впервые увидел, – в конце спектакля, после какой-то пьесы для поднятия занавеса, вероятно малозначительной, с заглавием, которое мне показалось непроницаемым, ибо оно заключало в себе все особенности каких-то неведомых мне событий, – два действия «Федры» с участием г-жи Берма, а в следующих утренних спектаклях – «Полусвет», «Прихоти Марианны» – имена для меня прозрачные, как и «Федра», насквозь пронизанные светом, – настолько знакомы были мне эти произведения, до глубины озаренные улыбкой искусства. Они возвышали в моих глазах и г-жу Берма, которая, как сообщалось в газете вслед за программой этих спектаклей, сама приняла решение снова показаться публике в одной из своих прежних ролей. Значит, артистка знала, что иные роли представляют интерес, не зависящий от их новизны или от успеха их возобновления; на эти роли в своем исполнении она смотрела как на музейные шедевры, которые поучительно снова показать поколению, восхищавшемуся ею, или поколению, еще не видевшему ее в этих ролях. И когда в число пьес, предназначавшихся лишь к тому, чтобы занять публику на один вечер, она ставила на афишу «Федру», заглавие которой было не длиннее их заглавий и было напечатано такими же буквами, она делала это как будто с умыслом, точно хозяйка дома, которая, представляя вас своим гостям, в ту минуту когда зовут к столу, называет в числе гостей, являющихся всего лишь гостями, и тем же тоном, каким она представляла остальных: «Господин Анатоль Франс».
Лечивший меня врач – тот, который запретил мне путешествия, – советовал моим родным не пускать меня в театр, потому что оттуда я вернусь больной, быть может надолго, и страдание, в конце концов, будет сильнее, чем полученное удовольствие. Подобная мысль могла бы меня остановить, если бы то, чего я ожидал от этого представления, было только удовольствием, которое может уничтожить сменившее его страдание. Но то, что я хотел получить от этого спектакля, – так же как и то, чего я ожидал от поездки в Бальбек, от путешествия в Венецию, к которым так стремился, – было нечто совсем иное, чем удовольствие: то были истины, принадлежащие миру более реальному, чем тот, где я жил, и которые, однажды сделавшись моим достоянием, не могут быть отняты у меня по вине ничтожных случайностей моей праздной жизни, хотя бы и мучительных для моего тела. Удовольствие, которое я буду испытывать во время спектакля, казалось мне, самое большее, формой, может быть, необходимой для восприятия этих истин; мне только страстно хотелось, чтобы предсказанное недомогание наступило уже после спектакля, не помешало моему удовольствию и не испортило его. Я умолял моих родителей, которые после посещения врача уже не хотели позволить мне пойти на «Федру». Я без конца декламировал тираду: «Внезапный твой отъезд теперь нам возвещен», отыскивая все интонации, которые можно было вложить в нее, чтобы лучше оценить всю неожиданность той интонации, которую найдет Берма. Божественной красоте, которая должна была явиться мне в игре Берма и которая, таясь, словно святая святых за завесой, скрывавшей ее от меня, каждое мгновение принимала для меня новые формы, воплощая приходившие мне на память слова Бергота в брошюре, отысканной Жильбертой: «Благородная пластичность, христианская власяница, янсенистская бледность, царица Трезенская и принцесса Клевская, микенская трагедия, дельфийский символ, солнечный миф», – этой красоте я воздвиг жертвенник, пылавший день и ночь неугасимым огнем в глубинах моей души, и теперь от решения моих суровых и неосмотрительных родных зависело, заключит ли она в себе навсегда или нет совершенства богини, освобожденной от покровов в том месте, где высился ее незримый образ. И, устремив глаза на непостижимые черты, я по целым дням боролся с препятствиями, которые создавала мне моя семья. Но когда они исчезли, когда моя мать, – несмотря на то что этот утренний спектакль приходился как раз на день заседания комиссии, после которого отец намерен был привести обедать г-на де Норпуа, – сказала мне: «Ну что ж, мы не хотим огорчать тебя, если ты думаешь, что это доставит тебе такое удовольствие, надо идти», – когда этот день, посвященный театру и до сих пор запретный, стал зависеть уже только от меня, тогда, освободившись от забот о том, чтобы сделать его возможным, я впервые спросил себя, следует ли его желать и нет ли помимо запрета моих родных других причин, которые заставили бы меня отказаться от моего намерения. До этого их жестокость возмущала меня, но теперь, когда позволение было дано, они стали мне так дороги, что мысль о возможности огорчить их делалась для меня самого источником огорчения, заставляя видеть цель жизни уже не в истине, а в нежности, и в самой жизни видеть хорошее и плохое в зависимости от того, будут ли счастливы или несчастны мои родные. «Я лучше не пойду, если это вас огорчит», – сказал я матери, которая, напротив, старалась отвлечь меня от мысли, будто я могу огорчить ее, потому что эта мысль, по ее словам, отравила бы удовольствие, которое я получу от «Федры» и ради которого она и отец отменили свое запрещение. Но тогда это обязательное удовольствие начинало казаться мне очень тягостным. Затем, если я из театра приду больной, – успею ли я выздороветь до конца каникул, чтобы пойти на Елисейские Поля, как только вернется Жильберта? Стараясь решить, чему отдать предпочтение, я всем этим доводам противопоставлял незримый за скрывающей его завесой образ совершенств Берма. На одной чашке весов было: «мама огорчится, а я, чего доброго, буду не в состоянии пойти на Елисейские Поля», а на другой: «янсенистская бледность, солнечный миф»; но под конец самые эти слова потускнели в моем уме, они больше ничего не говорили мне, теряли всякий вес; мало-помалу мои колебания становились так мучительны, что если бы я решился в пользу театра, то это имело бы единственной целью положить им конец и раз навсегда избавиться от них. Обаяние совершенства утратило власть надо мной; уже не в надежде на духовное обогащение, а лишь для того, чтобы сократить свои муки, позволил бы я вести себя не к Мудрой Богине, но к беспощадному Божеству без лика и без имени, обманно поставленному на ее место за завесой. Но вдруг все изменилось, моему желанию услышать Берма был дан новый толчок, заставивший меня с нетерпением и радостью ожидать этого утра: предаваясь с упорством столпника моему ежедневному, с недавних пор столь мучительному созерцанию колонки с афишами, я увидел еще совсем свежую подробную афишу «Федры», наклеенную только что (и где, по правде говоря, распределение остальных ролей не послужило для меня добавочной приманкой, которая определила бы мое решение). Но одно из тех желаний, между которыми колебалась моя нерешительность, приобретало форму более конкретную, почти что неминуемую, так как афиша была помечена не тем днем, когда я читал ее, а днем, когда должно было состояться само представление, и даже часом, когда поднимется занавес, – оно уже готово было осуществиться, так что от радости я даже подскочил перед колонкой, захваченный мыслью, что в этот день и в этот час я, сидя на своем месте, приготовлюсь слушать Берма; и от страха, что мои родные не успеют достать два хороших места – для бабушки и для меня, – я одним прыжком оказался дома, подстегнутый магическими словами, которые сменили в моем уме «янсенистскую бледность» и «солнечный миф»: «дамам в шляпах вход в кресла не разрешается, впуск публики прекращается в два часа».
Увы, этот первый спектакль был большим разочарованием. Отец предложил нам с бабушкой завезти нас в театр по дороге в комиссию. Уходя из дому, он сказал матери: «Постарайся, чтобы был хороший обед. Ты помнишь, что я приведу де Норпуа?» Моя мать не забыла об этом. И уже с вечера Франсуаза пребывала в творческом волнении, счастливая, что может предаться искусству кулинарии, даром которого она несомненно обладала, подстрекаемая к тому же мыслью о новом госте, возвещенном ей, и зная, что ей придется готовить по способу, известному ей одной, говядину в желе; так как она придавала исключительное значение органическим свойствам материалов, входивших в состав ее произведений, то сама ходила на рынок, чтобы достать лучшие части вырезки, лучший окорок, лучшие телячьи ножки, подобно Микеланджело, который восемь месяцев провел в горах Каррары, выбирая совершеннейшую глыбу мрамора для памятника Юлию II. Носясь взад и вперед, Франсуаза проявляла такое усердие, что мама, видя ее пылающее лицо, обеспокоилась, как бы наша старая служанка не заболела от переутомления, как создатель гробницы Медичи в каменоломнях Пьетраганты. И уже накануне Франсуаза отправила в булочную запекать то, что называла нев-йоркской ветчиной – розовый мрамор, защищенный оболочкой из хлебного мякиша. Очевидно, считая язык менее богатым, чем он есть, и не доверяя собственным ушам, она, когда при ней в первый раз заговорили о йоркской ветчине, решила, что ослышалась, что в словаре не может быть заодно и Йорка и Нью-Йорка, ибо это невероятно расточительно, и что, наверно, хотели произнести уже известное ей название. И с тех пор слову «Йорк» в ее представлении, слышала ли она его или читала где-нибудь в объявлении, предшествовал слог «Нью», который она произносила «Нев». И она с полным убеждением говорила своей судомойке: «Сходите за ветчиной к Олида. Барыня наказывала мне, чтобы ветчина была нев-йоркская». И если в этот день Франсуаза была исполнена пламенной уверенности великого творца, моим жребием была жестокая тревога искателя. Конечно, до того как я услышал Берма, я испытывал удовольствие: удовольствие я чувствовал в маленьком сквере перед театром, оголенные каштаны которого должны были через два часа зажечься металлическими отблесками, в тот миг, когда газовые рожки осветят контуры их ветвей, – и тогда, когда мы проходили мимо контролеров, выбор которых, карьера, судьба зависели от великой артистки, безраздельно властвовавшей в этом театре, где незаметно сменялись призрачные, совершенно номинальные директора; контролеры эти взяли наши билеты, не глядя на нас, озабоченные мыслью, в точности ли переданы новым служащим все предписания г-жи Берма, хорошо ли известно, что клака никогда не должна аплодировать ей, что окна должны быть открыты, пока она не на сцене, и что каждая дверь должна быть закрыта после ее выхода, что рядом с ней незаметно должен быть поставлен сосуд с теплой водой, чтобы не давать скопляться пыли; и в самом деле, через какую-нибудь минуту ее карета, запряженная парой лошадей с длинными гривами, должна была остановиться перед театром, и она должна была выйти из нее, закутанная в меха и кисло отвечающая на поклоны, послать одну из своих горничных узнать, оставлены ли места на авансцене для ее друзей, осведомиться о температуре залы, о публике лож, о том, как одеты капельдинерши, ибо театр и публика были для нее как бы вторым одеянием, более внешним, являясь средой, предназначенной к тому, чтобы служить проводником ее таланта. Счастлив был я еще и в самом зале; с тех пор как я знал, что – вопреки картинам, которые с давних пор рисовало мое детское воображение, – для всех существует только одна сцена, я думал, что в театре другие зрители мешают видеть, как всегда бывает в толпе; однако я убедился, что, напротив, благодаря особому расположению, являющемуся словно символом восприятия, каждый чувствует себя центром театра; тут я понял, почему Франсуаза, которую однажды отпустили в театр посмотреть мелодраму, уверяла, что ее место – на галерее третьего яруса – было самое лучшее, и почему ей казалось, что она сидела совсем недалеко и даже была напугана таинственной и полной жизни близостью занавеса. Мое удовольствие еще увеличилось, когда за этим опущенным занавесом мне начали слышаться смутные шумы, напоминавшие тот шорох, что возникает под скорлупой яйца, когда цыпленок готов вылупиться; вскоре они усилились, и вдруг стало несомненно, что они относятся к нам, – после того как из этого мира, недоступного нашему взгляду, не видящему нас, властно донесся троекратный стук, не менее потрясающий, чем знаки, поданные с планеты Марс. А когда занавес поднялся и на сцене появились письменный стол и камин, впрочем, довольно обыкновенные на вид, показывая, что лица, которые сейчас выйдут, не декламирующие актеры, каких я видел на одном вечере, но люди, собирающиеся у себя дома прожить один из дней своей жизни, в которую я проникну, как вор, незамеченный ими, – мое удовольствие все продолжалось; оно было прервано короткой тревогой: как раз в ту минуту, когда я настроился, ожидая начала пьесы, на сцену вышли двое мужчин, очень рассерженных, ибо они говорили настолько громко, что в этом зале, где было больше тысячи человек, слышно было каждое их слово, тогда как даже в маленьком кафе приходится спрашивать гарсона, что говорят какие-нибудь два повздоривших субъекта; но в ту же минуту, удивленный, что публика безропотно слушает их, захваченная всеобщим молчанием, на поверхности которого то тут, то там начинал плескаться смешок, я понял, что эти нахалы – актеры и что маленькая пьеса, для так называемого поднятия занавеса, началась. За ней последовал антракт, такой длинный, что зрители, вернувшись на свои места, начали выражать нетерпение, стучать ногами. Меня это испугало, ибо, подобно тому как, читая в отчете о судебном процессе, что какой-нибудь благородный человек, презрев свою собственную выгоду, собирается дать показания в пользу невинного, я всегда опасался, что с ним не будут достаточно милы, что ему не выразят должной благодарности, что его не вознаградят с избытком и что, возмущенный, он станет на сторону обвинителей, – так и теперь, отожествляя в этом смысле гений и добродетель, я опасался, как бы Берма, раздосадованная дурными манерами плохо воспитанной публики, – среди которой, напротив, мне так хотелось увидеть каких-нибудь знаменитостей, чье суждение было бы для нее дорого, – не выразила ей своего недовольства и презрения плохой игрой. И я с мольбой смотрел на этих топочущих животных, готовых в своей ярости разрушить то хрупкое, драгоценное впечатление, которого я искал. Наконец, последние минуты удовольствия я пережил во время первых сцен «Федры». Сама Федра не появляется в этих первых сценах второго акта, но все же, как только занавес поднялся и вслед затем раздвинулся другой занавес, из красного бархата, разделявший сцену пополам во всех пьесах, где играла знаменитость, из глубины показалась актриса, которая лицом и голосом, судя по тому, что я слышал о Берма, напоминала ее. Очевидно, изменили распределение ролей, весь труд, который я положил на то, чтобы изучить роль жены Тезея, пропадал зря. Но вот другая актриса подала первой реплику. Я очевидно ошибся, приняв ту, первую, за Берма, потому что вторая еще больше напоминала ее, в особенности дикцией. К тому же обе они, приподымая свои прекрасные пеплумы, сопровождали игру жестами, полными благородства, – которые были мне отчетливо видны и связь которых с текстом была мне понятна, – и продуманными интонациями, порою страстными, порою ироническими, открывавшими мне смысл какого-нибудь стиха, который дома я читал, не обращая внимания на то, что он означает. Но вдруг в просвете, образованном двумя половинками красного занавеса святилища, появилась, словно в раме, женщина, и я сразу же понял, что две актрисы, которыми я несколько минут восхищался, не имеют ничего общего с той, которую я пришел слушать, – понял по тому страху, гораздо более напряженному, чем тот, что могла испытывать сама Берма, опасаясь, как бы ей не помешали, открыв окно, как бы не заглушили звука ее слов шуршанием программы, как бы не потревожили ее, аплодируя другим актрисам и недостаточно аплодируя ей, – я это понял по тому чувству – еще более интенсивному, чем у самой Берма, – с которым начиная с этой минуты я стал смотреть на зал, на публику, на актеров, на пьесу и на собственное тело, видя во всем этом только акустическую среду, имеющую смысл лишь в той мере, в какой она была благоприятна интонациям ее голоса. Но в ту же минуту кончилось все мое удовольствие: как я ни устремлялся к ней слухом, зрением, сознанием, стараясь не упустить ни одной крупицы из того, чем я должен был бы восхищаться в ней, мне ничего не удавалось уловить. В ее дикции и в ее игре я даже не мог отыскать тех осмысленных интонаций, красивых жестов, которые замечал в игре двух других актрис. Я слушал ее так, словно читал «Федру» или словно сама Федра говорила в эту минуту все то, что я слышал, и словно талант Берма не вносил ничего нового. Я хотел бы надолго задержать, остановить каждую из интонаций артистки, каждое из выражений, сменявшихся на ее лице, чтобы углубить их, пытаясь открыть то прекрасное, что было в них заключено; по крайней мере, собрав все мое внимание и настроившись воспринять тот или иной стих, я старался не потерять ни одного слова, ни одной из тех секунд, в течение которых оно произносилось, не потерять ни одного жеста и, силой напряженного внимания, проникнуть в него так глубоко, как если бы в моем распоряжении были целые часы. Но как мимолетно было все это! Едва коснувшись слуха, звук уже сменялся другим. Во время той сцены, когда Берма, приподняв руку до уровня лица, тонущего в зеленых лучах искусственного света, застывает на миг на фоне декорации, изображающей море, зал разразился аплодисментами, но актриса стояла уже на другом месте, и картина, в которую я хотел бы вникнуть, уже не существовала. Я сказал бабушке, что мне плохо видно, она дала мне бинокль. Но когда веришь в реальность вещи, впечатление, полученное от нее искусственным путем, не вполне заменяет нам ее близость. Я подумал, что я уже вижу не Берма, но ее изображение в увеличительном стекле. Я отложил бинокль; но может быть, образ, воспринятый моим глазом и уменьшенный расстоянием, был не более точен; который же из этих двух образов был настоящий? Что же касается признания Ипполиту, то я очень надеялся на это место, где, судя по неожиданности значений, на которые другие актрисы открывали мне глаза в репликах менее замечательных, она должна была найти интонации гораздо более поразительные, чем те, которые я старался представить себе, читая «Федру» у себя дома; но она не достигла даже и тех, которые нашли бы Энона или Арисия; она сгладила однообразием мелопеи весь этот монолог, где друг с другом слились антитезы, как-никак настолько отчетливые, что сколько-нибудь вдумчивая артистка, даже, пожалуй, воспитанник лицея не оставили бы их незамеченными; кроме того, она произнесла его так быстро, что только тогда, когда она дошла до последнего стиха, я отдал себе отчет в нарочитом однообразии, которое она придала первым стихам.
Наконец я отдался первому порыву восхищения: он был вызван неистовыми аплодисментами зрителей. Я принял в них участие, стараясь продолжить их, чтобы Берма, из чувства благодарности, решила превзойти себя и чтобы я мог быть уверен, что слышал ее в один из лучших ее дней. Любопытно, впрочем, что момент, когда публика дала волю своему восхищению, был, как я узнал потом, одним из прекраснейших достижений Берма. Есть, по-видимому, трансцендентные реальности, от которых исходят лучи, и толпа чувствует их. Так, например, когда совершается историческое событие, когда армия подвергается опасности на границе или одерживает победу, те довольно смутные известия, которые мы получаем и которые мало говорят культурному человеку, вызывают в толпе волнение, которое удивляет его и в котором, узнав от осведомленных людей о действительном положении на фронте, он видит ту прозреваемую народом «ауру», что окружает великие события и может быть видна за сотни километров. О победе узнаешь или задним числом, когда война кончилась, или сразу же, видя радость консьержа. О гениальной черте в игре Берма мы узнаем из критики неделю спустя после того, как слушали ее, или сразу по восторгу публики. Но так как к этому непосредственному пониманию толпы примешиваются еще сотни совершенно ошибочных оценок, то аплодисменты чаще всего раздавались некстати, не считая того, что они возбуждались механически силою предшествовавших аплодисментов, подобно тому, как во время бури волнение на море, взбудораженном ветром, продолжает расти, даже если ветер больше не усиливается. Во всяком случае, по мере того как я все больше аплодировал, мне казалось, что Берма лучше играет. «По крайней мере, – говорила женщина, сидевшая рядом со мной, довольно простая на вид, – уж она себя не жалеет, ей, верно, больно, так она надрывается, она бегает; что ни говори, – это игра». И, радуясь такому определению превосходства Берма, хоть и сознавая, что оно объясняет его не лучше, чем объясняло красоту Джоконды или Персея Бенвенуто восклицание крестьянина: «А ведь хорошо! Все из золота, да из какого! и какая работа!» – я упивался этим грубым вином восторга толпы. Тем не менее, когда занавес опустился, я почувствовал разочарование оттого, что это удовольствие, которого я так жаждал, оказалось меньше, чем я думал, но вместе с тем и стремление продолжить его и, покинув зал, не расставаться навсегда с этой театральной жизнью, которая в течение нескольких часов была моей и разлука с которой была бы для меня словно изгнание, если бы, сразу по возвращении домой, я не надеялся слышать там о Берма от ее поклонника, которому был обязан разрешением пойти на «Федру», – г-на де Норпуа. Отец представил меня ему перед обедом, позвав для этого в свой кабинет. Когда я вошел, посол встал, протянул мне руку, наклонился ко мне и остановил на мне пристальный голубой взгляд. Так как иностранцы, которых знакомили с ним в то время, когда он за границей представлял Францию, были все – вплоть до певцов, пользовавшихся известностью, – лица более или менее замечательные и так как он знал, что потом, когда в Париже или Петербурге будут называть их имена, он сможет сказать, что прекрасно помнит вечер, проведенный с ними в Мюнхене или Софии, он привык всегда выражать им удовольствие, доставляемое знакомством с ними; но кроме того, уверенный, что, соприкасаясь с замечательными личностями, которые оказываются проездом в той или иной столице, и сталкиваясь с обычаями народа, живущего там, можно и в области истории, и географии, и национальных нравов, и умственного движения Европы приобрести знания более глубокие, которых не дает книга, он при каждом новом знакомстве вооружался всей проницательностью наблюдателя, чтобы сразу же определить, с кем имеет дело. Правительство давно уж не поручало ему постов за границей, но, как только ему представляли кого-нибудь, глаза его, которым словно неизвестно было об его отставке, предавались плодотворным наблюдениям, между тем как он сам всей своей манерой держаться старался показать, что имя незнакомца ему не чуждо. Поэтому, разговаривая со мною благосклонно и важно, как человек, знающий цену своему обширному опыту, он не переставал рассматривать меня с пытливой любознательностью и ради своей же пользы, как если бы я был чужеземное обыкновение, памятник, полный поучительности, или звезда, совершающая турне. И в его отношении ко мне сказывалась таким образом величавая приветливость мудрого Ментора и настойчивая любознательность юного Анахарсиса.
Он ничего не предложил мне написать для «Revue des Deux Mondes», но задал мне ряд вопросов о моем образе жизни и занятиях, о моих вкусах, про которые со мной впервые говорили так, как будто разумно было следовать им, между тем как я до сих пор думал, что мой долг – им противиться. Так как они влекли меня к литературе, то он не старался отвлечь меня от нее; напротив, он говорил о ней почтительно, как об уважаемой и очаровательной особе, избранный круг которой в Риме или Дрездене оставил в нас лучшие воспоминания, возбуждая сожаления о том, что условия нашей жизни позволяют нам лишь так редко встречаться. Казалось, те прекрасные мгновения, которые она подарит мне, более счастливому и более свободному, возбуждают в нем зависть, а вместе с тем и улыбку почти что игривую. Но самые выражения, которыми он пользовался, показывали мне, что Литература слишком уж не соответствует тому представлению, которое я составил себе в Комбре, и я понял, что был вдвойне прав, отказавшись от нее. До сих пор я отдавал себе отчет только в том, что лишен литературного дарования, теперь же г-н де Норпуа отнимал у меня и охоту писать. Я пытался высказать ему то, о чем мечтал; меня, дрожавшего от волнения, смущала мысль, что не все мои слова могут быть самым искренним соответствием тем чувствам, которые я никогда еще не пытался формулировать себе; иначе говоря, в словах моих не было никакой ясности. Может быть, по профессиональной привычке, может быть, благодаря спокойствию, присущему всякому значительному лицу, советов которого мы просим и которое предоставляет собеседнику волноваться, напрягать все силы, прилагать все усердие, зная, что нити разговора в его руках; а может быть, для того, чтобы выставить в выгодном свете форму своей головы, – греческую, по его мнению, несмотря на большие бакенбарды, – г-н де Норпуа, когда ему что-нибудь излагали, хранил полнейшую неподвижность лица, как будто ваша речь была обращена к глухому античному бюсту где-нибудь в глиптотеке. И вдруг раздавался, подобно удару молотка на аукционе или дельфийскому оракулу, голос посла, который отвечал вам, поражая тем сильнее, что по его лицу совершенно нельзя было угадать ни характера впечатления, которое вы на него произвели, ни суждения, которое он собирался высказать.
«Как раз, – сказал он мне вдруг, словно приговор был произнесен, и кладя конец вздору, который я молол под неподвижным взглядом его глаз, ни на минуту не оставлявших меня, – мне вспоминается сын одного из моих друзей, который, mutatis mutandis[1], совсем вроде вас – (и, говоря об одинаковости наших наклонностей, он принял такой же успокоительный тон, как будто это были наклонности к ревматизму и как будто он хотел показать мне, что от этого не умирают). – Он предпочел оставить Орсейскую набережную, где, однако, все пути были ему открыты, благодаря его отцу, и принялся писать, не заботясь о том, что будут говорить. Право, ему не в чем раскаиваться. Он издал два года тому назад – он, разумеется, много старше вас – труд, в котором рассматривается чувство бесконечности на западном берегу озера Виктория Нианца, а в этом году работу менее значительную, но написанную легким, а порою и острым пером, о ружье с репетицией в болгарской армии, – сочинения, благодаря которым он не имеет себе равных. Он прошел уже немалый путь, он не из тех, кто останавливается на полдороге, и я знаю, что хотя его кандидатура и не имелась в виду, но в Академии Моральных Наук его имя упоминалось в разговоре раза два-три в очень лестном для него смысле. В общем, если нельзя еще сказать, что он достиг вершины величия, то он властно завоевал себе очень неплохое положение и успех, не всегда достающийся на долю одним лишь пронырам, вздорщикам, бахвалам, которые почти всегда являются и дельцами, – успех вознаградил его усилия».
Мой отец, решив уже, что через несколько лет я буду академиком, чувствовал удовлетворение, достигшее апогея, когда, после минуты нерешительности, в течение которой он, казалось, взвешивал последствия своего поступка, г-н де Норпуа сказал мне, протянув свою визитную карточку: «Навестите его от моего имени, он вам может дать полезные советы», – вызывая во мне этими словами волнение столь же мучительное, как если бы он возвестил мне, что завтра же я в качестве юнги должен отправиться в плавание на парусном судне.
Моя тетка Леония завещала мне множество вещей, большое количество весьма неудобной мебели, а также и почти весь свой наличный капитал, таким образом проявив после смерти привязанность ко мне, о которой я вовсе и не подозревал при ее жизни. Мой отец, который должен был управлять этим состоянием до моего совершеннолетия, спросил совета г-на де Норпуа, как поместить часть этого капитала. Посол порекомендовал бумаги, приносящие небольшой доход, которые считал особенно солидными, а именно – «английские гарантированные» и русскую четырехпроцентную ренту. «С этими первоклассными бумагами, – сказал г-н де Норпуа, – во всяком случае, вы всегда уверены, что капитал не обесценится, хотя проценты и не очень высоки». Что касается остального, то отец сказал ему в общих чертах, что он купил. На лице г-на де Норпуа появилась едва заметная улыбка одобрения: как и для всякого капиталиста, богатство было для него вещью, достойной зависти, но он считал более изысканным, если дело шло о чьем-либо состоянии, выражать свое участие почти совершенно незаметно; с другой стороны, так как сам он был страшно богат, то он считал правилом хорошего тона делать вид, будто чужие доходы, хотя бы не столь крупные, кажутся ему значительными, причем, однако, возвращаясь к мысли о превосходстве собственного состояния, он чувствовал себя отрадно и уютно. Зато он не поколебался поздравить моего отца с содержанием его портфеля, в котором, по его словам, был виден «вкус очень уверенный, очень изысканный, очень тонкий». Можно было подумать, что соотношению биржевых ценностей друг с другом и даже самим этим ценностям как таковым он приписывает нечто вроде эстетической значимости. По поводу одной из них, – довольно новой и малоизвестной, о которой мой отец заговорил с ним, – г-н де Норпуа, словно человек, читавший книги, которые, как вы думали, знакомы только вам, сказал: «Как же, одно время я следил за ее котировкой, которая меня занимала, она была интересна», – с улыбкой, подвластной прошлому, словно подписчик журнала, урывками прочитавший последний напечатанный в нем роман. «Я не решился бы отсоветовать вам подписаться на выпуск, который появится в ближайшее время. Он имеет свои прелести, так как бумаги продаются по заманчивым ценам». Уже не помня с полной точностью названий некоторых старых бумаг, так как их легко было спутать с названиями однородных же акций, отец выдвинул ящики и показал послу самые бумаги. Меня очаровал их вид, они были украшены шпицами соборов и аллегорическими изображениями, как иные из числа тех старых романтических изданий, которые я перелистывал в былое время. Во всем, что относится к одной и той же эпохе, есть сходство; художники, которые иллюстрируют современные им поэмы, те же, что работают в кредитных обществах. И ничто так не напоминает отдельных выпусков «Собора Парижской Богоматери» и произведений Жерара де Нерваля в том виде, как они были выставлены в витрине бакалейной лавки в Комбре, как какая-нибудь именная акция Водной компании в прямоугольной рамке с узорами из цветов, которую поддерживают речные божества.
Мой умственный склад вызывал со стороны отца пренебрежение, которое, однако, настолько смягчалось нежностью, что, в общем, он относился с безусловным снисхождением ко всему, что я делал. Поэтому он не призадумался послать меня за небольшим стихотворением в прозе, которое я когда-то написал в Комбре, вернувшись с прогулки. Я писал его в восторженном состоянии, которое, казалось мне, должно сообщиться и тем, кто будет его читать. Но оно, по-видимому, не подействовало на г-на де Норпуа, потому что, возвращая стихотворение, он не сказал мне ни слова.
Мать, всегда исполненная уважения к занятиям отца, робко пришла спросить, можно ли подавать. Она опасалась прервать разговор, в котором ей не пристало бы принимать участие. И действительно, мой отец каждую минуту напоминал маркизу о каком-нибудь полезном мероприятии, которое они решили поддерживать на ближайшем заседании комиссии, и при этом он принимал особенный тон, каким разговаривают между собой в посторонней обстановке, точно два школьника, два сослуживца, которых, благодаря профессиональным привычкам, сближают общие воспоминания, недоступные для прочих и требующие извинений, когда собеседники касаются их.
Но полная независимость мускулов лица, которой достиг г-н де Норпуа, позволяла ему слушать с таким видом, будто он не слышит. Отец в конце концов приходил в замешательство: «Я предполагал узнать мнение комиссии…» – говорил он г-ну де Норпуа после долгого вступления. Тогда с уст аристократического виртуоза, хранившего неподвижность музыканта, который ждет, когда ему вступать, слетало, словно продолжение начатой фразы, в таком же темпе и тем же тоном, но окрашенное другим тембром: «… которую вы, разумеется, не затруднитесь созвать, тем более что члены ее вас лично знают и легки на подъем». Само по себе такое заключение было, конечно, не особенно необыкновенно. Но предшествовавшая неподвижность придавала ему кристальную отчетливость, почти лукавую неожиданность тех фраз, которыми в концертах Моцарта рояль, пока что молчавший, в нужный момент отвечает звуку виолончели.
– Ну, остался ли ты доволен спектаклем? – спросил меня, когда мы проходили в столовую, отец, давая мне случай блеснуть и думая, что мой восторг возвысит меня в мнении г-на де Норпуа. – Он сегодня слушал Берма, помните, мы с вами говорили, – обратился он к дипломату таким тоном, как будто намекал – таинственно и нарочито, словно что-то припоминая – на заседание комиссии.
– Вы, наверно, были в восхищении, в особенности если слушали ее в первый раз. Ваш отец опасался последствий, которые может иметь для вас маленькое отступление от вашего образа жизни, – ведь вы, кажется, слабого здоровья и не очень выносливы. Но я успокоил его: «Театры сейчас не то, чем они были всего лет двадцать тому назад. Вы сидите почти что с комфортом, зал вентилируется, хотя нам еще многого недостает, чтобы догнать Германию и Англию, от которых мы страшно отстали и в этом отношении, как и во многих других». Я не видел г-жи Берма в «Федре», но я слышал, что она прекрасна в этой роли. И вы, конечно, были в восторге?
Г-н де Норпуа был в тысячу раз умнее меня, и ему должна была быть известна та правда, которую я не сумел открыть в игре Берма, он должен был объяснить мне ее; отвечая на его вопрос, я хотел попросить его сказать мне, в чем выражается эта правда; и мое желание видеть эту актрису получило бы таким образом обоснование. В моем распоряжении был какой-нибудь миг, надо было воспользоваться им и расспросить о существенном. Но что было существенно? Сосредоточив все мое внимание на полученных впечатлениях, столь смутных, и вовсе не думая заслужить одобрение г-на де Норпуа, но надеясь добиться от него желанной правды, я не пытался заменить недостающие мне слова заранее готовыми выражениями, я запинался, а под конец, чтобы заставить его объяснить мне, чем замечательна Берма, я признался ему в своем разочаровании.
– Но как же, – воскликнул отец, недовольный тем, что, признаваясь в своем непонимании, я могу произвести неприятное впечатление на г-на де Норпуа, – как ты можешь говорить, что не получил удовольствия? Твоя бабушка рассказывала нам, что ты не пропустил ни одного слова Берма, что ты глядел во все глаза, что во всем театре ты один так смотрел.
– Ну, да, я старался слушать как можно лучше, чтоб узнать, что в ней такого особенного. Конечно, она очень хороша…
– Если она очень хороша, то чего ж тебе еще?
– Свойство, безусловно содействующее успеху г-жи Берма, – обратился г-н де Норпуа к моей матери, стараясь втянуть и ее в круг разговора и добросовестно исполняя долг вежливости в отношении хозяйки дома, – это безукоризненный вкус, который сказывается у нее в выборе ролей и благодаря которому она всегда имеет настоящий и заслуженный успех. Она редко играет в посредственных пьесах. Смотрите, вот она взялась за роль Федры. И этот вкус виден и в туалетах, и в игре. Хоть она совершила целый ряд очень удачных турне в Англии и Америке, на нее не повлияла вульгарность – не скажу Джона Буля, что было бы несправедливо, по крайней мере по отношению к Англии времени Виктории, – но дядюшки Сэма. Слишком ярких красок, громких воплей – никогда. И потом – этот поразительный голос, которым она владеет с таким совершенством, что хочется сравнить ее с певицей.
Интерес, который возбуждала во мне игра Берма, продолжал усиливаться и после того, как кончился спектакль, потому что его больше не стесняли грани действительности; но я чувствовал потребность найти ему объяснение; кроме того, пока была на сцене Берма, он был направлен решительно на все то, что воспринималось моим зрением и слухом, как нераздельное в своей жизненной целостности; он ничего не различил и не разграничил, поэтому для него было счастием, когда в этих похвалах простоте и вкусу артистки открылось понятное объяснение: он впитывал эти похвалы, поглощал их, хватаясь за них, как оптимизм опьяневшего человека хватается за поступки соседа, в которых он видит повод для умиления. «Это правда, – говорил я себе, – какой прекрасный голос, и ничего крикливого, какая простота в костюмах, и как умно, что она выбрала «Федру». Нет, я не разочарован!»
Появилась холодная говядина с морковью, уложенная рукою Микеланджело нашей кухни на огромные кристаллы желе, которые напоминали глыбы прозрачного кварца.
– У вас первокласснейший повар, сударыня, – сказал г-н де Норпуа. – А это – вещь немалая! За границей мне самому приходилось много принимать у себя, и я знаю, как трудно иногда найти идеального повара. Это прямо пиршество.
И действительно, честолюбивая Франсуаза, подстрекаемая желанием блеснуть в глазах именитого гостя, преодолев трудности, достойные ее таланта, и приготовив обед, постаралась так, как она уже не старалась для нас одних, и вновь обрела свое несравненное мастерство, как во дни Комбре.
«Вот чего вам не дадут ни в одном кабаке, хотя бы наилучшем; желе, которое не пахло бы клеем, и кусок тушеного мяса, весь пропитанный ароматом моркови, – это восхитительно! Позвольте еще вернуться к этому, – прибавил он, знаком показывая, что он желает еще взять желе. – Теперь мне бы хотелось судить об искусстве вашего Вателя по какому-нибудь совсем другому блюду, я хотел бы видеть, например, как он справится с бефстроганов».
Г-н де Норпуа, стараясь сделать застольный разговор как можно более приятным, преподносил нам различные анекдоты, которыми часто угощал своих сослуживцев, цитируя то нелепую фразу, сказанную политическим деятелем, с которым это часто случалось и у которого фразы получались длинные и были полны бессвязных метафор, то какое-нибудь короткое изречение остроумного дипломата. Но, по правде говоря, признаки, по которым он различал эти два типа фраз, нисколько не были похожи на критерии, которые я прилагал к литературе. Я не улавливал множества оттенков; слова, которые он цитировал со смехом, по-моему, не очень разнились от тех, которые он находил замечательными. Он принадлежал к числу людей, которые о моих любимых произведениях могли бы сказать: «Так вам понятно? Я сознаюсь, что мне это непонятно, я не посвящен», – но я мог бы ответить ему тем же, я не улавливал, в чем остроумие или глупость; красноречие или напыщенность, которые он видел в речи или фразе, и полное отсутствие видимой причины, почему это было плохо, а то хорошо, делало для меня этот вид словесности более таинственным и более загадочным, чем какой-либо другой. Мне только стало ясно, что повторять то, что думают все, является в политике признаком не слабости, а силы. Когда г-н де Норпуа употреблял некоторые выражения, на каждом шагу попадавшиеся в газетах, и делал на них упор, чувствовалось, что они становятся событием только потому, что он их произносит, и событием, которое возбудит толки.
Мать возлагала большие надежды на салат из ананаса с трюфелями. Но посол, вперив в него на минуту проницательный взор наблюдателя, отведал его, храня дипломатическое молчание, и не поделился с нами своим мнением. Моя мать уговаривала его взять еще, что он и сделал, ограничившись, однако, вместо ожидаемой похвалы, следующим ответом: «Я повинуюсь вам, сударыня, так как вижу, что это настоящий указ».
– Мы читали в газетах, что вы долго беседовали с королем Феодосием, – сказал ему мой отец.
– Действительно, король, у которого редкая память на лица, был так добр, что, увидев меня в креслах, вспомнил, что я имел честь видеть его в течение нескольких дней при баварском дворе, когда он еще и не думал о своем восточном престоле (вы ведь знаете, что на этот престол его призвал европейский конгресс и он даже сильно колебался, считая эту корону не вполне достойной своего происхождения, которое в геральдическом смысле является самым благородным во всей Европе). Адъютант пригласил меня пройти к его величеству, приказанию которого я, разумеется, поспешил повиноваться.
– Вы остались довольны результатами пребывания его здесь?
– Восхищен! Можно было слегка сомневаться, что столь юный монарх справится с этим трудным делом, особенно принимая во внимание такое щекотливое положение. Что до меня, то я нисколько не сомневался в политическом чутье короля. Но признаюсь, он превзошел мои ожидания. Тост, который он произнес в Елисейском дворце и который, как я знаю из совершенно достоверных источников, был составлен им самим от первого слова до последнего, вполне заслуживает того интереса, который он всюду возбудил. Это просто шедевр; не спорю, это было несколько смело, но смелость эта целиком оправдывается ходом событий. В дипломатических традициях есть много хорошего, но в данном случае они привели к тому, что создали для обеих стран удушливую атмосферу, в которой больше невозможно было дышать. Ну вот, один из способов, чтобы освежить воздух, конечно, способ, который нельзя рекомендовать, но который король Феодосий мог себе позволить, это – бить стекла в окнах, и он сделал это так весело, что всех очаровал, и выражения были такие меткие, что в нем сразу можно было узнать кровь тех просвещенных монархов, потомком которых он является по матери. Не подлежит сомнению, когда он заговорил о «родстве», соединяющем Францию с его страной, выражение было найдено удивительно удачно, как бы непривычно ни казалось оно для языка канцелярий. Вы видите, что литература не вредит делу, даже в дипломатии, даже на троне, – прибавил он, обращаясь ко мне. – Не спорю, факт был признан уже давно, и между обеими державами установились превосходные отношения. Все же это надо было высказать. Этого слова ждали, и нельзя было найти слова более удачного, – вы видели, какой оно произвело эффект. Что до меня, то я аплодирую обеими руками.
– Ваш друг, господин де Вогубер, давно уже подготовлявший сближение, должен быть доволен.
– Тем более что его величество пожелал сделать ему сюрприз, по своему обыкновению. Впрочем, это был полный сюрприз для всех, начиная с министра иностранных дел, которому, как мне говорили, это не пришлось по вкусу. Одному лицу, которое разговаривало с ним об этом, он будто бы сказал вполне отчетливо и достаточно громко, чтобы окружающие могли слышать: «Со мной не посоветовались и меня не предупредили, – ясно давая понять, что снимает с себя всякую ответственность. – Надо сказать, что это событие сильно нашумело, и, – прибавил он с лукавой улыбкой, – я не решился бы утверждать, что оно не нарушило спокойствия кое-кого из наших коллег, для которых высшим законом является закон наименьшего усилия. Что касается Вогубера, то, вы знаете, на него сильно нападали за политику сближения с Францией, и он тем более должен был страдать от этого, что это чуткий человек, чудная душа. Я могу это подтвердить тем более, что мы с ним старинные друзья, хоть он и значительно моложе, мы с ним очень часто встречались, и я хорошо его знаю. Да и кто его не знает? Это кристальная душа. Это даже единственный недостаток, в котором его можно упрекнуть: не требуется, чтобы сердце дипломата было так прозрачно. Это не мешает тому, что сейчас поговаривают о его назначении в Рим, а это очень большое повышение, но и большой труд. Между нами, я думаю, что Вогубер, хоть он и не честолюбив, был бы очень доволен и отнюдь не желает, чтобы эта чаша миновала его. Он, может быть, произведет там прекрасное впечатление; он кандидат Консульты, и что до меня, то я прекрасно представляю себе его, с его артистичностью, на фоне дворца Фарнезе и галереи Карраччи. Кажется, по крайней мере, что его некому ненавидеть; но король Феодосий окружен целой камарильей, связанной более или менее тесно с Вильгельмштрассе, внушениям которой она покорно следует, и всеми способами создававшей ему затруднения. Вогуберу пришлось столкнуться не только с дворцовыми интригами, но и с ругательствами подкупленных писак, трусливых, как все газетчики на жалованье, которые потом первые же запросили амана, но до этого не задумались пустить в ход против нашего представителя нелепые обвинения, на какие способны темные личности. Враги Вогубера больше месяца плясали вокруг него танец скальпа, – г-н де Норпуа резко оттенил это слово. – Но умный человек стоит целых двух; эти оскорбления, он отшвырнул их пинком, – прибавил он еще более резко и посмотрел так свирепо, что мы на мгновение перестали есть. – Как гласит прекрасная арабская пословица: «Собаки лают, караван проходит мимо». – Приведя эту цитату, г-н де Норпуа остановился и посмотрел на нас, чтобы судить о том, какое впечатление она произвела. Впечатление было сильное, мы знали пословицу. Она в этом году заменила в высших кругах другую: «Кто сеет ветер, пожнет бурю», которая нуждалась в отдыхе, не будучи столь неутомимой и живучей, как речение: «Работать на прусского короля». Культура этого высшего круга была плодосменная, обыкновенно с трехгодичным севооборотом. Разумеется, подобные цитаты, которыми г-н де Норпуа так умел испещрять свои статьи в «Обозрении», вовсе не требовались для того, чтобы статьи эти производили впечатление серьезности и осведомленности. Достаточно было того, чтобы г-н де Норпуа, даже не прибегая к этим украшениям, написал в нужную минуту (что он всегда и делал): «Сент-Джеймсский кабинет вовремя почувствовал опасность», или же: «Велико было смущение в здании у Певческого моста, где с тревогой следили за эгоистической, но искусной политикой двуединой монархии», или: «Из Монтечиторио донесся тревожный сигнал», или еще: «Это вечная двойная игра, которая всегда была в нравах Балльплаца»… Несведущий читатель по этим выражениям сразу же узнавал опытного дипломата и преклонялся перед ним. Но если о нем говорили, что он – нечто большее, что он обладает высшей культурой, то повод к этому давало уменье пользоваться цитатами, идеальным образчиком которых в то время было: «Дайте хорошую политику, и я дам вам хорошие финансы, как любил говорить барон Луи». (Еще с Востока не успели ввезти: «Победа принадлежит тому из двух противников, который может терпеть на четверть часа дольше, чем другой», как говорят японцы.) Эта репутация высокообразованного человека в сочетании с истинным даром интриги, таившимся под маской равнодушия, открыла г-ну де Норпуа двери Академии Моральных Наук. И даже мысль, что он был бы на месте во Французской Академии, пришла кое-кому в голову после того, как, желая указать, что мы могли бы прийти к соглашению с Англией через укрепление союза с Россией, он не призадумался написать: «Пусть твердо помнят на Орсейской набережной, пусть пишут впредь во всех учебниках географии, которые в этом отношении страдают пробелом, пусть беспощадно отказывают в аттестате всякому бакалавру, который не сумеет сказать: “Если все пути приводят в Рим, то путь, ведущий из Парижа в Лондон, неизбежно проходит через Петербург”».
– Как бы то ни было, – продолжал г-н де Норпуа, обращаясь к моему отцу, – Вогубер создал себе большой успех, превзошедший даже то, на что он рассчитывал. Действительно, он ждал корректного тоста (что было бы уже очень хорошо, после облаков последних лет), но и только. Некоторые из присутствовавших уверяли меня, что, читая этот тост, нельзя себе представить того впечатления, которое он произвел, прозвучав из уст короля, мастерски владеющего словом и умело оттенившего все частности, подчеркнувшего мимоходом каждый намек, каждую тонкость. Мне рассказывали по этому поводу довольно интересный факт, лишний раз рисующий то обаяние молодости, которое так привлекает сердца к королю Феодосию. Мне подтверждали, что как раз дойдя до слова «родство», которое, в сущности, и придало речи главный интерес новизны и которое, вы увидите, долго будут комментировать в канцеляриях, его величество, – предвидя радость нашего посланника, который сейчас получит награду за свои усилия, увидит осуществление, можно сказать, своей мечты и в конечном итоге заслужит маршальский жезл, – полуобернулся к Вогуберу, вперил в него свой чарующий взгляд, по которому нельзя не узнать одного из Эттингенов, и так удачно оттенил это меткое слово, явившееся настоящей находкой, произнес его таким тоном, который ясно показывал, что оно было выбрано вполне сознательно, с полным знанием дела. Говорят, Вогубер с трудом скрывал свое волнение, и, сознаюсь, я в известной мере его понимаю. Лицо, заслуживающее полного доверия, передавало мне даже, что король, оставшись после обеда в интимном кругу, подошел к нему и спросил вполголоса: «Довольны вы своим учеником, мой милый маркиз?»
Не подлежит сомнению, – заключил г-н де Норпуа, – что и двадцатилетние переговоры не могли бы теснее сблизить обе страны, связанные «родством», пользуясь образным выражением Феодосия II. Если хотите, это только слово, но посмотрите, какой оно имеет успех, как вся европейская печать повторяет его, какой оно возбуждает интерес, какой оно получило резонанс. Впрочем, оно совершенно в духе короля. Я не стану вас уверять, что он каждый день находит такие чистейшие алмазы. Но и в речах, к которым он готовится, больше того, в непринужденном разговоре почти всегда заметна его личность, я чуть было не сказал, видна подпись, точно слово, высеченное на камне. Меня тем менее можно заподозрить в пристрастии, что я враг всяких новшеств в этом роде. В девятнадцати случаях из двадцати они рискованны.
– Да, я подумал, что последняя телеграмма германского императора не должна была вам понравиться, – сказал мой отец.
Г-н де Норпуа поднял глаза к небу с таким видом, точно хотел сказать: «О, уж этот-то! Во-первых, это – неблагодарность. Это больше чем преступление, это ошибка и такая глупость, которую я назвал бы пирамидальной! Впрочем, если никто не наведет там порядка, то человек, прогнавший Бисмарка, вполне способен отставить всю бисмарковскую политику, тогда это – прыжок в неизвестное».
– А мой муж говорил мне, господин маркиз, что, быть может, вы увезете его с собой летом в Испанию. Я очень рада за него.
– Да, да, это очень заманчивый план, я о нем думаю с удовольствием. Я буду очень рад совершить с вами это путешествие, дорогой мой. А вы, сударыня, строите уже какие-нибудь планы на лето?
– Я, может быть, поеду с сыном в Бальбек, не знаю.
– А-а! Бальбек – приятное место. Я был там несколько лет тому назад. Там начинают строить очень нарядные виллы; я думаю, место вам понравится. Можно ли спросить, что заставило вас выбрать Бальбек?
– Моему сыну очень хочется посмотреть там некоторые церкви, особенно бальбекскую церковь. Я несколько опасалась, что его утомит путешествие и главным образом пребывание там. Но я узнала, что там выстроен прекрасный отель, где он может жить с тем комфортом, которого требует его здоровье.
– А-а! я должен сообщить об этом одной особе, которой это не будет безразлично.
– Ведь бальбекская церковь прекрасна, не правда ли, господин маркиз? – спросил я, преодолевая грусть, в которую впал, узнав, что одна из прелестей Бальбека – его нарядные виллы.
– Да, она недурна, но все-таки она не выдерживает сравнения с этими резными шедеврами, как, например, Реймсский и Шартрский соборы и, по-моему, жемчужина из жемчужин – парижская Сент-Шапель.
– Но бальбекская церковь отчасти в романском стиле?
– Да, она в романском стиле, который сам по себе чрезвычайно холоден, так что нельзя еще предугадать изящества, изобретательности архитекторов готического периода, которые с камнем обращаются, как с кружевом. Бальбекская церковь стоит того, чтобы посетить ее, если вы поблизости; она довольно интересна. Если как-нибудь в дождливый день вам нечего будет делать, вы можете зайти в нее, посмотрите гробницу Трувиля.
– Вы были вчера на банкете в министерстве иностранных дел? Я не мог там быть, – сказал мой отец.
– Нет, – ответил, улыбаясь, г-н де Норпуа, – признаюсь, я изменил ему и провел вечер совсем в ином месте. Я обедал вчера у женщины, о которой вы, может быть, слышали, – у прекрасной госпожи Сван.
Мать незаметно вздрогнула, так как, будучи более чуткой, чем отец, она пугалась всего, что должно было огорчить его мгновение спустя. Неприятности, случавшиеся с ним, она замечала раньше, подобно тому, как печальные для Франции новости узнаются за границей раньше, чем у нас. Но, желая узнать, каких гостей принимают у себя Сваны, она осведомилась у г-на де Норпуа, кого он там встретил.
– Боже мой… Это дом, где, мне кажется, бывают больше всего… мужчины. Там было несколько женатых мужчин, но их женам нездоровилось вчера и они не приехали, – ответил посол, добродушием маскируя лукавство и бросая взгляды, кротость и скромность которых должна была смягчить их двусмысленность, а на самом деле удачно подчеркивала ее. – Если быть справедливым, должен сказать, – прибавил он, – что бывают там и женщины, но… принадлежащие скорее… как бы это сказать… к миру республиканскому, чем к обществу Свана (он произносил именно так: Сван, а не Суан). Кто знает? Может быть, когда-нибудь это будет литературный или политический салон. Впрочем, они, кажется, и так довольны. Я нахожу, что Сван даже слишком это показывает. Лиц, к которым он и его жена были приглашены на ближайшей неделе и дружбой которых, однако, не приходится гордиться, он перечислял с таким отсутствием достоинства и вкуса, даже такта, которое удивило меня в столь умном человеке. Он твердил: «У нас ни одного свободного вечера», как будто этим можно гордиться, и как настоящий выскочка, которым он все же не является. Ведь у Свана было много приятелей и даже приятельниц, и я, не беря излишней смелости и вовсе не желая быть нескромным, кажется, могу сказать, что если не все они, и даже не большинство из них, то одна по крайней мере, притом очень большая аристократка, не слишком враждебно отнеслась бы к мысли о знакомстве с госпожой Сван – пример, которому, вероятно, последовала бы не одна овца панургова стада. Но кажется, сам Сван не сделал ни одного шага в этом направлении. Как, еще пудинг Нессельроде! Мне потребуется курс лечения в Карлсбаде, чтобы оправиться от этого лукуллова пира. Может быть, Сван почувствовал, что пришлось бы преодолеть слишком большое сопротивление. Брак, во всяком случае, не понравился. Поговаривали о состоянии жены, но это ерунда. В общем, все это произвело неприятное впечатление. Кроме того, у Свана есть тетка, чрезвычайно богатая и занимающая блестящее положение в свете, жена человека, который в финансовом мире является крупной величиной. И она не только отказалась принять госпожу Сван, но повела настоящую кампанию, чтобы то же самое сделали ее друзья и знакомые. Я не хочу этим сказать, что кто-нибудь из порядочных людей в Париже оказал неуважение госпоже Сван. Нет, тысячу раз нет! Да и муж ее не смолчал бы. Во всяком случае, любопытно посмотреть, как Сван, у которого столько знакомых, и притом самых изысканных, ухаживает за людьми, о которых в лучшем случае можно сказать, что они составляют очень смешанное общество. Мне, знавшему его раньше, признаюсь, было и странно, и забавно видеть, как этот человек, такой воспитанный, пользовавшийся таким успехом в самом избранном обществе, с жаром благодарил директора канцелярии министра почт за то, что он посетил их, и спрашивал его, может ли госпожа Сван позволить себе сделать визит его жене. Все же ему должно быть не по себе; ясно, что это уже не то общество. Однако я не думаю, что Сван несчастлив. Правда, в годы, предшествовавшие браку, эта женщина довольно мерзко шантажировала его; каждый раз, когда Сван отказывал ей в чем-нибудь, она разлучала его с дочерью. Бедный Сван, такой доверчивый, несмотря на свою утонченность, всякий раз воображал, что исчезновение его дочери было случайностью, и не хотел видеть правду. К тому же она все время делала ему сцены, и можно было думать, что, когда она добьется своего и заставит его жениться, ее уже ничто не будет удерживать и их жизнь будет адом. И что же, случилось совсем обратное. Всех забавляет, как Сван говорит о своей жене, над ним даже издеваются. Конечно, никто не требовал, чтобы, более или менее сознавая себя… (вы помните слова Мольера), он стал возвещать это urbi et orbi[2]; все же нельзя не упрекнуть его в преувеличении, когда он говорит, что его жена прекрасная супруга. Впрочем, это не так далеко от истины, как думают. Прекрасная на свой лад, который не всем мужьям был бы по вкусу, но, в конце концов, между нами говоря, трудно, мне кажется, чтобы Сван, который знаком с ней давно и отнюдь не дурак, не знал, как себя держать; не подлежит сомнению, что она привязана к нему. Я не говорю, что она ему не изменяет, да и сам Сван не теряет времени, если верить злым языкам, которые, как вы можете себе представить, делают свое дело. Но она благодарна ему за то, что он для нее сделал, и, вопреки всеобщим опасениям, она стала ангельски кротка.
Пожалуй, эта перемена не была так необычайна, как казалось г-ну де Норпуа. Одетта не думала, что Сван в конце концов женится на ней. Всякий раз, как она, преследуя свою цель, сообщала ему, что какой-нибудь человек из общества женится на своей любовнице, он хранил ледяное молчание, и только если она прямо требовала ответа, спрашивая его: «Так что же, по-твоему, разве это не хорошо, разве это не прекрасно, то, что он сделал для женщины, отдавшей ему свою молодость?» – он, самое большее, сухо отвечал: «Я не говорю тебе, что это плохо, каждый поступает по-своему». Она готова была думать, что он совершенно покинет ее, как он угрожал ей в минуты гнева, ибо она как-то слышала от одной женщины-скульптора, что «от мужчин всего можно ожидать, они такие гады»; и, проникшись глубиной этого пессимистического афоризма, она по всякому поводу с разочарованным видом повторяла его, как бы говоря: «В конце концов нет ничего невозможного, такая уж судьба». И в результате потерял силу тот оптимистический принцип, которым Одетта до сих пор руководствовалась в своей жизни: «Все можно сделать с мужчинами, если они вас любят, они такие идиоты», и который она подкрепляла таким подмигиванием, будто хотела сказать: «Не бойтесь, он ничего не поломает». А пока что Одетта мучилась при мысли о том, что должна думать о поведении Свана та или иная из ее подруг, вышедшая замуж за человека, который прожил с ней меньше времени, чем Сван с Одеттой, не имевшая ребенка, пользовавшаяся теперь относительным уважением, получавшая приглашения на балы в Елисейский дворец. Судья более проницательный, чем г-н де Норпуа, наверно понял бы, что Одетту озлобило это чувство унижения и стыда, что адский характер, который она проявляла, не был ей свойствен, не был неизлечимым недугом, и с легкостью предсказал бы то, что случилось, а именно, что новый режим, режим брачный, с почти волшебной быстротой положит конец этим болезненным, ежедневным, но отнюдь не органическим явлениям. Почти все удивлялись этому браку, и это даже удивительно. Разумеется, немногим понятен чисто субъективный характер явления, которое представляет собою любовь, создание как бы дополнительной личности, не похожей на ту, что в свете носит то же имя, – личности, большая часть элементов которой заимствована нами из нас самих. Поэтому так мало людей, считающих естественными те огромные пропорции, которые в конце концов принимает для нас существо, не тождественное с тем, каким оно является в их глазах. Все же, кажется, можно было отдать себе отчет в том, что Одетта, хотя ей, разумеется, ум Свана никогда не был совершенно понятен, по крайней мере знала названия его работ и все, касавшееся их, настолько, что имя Вермера было для нее так же привычно, как имя ее портного; она знала насквозь те черты характера Свана, которые людям или неизвестны, или смешны и которые отчетливо и с нежностью представляет себе любовница или сестра; и они так дороги нам, даже те из них, от которых нам больше всего хотелось бы исправиться, что женщина под конец привыкает к ним, снисходительная и дружелюбно-насмешливая, словно мы сами или наши родные, и вот потому-то в давних связях есть нечто напоминающее силу и прелесть семейных привязанностей. Узы, которые связывают нас с другим существом, освящаются в наших глазах, когда это существо судит наши изъяны с той же точки зрения, что и мы. И среди этих особенностей были и такие, которые отличали ум Свана в такой же мере, как и его характер, и которые все же Одетта легче распознавала благодаря тому, что они, несмотря ни на что, коренились именно в характере. Она жаловалась, что когда Сван становился литератором, когда он выпускал в свет свои работы, эти черты не выступали так ясно, как в его письмах или разговорах, где они преобладали. Она советовала ему уделять им главное место. Ей хотелось этого, потому что они больше всего нравились ей в нем, но так как ей они нравились потому, что в них он в большей степени был самим собой, ей, быть может, не напрасно хотелось видеть их и в том, что он писал. Может быть, также она думала, что работы, в которых было бы больше живости, могли бы, наконец, доставить ему успех, а ей дали бы возможность устроить у себя то, что у Вердюренов она научилась ценить выше всего на свете, – салон.
В числе людей, считавших этого рода браки смешными, людей, которые по отношению к себе самим задавались вопросом: «Что подумает герцог Германтский, что скажет Бреоте, когда я женюсь на мадемуазель де Монморанси?» – в числе людей, создавших себе такой общественный идеал, лет двадцать тому назад был бы и сам Сван, прилагавший все усилия, чтобы попасть в члены Жокей-клуба, и рассчитывавший в то время на блестящий брак, который упрочил бы его положение и сделал бы его одним из самых заметных представителей парижского общества. Но представления, которые складываются о таком браке у самого действующего лица, как и всякие представления, должны получать пищу извне, чтобы совершенно не зачахнуть и не стереться. Ваша самая жгучая мечта – унизить человека, оскорбившего вас. Но если вы, переселившись в другую страну, никогда больше не будете слышать о нем, ваш враг в конце концов потеряет для вас всякое значение. Если за двадцать лет вы потеряли из виду всех тех, ради кого вам хотелось быть принятым в Жокей-клуб или Институт, то перспектива стать членом того или другого утратит для вас всякую заманчивость. Но подобно отшельничеству, подобно болезни, подобно перемене вероисповедания, многолетняя связь заменяет старые представления новыми. Когда Сван женился на Одетте, ему не пришлось отказываться от честолюбивых светских стремлений, так как, в духовном смысле слова, Одетта уже давно заставила его охладеть к ним. Впрочем, если бы он и не охладел к ним, то заслуга его была бы тем больше. Позорящие браки именно потому больше всего заслуживают уважения, что в них мы жертвуем более или менее блестящим положением ради прелести чисто личной жизни (ведь позорящим браком нельзя считать брак из-за денег, так как не было примеров, чтобы супружескую чету, где муж или жена продали себя, их знакомые в конце концов не стали бы принимать, хотя бы по традиции, на основании множества примеров, или чтобы не пользоваться разными мерками для оценки одинаковых случаев). С другой стороны, Свану как натуре художественной, если не испорченной, может быть, доставляло известное удовольствие вступить в брак с существом из иного мира, эрцгерцогиней или кокоткой, подражая тем скрещиваньям пород, которыми занимаются менделисты и о которых повествует мифология, породниться с королевским домом или сделать мезальянс. В свете было только одно лицо, мнением которого он был озабочен – и вовсе не из снобизма – всякий раз, когда думал о возможности брака с Одеттой; это была герцогиня Германтская. Одетта, напротив, мало интересовалась ею, думая только о людях, стоящих непосредственно над ней, а не о тех, кто жил в столь далеком эмпирее. Но когда Сван, предаваясь мечтам, думал о том, как Одетта станет его женой, он неизменно рисовал себе то мгновение, когда он привезет ее – ее и, главное, свою дочь – к принцессе де Лом, которая стала герцогиней Германтской после смерти отца своего мужа. Он не желал представить их никому другому, но умилялся, воображая и даже произнося вслух все то, что герцогиня скажет о нем Одетте, а Одетта герцогине, нежность, с которой герцогиня отнесется к Жильберте, лаская ее, заставляя его гордиться своей дочерью. Он рисовал себе сцену этого представления с тою же точностью в воображаемых деталях, с какою люди, мечтающие о выигрыше, сумма которого произвольно определяется ими, решают, что они с ним будут делать. Поскольку образы, сопутствующие нашим решениям, мотивируют их, постольку можно сказать, что если Сван женился на Одетте, то сделал это для того, чтобы представить ее и Жильберту герцогине Германтской, хотя бы никто не присутствовал при этом и даже в крайнем случае никогда об этом не узнал. Мы увидим, что именно эта единственная честь, о которой он мечтал для жены и дочери, оказалась неосуществимой для него, и притом вследствие столь безусловного вето, что Сван так и умер с мыслью, что герцогиня никогда с ними не познакомится. Мы увидим также, что герцогиня Германтская, напротив, подружилась с Одеттой и Жильбертой после смерти Свана. И пожалуй, – поскольку он мог придавать значение такой мелочи, – благоразумнее бы ему было не рисовать себе будущего в слишком мрачных тонах и не оставлять надежды, что желанная встреча произойдет, когда его уже не станет и он уже не сможет ей радоваться. Работа причинности, в конце концов осуществляющая почти все возможные следствия, а значит, и те, которые казались нам самыми невозможными, эта работа порой совершается медленно и еще замедляется по вине наших желаний, – которые, стараясь ускорить ее, ее тормозят, – даже по вине нашего бытия, и достигает цели, лишь когда мы перестаем желать, а иногда и существовать. Разве Сван не знал этого по собственному опыту, разве в его жизни – словно предзнаменование того, чему суждено было случиться после его смерти, – не был таким посмертным счастьем этот брак с Одеттой, которую он страстно любил, хотя при первой встрече она и не понравилась ему, и на которой он женился, когда уже не любил ее, когда существо, так страстно мечтавшее всю жизнь прожить с Одеттой и отчаявшееся в этом, когда это существо в нем умерло?
Я заговорил о графе Парижском, спросил, не был ли он другом Свана, опасаясь, что разговор может перейти на другую тему. «Да, совершенно верно», – ответил г-н де Норпуа, повернувшись ко мне и вперив в мою скромную особу голубой взгляд, в котором, словно окруженная своей жизненной стихией, предчувствовалась его громадная трудоспособность и приспособляемость. «И, право же, – прибавил он, снова обращаясь к моему отцу, – думаю, с моей стороны это не будет неуважением к принцу, которого я привык чтить (не поддерживая с ним, правда, личных отношений, затруднительных по моему положению, хотя и очень мало официальному), если сообщу вам тот довольно интересный факт, что всего четыре года тому назад на какой-то маленькой железнодорожной станции в одной из стран Средней Европы принц имел случай видеть госпожу Сван. Разумеется, никто из его приближенных не осмелился спросить его высочество, что он о ней думает. Это было бы неудобно. Но когда случайно в разговоре упоминалось ее имя, принц довольно охотно давал понять, – это было, пожалуй, еле заметно, но нельзя было ошибиться, – что его впечатление далеко не оказалось неблагоприятным».
– Но ведь нет возможности представить ее графу Парижскому? – спросил мой отец.
– Ну, неизвестно; с высочайшими особами ничего нельзя знать, – ответил г-н де Норпуа. – Самые гордые среди них, те, которые лучше всех умеют заставить себя уважать, подчас меньше всего смущаются приговорами общественного мнения, даже самыми справедливыми, если только дело заходит о том, чтобы вознаградить известные привязанности. А не подлежит сомнению, что граф Парижский всегда очень благосклонно смотрел на преданность Свана, который к тому же умнейший малый.
– А какое впечатление осталось у вас, господин посол? – спросила моя мать, из вежливости и из любопытства.
И с горячностью старого знатока, резко контрастирующей с обычной сдержанностью его речей:
– Прямо превосходное! – ответил г-н де Норпуа.
И помня, что признание в том, какое сильное впечатление произвела на нас женщина, составляет особенно ценимую форму остроумия в разговоре при условии, если это будет сделано весело и непринужденно, он рассмеялся отрывистым, продолжавшимся несколько секунд смешком, от которого голубые глаза старого дипломата увлажнились, а ноздри, усеянные красными жилками, задрожали.
– Она совершенно очаровательна.
– Господин маркиз, а был ли на этом обеде писатель Бергот? – робко спросил я, стараясь задержать разговор на теме о Сване.
– Да, Бергот там был, – ответил г-н де Норпуа, изысканно вежливо наклонив голову в мою сторону, как будто, желая быть любезным с моим отцом, он придавал значение всему, что было с ним связано, вплоть до вопросов мальчика моих лет, не привыкшего к такой предупредительности со стороны людей его возраста. – Вы знакомы с ним? – прибавил он, остановив на мне ясный взгляд, проницательность которого восхищала Бисмарка.
– Мой сын незнаком с ним, но очень им восхищается, – сказала моя мать.
– Право, – сказал г-н де Норпуа (внушивший мне насчет моего ума сомнения более серьезные, чем те, которыми я обычно терзался, ибо я увидел, что то, что я ставил неизмеримо выше себя, что казалось мне высшей ценностью в мире, занимает низшую ступень в системе его оценок), – я не разделяю этой точки зрения. Бергот, как я говорю, играет на флейте; надо, впрочем, признать, что игра его приятна, хоть и очень манерна, очень жеманна. Но не более, в конце концов, а это немного. В его произведениях, совершенно лишенных мускулов, никогда нет того, что можно было бы назвать остовом. Никакого – или так мало – действия, но главное – никакого простора. В его книгах плох фундамент, вернее в них вовсе нет фундамента. В такое время, как сейчас, когда возрастающая сложность жизни почти не оставляет времени, чтобы читать, когда карта Европы подверглась значительным изменениям и находится, быть может, накануне изменений еще более крупных, когда всюду возникает столько новых и угрожающих вопросов, вы согласитесь со мною, можно требовать от писателя не только остроумия, заставляющего нас забыть, в праздных и несвоевременных спорах о чисто формальных достоинствах, что с минуты на минуту на нас может обрушиться двойное нашествие варваров, как извне, так и изнутри. Я знаю, что это – хула на святейшую школу, которую эти господа называют Искусством для Искусства, но в нашу эпоху есть задачи более важные, чем искусство благозвучно сочетать слова. Мастерство Бергота порою довольно обольстительно, не спорю, но в общем все это очень хило, очень незначительно и уж слишком не по-мужски. Что же касается вашего преувеличенно высокого мнения о Берготе, то теперь мне становятся более понятны те строки, которые вы мне показывали и на которых я не буду останавливаться – это было бы и невежливо, так как вы сами простодушно сказали, что это лишь детская мазня – (я действительно это сказал, но совершенно не думал этого). – Будем снисходительны к заблуждениям, а в особенности к заблуждениям молодости. В конце концов, и другие грешили тем же, и не вы один воображали себя поэтом. Но в том, что вы мне показывали, заметно дурное влияние Бергота. Очевидно, я не удивлю вас, если скажу вам, что здесь не было ни одного из его качеств, ибо ему нет равного в мастерстве стиля, впрочем, совершенно поверхностного, которым вы, в вашем возрасте, не можете владеть и в малой мере. Но уже виден тот же недостаток – бессмысленное нанизывание звучных слов, в которые лишь потом вкладывается содержание. Даже в книгах Бергота это то же самое, что ставить плуг впереди волов. Эта китайщина, эти формальные тонкости расплывчатого мандарина, все это, по-моему, очень пусто. Писатель пустил фейерверк, не лишенный приятности, и вот уже кричат о шедеврах. Шедевры так часто не встречаются! В приход Бергота, в его багаж, если можно так выразиться, нельзя занести ни одного романа, сколько-нибудь значительного по размаху, ни одной из тех книг, которым отводишь почетное место в своей библиотеке. Среди его произведений, по-моему, нет ни одной такой книги. Несмотря на это, произведения его бесконечно выше самого автора. О, вот кто служит подтверждением слов остроумного человека, считавшего, что с писателем следует быть знакомым только по его книгам. Невозможно представить себе человека, более непохожего на свои книги, более претенциозного, более напыщенного, более невоспитанного. Временами он пошляк, поучающий других, словно книга, и даже не его книга, а скучная книга, чего по крайней мере у него не встречается, – вот каков этот Бергот. Это бестолковейшая голова, любящая мудрить, – отцы наши назвали бы его ритором, – а то, что он говорит, производит еще более неприятное впечатление, благодаря его манере выражаться. Не помню, Ломени или Сент-Бёв рассказывают, что Виньи грешил теми же недостатками. Но Бергот не написал ни «Сен-Мара», ни «Красной печати», где некоторые страницы так и просятся в антологию.
Удрученный тем, что сказал мне г-н де Норпуа по поводу показанного ему отрывка, припоминая вместе с тем затруднения, которые я испытывал, когда хотел написать какой-нибудь очерк или хотя бы предавался серьезным размышлениям, я еще раз почувствовал свое умственное ничтожество, почувствовал, что я не создан для литературы. Правда, в былые годы, в Комбре, под влиянием самых скромных впечатлений или после чтения книги Бергота я впадал в мечтательное состояние, которое, как мне казалось, имело большую важность. Но ведь мое стихотворение в прозе отражало это состояние; не оставалось сомнений, г-н де Норпуа уловил и сразу же понял то, что казалось мне в нем прекрасным лишь благодаря миражу, совершенно обманчивому, ибо посол не поддался ему. От него я, напротив, узнал, как низко я стою в глазах самого благожелательного и самого умного наблюдателя, судящего обо мне со стороны и с полным беспристрастием. Я впал в уныние, я был уничтожен; и словно жидкость, измерения которой целиком зависят от формы сосуда, мое сознание, которое раньше растекалось, готовясь к великой роли гения, сжалось теперь и не выступало за узкие пределы ничтожества, в которые внезапно замкнул его г-н де Норпуа.
– Встреча моя с Берготом, – прибавил он, обращаясь к моему отцу, – была делом довольно щекотливым (что, впрочем, придало ей некоторую пикантность). Бергот несколько лет тому назад приехал в Вену, в то время как я был там послом, мне представила его княгиня Меттерних, он расписался у меня и желал получить приглашение. Являясь за границей представителем Франции, которой его писания, в общем, приносят известную честь, хотя, скажем точно, довольно слабую, я закрыл бы глаза на его частную жизнь, хоть я о ней невысокого мнения. Но он путешествовал не один и даже претендовал на то, чтобы его пригласили не иначе как вместе с его спутницей. Думаю, что я не стыдливее других, и, будучи холостым, я, пожалуй, мог открывать двери посольства шире, чем если бы был женат и имел детей. Все же, признаюсь, есть предел бесстыдства, с которым я не в силах мириться и которое еще отвратительнее благодаря тому, более чем нравственному, скажем прямо – морализующему тону, который господствует в книгах Бергота, где только и видишь бесконечные и к тому же, между нами говоря, скучноватые анализы, мучительные тревоги совести, болезненные сомнения и целые разглагольствования (мы знаем их цену) по поводу обыкновенных грешков, тогда как в своей частной жизни он проявляет такое легкомыслие и такой цинизм. Словом, я воздержался от ответа, княгиня возобновила попытку, но также безуспешно. Так что, думаю, вряд ли я в большой чести у этого господина, и не знаю, в какой мере он оценил любезность Свана, пригласившего его вместе со мной. Если только он сам не напросился. Трудно сказать, так как, в сущности, он больной. Это даже единственное его извинение.
– Была ли на этом обеде дочь госпожи Сван? – спросил я г-на де Норпуа, воспользовавшись, чтобы задать этот вопрос, той минутой, когда мы переходили в гостиную и когда я легче мог скрыть мое замешательство, чем сидя за столом, неподвижный, в ярком освещении.
Г-н де Норпуа на мгновение, казалось, задумался, припоминая:
– Да, девушка лет четырнадцати-пятнадцати? Действительно, вспоминаю, что ее представили мне перед обедом как дочь нашего амфитриона. Должен сказать, я недолго видел ее, она рано ушла – ложиться спать. Или она собиралась к подругам, не помню хорошенько. Но я вижу, вы весьма в курсе дел дома Сванов.
– Я играю с мадемуазель Сван на Елисейских Полях, она прелестна.
– А-а! ну да! ну да! Правда, и я тоже нашел ее очаровательной. Впрочем, признаюсь вам, не думаю, чтобы она когда-нибудь затмила свою мать, – простите, если я оскорбил в вас слишком пламенное чувство.
– Мне больше нравится лицо мадемуазель Сван, но я также в страшном восхищении от ее матери, я хожу гулять в Булонский лес с одной надеждой – увидеть ее.
– О! Я скажу им это, они будут очень польщены.
Произнеся эти слова, г-н де Норпуа еще несколько секунд пребывал в таком же положении, как и все те, кто, слушая мои разговоры о Сване, как об умном человеке, о его родных, как о почтенных маклерах, о его доме, как о прекрасном доме, думали, что я так же охотно буду говорить о каком-нибудь другом умном человеке, о каких-нибудь других столь же почтенных маклерах, о чьем-нибудь другом столь же прекрасном доме; это – минута, когда нормальный человек, разговаривая с сумасшедшим, не успел еще заметить, с кем он имеет дело. Г-н де Норпуа знал, что более чем естественно находить удовольствие в созерцании красивых женщин, что если кто-нибудь с жаром начинает говорить об одной из них, то светскому человеку уместно притвориться, будто он думает, что его собеседник влюблен, пошутить и предложить свою поддержку. Но, говоря, что он скажет обо мне Жильберте и ее матери (что позволило бы мне, подобно божеству Олимпа, превратившемуся в дыхание ветерка или, вернее, в старца, чей образ приняла Минерва, незримо проникнуть в гостиную г-жи Сван, привлечь ее внимание, занять ее мысли, заслужить ее благодарность, когда она узнает о моем восхищении, показаться ей другом важного лица, достойным того, чтобы в будущем она приглашала меня к себе, близко познакомиться с ее семьей), этот важный дипломат, собиравшийся ради меня пустить в ход тот большой авторитет, которым он наверное пользовался в глазах г-жи Сван, вызвал во мне такую нежность, что я с трудом удержался, чтобы не поцеловать его мягкие руки, белые и сморщенные, имевшие такой вид, словно они долго оставались в воде. Я сделал было движение, которое, как я думал, заметил только я сам. Действительно, каждому из нас трудно бывает точно определить, в какой мере наши слова и наши движения воспринимаются другими; боясь преувеличить свое значение и безгранично расширяя пределы, в которых должны растекаться воспоминания других в продолжение их жизни, мы воображаем, что второстепенные элементы наших речей, наших поз едва ли проникают в сознание и, тем более, не сохраняются в памяти тех, с кем мы разговариваем. Кстати сказать, именно этим предположением руководствуются преступники, когда они, уже дав показание, подменивают то или иное слово, считая, что новый вариант нельзя сопоставить ни с какой иной версией. Но весьма возможно, что даже и в применении к тысячелетней истории человечества более правильна не философия фельетониста, утверждающая, что все обречено забвению, а философия противоположная, предрекающая сохранение всего сущего. Разве в той же самой газете, где моралист передовой статьи говорит по поводу события, художественного произведения или, тем более, по поводу певицы, бывшей когда-то знаменитой: «Кто через десять лет вспомнит обо всем этом?» – не читаем ли мы часто на третьей странице в отчете Академии Надписей о менее важных фактах, например, о каком-нибудь малозначительном стихотворении, относящемся ко временам фараонов и полностью дошедшем до нас? Быть может, в быстротечной человеческой жизни дело обстоит несколько иначе. Однако, несколько лет спустя, в одном доме, где находившийся там в гостях г-н де Норпуа казался мне самым надежным покровителем, какого я только мог встретить, ибо он был дружен с моим отцом, снисходителен, благожелательно относился ко всем нам, а к тому же как по своей профессии, так и по своим принципам был склонен к сдержанности, мне по уходе посла рассказали, что он вспоминал об одном вечере, когда он был уверен, что «я расцелую ему руки», и я не только покраснел до ушей, я был поражен, узнав, до чего не соответствовало моим предположениям не только суждение обо мне г-на де Норпуа, но и содержание его воспоминаний. Это известие открыло мне глаза на неожиданность отношений между рассеянностью и вниманием, памятью и забывчивостью, которые характеризуют человеческий ум; я был так же удивлен этим чудесным открытием, как в тот день, когда впервые прочел в книге Масперо, что точно известны имена охотников, которых Ассурбанипал приглашал на свои облавы за десять веков до Рождества Христова.
– Ах, господин маркиз, – сказал я г-ну де Норпуа, когда он объявил мне, что расскажет Жильберте и ее матери о том восхищении, которое они вызывают во мне, – если вы это сделаете, если вы скажете обо мне госпоже Сван, всей моей жизни не хватит, чтобы доказать вам мою благодарность, и жизнь моя будет принадлежать вам! Но считаю долгом обратить ваше внимание на то, что я незнаком с госпожой Сван и никогда не был ей представлен.
Последние слова я прибавил, посовестившись и чтобы нельзя было подумать, будто я хвастаюсь знакомством, которого не было. Но, произнося их, я уже чувствовал, что они стали излишни, ибо, как только я с горячностью, которая расхолаживала, начал благодарить, я заметил мелькнувшее на лице посла выражение нерешительности и недовольства, а в его глазах вертикальный, узкий, косой взгляд (как на рисунке, изображающем предмет в перспективе, – удаляющаяся линия одной из сторон), взгляд, который мы обращаем к тому незримому собеседнику, что заключен в нас самих в ту минуту, когда мы говорим нечто такое, чего не должен слышать другой собеседник, господин, с которым мы разговаривали до сих пор, – в данном случае я. Я сразу же понял, что эти фразы, которые являлись только слабым выражением охватившего меня порыва благодарности и должны были, как я думал, тронуть г-на де Норпуа и окончательно убедить его оказать мне свое содействие, которое стоило бы ему так мало труда, а мне доставило бы такую радость, были, пожалуй (среди всех тех, что могли бы изобрести дьявольские козни людей, желавших мне зла), единственными, способными заставить его отказаться от своего намерения. Действительно, услышав их, – словно это была минута, когда незнакомец, с которым мы только что любезно обменивались впечатлениями, как будто одинаковыми, по поводу прохожих, казавшихся вульгарными нам обоим, внезапно открывает перед нами патологическую пропасть, отделяющую его от нас, ощупывая свой карман и небрежно прибавляя: «Жаль, что я не захватил револьвера, никто бы из них не ушел», – г-н де Норпуа, знавший, что ничего нет проще, как быть представленным г-же Сван и получить доступ в ее дом и что в этом нет ничего лестного, и увидевший, что в моих глазах, напротив, это представляет такую важность, а следовательно, без сомнения, и очень большую трудность, подумал, что выраженное мною желание, с виду вполне естественное, должно скрывать какую-то другую мысль, какую-то подозрительную цель, какой-то ранее содеянный проступок, вследствие которого никто не брался до сих пор, боясь неодобрения г-жи Сван, передать ей мою просьбу. И я понял, что эту просьбу он никогда не исполнит, что хотя бы ему в течение нескольких лет приходилось ежедневно встречаться с г-жою Сван, он тем не менее ни разу не поговорит с ней обо мне. Однако несколько дней спустя он навел у нее справку, которую мне хотелось получить, и поручил моему отцу передать ее мне. Но он не счел нужным сказать, для кого он это делает. Следовательно, ей не пришлось узнать, что я знаком с г-ном де Норпуа и что мне так хочется бывать у нее; и, пожалуй, это было несчастие меньшее, чем я думал. Ибо второе из этих известий, вероятно, не усилило бы действенность, – сомнительную, впрочем, – первого из них. Так как в Одетте не вызывала никакого таинственного трепета мысль о ее жизни и ее собственном доме, то человек, знакомый с ней, бывавший у нее, не представлялся ей сказочным существом, каким он казался мне, готовому бросить в окно дома Сванов камень, умей я написать на нем, что знаком с г-ном де Норпуа: я был уверен, что подобная весть, переданная даже таким насильственным способом, сообщила бы мне в глазах хозяйки дома вес гораздо больший, чем то недовольство, которое она могла бы возбудить. Но будь я даже в состоянии отдать себе отчет в том, что исполнение просьбы, которую не взялся передать г-н де Норпуа, было бы бесполезно, более того, что оно могло бы повредить мне в мнении Сванов, у меня не хватило бы мужества избавить посла от моего поручения, если бы он согласился, и отказаться от блаженства, какими бы роковыми ни явились его последствия, – знать, что мое имя и моя личность на миг окажутся вблизи Жильберты, войдут в ее дом и в ее неведомую жизнь.
Когда г-н де Норпуа ушел, отец стал просматривать вечернюю газету; я снова стал думать о Берма. Удовольствие, которое я испытал, слушая ее, требовалось дополнить, тем более что оно далеко не соответствовало тому, которого я ожидал; поэтому-то оно немедленно вбирало в себя все то, что могло послужить ему пищей, – например, те достоинства, которые признал в Берма г-н де Норпуа и которые мое сознание мгновенно впитало в себя, как слишком сухая почва, политая водою. Отец передал мне газету, указав на заметку, которая гласила следующее: «Представление «Федры», вызвавшее восторг публики, среди которой находились самые выдающиеся представители искусства и критики, было для г-жи Берма, исполнявшей роль Федры, одним из блистательнейших триумфов, какие ей случалось пережить на своем великолепном артистическом пути. Мы еще поговорим подробнее об этом представлении, составившем настоящее театральное событие; во всяком случае, самые авторитетные судьи единогласно утверждают, что подобная интерпретация совершенно возродила роль Федры, одну из самых прекрасных и самых изученных ролей в трагедиях Расина, и явилась чистейшим и высочайшим достижением искусства, которым ознаменовалось наше время». Как только в мое сознание проникла эта новая мысль о «чистейшем и высочайшем достижении искусства», – она соприкоснулась с тем несовершенным удовольствием, которое я испытал в театре, сообщила ему долю того, чего ему недоставало, и их сочетание приобрело такой восторженный характер, что я воскликнул: «Какая великая артистка!» Разумеется, можно подумать, что я не был вполне искренен. Но вспомните, сколько есть писателей, которым, если они недовольны написанной страницей, стоит прочесть несколько хвалебных строк о гении Шатобриана или вызвать в своей памяти мысль о великом художнике, чьей славы они мечтали бы достичь, например, напевая про себя фразу Бетховена, меланхоличность которой они сравнивают с той, что им хотелось вложить в собственную прозу, – и они уже настолько проникаются этой мыслью о гении, что вносят ее в свои собственные создания, когда думают о них, уже не представляют их себе в том виде, как они впервые явились им, и, уверовав в ценность своих произведений, говорят себе: «Почему бы нет?» – не отдавая себе отчета в том, что в итог, определяющий собою и завершающий их чувство удовлетворения, включается воспоминание о чудесных страницах Шатобриана, которые они отождествляют со своими, но которых они в конце концов не писали; вспомните, сколько есть людей, верящих в привязанность любовницы, о которой они знают только, что она изменяла им; вспомните всякого, кто либо надеется на непостижимое бессмертие, если он, неутешный муж, начинает думать об умершей, по-прежнему любимой жене, или художник помышляет о грядущей славе, которой сможет наслаждаться – либо рассчитывает на небытие, успокаивающее его тревогу, когда сознание возвращается, напротив, к тем ошибкам, которые иначе пришлось бы искупать после смерти; вспомните о туристах, восторженно описывающих красоты путешествия, в течение которого они изо дня в день испытывали только скуку, – и тогда скажите: есть ли среди мыслей, живущих бок о бок в недрах нашего сознания, – из тех, что больше всего нас радуют, – хоть одна, которая в свое время, как настоящий паразит, не заимствовала бы свои лучшие силы у смежной, но посторонней мысли?
Мою мать, кажется, не очень обрадовало, что отец перестал думать о моей «карьере». Вероятно, заботясь прежде всего о том, чтобы какая-либо жизненная система дисциплинировала прихоти моих нервов, она не столько сожалела о моем отказе от дипломатии, сколько огорчалась моей приверженностью к литературе. «Да оставь, – воскликнул отец, – в своей работе надо прежде всего находить удовольствие! А он уже не ребенок. Он теперь знает, что ему нравится, маловероятно, чтобы он переменился, и он может отдать себе отчет в том, что составит счастье его жизни». Слова отца, даровавшие мне свободу, от которой зависело счастье или несчастье моей жизни, очень огорчили меня в тот вечер. Его доброта, проявлявшаяся всегда неожиданно, возбуждала во мне всегда такое желание поцеловать его в румяные щеки над бородой, что если я и сдерживался, то только из боязни его рассердить. Теперь, подобно тому как автор пугается, видя, что его собственные мечтания, которым он не придавал цены, потому что не отделял их от себя, заставляют издателя выбирать бумагу, назначать шрифты, которые, может быть, слишком хороши для них, я задавал себе вопрос, является ль мое желание писать чем-то настолько значительным, чтобы мой отец по этому поводу выказывал такую доброту. Но главное, говоря о моих вкусах, которые больше не изменятся, о том, что должно составить счастье моей жизни, он возбуждал во мне два ужасных подозрения. Первое – это была мысль о том, что моя жизнь уже началась, более того, что последующее будет не особенно отличаться от предшествующего (тогда как до сих пор я считал, что стою на пороге моего еще не тронутого бытия, которое должно начаться только завтра утром). Другое, являвшееся, в сущности, не чем иным, как тем же подозрением в другой форме, была мысль, что я не стою вне Времени, но подвластен его законам, совсем как те персонажи из романа, которые именно поэтому повергали меня в такое уныние, когда в Комбре, в глубине моей ивовой будочки, я читал их жизнеописание. Теоретически мы знаем, что земля вертится, но фактически не замечаем этого, земля, по которой мы ступаем, на вид неподвижна, и мы живем спокойно. В жизни то же самое происходит с Временем. И чтобы сделать ощутимым его бег, романисты, безумно ускоряя обороты часовой стрелки, заставляют читателя в две минуты пережить десять, двадцать, тридцать лет. В начале страницы мы покидаем любовника, полного надежд; в конце следующей мы встречаем его восьмидесятилетним стариком, с трудом совершающим свою ежедневную прогулку во дворе убежища, еле отвечающим на вопросы, обращаемые к нему, позабывшим прошлое. Говоря обо мне: «Он уже не ребенок, вкусы его не переменятся» и т. д., отец внезапно заставил меня взглянуть на себя самого во Времени и вызвал во мне такое же уныние, как если бы я был, правда, еще не стариком, впавшим в детство, но одним из тех героев, о которых автор сообщает нам в конце романа равнодушным тоном, особенно жестоким: «Он все реже и реже покидает деревню. Он поселился здесь навсегда» и т. д.
Между тем отец, предупреждая критику, которой мы могли бы подвергнуть нашего гостя, сказал маме:
– Признаюсь, старик Норпуа вел себя немного «шаблонно», как вы это называете. Когда он сказал, что было бы «неудобно» задать вопрос графу Парижскому, я боялся, как бы вы не рассмеялись.
– Нет, вовсе нет, – отвечала мать, – мне очень нравится, что человек в таком положении и в таких летах сохранил в себе эту наивность, которая только доказывает внутреннюю порядочность и хорошее воспитание.
– Еще бы! Это не мешает ему быть умным и проницательным, я-то это знаю, в комиссии он совсем другой, чем здесь, – воскликнул отец, радуясь тому, что мама оценила г-на де Норпуа, и стараясь уверить ее, что он еще лучше, чем она думает, ибо добродушие превозносит с таким же удовольствием, с каким злословие уничижает. – Как это он сказал… с высочайшими особами ничего нельзя знать…
– Ну да, именно так. Я заметила, это очень проницательно. Видно, что у него большой жизненный опыт.
– Удивительно, что он обедал у Сванов и что в общем там оказались порядочные люди, чиновники. Где это госпожа Сван выудила весь этот люд? Ты обратила внимание, как лукаво он это заметил: «Это дом, где бывают больше всего мужчины!»?
И оба они старались воспроизвести тон, которым была сказана эта фраза, как если бы дело шло о какой-нибудь интонации Брессана или Тирона в «Авантюристке» или в «Зяте господина Пуарье». Но больше всего удовольствия доставили его изречения Франсуазе, которая, еще и несколько лет спустя, не могла сдержаться, чтоб «не прыснуть», когда ей напоминали, что посол назвал ее «первоклассным поваром», – изречение, которое мать пошла сообщить ей, как военный министр передает после парада приветствия иностранного монарха. Впрочем, я раньше ее оказался на кухне. Ибо с Франсуазы, миролюбивой, но жестокой, я взял обещание, что она не слишком будет мучить зайца, которого ей предстояло зарезать, и не получил еще известий об этой смерти; Франсуаза уверила меня, что проделала все как нельзя лучше и очень быстро: «В жизнь не видала такого зверя; сдох и слова не сказал, можно подумать, что немой». Будучи мало осведомлен о языке животных, я заметил, что заяц, может быть, не кричит, как цыпленок. «Посмотрели бы вы, – сказала мне Франсуаза, возмущенная моим невежеством, – как это зайцы не кричат; ничуть не хуже, чем цыплята. У них даже голос гораздо громче». Франсуаза приняла похвалы г-на де Норпуа с гордой простотой, как художник, с которым говорят об его искусстве, взгляд ее блеснул радостью и – хотя бы на одну минуту – умом. Моя мать посылала ее прежде в некоторые большие рестораны смотреть, как там стряпают. Слушая в тот вечер ее рассуждения о знаменитейших трактирах, я испытал то же удовольствие, какое раньше доставляло мне слышать, что иерархия достоинств драматических артистов не совпадает с иерархией их репутаций. «Посол, – сказала ей моя мать, – уверяет, что нигде не бывает такого суфле и такой холодной говядины». Франсуаза, на которую, впрочем, звание посла не произвело впечатления, скромно согласилась, воздавая должное истине; о г-не де Норпуа она говорила с любезностью, обязательной по отношению к человеку, который принял ее за «повара»: «Он славный старик, вроде меня». Она очень старалась взглянуть на него, когда он пришел, но зная, что мама терпеть не может подглядываний из-за дверей или из окон, и опасаясь, как бы мама не узнала от прочей прислуги или от консьержей, что она подкарауливала (ибо Франсуазе только и мерещилась «зависть» да «сплетни», игравшие в ее воображении ту же вечную и роковую роль, которую в воображении других играют происки иезуитов и евреев), она удовольствовалась тем, что посмотрела из окна кухни, чтобы не «ссориться с барыней», и по беглому впечатлению решила, что г-н де Норпуа «вылитый господин Легран» – благодаря его «проворству», – хотя между ними не было ничего общего. «Но в конце концов, – спросила ее мать, – чем вы объясняете, что никто так не умеет приготовить желе, как вы (когда захотите постараться)?» – «Уж не знаю, с чего это произошло», – ответила Франсуаза (не особенно отчетливо разграничивавшая глагол: произойти, по крайней мере в некоторых его значениях, от глагола: пойти). Отчасти, впрочем, она говорила правду, и раскрыть тайну превосходства своих желе и своих кремов она сумела бы не лучше, чем какая-нибудь законодательница мод – тайну своих туалетов или знаменитая певица – тайну своего пения, да и не больше к этому стремилась. Их объяснения нам мало что говорят, и тем же отличались и рецепты нашей кухарки. «Они варят уж слишком кое-как, – ответила она, заговорив о больших ресторанах, – да и не всё зараз. Ведь надо, чтоб говядина стала как губка, тогда она как есть вбирает весь сок. А все-таки было там одно кафе, в стряпне там понимали толк. Не то чтоб желе там было совсем как у меня, но готовили его как следует, а в суфле сливок было вдоволь». – «Может быть, Анри?» – спросил, присоединившись к нам, отец, очень одобрявший ресторан на площади Гайон, где он по определенным числам обедал с сослуживцами. – «Ах нет, – сказала Франсуаза с мягкостью, скрывавшей глубокое презрение, – я – про маленький ресторан. У этого Анри очень хорошо, что и говорить, но это не ресторан, уж скорее… кухмистерская». – «Вебер?» – «Да нет, сударь, я же говорю – хороший ресторан. Вебер – это на улице Рояль, это не ресторан, это пивная. Не знаю, как они там подают. У них и скатертей, кажется, нет, они так прямо и ставят на стол – жри как попало». – «Сиро?» Франсуаза улыбнулась: «Ну! какая там кухня – там больше дамы, свет. – («Свет» означал для Франсуазы полусвет.) – Да что, молодежи без этого нельзя». Мы замечали, что при всей своей простоте Франсуаза была для знаменитых поваров коллегой более страшным, чем самая завистливая и самая пристрастная из актрис. Все же мы почувствовали, что она правильно понимает свое искусство и уважает традиции, так как она прибавила: «Нет, я – про тот ресторан, где скажешь: вот здесь хороший стол. Это заведение и теперь еще довольно солидное. Хорошо работало. Ох, сколько су они там собирали! – (Бережливая Франсуаза вела счет на су, а не на луи, как считают моты.) – Барыня ведь знает, там направо, на Больших бульварах, пройдя немного…» Ресторан, о котором она рассуждала с такой справедливостью, не без примеси гордости и добродушия, это было… Английское кафе.
Когда настало первое января, я сначала отправился вместе с мамой делать родственникам визиты, которые мама, чтобы не утомить меня, расположила не по точным степеням родства, а скорее по кварталам, с помощью особого маршрута, начертанного моим отцом. Но едва войдя в гостиную довольно дальней родственницы, к которой мы заехали раньше на том основании, что ее квартира была недалеко от нашей, моя мать с испугом увидала, как входит с коробкой конфет лучший друг моего самого обидчивого дяди, таким образом последний наверно узнал бы, что наш объезд мы начали не с него. Этот дядя, конечно, оскорбился бы; он счел бы вполне естественным, чтобы мы с площади Мадлен отправились к Зоологическому саду, у которого он жил, прежде чем ехать на улицу Сент-Огюстен, а оттуда – на улицу Эколь-де-Медсин.
Окончив визиты (бабушка разрешила нам не заезжать к ней, так как мы у нее обедали в этот день), я побежал на Елисейские Поля снести нашей торговке, для передачи прислуге Сванов, приходившей к ней несколько раз в неделю за пряниками, письмо, которое в тот день, когда моя приятельница так огорчила меня, я решил послать ей в Новый год и в котором я говорил ей, что наша былая дружба кончается вместе со старым годом, что я забываю мои обиды и разочарования и что, начиная с первого января, мы завязываем новую дружбу, такую прочную, что ничто не разрушит ее, такую чудесную, что, как я надеялся, Жильберта хоть из кокетливости должна будет постараться сохранить ее во всей ее красоте и вовремя предупредить меня, как и я обещал предупредить ее, если только появится малейшая опасность для этой дружбы. На обратном пути Франсуаза остановилась со мной на углу улицы Рояль у ларька, где выбрала для своих новогодних подарков фотографии Пия IX и Распайля и где сам я купил себе портрет Берма. Бесчисленные восторги, возбуждаемые артисткой, придавали какое-то жалкое выражение этому единственному лицу, служившему ответом на эти восторги, неизменному и непрочному, как одежда человека, которому не во что переодеться, – лицу, выставлявшему напоказ только морщинку на верхней губе, приподнятые брови и еще кое-какие физические особенности, всегда одинаковые и в общем находившиеся во власти какого-нибудь ожога или ушиба. Лицо это, впрочем, само по себе не показалось бы мне красивым, но, напоминая обо всех поцелуях, которые оно выдержало и которые этот кокетливо-нежный взгляд и обманчиво-невинная улыбка как будто притягивали из глубины карточки, оно тем самым вызывало во мне желание поцеловать его. В самом деле, не один юноша должен был возбуждать в Берма те желания, в которых она признавалась под маской Федры и удовлетворить которые было ей так легко, хотя бы благодаря обаянию ее имени, делавшему ее еще более прекрасной и охранявшему ее молодость. Вечерело, я остановился перед колонкой с афишами, где объявлялось о спектакле с участием Берма 1 января. Дул влажный и мягкий ветер. Мне была знакома эта погода, у меня явилось ощущение и предчувствие, что Новый год – день, не отличающийся от других, что это – не первый день нового мира, в который я мог бы, с нетронутой надеждой на удачу, вновь познакомиться с Жильбертой, как во дни Творения, словно бы прошлого еще не существовало, словно бы исчезли все те разочарования, которые она порой доставляла мне, со всеми уроками, которые на будущее можно было извлечь из них, – нового мира, в котором от старого не оставалось бы ничего… ничего, кроме одной вещи: моего желания, чтобы Жильберта полюбила меня. Я понял, что если мое сердце желает обновления окружающего мира, который его не удовлетворил, значит, мое сердце не стало иным, и я сказал себе, что нет оснований для того, чтобы иным стало сердце Жильберты; я почувствовал, что эта новая дружба – та же самая, совершенно так же, как вовсе не бывает отделен рвом от других годов новый год, которому наше желание, не в силах ни определить, ни изменить его, дает без его ведома особое имя. И хоть я и посвящал этот год Жильберте и, как бы подчиняя религии слепые законы природы, старался отметить этот новый год печатью того особого представления, которое составил себе о нем, – все было напрасно; я чувствовал, что ему неизвестно, что его называют Новым годом, что этот день кончается сумерками, которые не новы для меня: в мягком ветре, который дул вокруг колонки с афишами, я осознал, я почувствовал являющуюся мне вновь вечную и обыденную материальную сущность, привычную сырость, полную неведения текучесть былых дней.
Я вернулся домой. Я прожил первое января, как старый человек, для которого этот день – иной, чем для молодого, не потому, что ему уже не делают подарков, но потому, что он уже не верит в Новый год. Подарки я получил, но не получил того единственного, который доставил бы мне удовольствие: записки от Жильберты. А все-таки я был молод, если смог послать ей записку, надеясь, что одинокие сны моей нежности, о которых я рассказываю ей, пробудят в ней такие же сны. Тоска постаревшего человека выражается в том, что он даже и не думает писать таких писем, бесполезность которых изведана им.
Когда я лег, уличные шумы, которые в этот праздничный вечер длились позднее, не дали мне спать. Я думал о всех тех, кому эта ночь сулила наслаждения, о любовнике, о кучке гуляк, которые, должно быть, поехали вместе с Берма по окончании спектакля, объявленного на этот вечер. Я даже не в силах был, успокаивая волнение, которое в эту бессонную ночь рождала во мне эта мысль, сказать себе, что Берма, быть может, и не думает о любви, ибо стихи, произносимые ею, давно ею изученные, каждую минуту напоминают ей, что любовь – прекрасна, да и она знает это так твердо, что любовные тревоги, известные всем – но исполненные новой страсти и неожиданной нежности – открываются в ее игре восхищенным зрителям, из которых каждый, однако, уже испытал их сам. Я снова зажег потушенную свечу, чтобы еще раз посмотреть на ее лицо. При мысли о том, что в эту минуту его, наверно, ласкают люди, которым я не в силах помешать доставить Берма и получить от нее взамен сверхчеловеческие и смутные наслаждения, я испытал тревогу скорее мучительную, чем сладостную, тоску, обострившуюся еще более, когда раздался звук рога, который приходится слышать в ночь карнавала, а нередко и в другие праздники, и который, доносясь из винной лавки и лишенный поэзии, гораздо печальнее, чем «в лесу, в вечерний час». В эту минуту записка от Жильберты, пожалуй, оказалась бы не тем, что мне было нужно. Наши желания чередуются, и среди смут бытия редко случается, что счастье откликается на то самое желание, которое призывало его.
В хорошую погоду я продолжал ходить на Елисейские Поля, мимо домов, элегантных и розовых, тонувших в небе, легком и текучем – это было время, когда в большой моде были выставки акварелистов. Я солгал бы, сказав, что дворцы Габриэля казались мне в то время прекраснее и даже древнее, чем соседние особняки. Более стильным, да и более старинным находил я если не Дворец промышленности, то, по крайней мере, Дворец Трокадеро. Погруженная в тревожный сон, юность моя наполняла единой грезой весь квартал, где развертывалась эта греза, и мне ни разу не приходило в голову, что на улице Рояль может находиться здание XVIII века, так же как я удивился бы, узнав, что Сен-Мартенские ворота и ворота Сен-Дени, мастерские произведения эпохи Людовика XIV – не современники какого-нибудь здания из числа самых новых в этих грязных кварталах. Всего лишь раз был я не в силах не остановиться надолго перед одним из дворцов Габриэля; наступила уже ночь, и колонны его, утратив в лунном свете всякую материальность, казались вырезанными из картона и, напомнив мне декорацию из оперетты «Орфей в аду», впервые произвели на меня впечатление чего-то прекрасного.
Жильберта между тем все не приходила на Елисейские поля. А ведь мне надо было бы увидеть ее, потому что я даже не помнил уже ее лица. Та настороженность, пугливость, требовательность, с которой мы глядим на любимого человека, нетерпеливое ожидание услышать то слово, которое даст нам или отнимет у нас надежду увидеться завтра, наше воображение, которое, до тех пор, пока это слово не произнесено, рисует нам, попеременно, если даже не одновременно, и радость и отчаяние, – все это в присутствии любимого существа держит нашу внимательность в слишком сильном трепете, чтобы мог отпечатлеться образ вполне отчетливый. Быть может, также напряженность, владеющая всеми нашими чувствами зараз и пытающаяся одними лишь взглядами узнать все то, что лежит вне их кругозора, слишком снисходительна к бесчисленным формам, ко всем оттенкам, движениям живого человека, которые мы, если не любим его, обычно в силах запомнить. Любимый же оригинал, напротив, полон движения; снимки никогда не удаются. Я, право, уже больше не помнил черты лица Жильберты, каким оно было всегда, кроме тех божественных минут, когда она являла их для меня: я помнил только ее улыбку. И не будучи в силах увидеть вновь это любимое лицо, как я ни старался его вспомнить, я сердился, встречая в своей памяти запечатлевшиеся с непреложной точностью ненужные и бросающиеся в глаза лица человека при карусели и торговки леденцами: так люди, потеряв любимое существо и никогда не видя его во сне, сокрушаются, постоянно встречая в своих снах столько несносных людей, с которыми более чем достаточно встречаются наяву. В своем бессилии представить себе предмет своего горя, они почти обвиняют себя в том, что не чувствуют горя. А я, не в силах вспомнить черты Жильберты, был недалек от мысли, что я забыл ее, что я ее больше не люблю. Наконец, она почти каждый день стала приходить играть, возбуждая во мне все новые желания, ставя предо мною все новые цели, делая из моей нежности каждый день новую нежность. Но одно обстоятельство еще раз и резко изменило форму, в которой ежедневно, в два часа, возникала проблема моей любви. Перехватил ли г-н Сван письмо, которое я написал его дочери, или Жильберта лишь много времени спустя решила рассказать мне, чтобы я был осторожнее, о положении дел, существовавшем уже с давних пор? Когда я стал говорить ей о том, в каком я восхищении от ее отца и ее матери, у нее появилось то неопределенное выражение, молчаливое и таинственное, которое бывало у нее, когда с ней разговаривали о том, что она собирается делать, о покупках и визитах, и вдруг она мне сказала: «Знаете, они вам не верят» – и, неуловимая, как русалка – такая она и была, – рассмеялась. Ее смех, часто не согласуясь с ее словами, казалось, подобно музыке, чертил в ином плане невидимые контуры. Г-н и г-жа Сван не требовали, чтобы Жильберта перестала играть со мной, но, как она думала, скорее предпочли бы, чтобы это вовсе не начиналось. Они неблагосклонно смотрели на наше знакомство, были невысокого мнения о моей нравственности и полагали, что на их дочь я могу иметь только дурное влияние. Те не слишком щепетильные молодые люди, с которыми, по мнению Свана, у меня было сходство, должны были, как я представлял себе, ненавидеть родителей любимой девушки, льстить им в глаза, но высмеивать их вместе с нею, заставляя не слушаться их, и, завладев наконец их дочерью, запрещать ей даже видеться с ними. С каким жаром мое сердце противопоставляло этим чертам (никогда не совпадающим с теми, которые приписал бы себе величайший негодяй) чувства, одушевлявшие его по отношению к Свану, столь страстные, что если бы только он догадывался о них, то несомненно раскаялся бы в своем суждении обо мне, как в судебной ошибке. Все, что я чувствовал к нему, решился я изложить в длинном письме, которое доверил Жильберте с просьбой передать ему. Она согласилась. Увы! значит, он увидел во мне обманщика еще большего, чем я думал; значит, в этих чувствах, которые я, как мне казалось, с такой правдивостью описал на шестнадцати страницах, он усомнился; письмо, которое я ему написал, такое же пылкое и такое же искреннее, как слова, сказанные г-ну де Норпуа, имело не больше успеха. Жильберта рассказала мне на другой день, отойдя со мной в сторону за группу лавровых деревьев в маленькой аллее, где мы уселись на стулья, что, прочитав мое письмо, которое она возвращала мне, ее отец пожал плечами и сказал: «Все это ничего не значит, это только доказывает, насколько я прав». Я, зная чистоту моих намерений, доброту моей души, был возмущен тем, что слова мои даже слегка не поколебали нелепого заблуждения Свана. Ведь это было заблуждение, тогда я в этом не сомневался. Я чувствовал, что настолько точно описал некоторые бесспорные особенности моих благородных чувств, что, если Сван сразу же не представил их себе по этому описанию, не пришел просить у меня прощения и не признал своей ошибки, он, значит, сам никогда не испытывал этих высоких чувств, вследствие чего был не способен понять их в другом человеке.
Однако, быть может, Свану просто было известно, что благородство часто является не чем иным, как другой стороной, которой оборачиваются наши эгоистические чувства, пока мы еще не дали им названия и не расклассифицировали их. В симпатии, которую я выражал ему, он, быть может, увидел простое следствие – и восторженное подтверждение – моей любви к Жильберте, которой роковым образом и должны были руководствоваться мои поступки, а вовсе не моим уважением к нему, игравшим роль второстепенную. Я не мог разделять его предчувствий, потому что мне не удалось абстрагировать мою любовь от моей личности, обобщить ее и в виде эксперимента испытать на себе ее последствия; я был в отчаянии. Я должен был на минуту покинуть Жильберту, так как меня позвала Франсуаза. Мне пришлось сопровождать ее к павильончику, который обнесен был зеленой решеткой и довольно похож был на таможенные будки старого Парижа, изменившие теперь свое назначение, и в котором с недавних пор помещалось то, что в Англии называется лавабо, а во Франции, в результате ложной англомании, ватерклозетом. От влажных и старых стен входа, где я остался стоять, ожидая Франсуазу, шел затхлый запах сырости, который, сразу же усмирив тревогу, вызванную во мне словами Свана, переданными Жильбертой, доставил мне наслаждение, – непохожее на другие, которые мы не в состоянии схватить, подчинить себе, преодолевая свое непостоянство, а, напротив, длительное наслаждение, подкреплявшее меня, восхитительное, мирное, полное неизменной правды, необъяснимое и бесспорное. Я хотел бы, как прежде, во время моих прогулок в сторону Германта, попытаться понять прелесть этого впечатления, завладевшего мной, и застыть на месте, вопрошая этот дряхлый запах, звавший меня не насладиться удовольствием, которое он только усугублял, а проникнуть в реальную сущность, которую он не открыл мне. Но старая дама с набеленными щеками и в рыжем парике, арендовавшая это заведение, заговорила со мной. Франсуаза считала, что она – «совсем приличного происхождения». Ее дочь вышла замуж за молодого человека из числа тех, кого Франсуаза называла «благородными», следовательно, одного из тех, кто в ее глазах больше отличался от рабочего, чем в глазах Сен-Симона герцог – от человека, вышедшего из «подонков общества». Очевидно, арендаторша, прежде чем стала ею, подвергалась превратностям судьбы. Но Франсуаза уверяла, что она – маркиза и принадлежит к роду Сен-Ферреоль. Эта маркиза посоветовала мне не оставаться на воздухе и даже, открыв кабинку, сказала мне: «Не хотите ли зайти? Вот совсем чистенькая, для вас бесплатно». Может быть, она делала это так, как продавщицы от Гуаша, предлагавшие мне, когда мы заходили что-нибудь заказать, одну из конфет, которые лежали под стеклянным колпачком на прилавке и которых мама, увы, не разрешала мне брать; а может быть, и менее невинно, как та старая цветочница, которая для мамы меняла цветы в жардиньерках и которая дарила мне розу, закатывая глаза. Во всяком случае, если «маркиза» чувствовала склонность к юношам, открывая им подземную дверь этих каменных кубов, где люди садятся на корточки, как сфинксы, то, вероятно, это великодушие не столько укрепляло в ней надежду совратить их, сколько доставляло удовольствие, которое нам доставляет наша бескорыстная щедрость к тем, кого мы любим, ибо я никогда не видел у нее иного посетителя, кроме старого садового сторожа.
Минуту спустя я расстался с маркизой, сопровождаемый Франсуазой, и покинул Франсуазу, чтобы вернуться к Жильберте. Я сразу увидел ее, она сидела на стуле за группой лавровых деревьев. Она сидела там, чтобы подруги не увидели ее: играли в прятки. Я сел рядом с нею. На ней была плоская шляпа без полей, довольно низко спускавшаяся на глаза и придававшая им тот задумчивый и плутоватый взгляд исподлобья, который я впервые заметил у нее в Комбре. Я спросил, не смогу ли я на словах объясниться с ее отцом. Жильберта отвечала, что она предлагала ему это, но он счел это ненужным. «Нате, – прибавила она, – возьмите ваше письмо, надо идти к остальным, раз они меня не нашли».
Если бы Сван пришел даже раньше, чем я взял обратно это письмо, искренность которого не убедила его, безумца, каким он показался мне, – он увидел бы, пожалуй, что прав был он. Потому что, подойдя к Жильберте, которая, откинувшись на стуле, предлагала мне взять письмо, но не протягивала его, я почувствовал, что меня влечет ее тело, и сказал:
– Ну, не давайте его мне, посмотрим, кто из нас сильнее.
Она спрятала его себе за спину, я положил ей руки на затылок, приподнял косы, которые она продолжала носить – потому ли, что еще не вышла из детского возраста, потому ли, что молодящейся матери хотелось, чтобы дочь подольше казалась ребенком, – и мы, ухватившись друг за друга, стали бороться. Я старался притянуть ее к себе; она сопротивлялась; на ее щеках, раскрасневшихся от усилия, появились кружки румянца, похожие на вишни; она смеялась, как будто я ее щекотал; я зажал ее между коленями, как деревцо, на которое хотел бы взобраться; и посреди гимнастики, которой я был занят, я расплескал, словно несколько капель пота, вызванных усилием, мое удовольствие, на котором не мог задержаться хотя бы настолько, чтобы изведать его прелесть, причем даже нисколько не усилилась одышка, вызванная мускульным напряжением и увлечением игры; и я уже схватил письмо. Тогда Жильберта ласково сказала мне:
– Знаете, если хотите, мы можем еще немного побороться.
Может быть, она смутно почувствовала, что цель моей игры была не та, которая предполагалась, но не смогла заметить, что я ее достиг. Я же, опасавшийся, как бы она этого не заметила (а сдержанное движение, которое она сделала миг спустя, подавшись назад, словно оскорбленная в своей стыдливости, заставило меня подумать, что я не был не прав, опасаясь этого), я согласился побороться еще и из страха, что она может подумать, будто я и не ставил себе другой цели, чем та, по достижении которой мне только хотелось бы спокойно сидеть рядом с нею.
На обратном пути мне стал ясен, внезапно вспомнился скрытый от меня до сих пор образ, к которому приближал меня, не позволяя ни разглядеть, ни узнать его, запах сырости, почти напоминавший запах сажи в павильоне за решеткой. Этот образ – комнатка моего дяди Адольфа в Комбре, в которой действительно слышался тот же запах сырости. Но я не смог понять и решил когда-нибудь потом определить причину, почему столь незначительное воспоминание наполнило меня таким блаженством. А пока что мне казалось, что я в самом деле заслуживаю презрения г-на де Норпуа: до сих пор я всем писателям предпочитал того, чьи произведения он называл всего лишь игрой на флейте, и не какая-нибудь великая идея, а запах плесени возбуждал во мне настоящий восторг.
С некоторых пор во многих семьях упоминание о Елисейских Полях в устах какого-нибудь посетителя воспринималось матерями с той суровостью, с какой они относятся к врачу, который, по их словам, слишком часто ставит неправильные диагнозы, чтобы еще можно было доверять ему: уверяли, что этот сад вреден для детей, что можно указать не один случай горлового заболевания, кори и множество случаев лихорадки, виною которых был этот сад. Не решаясь открыто подвергать сомнению заботливость мамы, которая по-прежнему посылала меня туда, кое-кто из ее приятельниц оплакивал, по крайней мере, ее ослепление.
Несмотря на общераспространенное мнение, неврастеники всего менее «прислушиваются к себе»: они различают в себе столько симптомов, которые, как это потом становится им ясно, вызывали в них напрасную тревогу, что в конце концов ни на один из них уже не обращают внимания. Их нервная система уже слишком часто взывала к ним: «Помогите!» – словно дело шло о серьезной болезни, между тем как всего лишь должен был пойти снег или предполагалась перемена квартиры, и они в силу привычки обращают на эти предупреждения не больше внимания, чем солдат, который в боевом пылу настолько не замечает их, что, даже умирая, бывает в силах еще несколько дней вести жизнь здорового человека. Однажды утром, чувствуя в себе весь комплекс этих обычных недомоганий, о круговращении которых, неизменном и незримом, я думал так же мало, как о своем кровообращении, я бодро поспешил в столовую, где родители уже сидели за едой, – и как обычно, внушив себе, что чувствовать холод может вовсе не значит, что надо согреться, а значит, например, что тебя бранили, и что если не чувствуешь голода, это может быть знак того, что пойдет дождь, а вовсе не того, что надо воздержаться от еды, – сел за стол, – и вдруг, готовясь проглотить первый кусок аппетитной котлетки, ощутил тошноту, головокружение – лихорадочный ответ начинавшейся болезни, симптомы которой были скрыты и задержаны ледяной корой моего равнодушия, но которая упорно отказывалась от пищи, не в силах воспринять ее. Но в ту же секунду мысль, что мне не позволят выйти из дому, если моя болезнь будет замечена, – словно инстинкт самосохранения, руководящий раненым, – дала мне силу дотащиться до моей комнаты, где я увидел, что у меня температура 40 градусов, и приготовиться идти на Елисейские Поля. Сквозь вялую и проницаемую оболочку тела мои улыбающиеся мысли предвкушали удовольствие от игры с Жильбертой, требовали его, и час спустя, еле держась на ногах, но счастливый и вблизи Жильберты, я еще был в силах наслаждаться им.
Франсуаза по возвращении домой объявила, что мне «стало худо», что меня, наверно, «продуло», и доктор, вызванный тотчас, объявил, что «предпочитает» болезненность и «вирулентность» лихорадочного состояния, сопровождавшего мое воспаление легких, так как это только «вспышка» по сравнению с более «коварными» и «скрытыми» формами болезни. Я уже давно подвергался приступам удушья, и наш врач, несмотря на недовольство моей бабушки, которой уже казалось, что я умру алкоголиком, посоветовал мне, кроме приемов кофеина, прописанного как средство облегчить дыхание, пить пиво, шампанское или коньяк, как только я почувствую приближение припадка.
Припадок, по его словам, должен был разрешиться в «эйфории», вызванной алкоголем. Чтобы бабушка позволила дать мне вина, мне часто приходилось не скрывать, а выставлять напоказ состояние удушья. Впрочем, едва я начинал чувствовать его приближение, никогда не зная, какие размеры оно примет, я уже беспокоился, так как думал об озабоченности бабушки, пугавшей меня гораздо больше, чем мое страдание. Но в то же время мое тело – потому ли, что оно было слишком слабо, чтобы хранить в себе тайну страдания, потому ли, что оно страшилось, как бы окружающие, не догадываясь о неминуемом недуге, не потребовали от него неосуществимого или опасного для него усилия, – заставляло меня предупреждать бабушку о моем недомогании с точностью, приобретавшей характер почти физиологического процесса. Как только я замечал в себе неприятный симптом, который еще не успевал различить, мое тело испытывало страшную тревогу, пока я не сообщал о нем бабушке. Если бабушка притворялась, что не обращает никакого внимания, оно заставляло меня проявлять настойчивость. Иногда я заходил слишком далеко, и на любимом лице, которое уже не владело собой так, как прежде, появлялось выражение жалости, болезненная судорога. Тогда мое сердце терзалось видом ее горя, и, как будто мои поцелуи должны были утешить ее, как будто моя нежность могла доставить бабушке такую же радость, как мое хорошее самочувствие, я бросался в ее объятия. А так как, с другой стороны, мои сомнения затихали в уверенности, что она знает о моем недомогании, то и мое тело не мешало мне успокоить ее. Я уверял ее, что в этом недомогании нет ничего мучительного, что меня вовсе не следует жалеть, что она может не сомневаться, что я счастлив; мое тело желало, чтоб ему уделили ровно столько жалости, сколько оно заслуживает, и когда бабушке становилось известно, что в правом боку у меня боль, она ничего не имела против того, чтобы я заявил, что эта боль – не болезнь и не является для меня препятствием к счастью, ибо мое тело обходилось без философии, философия была не по его части. Во время моего выздоровления у меня почти каждый день случались эти припадки удушья. Однажды вечером, оставив меня в довольно хорошем состоянии, бабушка уже очень поздно вошла в мою комнату и, заметив, что мне не хватает дыхания, изменившись в лице, воскликнула: «Господи, как ты страдаешь!» Она тотчас же меня покинула, я услышал, как захлопнулись ворота, а немного погодя она вернулась с коньяком, за которым ей пришлось сходить, потому что его не оказалось дома. Скоро я почувствовал себя счастливым. Бабушка немного раскраснелась и казалась смущенной, а в глазах у нее выражались усталость и уныние.
– Я лучше тебя оставлю, отдохни, раз тебе лучше, – сказала она и поспешила уйти. Все же я поцеловал ее и, почувствовав на ее холодных щеках что-то мокрое, не был уверен, что то была сырость ночного воздуха, с которого она только что пришла. На другой день она заглянула в мою комнату только вечером, потому что, как мне сказали, ей надо было куда-то уйти. Я нашел, что это большое равнодушие ко мне, и мне стоило усилий не сделать ей упрека.
Так как припадки удушья продолжались, а воспаление легких, которым можно было их объяснить, уже давно прошло, мои родители пригласили на консультацию профессора Котара. Врачу, которого приглашают в подобных случаях, недостаточно быть образованным. Если он сталкивается с явлениями, которые могут быть симптомами трех или четырех разных болезней, в конечном счете его чутье, его проницательность решает, с которой из них, несмотря на более или менее одинаковые признаки, ему приходится иметь дело. Этот таинственный дар не означает превосходства в других сферах умственной жизни, и пошлейшее существо, любящее самую скверную живопись, самую скверную музыку и лишенное всякой пытливости, вполне может обладать им. В данном случае то, что поддавалось эмпирическому наблюдению, могло быть следствием как нервных спазм, начинающегося туберкулеза, астмы, так и удушья на почве отравления при недостаточной работе почек, хронического бронхита или сложного состояния, которое могло обусловливаться несколькими из числа этих факторов. Нервные спазмы требовали, чтобы на них не обращалось внимания, при туберкулезе требовался бы большой уход и усиленное питание, которое было бы вредно при артритическом состоянии вроде астмы и могло бы стать опасным при удушьях на почве отравления, требующих режима, который, в свою очередь, был бы губителен для туберкулезного больного. Но Котар недолго пребывал в нерешительности, и его предписания были категоричны. «Сильные и быстро действующие слабительные, в течение нескольких дней молоко, ничего, кроме молока. Ни мяса, ни спиртных». Мать прошептала, что меня все же очень нужно подкрепить, что я и так уже достаточно нервен, что это лошадиное средство и этот режим окончательно убьют меня. По глазам Котара, выражавшим такое беспокойство, как будто он боялся опоздать на поезд, я увидел, что он не уверен, не поддался ли он своей природной мягкости. Он старался припомнить, не забыл ли он надеть маску неприступности, – вроде того как ищут зеркала, чтобы посмотреть, завязан ли галстук. Сомневаясь в себе и чтобы на всякий случай наверстать упущенное, он грубо ответил: «Я не привык повторять свои предписания. Дайте перо. Главное же – на молочную диету. Потом, когда мы справимся с припадками и бессонницей, я вам позволю некоторые супы, потом пюре, но соблюдать диэту, диэту. Понимаете ли, диэту, – эту, – эту, а не ту. – (Его ученики хорошо знали этот каламбур, который он повторял в больнице всякий раз, когда пациенту, страдавшему болезнью сердца или печени, прописывал молочную диету.) – Затем вы постепенно вернетесь к обычному образу жизни. Но всякий раз, как будет возобновляться кашель и удушье, – слабительное, промывание кишок, постель, молочная диэта». Он чрезвычайно холодно выслушал последние возражения моей матери, не ответил на них и ушел, не соблаговолив объяснить, чем вызван этот режим; поэтому мои родные, сочтя, что он не имеет отношения к моему состоянию и без надобности ослабит меня, не дали мне попробовать его. Конечно, они старались утаить от профессора свое непослушание и, чтобы вернее достигнуть цели, избегали бывать во всех домах, где могли с ним встретиться. Но когда мое положение ухудшилось, они решили в точности исполнить предписания Котара; через три дня я больше не задыхался, не кашлял и дышал свободно. Тогда мы поняли, что Котар, хоть и нашел у меня одышку, как он сам рассказывал потом, а главное, счел меня «сумасбродом», все-таки распознал, что в данную минуту в моем организме преобладающую роль играет отравление и что, прочистив мне печень и промыв почки, он успокоит мои бронхи, вернет мне дыхание, сон, силы. И мы поняли, что этот дурак – великий клиницист. Я наконец мог встать. Но говорили, что мне больше нельзя ходить на Елисейские Поля. Говорили, что это из-за вредного воздуха; я же был уверен, что этим предлогом пользуются для того, чтобы я не мог больше видеться с м-ль Сван, и все время заставлял себя повторять имя Жильберты, как побежденные стараются говорить на родном языке, чтобы не забыть родины, которой они не увидят. Иногда моя мать гладила меня по голове и говорила: «Так, значит, мальчики больше не рассказывают своей маме, что их огорчает?»
Франсуаза каждый день подходила ко мне и говорила: «У барина такой вид! Вы не смотрелись в зеркало? настоящий покойник!» Правда, если бы у меня был даже простой насморк, Франсуаза говорила бы тем же траурным тоном. Ее причитания скорей зависели от ее «сословия», чем были вызваны моим состоянием. Я не разбирался тогда в том, что выражает пессимизм Франсуазы – скорбь или же удовлетворение. Пока что я решил, что он имеет характер социальный и профессиональный.
Однажды, в час, когда приносят почту, мать положила мне на постель письмо. Я небрежно распечатал его, потому что на нем не могло быть единственной подписи, способной меня осчастливить, – подписи Жильберты, с которой мы не поддерживали связи, если не считать встреч на Елисейских Полях. Однако внизу листка с серебряной печатью, изображающей рыцаря в шлеме, с девизом, описывающим полукруг у его ног: «Per viam rectam»[3]в конце письма, написанного крупным почерком и где каждая фраза казалась подчеркнутой только потому, что поперечная черта буквы t приходилась не посредине ее, а над ней, подчеркивая соответствующее слово верхней строки, я увидел именно подпись Жильберты. Но так как я считал ее невозможной в письме, адресованном на мое имя, то вид этой подписи, не сопровождаясь уверенностью, меня не обрадовал. В течение секунды он возбуждал во мне острое чувство нереальности всего окружающего. Эта невероятная подпись с головокружительной быстротой играла в уголки с моей постелью, камином, стенами. Все завертелось у меня в глазах, словно при падении с лошади, и я спросил себя, не существует ли другой жизни, которая совершенно непохожа на ту, что знакома мне, противоположна ей, но является жизнью истинной; внезапно мне открывшись, она вызывала во мне ту нерешительность, выражение которой ваятели, изображающие Страшный суд, придают мертвецам, пробудившимся у порога иного мира. «Дорогой друг, – гласило письмо, – я узнала, что вы были очень больны и больше не ходите на Елисейские Поля. Я тоже больше не хожу туда, потому что там очень много больных. Но мои друзья приходят ко мне днем по понедельникам и пятницам пить чай. Мама поручила мне передать, что вы доставите нам очень большое удовольствие, если тоже будете приходить к нам, когда поправитесь, и мы с вами сможем так же хорошо разговаривать у нас дома, как и на Елисейских Полях. Прощайте, дорогой друг, надеюсь, что ваши родители позволят вам очень часто приходить к нам пить чай, и шлю вам мой привет. Жильберта».
Пока я читал эти слова, моя нервная система с чрезвычайной быстротой восприняла известие о том, что мне на долю выпало большое счастье. Но моей душе, то есть мне самому, главному заинтересованному лицу, это еще не было известно. Счастье, счастье из рук Жильберты, это было нечто такое, о чем я непрестанно думал, нечто, существующее только в мыслях, то, что Леонардо, говоря о живописи, называл cosa mentale[4]. А листок бумаги, покрытый буквами, мысль усваивает не сразу. Но как только я кончил читать письмо, я стал думать о нем, оно стало предметом моих мечтаний, оно тоже сделалось cosa mentale, и оно уже было мне так дорого, что каждые пять минут я перечитывал его и целовал его. Тогда я познал мое счастье.
Жизнь усеяна чудесами, на которые всегда могут надеяться влюбленные. Пожалуй, это чудо было искусственно вызвано моей матерью, которая, видя, что с некоторых пор я потерял всякий интерес к жизни, могла попросить передать Жильберте, чтобы она мне написала, подобно тому как в пору моих первых морских купаний она, стараясь приохотить меня нырять, чего я терпеть не мог, так как при этом у меня прерывалось дыхание, тайком передавала моему купальщику чудесные коробки из раковин и коралловые ветки, которые, как я воображал, я сам находил на дне. Впрочем, что касается всех событий, которые в нашей жизни, полной противоречивых положений, связаны с любовью, лучше всего и не пытаться их понимать, ибо в той мере, в какой они являются и непреложными, и неожиданными, они, по-видимому, управляются законами скорее магическими, нежели рациональными. Когда какой-нибудь сверхмиллионер, не лишенный притом внешней привлекательности, получает отставку от женщины бедной и неказистой, с которой он жил, и, в своем отчаянии, призывая на помощь все силы золота и пуская в ход всевозможные средства, терпит неудачу, то лучше, видя непреклонное упорство его любовницы, предположить, что судьба хочет сразить его и заставить умереть от болезни сердца, чем искать логического объяснения. Препятствия, бороться с которыми приходится любовникам и которые напрасно пытается разгадать их воображение, взбудораженное страданием, часто сводятся к каким-либо странностям в природе женщины, которую они не в силах вернуть к себе, ее глупости, влиянию над ней людей, неизвестных любовнику, и внушенным ими опасениям, характеру тех удовольствий, которых она в данное время требует от жизни, удовольствий, которых ни любовник, ни его средства не в силах ей предоставить. Во всяком случае, любовник находится в невыгодном положении, когда ему приходится познавать сущность препятствий, которые скрывает от него женская хитрость, а его собственный рассудок, сбитый с толку любовью, мешает ему правильно их оценить. Они напоминают те опухоли, которые врачу удается устранить, но происхождение которых ему остается неизвестно. Подобно им, эти препятствия остаются загадочными, но они временны. Только обычно они существуют дольше, чем любовь. А так как любовь – страсть не бескорыстная, то любовник, переставший любить, уже не пытается узнать, почему женщина, которую он любил, бедная и ветреная, в течение нескольких лет упорно отказывалась оставаться у него на содержании.
Однако тайна, часто скрывающая от взора причину катастроф, когда дело идет о любви, столь же часто окружает неожиданность счастливого исхода (вроде того, который возвещало мне письмо Жильберты), – счастливого или по крайней мере кажущегося счастливым, ибо в действительности счастливого исхода не бывает, когда дело идет о чувстве, не знающем такого удовлетворения, которое не сводилось бы лишь к перемещению страдания. Иногда, впрочем, дается передышка, и некоторое время мы поддаемся иллюзии выздоровления.
Что же касается этого письма, заканчивавшегося подписью, в которой Франсуаза не соглашалась признать имя Жильберты, потому что первая буква, вычурная и опирающаяся на i без точки, походила на А, между тем как последний слог был бесконечно растянут волнистым росчерком, то если поискать рационального объяснения крутого поворота, им засвидетельствованного и меня так обрадовавшего, придется, пожалуй, предположить, что я был отчасти обязан им случаю, который, как мне казалось, наоборот, должен был навсегда уронить меня в глазах Сванов. Незадолго до этого меня зашел навестить Блок, как раз когда в моей комнате находился профессор Котар, которого снова начали приглашать, с тех пор как я стал следовать его режиму. Так как консультация кончилась и Котар оставался лишь в качестве гостя, потому что родители пригласили его обедать, Блоку разрешено было войти. Когда Блок, присоединившись к общему разговору, сказал, что г-жа Сван очень любит меня, по словам одного лица, с которым он обедал накануне и которое было близко знакомо с г-жой Сван, мне хотелось ответить ему, что он, наверно, ошибается, и – с той же щепетильностью, которая заставила меня объявить это г-ну де Норпуа, из боязни, как бы г-жа Сван не приняла меня за лгуна, – объявить, что я не знаю ее и никогда с нею не разговаривал. Но у меня не хватило смелости поправить ошибку Блока, потому что, как я понял, она была сознательной, и если он придумал нечто такое, чего г-жа Сван не могла сказать, то сделал это для того, чтобы сообщить факт, который казался ему лестным и был неправдой, – что он обедал с одной приятельницей этой дамы. Но если г-н де Норпуа, узнав, что я незнаком и очень хотел бы познакомиться с г-жой Сван, и не подумал сказать ей обо мне, то лечивший ее Котар, выведя из слов Блока, что она хорошо знакома со мной и ценит меня, решил, что если при встрече с нею он скажет, что я – прелестный юноша и что он в дружбе со мною, то этим он не принесет мне никакой пользы, но покажет себя в лестном свете, – два соображения, побудившие его замолвить обо мне словечко Одетте, как только ему представился случай.
Тогда я узнал эти комнаты, откуда проникал даже на лестницу запах духов, употребляемых г-жой Сван, но где еще сильнее чувствовалось благоухание, источаемое особой мучительной прелестью жизни Жильберты. Неумолимый консьерж, превратившийся в благосклонную Эвмениду, теперь всякий раз, как я спрашивал его, могу ли я подняться к Сванам, благосклонной рукой приподымал свою фуражку, указывая этим, что он внемлет моей мольбе. Окна, отделявшие меня от сокровищ, которые не были мне предназначены, бросавшие на улицу блестящий, далекий и небрежный взгляд, казавшийся мне взглядом самих Сванов, – теперь мне самому, когда я в теплое время года проводил всю вторую половину дня в комнате Жильберты, случалось открывать их, чтобы освежить воздух, и даже, если в тот день ее мать принимала визиты, вместе с Жильбертой высовываться из них, чтобы посмотреть на гостей, которые, выходя из экипажа, часто подымали голову, махали рукой, приветствовали меня, думая, что я, верно, племянник хозяйки дома. Косы Жильберты касались в эти минуты моей щеки. Тонкие злаки этих кос казались мне чем-то и естественным и в то же время неестественным, а их крепкое искусное сплетение – произведением, не знающим равных себе, сотканным из трав райских полян. Каким небесным гербарием окружил бы я даже малейшую частицу их! Но не надеясь получить ни одной реальной пряди из этих кос, – если б я мог иметь хоть их фотографию, неизмеримо более драгоценную, чем фотография цветочков, нарисованных да Винчи! Чтобы достать эту фотографию, я унижался перед друзьями Сванов и даже перед фотографами, но не добился желаемого и только навсегда связал себя с очень скучными людьми.
Родители Жильберты, которые так долго не позволяли мне видеть ее, теперь, – когда я входил в темную переднюю, где вечно витала возможность встретиться с ними, более грозная и более вожделенная, чем некогда в Версале явление короля, и где обычно, натолкнувшись сперва на огромную вешалку, простиравшую семь ветвей, подобно библейскому семисвечнику, я рассыпался в приветствиях перед лакеем в длинной серой ливрее, который сидел на деревянном ларе и которого в темноте я принимал за г-жу Сван, – родители Жильберты, если кто-нибудь из них проходил здесь в момент моего прихода, отнюдь не казались рассерженными, а с улыбкой пожимали мне руку и говорили: «Как вы поживаете? – (Причем оба они произносили эту фразу на особый лад, не сливая гласного с согласным, – произношение, которому, вернувшись домой, я, разумеется, считал неизменным и сладостным долгом подражать.) – Жильберта знает, что вы пришли? Тогда я вас оставляю».
Более того, даже чай, которым Жильберта угощала своих приятельниц и который так долго казался мне самой непреодолимой из всех преград, громоздившихся между нею и мной, становился теперь поводом для встреч, о которых она сообщала мне запиской, написанной каждый раз (ибо наше знакомство было еще довольно недавнее) на разной почтовой бумаге. Один раз на ней был изображен голубой выпуклый пудель, возвышавшийся над английской юмористической надписью, которую замыкал знак восклицания, другой раз – якорь или вензель Ж. С., вытянутый в бесконечный прямоугольник, в длину всего листка, или же имя «Жильберта», иногда написанное наискось в углу золотыми буквами, которые воспроизводили подпись моей приятельницы и переходили в росчерк и над которыми открывался черный зонтик, иногда же оно замыкалось в монограмму в виде турецкого колокольчика, заключавшего в себе в форме прописных букв все элементы этого имени, однако так, что ни одной из них нельзя было различить. В конце концов, так как выбор почтовой бумаги, имевшейся у Жильберты, как бы многочисленны ни были ее сорта, все же не был безграничным, то по прошествии нескольких недель я снова видел листок бумаги, украшенный, как и в первый раз, что она мне писала, темно-серебряным медальоном с девизом «Per viam rectam» и рыцарем в шлеме. И каждый раз одному из этих сортов бумаги отдавалось предпочтение перед другим, – в силу некоего обряда, казалось мне тогда, – но вернее потому, что, как я думаю теперь, она старалась вспомнить, на какой бумаге писала прошлые разы, чтобы один и тот же корреспондент, по крайней мере, такой, ради которого, по ее мнению, стоило постараться, мог лишь через максимальный промежуток времени получить письмо, писанное на уже знакомой бумаге. Так как кое-кому из приятельниц Жильберты, которых она приглашала на чай и у которых уроки бывали в разные часы, уже надо было уходить в то время, когда другие только приходили, то я еще на лестнице слышал рокот голосов, доносившийся из передней и заставлявший меня, еще задолго до того, как я достигал площадки, внезапно порывать все связи с прежней жизнью и в тревожном ожидании величественной церемонии, при которой я должен был присутствовать, забывать даже, что, входя в теплое помещение, надо снять шейный платок и посмотреть на часы, чтобы не опоздать домой. Впрочем, эта лестница, вся деревянная, как в то время это было принято в некоторых доходных домах, в стиле Генриха II, который так долго являлся идеалом Одетты и к которому она вскоре должна была охладеть, и снабженная дощечкой, которой у нас в доме не было никакого соответствия: «Воспрещается пользоваться лифтом для спуска», казалась мне чем-то столь волшебным, что я сказал моим родным, что эта лестница очень старинная и что г-н Сван привез ее из далекого путешествия. Истина мне была настолько дорога, что я, не колеблясь, сообщил бы им этот факт, даже если бы знал, что это неправда, потому что только он был в состоянии внушить им такое же уважение к лестнице Сванов, какое чувствовал я. Так в присутствии невежды, который не может понять, в чем выражается гений великого врача, считают более уместным не признаваться в том, что он не умеет лечить насморк. Но так как у меня не было никакой наблюдательности, так как вообще я не знал ни названий, ни свойств предметов, которые находились у меня перед глазами, и только понимал, что, попадая в близость Сванов, они должны быть необыкновенными, то я не был уверен, что, рассказывая моим родителям о художественных достоинствах и чужеземном происхождении этой лестницы, я говорю неправду. Я не был уверен в этом; но, должно быть, это казалось мне вероятным, так как я почувствовал, что густо краснею, когда отец прервал меня и сказал: «Я знаю эти дома; я видел один из них, они все одинаковые; Сван просто занимает несколько этажей, их строил Берлье». Он прибавил, что собирался нанять квартиру в одном из них, но отказался от этой мысли, так как нашел, что они неудобны и что вход недостаточно светлый; он сказал это; но я инстинктивно почувствовал, что мой ум должен принести необходимые жертвы обаянию Сванов и моему счастью, и усилием собственной воли, несмотря на все то, что я услышал, я отогнал от себя, словно верующий, которого не соблазняет «Жизнь Иисуса» Ренана, еретическую мысль, будто квартира Сванов – обыкновенная квартира, в которой могли бы жить и мы.
Между тем в эти приемные дни Жильберты я, медленно поднимаясь по лестнице, забыв обо всем, не думая ни о чем, превратившись в игрушку самых низких рефлексов, достигал тех пределов, где уже слышались духи г-жи Сван. Я уже мысленно видел величественный шоколадный торт, окруженный тарелками с птифурами и серыми салфеточками с узором, требовавшимися этикетом и характерными для Сванов. Но казалось, что эта неизменная и строго размеренная картина, как у Канта мир необходимости, зависит от свободного акта верховной воли. Ибо, когда мы все были в сборе в маленькой гостиной Жильберты, она, вдруг посмотрев на часы, говорила: «Знаете что, мой завтрак – это было уже давно, а обедаю я только в восемь, мне очень хочется съесть что-нибудь. Как вы думаете?»
И она вела нас в столовую, сумрачную, точно внутренность азиатского храма на картине Рембрандта, где архитектурный торт, столь же добродушный и приветливый, сколь и внушительный, казалось восседал там изо дня в день во что бы то ни стало, ожидая, что Жильберте придет в голову снести его шоколадные зубцы и разрушить его стены, коричневые и крутые, обожженные в печи, словно бастионы дворца Дария. Более того, приступая к разрушению ниневийского торта, Жильберта считалась не только со своим голодом; она справлялась также, голоден ли я, и извлекала для меня из развалин здания целую стену, блестящую и усаженную красными ягодами в восточном вкусе. Она даже спрашивала, в котором часу обедают мои родители, как будто я еще помнил это, как будто волнение, владевшее мной, не убило в моей опустошенной памяти и парализованном желудке чувство голода или отвращения к пище, представление об обеде и образ семьи. К несчастью, этот паралич был только временный. Ведь должен был наступить момент, когда придется переваривать пирожные, которые я ел, сам того не замечая. Но время это еще было далеко. А пока что Жильберта приготовляла «мой чай». Пил я его бесконечно много, между тем одна чашка лишала меня сна на целые сутки. И моя мать обычно говорила: «Как неприятно, этот мальчик всякий раз возвращается больной от Сванов». Но знал ли я, сидя у Сванов, что то, что я пью, есть чай? Даже если б я и знал это, все же я пил бы его, ибо, если и предположить, что ко мне на один миг вернулось бы представление о настоящем, оно могло и не вернуть мне память о прошлом и предвидение будущего. Мое воображение не простиралось до того отдаленного момента, когда я ощутил бы желание лечь в постель и потребность в сне.
Подруги Жильберты не все были охвачены этим восторженным состоянием, при котором решение невозможно. Некоторые отказывались от чая! Тогда Жильберта произносила фразу, очень распространенную в то время: «Право, мой чай не имеет успеха!» И чтобы еще больше сгладить впечатление торжественности, нарушала порядок стульев вокруг стола: «Мы сидим как на свадьбе, Боже мой, какая эта прислуга глупая».
Она грызла что-нибудь, сидя боком на табурете в виде икса, поставленном наискось. Можно было подумать, что все эти пирожные находятся в ее распоряжении без ведома ее матери, ибо когда г-жа Сван, приемный день которой обычно совпадал с чаем у Жильберты, проводив какого-нибудь гостя, вбегала минуту спустя, иногда в синем бархатном, но чаще в черном атласном платье с белыми кружевами, она удивленно говорила:
– Ах, это, кажется, вкусно, то, что вы едите. Мне даже захотелось есть, глядя, как вы кушаете кекс.
– Ну, так мы вас приглашаем, мама, – отвечала Жильберта.
– Да нет, сокровище мое, что бы сказали мои гости? У меня еще г-жа Тронбер, г-жа Котар и г-жа Бонтан, ты знаешь, что эта милая г-жа Бонтан не делает особенно коротких визитов, а она только что пришла. Что скажут все эти милые люди, видя, что я к ним не возвращаюсь, вот если больше никто не явится, я, когда они уйдут, вернусь поболтать с вами, что для меня гораздо приятнее. Я думаю, я заслуживаю того, чтобы посидеть спокойно, у меня было сорок пять визитов, и из этих сорока пяти человек сорок два говорили о картине Жерома! А вы приходите как-нибудь на днях, – обращалась она ко мне, – пить чай вместе с Жильбертой, она вам приготовит такой, какой вы любите, какой вы пьете в вашем маленьком «studio»[5], – прибавляла она, уже убегая к своим гостям, таким тоном, как будто это было нечто столь же знакомое мне, как мои привычки (например, обыкновение пить чай, если б я вообще пил его; что же касается «studio», то я не знал, было ли это у меня или не было), которые я перенимал в этом таинственном мире. «Когда вы придете? Завтра? Для вас будут тосты – не хуже, чем у Коломбена. Нет? Вы – гадкий», – говорила она, ибо с тех пор, как и у нее начал создаваться салон, она усвоила манеры г-жи Вердюрен, ее жеманно-деспотический тон. Так как и тосты и Коломбен были мне в равной мере неизвестны, то последнее обещание не могло бы усилить соблазна. Более странным покажется, – ведь все так говорят, а теперь, быть может, даже и в Комбре, – что я в первую минуту не понял, о ком говорит г-жа Сван, когда она стала расхваливать нашу старую «nurse»[6]. Я не знал по-английски, однако скоро сообразил, что это слово относится к Франсуазе. Как я боялся на Елисейских Полях, что она может произвести неблагоприятное впечатление, – и вдруг я узнал от г-жи Сван, что рассказы Жильберты о моей «nurse» возбудили в ней и ее муже симпатию ко мне. «Чувствуется, что она такая преданная, такая приличная». (Я тотчас же совершенно переменил мнение о Франсуазе. После этого мне уж не казалось столь необходимым иметь гувернантку в макинтоше и с султаном на шляпе.) Наконец из нескольких слов, сказанных г-жой Сван о г-же Блатен, доброжелательность которой она признавала, опасаясь, однако, ее визитов, я понял, что личное знакомство с этой дамой не было бы так ценно для меня, как я думал, и нисколько не улучшило бы моего положения у Сванов.
Если я уже и начал исследовать, благоговейно и радостно трепеща, эту волшебную страну, доступ в которую, доселе запрещенный мне, открылся совершенно неожиданно, то всего лишь на положении друга Жильберты. Царство, в котором меня принимали, само было частью царства еще более таинственного, где Сван и его жена жили своей сверхъестественной жизнью и куда они уходили, пожав мне руку, если им случалось одновременно со мной, но в обратном направлении, проходить по передней. Но вскоре я проник и в самую глубь святилища. Жильберты, например, не оказывалось, а г-н или г-жа Сван были дома. Они справлялись, кто позвонил, и, узнав, что это я, просили меня зайти к ним на минутку, выражая желание, чтобы я в том или ином направлении, ради той или иной цели, воспользовался моим влиянием на их дочь. Мне вспоминалось то письмо, такое исчерпывающее, такое убедительное, которое я недавно написал Свану и которое он даже не удостоил ответом. Я изумлялся бессилию разума, логических доводов и сердца, неспособных и в малой степени переубедить, разрешить хоть одну из тех трудностей, которые впоследствии сама жизнь распутывает с такой легкостью, что даже нельзя сказать, как это произошло. Благодаря моей новой роли – роли друга Жильберты, имеющего на нее прекрасное влияние, я пользовался такими же милостями, как если бы учился вместе с сыном короля, в коллеже, где всегда был бы первым учеником, и благодаря этой случайности мог бы запросто бывать во дворце и получать аудиенции в тронном зале. Сван, беспредельно благосклонный, приглашал меня, как будто он не был обременен занятиями величайшей важности, в свою библиотеку, и в течение часа давал мне возможность отвечать лепетом, долгим застенчивым молчанием, нарушавшимся краткими и бессвязными порывами отваги, на его вопросы, в которых от волнения я не понимал ни слова; он мне показывал художественные произведения и книги, которые, по его мнению, могли заинтересовать меня и относительно которых я заранее был уверен, что они по красоте неизмеримо выше всех тех, что находятся в Лувре и в Национальной библиотеке, но не в силах был на них смотреть. Мне доставило бы удовольствие, если бы в такую минуту его дворецкий попросил бы меня отдать ему мои часы, булавку для галстука, ботинки и подписать бумагу, в которой я признал бы его своим наследником; пользуясь прекрасным народным выражением, автор которого, так же как и авторы знаменитейших эпопей, остался неизвестен, но которое, так же как эти эпопеи, и вопреки теории Вольфа, наверно имело автора (одного из тех умов, изобретательных и скромных, какие встречаются каждый год, которым принадлежат такие находки, как «дать имя лицу», но которые утаивают свое собственное имя), я не ведал, что делаю. Если посещение затягивалось, я разве что удивлялся тому, в какое полное бездействие, в какое бездумное состояние погружают меня эти часы, проводимые под очарованным кровом. Но мое разочарование не было вызвано несовершенством мастерских произведений, показанных мне, или невозможностью остановить на них рассеянный взгляд. Ведь пребывание в кабинете Свана казалось мне чем-то волшебным вовсе не благодаря красоте, присущей этим предметам, которые могли бы быть и самыми уродливыми, а благодаря тому особому грустному и сладостному чувству, которое было свойственно им, которое я уже столько лет связывал с представлением об этой комнате и которое еще и сейчас пронизывало его; бесчисленные зеркала, серебряные щетки, алтари святому Антонию Падуанскому, работы лучших скульпторов и живописцев, друзей г-жи Сван, также не имели никакого отношения к сознанию моего ничтожества и ее царственной благосклонности, которое я испытывал, когда она принимала меня на минуту в своей комнате, где три прекрасных и внушительных создания, ее первая, вторая и третья камеристки, улыбаясь приготовляли чудесные наряды и куда, по приказанию лакея в коротких штанах, объявлявшего мне, что госпожа что-то хочет мне сказать, я направлялся извилистой тропой коридора, наполненного благоуханиями драгоценных духов, ароматические волны которых беспрестанно неслись из уборной г-жи Сван.
Когда г-жа Сван возвращалась к своим гостям, мы все еще слышали ее голос и смех, потому что даже в присутствии двух человек она, как будто имела дело со всеми «приятелями», говорила громко, отчеканивала слова, беря пример с Хозяйки, которая у себя в маленьком клане так часто делала то же самое, «дирижируя разговором». Так как речениями, недавно заимствованными, мы, по крайней мере некоторое время, пользуемся охотнее всего, то г-жа Сван порой выбирала выражения, слышанные от изысканных людей, знакомых ее мужа, с которыми он не мог не познакомить ее (им она была обязана жеманной манерой – опускать артикль или указательное местоимение перед прилагательным, характеризующим человека), а порою и самые пошлые (например: «Это ерунда!» – излюбленное словечко одной из ее подруг), и старалась вставлять их во все истории, которые любила рассказывать, согласно обыкновению, воспринятому в «маленьком клане». Затем она любила прибавлять: «Мне очень нравится эта история», или: «Ах, признайтесь, это – милая история!» – выражение, попавшее к ней через посредство ее мужа от Германтов, которых она не знала.
Г-жа Сван уходила из столовой, но ее муж, вернувшись домой, в свою очередь, появлялся среди нас. «Ты не знаешь, твоя мать одна, Жильберта?» – «Нет, папа, у нее еще кто-то есть». – «Как, и сейчас еще? В семь часов! Это ужасно. Бедняжка, верно, в полном изнеможении. Это безобразие. – (Дома у меня это слово произносили иначе, нежели у Сванов.) – Подумайте, с двух часов! – продолжал он, обращаясь ко мне. – А Камиль мне говорил, что между четырьмя и пятью было двенадцать человек. Да что я говорю двенадцать, он, кажется, сказал четырнадцать. Нет, двенадцать, словом, я не помню. Когда я возвращался, я забыл, что это ее приемный день, и, увидев все эти экипажи у подъезда, я подумал, что в доме свадьба. Я только вошел в свой кабинет, звонки не прекращались, честное слово, голова от них болит. И у нее еще много народа?» – «Нет, только две гостьи». – «Ты знаешь кто?» – «Госпожа Котар и госпожа Бонтан». – «А! жена начальника канцелярии министра общественных работ». – «Я знаю, что ее муж служит в каком-то министерстве, только вот не знаю, в какой должности», – говорила Жильберта делано-ребячливо.
– Что ты, глупенькая, ты рассуждаешь, как будто тебе два года. Что это ты говоришь – служит в министерстве? Он не более не менее как начальник канцелярии, начальник всего заведения. Да что это я, впрочем, право, я такой же рассеянный, как ты. Он не начальник канцелярии, он директор канцелярии.
– Почем же я знаю? Значит, это большое место, быть директором канцелярии? – отвечала Жильберта, никогда не пропускавшая случая выказать равнодушие к тому, чем гордились ее родители (впрочем, она могла думать, что, делая вид, будто не придает значения столь блистательному знакомству, она только усиливает его блеск).
– Как, большое ли это место! – восклицал Сван, предпочитавший этой скромности, которая могла меня оставить в неведении, более ясный язык. – Но ведь он после министра самый главный! Он даже больше, чем министр, ведь это он все делает. К тому же он, кажется, с большими дарованиями, исключительный человек, выдающаяся личность. Он кавалер ордена Почетного легиона. Он очаровательный человек и даже очень красивый мужчина.
Да и жена его вышла за него замуж, никого не послушавшись, потому что он был «обаятельное существо». Он обладал особенностями, образующими редкое и изящное сочетание; белокурой и шелковистой бородой, красивыми чертами лица, голосом в нос, сильным дыханием и искусственным глазом.
– Должен вам сказать, – прибавлял Сван, обращаясь ко мне, – что мне очень забавно видеть этих людей в теперешнем правительстве, потому что ведь эти Бонтаны – из семьи Бонтан-Шеню, типичной реакционной и клерикальной буржуазной семьи с узкими взглядами. Ваш покойный дед, конечно, знал, по крайней мере, по имени и по виду, старика Шеню, который давал кучерам на водку только су, хотя и был богат по своему времени, и барона Брео-Шеню. Все состояние погибло при крахе Всеобщей компании. Вы слишком молоды, чтобы это помнить. И что же, они оправились по мере сил.
«Он дядя одной девочки, которая училась вместе со мной, но гораздо моложе меня классом, знаменитой «Альбертины». Она, конечно, будет очень «fast»[7], но пока что у нее забавные манеры». – «Удивительная у меня дочь, со всеми она знакома». – «Я незнакома с ней. Я только видела ее мимоходом, со всех сторон кричали: Альбертина, Альбертина. Но я знаю госпожу Бонтан, и она мне тоже не нравится».
– Ты совершенно не права, она очаровательная, хорошенькая, умная. Она даже остроумная. Я пойду поздороваюсь с ней и спрошу, как считает ее муж – будет ли у нас война и можно ли рассчитывать на короля Феодосия. Ведь он должен это знать, не правда ли? Ведь он посвящен в тайны богов.
Прежде Сван так не разговаривал; но кто не видел, как принцессы крови, очень простые в обращении, если десять лет спустя им случится бежать с каким-нибудь лакеем, и они стараются восстановить связи, но чувствуют, что посещают их неохотно, внезапно принимают тон старых кумушек, и кто не слыхал, как при упоминании о какой-нибудь герцогине, пользующейся успехом в свете, они говорят: «Она была вчера у меня» и «Я нигде не бываю»? И не стоит наблюдать нравы, поскольку их можно вывести из психологических законов.
Сваны грешили этим же недостатком, свойственным людям, у которых мало бывают; приезд гостя, приглашение, простая любезность, сказанная сколько-нибудь заметным лицом, были для них событием, которое они старались предать гласности. Если по злополучной случайности Вердюрены оказывались в Лондоне, когда Одетте удавалось дать сколько-нибудь блестящий обед, – принимались меры, чтобы какой-нибудь общий знакомый по телеграфу сообщил им эту новость через Ла-Манш. И даже лестных писем и телеграмм, полученных Одеттой, Сваны не могли держать про себя. О них рассказывали знакомым, эти письма ходили по рукам. Салон Сванов походил, таким образом, на те курортные гостиницы, где телеграммы выставляются напоказ.
Впрочем, лица, знавшие прежнего Свана не только за пределами светского общества, как я, но и в самом обществе, в том кругу Германтов, где к людям, за исключением принцесс и герцогинь, относились с бесконечной строгостью, требуя от них ума и обаяния, откуда изгонялись знаменитости, если их находили скучными и вульгарными, эти лица удивились бы, заметив, что прежний Сван изменял не только своей скромности, когда говорил о своих связях, но и своей требовательности, когда выбирал их. Как он выносил г-жу Бонтан, такую пошлую, такую противную? Как он мог говорить, что она приятна? Воспоминание о среде Германтов, казалось бы, должно было помешать ему в этом, в действительности же оно этому способствовало. Конечно, у Германтов, в отличие от трех четвертей светских салонов, был вкус, даже утонченный вкус, но также и снобизм, а отсюда – возможность внезапных противоречий требованиям вкуса. Если речь шла о человеке, без которого обходились в этом кружке, о министре иностранных дел, слишком уж торжественном республиканце, или о болтливом академике, к нему вполне основательно применялись требования вкуса. Сван жалел герцогиню Германтскую, если ей за обедом в посольстве случалось сидеть рядом с таким человеком, и им в тысячу раз предпочитали человека светского, то есть человека, принадлежащего к среде Германтов, ничем не замечательного, но верного духу Германтов, кого-нибудь, кто был здесь своим человеком. Но если у герцогини Германтской часто обедала какая-нибудь великая княгиня или принцесса крови, она тоже делалась своим человеком в этой среде, не имея на то никаких прав, совершенно чуждая ей по духу. Раз она была принята в это общество, то с наивностью светских людей здесь ухитрялись находить ее приятной, ибо не могли сказать себе, что принимают ее, потому что нашли ее приятной. Приходя на помощь герцогине Германтской, Сван говорил, когда ее высочество уезжала: «В сущности, она славная женщина, у нее даже есть известное чувство юмора. Боже мой, я не думаю, чтобы она углублялась в «критику чистого разума», но она не лишена прелести». – «Я совершенно с вами согласна», – отвечала герцогиня. «И еще она стеснялась, но вы увидите, она может быть очаровательна». – «Она куда менее несносна, чем г-жа X. I. (жена болтливого академика, женщина замечательная), которая вам процитирует двадцать книг». – «Ну, не может быть и сравнения». Способность говорить такие вещи, говорить их искренно, Сван приобрел у герцогини, и он сохранил ее. Теперь он пользовался ею, имея дело с людьми, которых принимал. Он старался различить в них, полюбить в них качества, которые проявляет каждый человек, если на него смотреть с благожелательной предвзятостью, а не с отвращением требовательных людей; он старался выставить в выгодном свете достоинства г-жи Бонтан, как некогда – принцессы Пармской, которую следовало бы исключить из кружка Германтов, если бы некоторые высочайшие особы не пользовались правом «бесплатного входа» и если бы, даже когда дело шло о них, внимание обращалось на остроумие и на привлекательность. Впрочем, уже и раньше можно было видеть, что у Свана была склонность (теперь принявшая только более длительный характер) менять свое положение в свете на другое, которое при известных обстоятельствах ему больше подходило. Только люди, неспособные расчленить в своем представлении то, что на первый взгляд кажется нераздельным, считают, что положение составляет одно целое с личностью. Один и тот же человек, если рассматривать последовательные этапы его жизни, на разных ступенях общественной лестницы окунается в иную среду, которая не является непременно чем-то более возвышенным; и всякий раз, когда в новый период нашей жизни мы завязываем или восстанавливаем связи с определенной средой, где нас лелеют, мы, естественно, начинаем привыкать к ней, пуская человеческие корни.
Что касается г-жи Бонтан, полагаю также, что, упоминая о ней столь настойчиво, Сван не без удовольствия думал о том, как мои родные узнают, что она бывает у его жены. По правде говоря, дома у нас имена людей, с которыми г-же Сван постепенно удавалось познакомиться, возбуждали скорее любопытство, чем восхищение. Слыша имя г-жи Тронбер, моя мать говорила:
– А! вот еще и новый адепт, и верно приведет с собою и других.
И, словно сравнивая с колониальной войной манеру г-жи Сван завоевывать новые связи, несколько поспешную, насильственную и резкую, мама прибавляла:
– Теперь, когда Тронберы покорены, соседние племена не замедлят сдаться.
Встретив на улице г-жу Сван, она рассказывала нам потом:
– Я встретила г-жу Сван в боевой готовности. Она, очевидно, выступала в какой-нибудь многообещающий поход против Мазечутосов, Сингалезцев или Тронберов.
И каждый раз, как я называл ей имена новых людей, которых я видел в этом несколько смешанном и искусственном обществе, куда их удавалось завлечь нередко с большим трудом из довольно разных сфер, она сразу же угадывала их происхождение и говорила о них, как о трофеях, доставшихся дорогой ценой:
– Добыто набегом на такого-то.
Что касается г-жи Котар, то мой отец удивлялся, что заставляет г-жу Сван заманивать эту неотесанную мещанку, и говорил: «Несмотря на положение профессора, должен признаться – не понимаю». Мать, наоборот, прекрасно понимала: она знала, что удовольствие, которое испытывает женщина, попадая в общество, отличное от того, в котором она до сих пор вращалась, значительно умалилось бы, если б она не могла оповестить своих прежних знакомых о тех новых, сравнительно более блестящих связях, которыми она их заменила. Поэтому-то в этот новый, восхитительный мир надо ввести свидетеля, который, словно жужжащее и порхающее насекомое, что садится на цветок, ненароком разнесет потом по знакомым – так, по крайней мере, надеются – новость, скрытый зародыш зависти и изумления. Г-жа Котар, созданная для этой роли, относилась к той особой категории гостей, которых мама, унаследовавшая некоторые черты остроумия своего отца, называла: «чужеземец, иди и расскажи спартанцам». Впрочем – помимо другой причины, которая стала известна только несколько лет спустя, – г-жа Сван, приглашая эту доброжелательную, сдержанную и скромную приятельницу, могла не опасаться, что вводит на свои блестящие приемы предательницу или соперницу. Она знала, как много буржуазных цветочков может облететь эта прилежная пчелка, вооружившись и эгреткой и сумкой, наполненной визитными карточками. Она знала, сколько та может разнести семян, и, опираясь на теорию вероятностей, имела основание думать, что такой-то завсегдатай салона Вердюренов, вполне возможно, уже послезавтра узнает, что парижский губернатор завез ей свою карточку или что сам г-н Вердюрен услышит рассказ о том, как г-н Ле-О-де-Прессаньи, президент Concours Hippique[8], пригласил их на празднество в честь короля Феодосия; она предполагала, что Вердюренам сообщат только об этих двух лестных для нее событиях, потому что внешние формы, в которых мы представляем себе славу и которые стремимся ей придать, немногочисленны – по скудости нашего ума, неспособного вообразить сразу все разнообразие ее проявлений, хоть мы смутно и надеемся, что когда-нибудь будем наслаждаться ими всеми одновременно.
Впрочем, г-жа Сван добилась результатов только в так называемых официальных кругах. Светские дамы ее не посещали. Отнюдь не присутствие республиканских деятелей заставляло их уклоняться от этого. В годы моего раннего детства светом считалось все то, что принадлежало к консервативному обществу, и в порядочном салоне нельзя было бы принять республиканца. Люди, жившие в этой среде, воображали, что невозможность принимать у себя «оппортуниста», а тем более – ужасного радикала, вечно будет существовать, как масляные лампы и конки. Но, уподобляясь калейдоскопу, который встряхивают по временам, общество каждый раз по-иному перемещает элементы, считавшиеся неподвижными, и сочетает их в новую фигуру. Я еще не дорос до своего первого причастия, как уже благомыслящие дамы бывали ошеломлены, встретившись в гостях с еврейкой – светской дамой. Эти новые сдвиги калейдоскопа вызываются тем, что философ назвал бы сменой критерия. Дело Дрейфуса дало толчок новой смене в период несколько более поздний, чем тот, когда я начал бывать у г-жи Сван, и в калейдоскопе еще раз перемешались все его цветные лоскутки. Все еврейское, вплоть до элегантных дам, переместилось вниз, а на его место поднялись неизвестные националисты. Самым блестящим салоном в Париже стал салон ультракатолического австрийского принца. Если бы вместо дела Дрейфуса случилась война с Германией, калейдоскоп сдвинулся бы в другом направлении. Евреи, доказав, к всеобщему удивлению, что они патриоты, сохранили бы свое положение, и никто больше не захотел бы посещать австрийского принца и даже признаваться в том, что бывал у него. Несмотря на это, всякий раз, как общество временно пребывает в неподвижности, люди, живущие в нем, воображают, что никаких изменений больше не может произойти, так же как при появлении телефона они не хотят верить в возможность аэроплана. А газетные философы клеймят предыдущий период, и не только те развлечения, которым предавались тогда и которые кажутся им последним словом развращенности, но даже и произведения художников и философов, которые утрачивают в их глазах всякое значение, как будто они неразрывно связаны с последовательными изменениями светской суетности. Не меняется лишь одно – всякий раз кажется, что «во Франции что-то изменилось». В ту пору, когда я стал бывать у г-жи Сван, дело Дрейфуса еще не разразилось, и кое-кто из видных евреев был в большой силе. Но всех могущественнее был сэр Руфус Израэльс, жена которого, леди Израэльс, приходилась теткой Свану. У нее самой не было таких блестящих связей, как у ее племянника, который к тому же недолюбливал ее и никогда особенно часто не бывал у нее, хотя, по всей видимости, должен был стать ее наследником. Но это был единственный человек среди родни Свана, имевший понятие о его положении в свете, прочие же оставались на этот счет в таком же неведении, в каком долгое время находились и мы. Когда один из членов семьи переселяется в высший свет, – что кажется ему неповторимой удачей, которой, однако, как он убеждается десять лет спустя, иным образом и на иных основаниях достиг не один из товарищей его детства, – он окружает себя зоной тени, некоей terra incognita[9], которая во всех подробностях видна всем своим обитателям, но погружена в ночь и небытие для всех тех, кому она недоступна, кто проходит вблизи нее, не догадываясь о ее существовании. Так как никакое агентство Гаваса не сообщало кузинам Свана о том, с кем он видится, то (конечно, до его ужасного брака) снисходительные улыбки сопровождали на семейных обедах рассказ, что воскресенье было проведено «добродетельно», что был сделан визит «кузену Шарлю», которого здесь считали бедным, несколько завистливым родственником и называли, изощряясь в остроумии, играя заглавием романа Бальзака – «Глупый кузен». Но леди Руфус Израэльс прекрасно знала, кто эти люди, которые дарят Свана своей дружбой, возбуждавшей в ней зависть. Семья ее мужа, почти не уступавшая Ротшильдам, из поколения в поколение вела дела Орлеанского дома. Леди Израэльс, будучи исключительно богата, пользовалась большим влиянием, и она пустила его в ход, добиваясь, чтобы никто из ее знакомых не принимал Одетту. Ослушалась только одна, и потихоньку. То была графиня де Марсант. Но злому року было угодно, чтобы Одетта, поехав с визитом к г-же де Марсант, вошла к ней почти одновременно с леди Израэльс. Г-жа де Марсант сидела как на иголках. С трусостью человека, который, однако, мог бы все себе позволить, она ни разу не обратилась к Одетте, потерявшей всякую охоту продолжать свое вторжение в этот мир, который, впрочем, вовсе не был тот, куда бы ей хотелось получить доступ. В своем полном равнодушии к Сен-Жерменскому предместью Одетта по-прежнему оставалась непросвещенной кокоткой, так не похожей на буржуа, в совершенстве изучивших мельчайшие тонкости генеалогии и чтением старинных мемуаров утоляющих жажду аристократических знакомств, которыми жизнь их не наделила. С другой стороны, Сван, вероятно, по-прежнему оставался тем любовником, которому все эти особенности его давнишней возлюбленной кажутся милыми или безобидными, так как мне часто приходилось слышать, какую ересь с точки зрения света проповедует его жена, а он (то ли нежность к ней еще не исчезла в нем, то ли он ее не уважал, или же ленился просвещать ее) и не думал ее поправлять. Быть может также, это было проявлением той простоты, которая так долго обманывала нас в Комбре и благодаря которой он теперь, продолжая по крайней мере сам быть знакомым с людьми весьма блестящими, не стремился к тому, чтобы в гостиной его жены им придавалось какое-либо значение. Впрочем, они меньше, чем когда бы то ни было, значили в глазах Свана, ибо центр тяжести переместился в его жизни. Во всяком случае, невежество Одетты в светских вопросах простиралось до того, что, если о принцессе Германтской в разговоре упоминали в связи с герцогиней, ее двоюродной сестрой, Одетта говорила: «Ведь вот, они-то принцы, – они, значит, поднялись в чине». Если, говоря о герцоге Шартрском, кто-нибудь называл его «принцем», Одетта поправляла: «Герцог, герцог Шартрский, а не принц». О герцоге Орлеанском, сыне графа Парижского: «Вот смешно, сын больше, чем отец», а так как она была англоманка, то прибавляла: «Запутаешься в этих royalties[10]». А кому-то, спросившему ее, из какой провинции родом Германты, она ответила: «Из Эн».
Впрочем, что касается Одетты, Сван был слеп не только к этим пробелам в ее образовании, но и к ее умственной ограниченности. Более того: всякий раз, как Одетта рассказывала что-нибудь глупое, Сван слушал свою жену с удовольствием, весело, почти с восхищением, хранившим еще, должно быть, следы страсти, между тем как все то изысканное, даже глубокое, что сам он высказывал в том же разговоре, выслушивалось Одеттой обычно без всякого интереса, довольно небрежно, нетерпеливо и порой встречало сердитые возражения. И можно заключить, что это рабство, в котором пошлое существо держит утонченнейшего человека, есть обычное явление во многих семьях, если к тому же принять во внимание, как часто незаурядная женщина поддается очарованию болвана, беспощадного критика ее тончайших замечаний, между тем как она, бесконечно снисходительная в своей нежности, приходит в восторг от его самых плоских шуток. Возвращаясь к причинам, которые в то время помешали Одетте проникнуть в Сен-Жерменское предместье, надо сказать, что последний сдвиг светского калейдоскопа был вызван рядом скандалов. Женщины, к которым ездили, ни в чем не сомневаясь, оказались публичными девками, английскими шпионками. Некоторое время от людей, так по крайней мере думали, надо было требовать прежде всего, чтобы они занимали твердое положение, пользовались хорошей репутацией… В Одетте сочеталось именно все то, с чем только что порвали и с чем, впрочем, немедленно возобновили связь (ибо люди, не меняясь со дня на день, в новом порядке вещей ищут продолжение старого), стараясь, однако, придать ему другую форму, которая позволила бы оставаться в заблуждении и думать, что это не то общество, какое было до кризиса. А на «разоблаченных» дам этого общества Одетта уж слишком была похожа. Светские люди весьма близоруки: только что прекратив всякие связи со знакомыми еврейскими дамами и спрашивая себя, как заполнить пустоту, они замечают, словно выросшую из-под земли, незнакомую даму, тоже еврейку; но, благодаря своей новизне, она в их представлении не связывается с тем, что они считают долгом презирать. Она не требует, чтобы почитали ее бога. Ее принимают. В то время, когда я начал посещать Одетту, об антисемитизме еще не было речи. Но она напоминала все то, чего на некоторое время старались избегать.
Сван часто навещал кое-кого из своих прежних знакомых, следовательно людей, принадлежавших к самому высшему кругу. Впрочем, когда он рассказывал нам, у кого он был, я заметил, что, останавливая свой выбор на ком-либо из тех, кого он знал прежде, он руководствуется вкусом не то художника, не то историка, – вкусом, который поддерживал в нем коллекционера. И, замечая, что какая-нибудь великосветская дама, утратившая свое высокое положение, интересует его потому, что она была любовницей Листа или что Бальзак посвятил ее бабушке один из своих романов (как он иногда покупал рисунок, если этот рисунок был описан Шатобрианом), я начал подозревать, что мы в Комбре наше ложное представление о Сване, как о буржуа, не бывавшем в свете, сменили на другое заблуждение, считая его одним из наиболее светских людей в Париже. Быть другом графа Парижского – это ничего не значит. Сколько этих «друзей принцев», которых не стали бы принимать в мало-мальски разборчивом кругу. Принцы чувствуют себя принцами, они не снобы, и к тому же считают себя настолько выше всех, в чьих жилах иная кровь, что буржуа и знатные дворяне стоят в их глазах на одинаково низком уровне.
Впрочем, Свану недостаточно было того наслаждения, которое общество, такое, как оно есть, и привлекавшее его именами, вписанными в историю и еще поддающимися расшифровке, доставляло ему, как литератору и художнику, он также развлекался несколько вульгарно, составляя как бы общественные букеты, группируя разнородные элементы, соединяя людей, набранных из разных мест. Эти опыты занимательной социологии (или по крайней мере занимательной в глазах Свана) не у всех приятельниц его жены встречали одинаковый – или, во всяком случае, постоянный – отклик. «Я собираюсь пригласить Котаров вместе с герцогиней Вандомской», – говорил он, смеясь, г-же Бонтан, с видом гастронома, собирающегося проделать опыт, заменить в соусе гвоздику кайенским перцем. А план этот, который Котарам должен был показаться приятным, а не только занятным, приводил в отчаяние г-жу Бонтан. Сваны недавно представили ее герцогине Вандомской, и ей это показалось столь же лестным, сколь и естественным. Возможность похвастаться этим перед Котарами была едва ли не самое сладостное в этом удовольствии. Но так же, как люди, только что награжденные орденом, желали бы, чтобы источник орденов иссяк, г-же Бонтан хотелось, чтобы после нее принцессе не представляли уже никого из ее общества. Внутренне она проклинала испорченный вкус Свана, который, чтобы осуществить презренную эстетическую прихоть, вынуждал разом стряхнуть всю ту пыль, что она пустила в глаза Котарам, рассказывая им про герцогиню Вандомскую. Как решится она объявить мужу, что профессор и его жена, в свою очередь, тоже испытают это удовольствие, которое, как она хвасталась ему, было чем-то единственным? Если бы еще Котары могли знать, что их приглашают не всерьез, а ради шутки. Правда, что и Бонтаны были приглашены на тех же основаниях, но Сван, переняв от аристократии неизменные приемы донжуанизма, благодаря которым мужчине удается каждую из двух заурядных женщин убедить в том, что только ее он любит серьезно, говорил г-же Бонтан о герцогине Вандомской, как об особе, созданной на то, чтобы она обедала с ней. «Да, мы предполагаем пригласить принцессу вместе с Котарами, – сказала несколько недель спустя г-жа Сван, – мой муж думает, что такое сочетание элементов может оказаться забавным», – ибо, если она заимствовала от «кружка» известные привычки, любезные сердцу г-жи Вердюрен, например, привычку кричать во весь голос, чтобы «верные» услышали ее, она, с другой стороны, употребляла некоторые выражения – как, например, «сочетание элементов», принятые в обществе Германтов, влиянию которого, как море – влиянию луны, она поддавалась на расстоянии и бессознательно, не будучи, однако, в силах заметно приблизиться. «Да, Котары и герцогиня Вандомская, разве вам не кажется, что это будет занятно?» – спросил Сван. «Думаю, что выйдет очень плохо и доставит вам одни неприятности, не надо играть с огнем», – отвечала в ярости г-жа Бонтан. Впрочем, она и ее муж, так же как и принц Агригентский, были приглашены на этот обед, о котором г-жа Бонтан и г-жа Котар рассказывали в двух редакциях, в зависимости от того, с кем они беседовали. Одним г-жа Бонтан, так же как и г-жа Котар, небрежно отвечала на вопрос о том, кто еще был на этом обеде: «Только принц Агригентский, было совершенно запросто». Но другие решались расспрашивать более подробно (раз кто-то даже задал Котару вопрос: «Но разве там не были Бонтаны?» – «Забыл о них», – покраснев, ответил Котар бестактному собеседнику, которого с этих пор он уже относил к категории злых языков). Для последних и Бонтаны, и Котары усвоили, не советуясь друг с другом, другую версию, характер которой был одинаков и только их имена соответственно менялись местами. Котар говорил: «Ну да, были только хозяева, герцог и герцогиня Вандомские – (с самодовольной улыбкой) – профессор Котар с супругой, и, черт их знает почему, – они тут были так же кстати, как волосы в супе, – супруги Бонтаны». Г-жа Бонтан в точности повторяла этот рассказ, с той лишь разницей, что господин и госпожа Бонтан упоминались с самодовольным пафосом рядом с герцогиней Вандомской и принцем Агригентским, а ничтожествами, которых она под конец обвиняла уже и в том, что они напросились сами, и которые были здесь лишними, оказывались Котары.
Сван после визитов часто возвращался незадолго до обеда. Теперь, в шесть часов вечера, то время дня, в которое он раньше чувствовал себя таким несчастным, он уже больше не спрашивал себя, чем может быть занята Одетта, и нимало не беспокоился, есть ли у нее кто-нибудь и дома ли она. Порой он вспоминал, как однажды, много дет тому назад, он старался прочесть сквозь конверт письмо Одетты к Форшвилю. Но это воспоминание было неприятно, и вместо того, чтобы поддаваться чувству стыда, который он испытывал, он краем рта делал гримаску, которая в случае надобности дополнялась кивком, означавшим: «Что мне до того?» Правда, он полагал теперь, что гипотеза, на которой он прежде часто останавливался и согласно которой жизнь Одетты, на самом деле невинную, чернило только его ревнивое воображение, что эта гипотеза (в сущности, благотворная, – ведь, пока не кончилась болезнь его влюбленности, она уменьшала его страдания, внушая ему, что они воображаемые) была неверна, что права была его ревность и что если Одетта любила его больше, чем он думал, то она и больше изменяла ему. Когда-то, испытывая такие муки, он дал себе клятву, что, со временем, разлюбив Одетту и не опасаясь рассердить ее или дать ей повод думать, что он слишком уж любит ее, он даст себе удовлетворение и выяснит с ней, только из любви к истине, как выясняют исторический вопрос, отдавалась ли она Форшвилю в тот день, когда он звонил к ней и стучал в окно, но ему не открыли, после чего Одетта написала Форшвилю, что это приходил ее дядя. Но вопрос, столь занимавший его, что он ждал лишь конца своей ревности, надеясь его выяснить, потерял всякий интерес в глазах Свана, когда он перестал ревновать. Однако не сразу. К Одетте он уже не чувствовал ревности, которую по-прежнему пробуждал в нем тот день, когда он тщетно стучался в дверь маленького особняка на улице Лаперуз. Казалось, что ревность, подобно болезням, зараза которых кроется как будто не столько в человеке, сколько в том или ином месте, в том или ином доме, относилась не столько к самой Одетте, сколько к этому дню, к этому часу утраченного прошлого, когда Сван стучался во все двери ее особняка. Можно было бы сказать, что только этот день, что только этот час сосредоточили в себе последние частицы той личности, какой был некогда влюбленный Сван и которую он только там обретал вновь. Давно уже ему было безразлично, обманывала ли его Одетта и обманывает ли его теперь. И все же он еще в течение нескольких лет разыскивал прежних слуг Одетты, – так долго сохранялось в нем болезненное любопытство, желание узнать, действительно ли в тот день, такой далекий, в шесть часов, Одетта отдавалась Форшвилю. Потом исчезло и самое любопытство, но розыски не прекратились. Он продолжал разузнавать то, что его больше не интересовало, потому что его прежнее «я», впавшее в совершенную дряхлость, еще действовало по инерции, следуя внушениям, до такой степени потерявшим свою силу, что Сван даже не мог представить себе ту тревогу, некогда все же столь мучительную, что, как ему казалось, избавиться от нее было нельзя и что только смерть любимой женщины (смерть, которая, как покажет в этой книге жестокий слепок с любви Свана, нисколько не уменьшает страданий ревности) могла, как он думал, расчистить его совершенно загроможденный жизненный путь.
Но осветить те факты жизни Одетты, которые когда-то вызывали в нем эти муки, – не было единственным желанием Свана, он хранил про запас и желание отомстить за них, когда, разлюбив Одетту, он уже не будет бояться ее; а случай осуществить это второе желание как раз представлялся, ибо Сван любил другую женщину, женщину, не подававшую повода к ревности, но все же возбуждавшую ревность, потому что он уже был не способен любить по-иному и ту любовь, которой он любил Одетту, он переносил и на другую женщину. Чтобы возродить ревность Свана, вовсе не была необходима измена этой женщины, достаточно было ей по той или иной причине оказаться в отсутствии, например, на каком-нибудь вечере, где, как казалось, ей было весело. Этого было довольно, чтобы пробудить в нем давнюю тоску, мучительный и противоречивый нарост на его любви, отдалявший Свана от цели, которую словно стремилась достигнуть эта тоска (искреннее чувство этой молодой женщины к Свану, тайное стремление овладеть ее днями, тайна ее сердца), ибо между Сваном и той, кого он любил, тоска эта воздвигала горы упорных давних подозрений, причиной которых была Одетта, а может быть, та или иная из ее предшественниц, и которые уже не позволяли состарившемуся любовнику понять его новую возлюбленную иначе как сквозь давний собирательный призрак «женщины, возбуждавшей его ревность», воплотившей теперь, по его собственному выбору, его новую любовь. Все же Сван часто винил эту ревность в том, что она заставляет его верить в воображаемые измены; но иногда он вспоминал, что подобными же рассуждениями он извинял Одетту, и притом напрасно. Поэтому все то, что в его отсутствие делала любимая им молодая женщина, переставало казаться невинным в его глазах. Но если когда-то он поклялся, что, разлюбив ту, в которой он не угадывал своей будущей жены, он безжалостно выкажет ей свое равнодушие, искреннее, наконец, и отомстит за свою гордость, терпевшую долгие унижения, то теперь эта кара, на которую он мог решиться, ничем не рискуя (ибо что ему в том, если он будет пойман на слове и лишен свиданий наедине с Одеттой, которые когда-то были ему столь необходимы), эта кара потеряла для него значение: с любовью вместе исчезло и желание показать, что она исчезла. И Сван, которому некогда так хотелось показать Одетте, заставлявшей его мучиться, что он увлечен другою, теперь, когда он мог бы это сделать, принимал тысячи предосторожностей, чтобы жена не догадалась об этой новой любви.
Теперь я не только стал бывать на приемах Жильберты, которые прежде были для меня причиной огорчений, так как из-за них Жильберта раньше покидала меня и уходила домой, – мне было дозволено также сопровождать ее вместе с ее матерью на прогулку или на утренний спектакль, который прежде, мешая ей прийти на Елисейские поля, лишал меня ее общества в дни, когда я оставался один на лужайке или перед каруселью, – для меня находилось место в их ландо, и меня даже спрашивали, куда я предпочту поехать – в театр ли, на урок танцев к какой-нибудь подруге Жильберты, на светский раут к друзьям Сванов (то, что г-жа Сван называла «маленький meeting[11]») или осматривать гробницы Сен-Дени.
В те дни, когда мне предстояло выезжать вместе со Сванами, я приходил к ним перед завтраком, который г-жа Сван называла lunch; так как приглашали к половине первого, а родители мои завтракали в те годы в четверть двенадцатого, то я, выждав, когда они встанут из-за стола, направлялся к этому пышному кварталу, достаточно пустынному во всякое время дня, особенно же в этот час, когда все сидят дома. Даже зимой, в мороз, если погода была хорошая, время от времени поправляя узелок великолепного галстука от Шарве и следя за тем, не запачкались ли мои лакированные ботинки, я прогуливался вдоль и поперек по улицам, дожидаясь, пока будет двадцать семь минут первого. Уже издали мне было видно, как блестят на солнце, словно все покрытые инеем, нагие деревья в садике Сванов. Правда, их в этом садике было всего два. Благодаря необычному часу зрелище казалось новым. К этим радостям, доставляемым природой, которые усиливались благодаря непривычности, даже благодаря голоду, примешивалось волнующее ожидание завтрака у г-жи Сван, оно не уменьшало их, но, овладевая ими, подчиняло их себе, превращало в светские аксессуары; так что, если мне казалось, что я словно заново открываю ясную погоду, холод, зимнее освещение, которых обычно не видел в этот час, это было точно предисловие к омлету, точно патина, розовый и свежий налет, сливавшийся с облицовкой того таинственного храма, каким было жилище г-жи Сван и внутри которого, напротив, таилось столько тепла, благоуханий и цветов.
В половине первого я наконец решался войти в этот дом, подобный огромному рождественскому башмаку, сулившему мне сверхъестественные наслаждения. (Слово «Рождество» не было, впрочем, известно ни г-же Сван, ни Жильберте, заменявшим его словом Christmas и всегда говорившим о пудинге на Christmas, о том, что им подарили на Christmas, о том, что на Christmas – известие, приводившее меня в безумное отчаяние, – их не будет дома. Я счел бы себя опозоренным, если бы даже дома заговорил о Рождестве, и произносил лишь слово Christmas, что моему отцу казалось крайне смешным.)
Сперва на моем пути появлялся лишь лакей, который, проводив меня через ряд больших гостиных, открывал дверь в гостиную совсем маленькую, пустую, уже начинавшую погружаться в задумчивость благодаря голубому сумеречному свету, падавшему от окон; я оставался один в обществе орхидей, роз и фиалок, которые, подобно людям, ожидающим с вами вместе, но незнакомым с вами, хранили молчание, еще более впечатляющее, ибо оно было отмечено печатью живого существа, и зябко воспринимали тепло, шедшее от раскаленного угля, положенного, как драгоценность, за стеклянным стеклом экрана в беломраморную чашу, где время от времени рассыпались его горящие рубины.
Я усаживался, но, слыша, как открывается дверь, быстро вскакивал. Это всего-навсего был другой лакей, потом третий, и скудным результатом их хождений, полных напрасной тревоги, являлся уголь, подброшенный в огонь, или вода, налитая в вазы. Я снова оставался один, они же удалялись, закрыв дверь, которую в конце концов должна же была открыть г-жа Сван. И конечно, я меньше волновался бы в сказочной пещере, чем в этой маленькой приемной, где огонь, как мне казалось, творил превращения, точно в лаборатории Клингсора. Снова раздавались шаги, я не вставал с места, это опять должен был быть лакей, оказывалось, г-н Сван. «Как? вы – один?» – «Что поделаешь, моя жена никогда не могла, бедняжка, понять, что такое время. Без десяти час. Каждый день все позже. И вот вы увидите, она придет не торопясь, будет думать, что еще рано». А так как он по-прежнему был невроартритиком и появились у него некоторые странности, то, хотя все это и заставляло Свана беспокоиться за свой желудок, все же его самолюбию льстило, что у него такая неаккуратная жена, так поздно возвращающаяся из Булонского леса, засиживающаяся у своей портнихи и всегда опаздывающая к завтраку.
Он показывал мне свои новые приобретения и объяснял, чем они замечательны, но от волнения, а также и от непривычки оставаться натощак до такого часу, в моем встревоженном уме воцарялась пустота, так что, сохраняя способность говорить, я не в силах был слушать. К тому же, когда дело шло о произведениях, принадлежащих Свану, для меня было достаточно того, что они находились здесь, составляли одно целое с восхитительным часом, предшествовавшим завтраку. Даже если бы «Джоконда» оказалась здесь, она не доставила бы мне большего удовольствия, чем капот г-жи Сван или ее флаконы с солью.
Я продолжал ждать, один или вместе с Сваном и нередко с Жильбертой, приходившей посидеть с нами. Появление г-жи Сван, подготовленное столькими величественными выходами, должно было быть, как мне казалось, чем-то грандиозным. Я прислушивался к малейшему скрипу. Но ни собор, ни волны во время бури, ни прыжок танцовщика никогда не оказываются такими высокими, какими мы надеялись их увидеть; после всех этих ливрейных лакеев, подобных статистам, шествие которых по сцене подготовляет заключительное появление королевы и этим самым ослабляет впечатление от него, г-жа Сван, незаметно входя в простеньком котиковом пальто, с вуалеткой, спущенной на покрасневший от холода нос, не сдерживала обещаний, которые, пока я ждал, она расточала моему воображению.
Если же все утро она оставалась дома, то в гостиной она появлялась одетою в пеньюар из светлого крепдешина, казавшийся мне элегантнее всякого платья.
Иногда Сваны решали остаться дома до самого обеда. И вот, так как завтрак был очень поздний, я, глядя на ограду садика, уже замечал, как клонится к закату солнце этого дня, который, думалось мне, будет непохож на другие дни, и хоть слуги вносили лампы всяких размеров и всяких форм, возгоравшиеся – каждая на посвященном ей алтаре какой-нибудь консоли, этажерки, угольника или маленького столика, словно для свершения неведомого обряда, – разговор не порождал ничего необыкновенного, и я уходил разочарованный, как это часто, с самого детства, бывает после ночной мессы.
Но это разочарование было только умственное. Я сиял от радости в этом доме, ожидая, что Жильберта, если ее не было еще с нами, сейчас войдет и через минуту подарит мне на целые часы свое слово, свой взгляд, внимательный и улыбающийся, каким я видел его в первый раз в Комбре. Разве что иногда я начинал чуть-чуть ревновать, замечая, что она часто исчезает в каких-то больших комнатах, в которые вела внутренняя лестница. Вынужденный оставаться в гостиной, как любовник актрисы, располагающий только креслом в партере и тревожно старающийся представить себе, что происходит сейчас за кулисами, в фойе артистов, я ставил Свану искусно замаскированные вопросы по поводу этой другой части дома, но таким тоном, в котором не мог подавить известного беспокойства. Он объяснил мне, что Жильберта пошла в бельевую комнату, предложил мне показать ее и обещал, что всякий раз, как Жильберте надо будет пойти туда, он заставит ее брать меня с собою. Этими словами, успокоившими меня, Сван сразу уничтожил для меня то ужасное расстояние, что отделяет нас от любимой женщины, которая кажется такой далекой. В эту минуту я почувствовал к нему нежность, показавшуюся мне более глубокой, чем моя нежность к Жильберте. Ибо, властелин своей дочери, он дарил ее мне, она же противилась порой, я не имел непосредственно того влияния на нее, какое получал при посредстве Свана. Кроме того, я любил ее, а значит, не мог видеть ее без того волнения, без того желания чего-то большего, которое, вблизи любимого существа, отнимает у нас ощущение любви.
Впрочем, чаще всего мы не оставались дома, мы отправлялись на прогулку. Иногда, прежде чем идти одеваться, г-жа Сван садилась за рояль. Пальцы ее прекрасных рук, выглядывая из-под рукавов ее крепдешинового пеньюара, розового или белого, часто очень ярких цветов, ложились на клавиши с той же меланхоличностью, что была у нее в глазах, но не в сердце. В один из таких дней ей случилось сыграть ту часть сонаты Вентейля, где проходит коротенькая фраза, которую так любил Сван. Но часто бывает, что мы ничего не слышим, если слушаем музыку несколько сложную, и притом в первый раз. И все же, когда мне потом два или три раза проиграли эту сонату, оказалось, что я ее прекрасно знаю. Поэтому недаром говорят «слышать в первый раз». Если бы, как нам кажется, слушая в первый раз, нам ничего не удавалось различить, то и второй, и третий раз были бы тем же, что первый, и не было бы никаких оснований, чтобы в десятый раз можно было что-нибудь понять. Вероятно, когда мы слушаем впервые, слабой стороной является не понимание, а память. Ибо наша память, если сравнить с ней сложность впечатлений, с которыми ей приходится сталкиваться, когда мы слушаем музыку, так же коротка и слаба, как память человека, думающего во сне о тысяче вещей, которые он тотчас же забывает, или человека, наполовину впавшего в детство и не помнящего, что ему сказали минуту тому назад. Память не в силах сразу же дать нам воспоминание об этих многообразных впечатлениях. Но постепенно оно складывается в ней, и по отношению к музыке, слышанной два или три раза, мы – словно школьник, прочитавший несколько раз перед сном урок, которого, как ему казалось, он не знает, и на другое утро отвечающий его наизусть. Но только до этого дня я из сонаты Вентейля не слышал ни одного такта, и там, где Сван и его жена различали отчетливую фразу, я был так же далек от ясного восприятия ее, как это бывает при поисках имени, которое стараешься вспомнить и вместо которого находишь только пустоту, откуда час спустя, когда мы не думаем об этом, сами собой, одним прыжком вырвутся тщетно отыскиваемые слоги. И не только не запоминаешь сразу подлинно ценные произведения, но даже в пределах каждого из них, – и у меня это случилось с сонатой Вентейля, – сначала воспринимаются наименее значительные части. Таким образом, я не только ошибался, думая, что в этом произведении я больше не найду ничего нового для себя (почему я долго не искал случая услышать его) после того, как г-жа Сван проиграла мне самую замечательную фразу (в этом отношении я был так же глуп, как те, кто не надеется испытать удивления при виде собора Святого Марка в Венеции, считая, что они по фотографии знают форму его куполов). Мало того, даже когда я прослушал сонату от начала до конца, она почти целиком осталась незримой для меня, словно памятник, в котором, по вине расстояния или тумана, можно различить только смутные детали. Отсюда – меланхолия, связанная с познанием подобных произведений, как и всего того, что воплощается во времени. Когда мне открылось самое сокровенное в ней, тогда то, что я различил, чему вначале отдал предпочтение, уже ускользало от меня, исчезало по вине привычки, недостижимое для моей чувствительности. Так как не все то, что приносила мне эта соната, я мог полюбить одновременно, то я никогда не обладал ею вполне: она была подобной жизни. Но тая в себе меньше разочарований, чем жизнь, эти великие произведения с самого начала дают нам то, что есть лучшего в них. В сонате Вентейля красоты, которые мы открываем прежде всего, в то же время скорее всего и наскучивают по той причине, конечно, что они меньше отличаются от того, что нам уже известно. Но когда они отдалились, нам остается полюбить фразу, которая, в силу своей чрезмерной новизны давая только впечатление чего-то смутного, сохранилась неузнанной и нетронутой; тогда она, мимо которой мы проходили каждый день, сами того не зная, которая таилась и, лишь благодаря своей красоте, была невидима и не могла быть узнана, – она последнею приходит к нам. Зато и мы расстанемся с ней последнею. И мы дольше будем любить ее, потому что нам больше понадобилось времени, чтобы полюбить ее. Впрочем, время, которое нужно отдельной личности – как мне по отношению к этой сонате, – чтобы проникнуть в произведение сколько-нибудь глубокое, есть лишь ракурс и как бы символ тех лет, а иногда столетий, которые должны протечь прежде, чем публика сможет полюбить истинно новый шедевр. Поэтому, быть может, гений, чтобы избавить себя от непонимания толпы, говорит себе, что у современников нет чувства необходимой перспективы и что только потомство должно читать произведения, написанные для него, как иные картины, о которых судишь превратно, глядя на них вблизи. Но на самом деле все трусливые предосторожности, чтобы избежать неправильных суждений, бесполезны, эти суждения неизбежны. Гениальное произведение редко вызывает восхищение сразу же, потому что написавший его – необыкновенен, и мало кто на него похож. Его произведение, оплодотворяя немногие умы, способные его понять, само взрастит их и размножит. Публику квартетов Бетховена в течение пятидесяти лет создавали, расширяли сами квартеты Бетховена (квартеты XII, XIII, XIV и XV), совершенствуя, как и все великие произведения, если не артистов, то, во всяком случае, круг слушателей, в широкой мере составленный теперь из элементов, которых нельзя было найти в пору создания шедевра, то есть из людей, способных его любить. То, что называют потомством, – это потомство самого произведения. Произведение само (если, упрощая задачу, не принимать в расчет тех гениев, которые могут в свою эпоху параллельно подготовить для будущего публику более совершенную, публику, которой воспользуются другие гении) создает свое потомство. Если же произведение сохранялось про запас, стало известно лишь потомству, то потомство по отношению к этой вещи явилось бы не потомством, а совокупностью современников, которые просто живут пятьдесят лет спустя. Вот почему артист – а это и сделал Вентейль – должен, если он хочет, чтобы произведение могло идти своим путем, кинуть его, выбрав место поглубже, в далекое открытое грядущее. И все же, если, не считаясь с этим грядущим временем, которое дает подлинную перспективу шедеврам, непроницательные ценители впадают в ошибку, то, считаясь с ним, ценители тонкие грешат опасной щепетильностью. Конечно, поддаваясь той же иллюзии, благодаря которой на горизонте все сливается, легко вообразить себе, что все революции, происходившие до сих пор в живописи или музыке, считались все же с известными правилами, а то, что мы видим сейчас, – импрессионизм, искания диссонансов, исключительное пользование китайской гаммой, кубизм, футуризм, – оскорбительно непохоже на все предыдущее. Ведь на все предыдущее мы смотрим, не принимая в расчет, что длительный процесс усвоения превратил его для нас в массу, хотя, конечно, и не совершенно одинаковую, но в общем однородную, где Гюго является соседом Мольера. Подумаем только о тех оскорбительных несообразностях, которые, если не принимать в расчет будущего и связанных с ним перемен, представил бы нам гороскоп наших зрелых лет, составленный в пору нашей юности. Но не все гороскопы правдивы, и если в то целое, что представляет собою красота художественного произведения, мы вводим фактор времени, то примешиваем, по нашему мнению, нечто столь же рискованное, а тем самым лишенное подлинного интереса, как и всякое пророчество, неисполнение которого отнюдь не свидетельствует о скудоумии пророка, ибо то, что превращает в реальность ту или иную возможность или же исключает ее, не входит непременно в компетенцию гения; можно было быть гениальным и не верить в будущность железных дорог или аэропланов или же, будучи великим психологом, не верить в лживость любовницы или друга, чьи измены предсказал бы психолог самый посредственный.
Если я не понял сонаты, то был в восторге от игры г-жи Сван. Ее туше, так же, как ее пеньюар, как благоухания на лестнице ее дома, как ее манто, как ее хризантемы, казалось мне частью некоего целого, совершенно особого и таинственного, – мира бесконечно более возвышенного, нежели тот, где разум может анализировать талант. «Не правда ль, как прекрасна эта соната Вентейля? – сказал мне Сван. – Тот момент, когда под деревьями – ночь, когда арпеджио скрипки роняют свежесть? Сознайтесь, что это очень красиво; здесь вся статичность лунного света, а это и существенно. Неудивительно, если курс лечения светом, вроде того, что проходит моя жена, оказывает влияние на мышцы, раз лунный свет не дает листьям шелохнуться. Вот что так прекрасно изображено в этой коротенькой фразе, это Булонский лес, впавший в каталепсию. На берегу моря это еще разительнее, ведь там – слабые голоса волн, которые прекрасно слышны, потому что кругом все неподвижно. В Париже – совершенно обратное; замечаешь, самое большее, этот необычайный свет на зданиях, это небо, словно озаренное пожаром – бесцветным и безопасным, нечто вроде догадки о каком-то огромном факте из хроники. Но в коротенькой фразе Вентейля, да и во всей сонате – это не то, это происходит в лесу, в группетто отчетливо слышен чей-то голос: “Так светло, что можно бы читать газету”». Эти слова Свана могли бы мне внушить неверное представление о сонате, потому что в музыке заключено слишком многое, и мы не можем отвлечься от того, что, по внушению, отыскиваем в ней. Но из других его слов я понял, что эта густая ночная листва была просто-напросто той самой, под сенью которой он в ресторанах парижских окрестностей не раз слушал вечером коротенькую фразу сонаты. Вместо глубокого смысла, которого он так часто от нее добивался, она напоминала Свану ту листву, что обвивалась вокруг нее размеренным рисунком (и которую ему хотелось увидеть вновь, ибо фраза, как ему казалось, была заключена внутри ее, словно душа), в ней была вся та весна, которой Сван некогда не смог насладиться, ибо ему, лихорадочно озабоченному, каким он был тогда, не хватало нужного спокойствия, и которую фраза сохранила для него (подобно тому, как для больного сберегают вкусные вещи, которых он не мог съесть). О том очаровании, которое порой он испытывал ночью, в Булонском лесу, и о котором соната Вентейля могла ему рассказать, он не мог бы расспросить Одетту, сопровождавшую его, однако, так же как и эта коротенькая фраза. Но Одетта была тогда только подле него (а не в нем, как мотив Вентейля) – и не видела, следовательно, – хотя бы она и была в тысячу раз более чуткой – того, что никто из нас (я по крайней мере долгое время думал, что это правило не терпит исключений) не в силах вынести наружу. «Ведь в сущности это очень мило, не правда ли, – сказал Сван, – что звук, точно вода, точно зеркало, ловит отражения? А заметьте, что фраза Вентейля показывает мне только то, на что я не обращал внимания в то время. В ней ничего не осталось от моей любви, от моих тогдашних тревог, произошла замена». – «Шарль, все, что вы тут говорите, мне кажется, не слишком любезно по отношению ко мне». – «Нелюбезно! Женщины бесподобны. Я просто хотел сказать этому юноше, что музыка изображает – по крайней мере для меня – вовсе не «волю в себе» и не «синтез бесконечного», а, например, старика Вердюрена в сюртуке и пальмариум Акклиматизационного сада. Уж сколько раз, не выходя из нашей гостиной, я с ней, с этой маленькой фразой, ездил обедать в Арменонвиль. Боже мой, это ведь все-таки менее скучно, чем обедать там с госпожой де Камбремер». Г-жа Сван рассмеялась. «Эта дама, говорят, была очень влюблена в Шарля», – объяснила она мне тем же тоном, каким незадолго до того, говоря о Вермере Дельфтском, оказавшемся ей, к моему удивлению, знакомым, она мне ответила: «Дело ведь в том, что мой супруг занимался этим художником, когда ухаживал за мной. Не правда ли, милый мой Шарль?» – «Не судите вкривь и вкось о госпоже де Камбремер», – сказал Сван, в душе весьма польщенный. «Но я ведь только повторяю, что мне говорили. Впрочем, она, кажется, очень умная, я ее не знаю. Я считаю ее очень pushing[12], что удивляет меня в умной женщине. Но все говорят, что она была от вас без ума, в этом нет ничего обидного». Сван оставался нем и глух, что в своем роде было знаком согласия и доказательством тщеславия. «Уж раз то, что я играю, напоминает Акклиматизационный сад, – продолжала г-жа Сван, шутки ради притворяясь обиженной, – мы могли бы сделать его целью прогулки, если это будет приятно мальчику. Прекрасная погода, и вы освежите дорогие вам воспоминания! Кстати, по поводу Акклиматизационного сада, вы знаете, что этот молодой человек думал, будто мы очень любим одну особу, которую я, когда только могу, «ставлю на место» – мадам Блатен! По-моему, для нас очень унизительно, что ее считают нашим другом. Подумайте, даже добрейший доктор Котар, который никогда ни о ком плохо не говорит, заявляет, что она зловонна». – «Что за ужас! За нее говорит только ее поразительное сходство с Савонаролой. В точности портрет Савонаролы работы Фра Бартоломео». Эта мания Свана – отыскивать в живописи подобные сходства – находит себе оправдание, ибо даже то, что мы называем индивидуальным выражением лица, является – как приходится с такой грустью убеждаться в этом, когда любишь и когда хотелось бы верить в неповторимую реальность личности, – чем-то общим, и могло встречаться в разные эпохи. Но если бы послушать Свана, то шествия волхвов, уже полные таких анахронизмов в эпоху Беноццо Гоццоли, который ввел в них членов рода Медичи, оказались бы еще более анахроничными, так как в них запечатлелись портреты множества людей, современников не Гоццоли, но Свана, то есть живших не только на пятнадцать веков позже Рождества, но и на четыре века позже самого художника. По мнению Свана, не было ни одного сколько-нибудь известного парижанина, которого нельзя было бы узнать в этих шествиях, подобных тому акту одной из пьес Сарду, где по дружбе к автору и к исполнительнице главной роли, а также ради моды и забавы, появлялись на сцене, каждый на один вечер, все парижские знаменитости, известные врачи, политические деятели, адвокаты. «Но что общего между ней и Акклиматизационным садом?» – «Всё». – «Как, вы полагаете, что зад у нее небесно-голубой, как у обезьян?» – «Шарль, что за неприличие! Нет, я думала о том ответе, который она получила от сингалезца. Расскажите ему, это действительно острый ответ». – «Это так глупо. Вы знаете, госпожа Блатен заговаривает со всеми тоном, который ей самой кажется любезным, а тон этот прежде всего – покровительственный». – «То, что наши соседи с Темзы называют patronising[13]», – прервала Одетта. – «Недавно она поехала в Акклиматизационный сад, где есть чернокожие, сингалезцы, кажется, это говорила моя жена, она много сильнее меня в этнографии». – «Да ну, Шарль, не издевайтесь». – «Но я ничуть не издеваюсь. Так вот, она обращается к одному из этих чернокожих: “Здравствуй, негритос”». – «Это еще пустяки». – «Как бы там ни было, это определение не понравилось чернокожему. “Я-то негритос, – рассердился он на г-жу Блатен, – а ты – навоз”». – «По-моему, очень забавно. Мне страшно нравится эта история. Не правда ли, «мило»? Так и видишь мамашу Блатен: “Я-то негритос, а ты – навоз”». Я выразил самое горячее желание отправиться посмотреть на этих сингалезцев, один из которых назвал г-жу Блатен: навоз. Они вовсе не интересовали меня. Но я подумал, что по дороге в Акклиматизационный сад и на обратном пути нам придется проехать Аллею акаций, где я так любовался г-жой Сван, и что, быть может, мулат, приятель Коклена, который – увы – ни разу не видел, как я приветствую г-жу Сван, увидит меня рядом с ней в ее виктории.
В те минуты, когда Жильберта уходила переодеться перед прогулкой, Сваны, оставшись со мной в гостиной, с удовольствием рассказывали мне о редкостных добродетелях своей дочери. Все, что я мог наблюдать, казалось, подтверждало их слова: я замечал, что она, как я слышал об этом от ее матери, полна нежной продуманной заботливости не только по отношению к своим подругам, но и к прислуге, к бедным, полна готовности сделать что-нибудь приятное, опасений – как бы не огорчить, сказывавшихся в разных мелочах, которые стоили ей порой большого труда. Она приготовила подарок торговке с Елисейских Полей и, хоть шел снег, сама отправилась отдать его, не желая откладывать на другой день.
– Вы не представляете себе, что за сердце у нее, ведь она это не показывает, – говорил ее отец. Такая юная, она уже казалась рассудительнее своих родителей. Когда Сван говорил, какие большие связи у его жены, Жильберта отворачивала голову и умолкала, но не с видом порицания, а потому, что по отношению к отцу она не допускала и возможности какой бы то ни было критики. Однажды, когда я рассказал ей о мадемуазель Вентейль, она ответила:
– Никогда не познакомлюсь с ней, потому что она нехорошо обращалась со своим отцом, ведь говорят, она очень огорчала его. Вам этого так же не понять, как и мне, ведь вы, наверно, не дольше переживете вашего папу, чем я моего, да это и вполне естественно. Как забыть того, кого мы всегда любили?
А как-то раз, когда она еще больше, чем всегда, ласкалась к Свану, и я заговорил об этом после его ухода, – она сказала: «Да, бедный папа, скоро годовщина смерти его отца. Вы можете понять, что он переживает, вам ведь это понятно, мы с вами одинаково это чувствуем. Так вот, я стараюсь быть не такой скверной, как всегда». – «Но он-то не считает вас скверной, он считает, что вы самая хорошая». – «Бедный папа, это потому, что он слишком добрый».
Родители не только восхваляли мне добродетели Жильберты, той самой Жильберты, которая даже и тогда, когда я еще ни разу не видел ее, представлялась мне на фоне церкви, где-нибудь в Иль-де-Франсе, и которая потом, вызывая во мне уже не мечты, но воспоминания, всегда оставалась за изгородью из розового боярышника рядом с крутой тропинкой, где я проходил, направляясь в сторону Мезеглиза. Когда я, стараясь говорить равнодушным тоном друга семейства, которому хотелось бы знать, к кому привязан ребенок, кого из своих подруг Жильберта любит больше всего, спросил об этом г-жу Сван, она мне ответила:
– Но, вероятно, вам это лучше знать, – вам, главному любимцу, главному crack[14], как говорят англичане.
Разумеется, в случаях столь полного совпадения, когда действительность прилаживается и применяется к тому, о чем мы так давно мечтаем, она совершенно скрывает от нас наши мечты, сливается с ними, как две равные фигуры, образующие, после наложения друг на друга, одну, тогда как нам, для того чтобы придать нашей радости всю полноту ее значения, хотелось бы, напротив, сохранить за всеми элементами нашего желания, даже в ту минуту, когда мы их касаемся, тем самым укрепляя свою уверенность в том, что это именно они, – престиж недосягаемости. И мысль не в силах даже восстановить прежнее состояние, чтобы сопоставить его с этим новым, потому что у нее нет больше свободы действий: знание, приобретенное нами, воспоминание о первых минутах, казавшихся такими несбыточными, услышанные нами слова заграждают вход в наше сознание и завладевают нашей памятью в гораздо большей мере, чем нашим воображением; на наше прошлое, созерцая которое мы уже не властны отвлечься от них, они оказывают задним числом влияние более сильное, чем на будущее, форма которого остается еще свободной. Я целые годы мог думать, что начать посещать г-жу Сван – смутная греза, никогда для меня не осуществимая; а теперь стоило мне пробыть у нее четверть часа, – и время, когда я не был знаком с ней, казалось мне химерическим и смутным, как возможность, упраздненная осуществлением другой возможности. Разве эта столовая могла еще оставаться для меня местом непостижимым, предметом моих мечтаний, когда при каждом движении моих мыслей я встречался с непреломляющимися лучами, исходившими в бесконечность, вплоть до самого далекого моего прошлого, от омара по-американски, которого я только что поел? Должно быть, и Сван испытывал нечто подобное, ибо эти покои, где он принимал меня, можно было рассматривать как некое место, слившееся воедино, совпавшее не только с той идеальной квартирой, что родилась в моем воображении, но и с другой еще, которую ревнивая любовь Свана, столь же изобретательная, как и мои мечты, часто рисовала ему, – квартирой общей для него с Одеттой, казавшейся ему такой недостижимой в тот вечер, когда она пригласила его вместе с Форшвилем заехать к ней выпить оранжаду; и столовая, где мы завтракали, для него теперь вобрала в себя тот несбыточный рай, где он с легким нетерпением, но также и с некоторой долей удовлетворенного самолюбия мог сказать: «Барыня готова?» – те самые слова, которых, как ему казалось раньше и о чем он не мог без тревоги подумать, ему никогда не придется говорить их дворецкому. Должно быть, и я, в такой же мере как и Сван, не мог познать свое счастье, и если сама Жильберта восклицала: «Кто бы сказал, что та девочка, на которую вы молча смотрели, когда она играла, станет вашим лучшим другом и что вы будете приходить к ней, когда вам захочется!» – она говорила о перемене, которую я, глядя со стороны, конечно, должен был признать, но которой внутренне я не усвоил, ибо она складывалась из двух разных состояний, и мне не удавалось представить их себе одновременно так, чтобы они не утрачивали своего различия.
И все же эта квартира благодаря тому, что воля Свана так страстно стремилась к ней, должно быть, сохранила для него некоторую прелесть, поскольку об этом я мог судить по себе, для которого она не утратила всей своей таинственности. То особое обаяние, которое в моем представлении с таких давних пор окружало жизнь Сванов, я не совсем изгнал из их дома, когда сам проник в него; я только оттеснил его, подчинив себе, чужеземцу, недавнему парии, которому г-жа Сван теперь милостиво подвигала, приглашая сесть, восхитительное, враждебное и скандализованное кресло; но это очарование я еще чувствую вокруг себя, вспоминая о нем. Не оттого ли, что в те дни, когда Сваны приглашали меня завтракать, а потом ехать гулять с ними и с Жильбертой, я, в одиночестве ожидания глядя на ковер, на кресла, на консоли, на ширмы, на картины, оставлял на них печать жившей во мне мысли, что вот войдет г-жа Сван или ее муж или Жильберта? Не оттого ли, что потом все эти вещи жили в моей памяти по соседству со Сванами и под конец в них что-то перешло от Сванов? Не оттого ли, что, как я знал, Сваны проводили свою жизнь среди этих вещей, каждая из них становилась в моих глазах словно эмблемой их особой жизни, их обыкновений, которые слишком долго оставались недоступны для меня, так что и теперь продолжали казаться мне чуждыми, даже когда мне милостиво разрешили принять в них участие? Как бы то ни было, всякий раз, что мне вспоминается эта гостиная, которую Сван (критикуя, без всякого намерения перечить в чем-нибудь вкусам своей жены) находил такой разнородной по составу, – потому что, хотя она и была задумана наполовину как оранжерея, наполовину как ателье, в подражание квартире, где он познакомился с Одеттой, последняя начала уже заменять в этой путанице целый ряд вещей в китайском вкусе, казавшихся ей теперь не совсем «настоящими», очень «не стильными», множеством маленьких стульев, обитых старинным шелком в стиле Людовика XIV (не считая шедевров, перевезенных Сваном из особняка на Орлеанской набережной), – она, эта сборная гостиная, напротив, полна цельности, единства, неповторимого очарования, которых никогда не бывает ни в обстановке, завещанной нам прошлым и сохранившейся в самой полной неприкосновенности, ни в обстановке самой современной, носящей отпечаток живой личности: ибо только мы сами, веря, что вещи, которые мы видим, живут своей особой жизнью, можем в некоторые из них вложить душу, которая сохраняется в них и получает в нас свое развитие. Все же представления, которые я составил себе о часах, проводимых Сванами в этой квартире, являвшейся для будничной стороны их жизни тем же, чем тело для души, и выражавшей своеобразие этой жизни, столь непохожей на времяпрепровождение других, – представления эти, всегда одинаково волнующие и не поддающиеся определению, слились, сплавились с обстановкой, с плотными коврами, с расположением окон, с поведением прислуги. Когда после завтрака мы шли пить кофе в широкий фонарь гостиной на солнце и г-жа Сван спрашивала меня, сколько кусков сахара мне положить, от шелкового пуфа, который она пододвигала мне, веяло не только мучительным очарованием, открывшимся мне когда-то – у ограды из розового боярышника, а потом около лавровых деревьев – в имени Жильберты, но вместе и той враждебностью, с которой отнеслись ко мне ее родители и которая, казалось, так хорошо была известна этому маленькому пуфу, разделявшему ее, что я считал себя недостойным его и находил некоторой подлостью коснуться ногой его беззащитной обивки; – некая затаенная во всей этой обстановке душа связывала его с освещением, свойственным двум часам дня, не таким, как в остальной части этого залива, где у наших ног переливались золотые волны, из которых, словно волшебные острова, всплывали голубоватые диваны и туманные ковры; и не было ни одной вещи, вплоть до картины Рубенса, висевшей над камином, которая не обладала бы таким же, и почти столь же властным, очарованием, как свановские ботинки на шнурках и его пальто с пелериной, подобие которого мне так хотелось иметь и замены которого другим Одетта требовала теперь от мужа, желая, чтоб он был элегантнее, раз я делаю им честь, сопровождая их на прогулке. Она тоже уходила переодеваться, хоть я и уверял ее, что никакое платье для визитов не сравнится с чудесным крепдешиновым или шелковым пеньюаром, бледно-розовым, вишневым, розовым «Тьеполо», белым, лиловым, зеленым, красным, желтым сплошь или с узорами, в котором г-жа Сван завтракала и который собиралась снять. Когда я говорил, что ей следовало бы идти в этом платье, она смеялась – потому ли, что ее забавляло мое невежество или мой комплимент доставлял ей удовольствие. Такое обилие пеньюаров она оправдывала тем, что только в них ей было по себе, и она покидала нас, чтобы надеть одно из тех царственных платьев, которые на всякого производили впечатление и среди которых мне, однако, предлагали порой указать по моему вкусу самое подходящее.
Как я был горд, когда в Акклиматизационном саду, выйдя из экипажа, шел рядом с г-жой Сван! На нее, шествующую небрежной походкой, в развевающемся манто, я бросал восхищенные взгляды, ответом на которые была кокетливая долгая улыбка. Теперь, когда мы встречали кого-нибудь из товарищей Жильберты, мальчика или девочку, кланявшихся издали, я сам в свой черед оказывался в их глазах одним из тех существ, которым завидовали, одним из тех друзей Жильберты, которые знакомы с ее семьей и приобщены к другой части ее жизни, той, что протекала не на Елисейских Полях.
В аллеях Булонского леса или Акклиматизационного сада мы часто встречались с какой-нибудь великосветской дамой – приятельницей Свана, причем ему случалось не замечать, что она с ним здоровается, так что на нее указывала ему жена. «Шарль, вы не видите госпожу де Монморанси?» И Сван, с приветливой улыбкой, которой он был обязан долгим годам дружбы, все же снимал шляпу широким изящным жестом, свойственным лишь ему. Дама иногда останавливалась, довольная, что может сказать г-же Сван любезность, которая ни к чему не обяжет и которой та, как это было известно, не постарается воспользоваться, настолько Сван приучил ее к сдержанности. Это не помешало ей усвоить вполне светские манеры, и как бы изящна и благородна ни была осанка дамы, г-жа Сван никогда не уступала ей в этом отношении; остановившись на минуту поговорить с приятельницей мужа, она с такой простотой представляла ей Жильберту и меня, в приветствии ее было столько свободы и спокойствия, что трудно было решить, кто из них двух – великосветская дама: жена ли Свана, или встретившаяся нам аристократка. В тот день, когда мы ходили смотреть сингалезцев, на обратном пути навстречу нам показалась, в сопровождении двух других, как будто составлявших ее свиту, пожилая, но еще красивая дама в темном манто и в маленькой белой шляпке, подвязанной на шее двумя лентами. «А! вот это будет интересно для вас», – сказал мне Сван. Старая дама, от которой нас теперь отделяло несколько шагов, улыбалась ласково и нежно. Сван снял шляпу, г-жа Сван сделала глубокий реверанс и собиралась поцеловать руку этой словно сошедшей с портрета Винтергальтера даме, но та подняла ее и поцеловала. «Ну, наденете ли вы шляпу?» – сказала она Свану голосом грубым и чуть сердитым, как старая приятельница. «Я представлю вас ее императорскому высочеству», – сказала мне г-жа Сван. Сван на минуту отвел меня в сторону, пока г-жа Сван разговаривала с высочеством о хорошей погоде и о зверях, только что полученных Акклиматизационным садом. «Это принцесса Матильда, – сказал он мне. – Знаете, приятельница Флобера, Сент-Бёва, Дюма. Подумайте, племянница Наполеона I! Ее руки просили Наполеон III и русский император. Не правда ли, это интересно? Поговорите с ней. Но я не хотел бы, чтоб она целый час продержала нас стоя. Я встретил Тэна, который мне сказал, что ваше высочество в ссоре с ним», – обратился к ней Сван. «Он вел себя как свинья, – сказала она резко и произнося последнее слово так, точно это было имя какого-нибудь епископа – современника Жанны д’Арк. – После его статьи об императоре я дала ему понять, что мы больше не знакомы». Я испытал то же удивление, какое испытываешь, открывая переписку герцогини Орлеанской, урожденной принцессы Палатинской. И действительно, принцесса Матильда, оживленная чувствами столь французскими, переживала их с честной грубостью, свойственной старой Германии и унаследованной ею, вероятно, от матери, принцессы Вюртембергской. Свою несколько шероховатую и почти мужскую прямоту она, улыбаясь, смягчала итальянской томностью. И все это сливалось с туалетом, настолько напоминавшим Вторую империю, что хотя принцесса и носила его, вероятно, только из привязанности к модам, которые были ей милы, все же, казалось, она намеренно стремится избежать исторической ошибки и оправдать ожидания тех, кто ожидал от нее воскрешения иной эпохи. Я шепнул Свану, чтобы он спросил ее, знала ли она Мюссе. «Очень мало, мосье», – ответила она, делая вид, что недовольна, и конечно, Свана она назвала мосье только шутки ради, так как близко знала его. «Он обедал у меня один раз. Я пригласила его к семи часам. Так как в половине восьмого его еще не было, мы сели за стол. Он приходит в восемь, здоровается со мной, садится, рта не раскрывает и уходит сразу после обеда, так что я не слышала и звука его голоса. Он был мертвецки пьян. Это не внушило мне особого желания повторить попытку». Сван и я стояли в стороне. «Надеюсь, этот маленький сеанс не затянется, – сказал он мне, – у меня пятки заболели. Да и не знаю, зачем моя жена поддерживает разговор. И она же ведь потом будет жаловаться, что устала, а я так терпеть не могу этих стоянок». Действительно, г-жа Сван, получившая эти сведения от г-жи Бонтан, как раз сообщала принцессе, что правительство, сознав наконец свою неучтивость, решило послать ей приглашение присутствовать послезавтра на трибуне, при посещении царем Николаем Дома инвалидов. Но принцесса, несмотря на свое обращение, несмотря на характер окружающей ее среды, которую составляли главным образом художники и писатели, в сущности, всякий раз, когда надо было действовать, оставалась племянницей Наполеона: «Да, мадам, я получила его сегодня утром и отправила назад министру, к которому оно, вероятно, сейчас уже и вернулось. Я написала ему, что не нуждаюсь в приглашениях, чтобы навещать Дом инвалидов. Если правительство желает, чтобы я посетила его, то я буду там, но не на трибуне, а в нашем склепе, где гробница императора. Мне для этого не нужно билетов. У меня ключи. Прихожу, когда хочу. Правительству только остается сообщить мне, желает ли оно или не желает, чтобы я присутствовала. Но если я и буду, то только там, или уж не буду вовсе». В эту минуту г-же Сван и мне поклонился молодой человек, поздоровавшийся с нами на ходу и с которым, я думал, она не была знакома: Блок. На мой вопрос г-жа Сван ответила, что он был представлен ей г-жой Бонтан, что он прикомандирован к канцелярии министра, – факт, неизвестный мне. Впрочем, она, должно быть, не часто встречалась с ним – или же не хотела называть его имени, находя его, вероятно, недостаточно «шикарным», так как она сказала, что его зовут г-н Морель. Я стал уверять ее, что она ошибается, что его зовут Блок. Принцесса поправила волочившийся за ней шлейф, на который г-жа Сван глядела с восхищением. «Это меха, которые прислал мне русский император, – сказала принцесса, – а так как я сейчас была у него, то и надела их, чтобы показать, какое вышло из них манто». – «Говорят, принц Людовик поступил в русскую армию, вашему высочеству, верно, грустно расстаться с ним», – сказала г-жа Сван, не замечавшая нетерпения своего мужа. «Очень ему это нужно! Я говорила ему: если в роду у нас был военный, то это еще не причина», – ответила принцесса, с внезапной простотой намекая на Наполеона I. Свану больше не терпелось: «Ваше высочество, разрешите мне взять на себя вашу роль и просить позволения откланяться, моя жена была серьезно больна, и я не хотел бы, чтоб она оставалась стоять на месте». Г-жа Сван снова сделала реверанс, и принцесса подарила нас всех божественной улыбкой, которая, казалось, была навеяна прошлым, грацией ее молодости, вечерами в Компьене, и скользнула, нежная и неизменная, по ее лицу, еще только что брюзгливому, затем принцесса удалилась в сопровождении двух фрейлин, которые, как подобает толмачам, нянькам или сиделкам, вкрапливали в наш разговор бессодержательные фразы и ненужные объяснения. «Вам надо будет зайти расписаться у нее как-нибудь на этой неделе, – сказала мне г-жа Сван, – у всех этих, как говорят англичане, royalties визитных карточек не загибают, но она пошлет вам приглашение, если вы распишетесь у нее».
Порою в эти последние дни зимы, прежде чем отправиться на прогулку, мы заходили на одну из тех маленьких выставок, которые открывались в то время и где Свана, видного коллекционера, с особой почтительностью приветствовали продавцы картин, устраивавшие эти выставки. И в это еще холодноватое время года мои давние мечты, мечты о путешествии на юг и в Венецию, пробуждались вновь, пробуждались в этих залах, где весна, бывшая уже в разгаре, и жаркое солнце покрывали лиловатыми отблесками розовые отроги Альп и придавали Большому каналу темную прозрачность изумруда. В плохую погоду мы отправлялись в концерт или в театр, а потом куда-нибудь пить чай. Когда г-жа Сван хотела сказать мне что-нибудь такое, что должно было остаться непонятным посетителям, сидевшим за соседними столиками, а то и гарсонам, она обращалась ко мне по-английски, точно это был язык, известный лишь нам двоим. Однако же его знали все, только я один еще не научился ему и был принужден сообщить об этом г-же Сван, чтобы она больше не делала насчет тех, кто пил чай или подавал его, замечаний, которые, как я угадывал, были нелестны и в которых я не понимал ни слова, тогда как они были совершенно понятны тем, к кому относились.
Однажды, когда мы собирались пойти на утренний спектакль, Жильберта повергла меня в глубокое удивление. Это был именно тот день, о котором она задолго мне рассказывала, и на этот день приходилась годовщина смерти ее деда. Мы с ней и ее гувернанткой должны были идти слушать отрывки из оперы, и Жильберта переоделась в ожидании этого концерта, храня тот равнодушный вид, который всегда бывал у нее, когда мы что-нибудь предпринимали; она говорила, что ей все равно, только бы доставить мне удовольствие и сделать приятное родителям. Перед завтраком г-жа Сван отвела нас в сторону и сказала ей, что ее отец будет недоволен, если мы в такой день отправимся в концерт. Я нашел это вполне естественным. Жильберта осталась безучастна, но побледнела от злости, которую не смогла скрыть, и больше не сказала ни слова. Когда г-н Сван вернулся, жена отвела его в противоположный угол гостиной и что-то сказала ему на ухо. Он подозвал Жильберту и увел ее в соседнюю комнату. Оттуда послышались возбужденные голоса. Все же я не мог поверить, чтобы Жильберта, такая покорная, такая нежная, такая благоразумная, не пожелала исполнить просьбу отца, в такой день и по такой ничтожной причине. Наконец Сван вышел, говоря ей:
– Ты слышала, что я тебе сказал. Теперь делай что хочешь.
Злобное выражение не исчезло с лица Жильберты за все время завтрака, после которого мы пошли в ее комнату. Потом вдруг, без всяких колебаний, как будто бы их у нее и не было вовсе, она воскликнула: «Два часа! Но вы знаете, что концерт начинается в половине третьего». И она стала торопить гувернантку.
– Но разве это не будет неприятно вашему отцу? – сказал я.
– Ничуть.
– Однако он опасался, как бы это не показалось странным из-за этой годовщины.
– Какое мне дело до того, что думают другие. По-моему, смешно считаться с чужим мнением, когда говоришь о чувстве. Чувствуешь для себя, а не для публики. Мадемуазель, у которой мало развлечений, радовалась, что пойдет на этот концерт, и я не стану лишать ее этого удовольствия, чтобы доставить удовольствие публике.
Она взяла шляпу.
– Жильберта, – сказал я, беря ее за руку, – ведь это не для того, чтобы сделать удовольствие публике, а чтоб сделать удовольствие вашему отцу.
– Надеюсь, вы не собираетесь делать мне замечания, – резко крикнула она и вырвала руку.
Оказывая мне милость, еще более драгоценную, нежели прогулки в Акклиматизационный сад или посещение концертов, Сваны приобщили меня даже к своей дружбе с Берготом, явившейся еще до знакомства с Жильбертой источником обаяния, которое я в них находил, когда думал, что благодаря близости с божественным старцем Жильберта могла бы стать для меня самым страстно любимым другом, если бы ее несомненное презрение ко мне не отнимало у меня надежды на то, что когда-нибудь она увезет меня вместе с ним осматривать его любимые города. И вот однажды г-жа Сван пригласила меня на званый завтрак. Я не знал, кто будет в числе гостей. Только что войдя, еще в передней, я был сбит с толку одним смутившим меня обстоятельством. Г-жа Сван редко пропускала случай усвоить одно из тех обыкновений, которые в течение сезона считаются элегантными, но, не будучи в силах удержаться, вскоре же забываются (так, за несколько лет до этого у нее был свой «hansom cab»[15], и она посылала печатные приглашения на завтрак, «to meet»[16]какое-нибудь более или менее замечательное лицо). Иногда в этих обыкновениях не было ничего таинственного, и они не требовали специального посвящения. Так, следуя жалкому новшеству тех годов, вывезенному из Англии, Одетта заказала для своего мужа визитные карточки, где имени Шарля Свана предшествовали буквы: Mr. После того как я сделал ей первый визит, г-жа Сван, пользуясь ее выражением, «загнула» у меня одну из таких карточек. Еще никогда никто не оставлял у меня карточек; я почувствовал такую гордость, такое волнение, такую благодарность, что, собрав все свои деньги, заказал великолепную корзину камелий и послал ее г-же Сван. Я умолял отца завезти ей визитную карточку, но сначала поскорее заказать самому такие карточки, где бы имени его предшествовало: Mr. Он не внял ни той ни другой моей просьбе, несколько дней я был в отчаянии, а потом пришел к заключению, что он, пожалуй, прав. Но эта мода писать Mr. была если и бесцельна, то все же понятна. Иначе обстояло дело с другим новшеством, которое мне было дано узнать в день этого завтрака, но в смысл которого я так и не проник. Когда я проходил из передней в гостиную, дворецкий подал мне маленький и продолговатый конверт, на котором было написано мое имя. Удивленный, я поблагодарил его, а между тем взглянул на конверт. Я не знал, что с ним делать, как иностранец, не умеющий обращаться с теми инструментиками, которые на обедах у китайцев раздаются гостям. Я увидел, что конверт запечатан, побоялся проявить нескромность, открыв его сразу же, и положил в карман, сделав вид, что понимаю. Несколько дней тому назад г-жа Сван написала мне, приглашая завтракать в «небольшой компании». Было, однако, шестнадцать человек, в числе которых, о чем я совершенно не подозревал, находился Бергот. Г-жа Сван, только что представившая меня некоторым из них, вдруг, сразу же вслед за моим именем, тем же тоном, которым она произносила его, произнесла имя нежного седовласого Певца (как будто только мы двое были приглашены на завтрак и были одинаково рады познакомиться друг с другом). Это имя – Бергот – заставило меня содрогнуться, точно выстрел из револьвера, наведенного на меня, но инстинктивно соблюдая приличие, я поклонился; передо мной, подобный тем фокусникам, что выходят, невредимые и одетые в сюртук, из клубов порохового дыма, откуда вылетает голубь, стоял, отвечая на мой поклон, человек молодой, тяжеловесный, маленький, коренастый и близорукий, с красным носом в виде раковины улитки и с черной бородкой. Я был смертельно опечален, ибо в прах распался для меня не только тот мечтательный старец, от которого уже ничего не оставалось, – исчезла красота огромного творения, вместилищем которого могло быть в моих глазах изнемогающее священное тело, словно храм воздвигнутое мной нарочно для него, но для которого совсем не оставалось места в приземистом, состоящем из кровеносных сосудов, костей и мускулов теле стоявшего передо мной человечка с вздернутым носом и черной бородкой. Весь тот Бергот, которого создавал я сам, медленно и осторожно, капля за каплей, словно это был сталактит, вкладывая в него прозрачную красоту его книг, – этот Бергот оказывался вдруг ни на что не годным, раз нельзя было устранить улиткообразный нос и убрать черную бородку, подобно тому как становится ненужным решение задачи, в условие которой мы недостаточно вникли, упустив из виду, что итог должен составить определенную цифру. Нос и бородка были элементы неустранимые и тем более досадные, что, заставляя меня полностью перестроить личность Бергота, они, казалось, все время заключали в себе, создавали, выделяли из себя особый вид ума, деятельного и самодовольного, что было совершенно ни к чему, ибо этот ум ничего общего не имел с умом, который наполнял его книги, так хорошо знакомые мне и проникнутые сладостной и божественной мудростью. Исходя из них, я никогда бы не натолкнулся на улиткообразный нос; но исходя из этого носа, который, казалось, ни о чем не беспокоился, был вполне развязен и «сам себе хозяин», я пустился бы в направлении, совершенно противоположном творчеству Бергота, набрел бы, по-видимому, на интеллект какого-нибудь торопливого инженера из числа тех, которые, когда им кланяются, считают хорошим тоном сказать: «Благодарю вас, а как вы?» – прежде чем их успеют спросить, как они поживают, и которые, когда им кто-нибудь говорит, что очень рад знакомству, отвечают с лаконичностью, уместной, по их мнению, умной и современной, поскольку она помогает сберечь драгоценное время: «взаимно». Конечно, имена – это художники-фантасты, которые рисуют нам столь непохожие изображения людей и стран, что мы испытываем своего рода изумление, когда вместо воображаемого мира нам предстоит мир видимый (впрочем, тоже не являющийся миром истинным, ибо наши чувства не в большей мере, чем воображение, способны схватывать сходство, и те в конце концов приблизительные зарисовки действительности, которых удается достичь, по крайней мере так же отличаются от мира зримого, как он отличается от мира воображаемого). Но что касается Бергота, то смущение, в которое приводило меня имя заранее известное, было ничто в сравнении с замешательством, вызванным его знакомым мне творчеством, к которому я принужден был, словно к воздушному шару, привязать человека с бородкой, не зная, будет ли шар в силах его поднять. По-видимому, все же это он написал книги, которые так нравились мне, потому что, когда г-жа Сван сочла нужным сказать ему о моем пристрастии к одной из них, его ничуть не удивило, что об этом сообщают ему, а не какому-нибудь другому гостю, и он как будто не увидел в этом недоразумения; нет, заполняя надетый им в честь всех этих званых гостей сюртук телом, жадно готовящимся к близкому завтраку, занятый иными существенными реальностями, он – словно дело шло всего лишь о каком-нибудь давнем эпизоде его жизни, словно был сделан намек на костюм герцога Гиза, в который он был одет в таком-то году на костюмированном балу, – улыбнулся при мысли о своих книгах, которые сразу же опустились в моем мнении (увлекая в своем падении всю ценность Прекрасного, вселенной, жизни) – настолько, что оказались лишь жалким развлечением человека с бородкой. Я говорил себе, что он, должно быть, трудился над ними, но если бы ему пришлось жить на острове, окруженном месторождениями жемчуга, он вместо того с успехом занялся бы торговлей жемчугом. Творчество его уже не казалось мне больше таким непреложным. И тогда я спросил себя, действительно ли оригинальность доказывает, что великие писатели – боги, из которых каждый царит над страной, только ему принадлежащей, или же есть во всем этом доля обмана, не являются ли различия между произведениями скорее результатом работы, чем выражением коренного различия в самой сущности разных людей.
Между тем уже пошли к столу. Возле своей тарелки я увидел гвоздику, стебель которой был обернут в серебряную бумагу. Она не так затруднила меня, как конверт, который был передан мне в передней и о котором я совершенно забыл. Гвоздика, хотя и столь же новая для меня, стала более понятной, когда я увидел, что все гости мужчины, которым возле прибора было положено по такой же гвоздике, взяли ее и воткнули в петлицу сюртука. Я сделал то же самое с непринужденностью вольнодумца, который не знает мессы, но, попав в церковь, встает тогда же, когда встают все, и становится на колени чуть позже, чем все прочие. Меньше понравилось мне другое обыкновение, неизвестное мне и не столь эфемерное. Возле моей тарелки стояла с другой стороны тарелочка, наполненная черным веществом, которое было икрой, как я узнал впоследствии. Что с ним делать, я не знал, но решил не есть его.
Бергот сидел недалеко от меня, я прекрасно слышал все, что он говорил. Тут мне стало понятно впечатление г-на де Норпуа. Действительно, у него был странный голос; ничто так не влияет на материальные особенности голоса, как наличие мысли. Звучность дифтонгов, энергичный характер губных зависят от этого. Зависит и дикция. Его дикция показалась мне совершенно непохожей на его манеру писать, и даже то, что он говорил, – непохожим на то, чем полны были его произведения. Но голос принадлежит маске, и он не в силах заставить нас сразу же угадать лицо, открывавшееся нам в стиле. В некоторые моменты разговора, когда Бергот прибегал к той манере, которая не одному лишь господину де Норпуа казалась искусственной и неприятной, я не сразу открывал точное соответствие с теми местами в его книгах, где она принимала столь поэтическую и музыкальную форму. Тогда он обнаруживал в своих словах пластическую красоту, независимую от смысла фраз; а так как человеческое слово связано с душой, но не выражает ее подобно стилю, то казалось, что Бергот говорит почти наперекор смыслу, придавая напевность отдельным словам, а если проводил в них единый образ, – растягивая их, не делая интервалов, как будто это был один и тот же звук, утомительно однообразный. Таким образом вычурность, напыщенность и однообразие речевой манеры характеризовали эстетические качества его суждений и являлись в его беседе следствием той же самой способности, которая в его книгах вызывала последовательность образов и гармонию. Мне сперва тем труднее было заметить это, что в такие моменты слова его не казались словами Бергота, именно потому, что это был подлинный Бергот. Они полны были точных мыслей, не встречавшихся в том «берготовском стиле», который усвоили себе многие хроникеры; и это несходство, – предстающее нам в неясном свете в преломлении разговора, точно образ, видимый сквозь закопченное стекло, – было, вероятно, другим выражением того факта, что страница Бергота никогда не совпадала с тем, что бы мог написать любой из числа этих плоских подражателей, украшавших, однако, свою прозу, и в газетных статьях и в книгах, таким множеством образов и мыслей «под Бергота». Это различие в стиле вызывалось тем, что «берготовское» было прежде всего неким драгоценным и подлинным началом, затаенным в каждой вещи и извлекаемым оттуда даром этого великого писателя, – задача, которую и ставил себе сладостный Певец, не преследовавший цели писать под Бергота. По правде говоря, он делал это невольно, потому что был Бергот, и в этом смысле каждая из новых красот его произведений была частицей Бергота, затаившейся в вещи и им оттуда извлеченной. Но если тем самым каждая из этих красот была связана с другими и могла быть познана, она все же оставалась своеобразной, как то открытие, которое произвело ее на свет; новой, а следовательно, не похожей на то, что называли «берготовским стилем», представлявшим собой смутный синтез всех Берготов, уже им найденных и записанных, которые отнюдь не позволяли бездарным людям предсказывать, что он откроет где-нибудь еще. В таком положении все большие писатели, – красоту их фраз нельзя предугадать, как и красоту женщины, которой еще не знаешь; она результат творчества, потому что относится к предмету внешнего мира, о котором они думают (а вовсе не о себе) и которому еще не нашли выражения. Современный мемуарист, желающий писать под Сен-Симона, но так, чтобы это не слишком бросалось в глаза, может быть, в крайнем случае и напишет первую строку портрета Виллара: «То был довольно высокого роста смуглый мужчина с лицом живым, открытым, выпяченным», но где возьмет он тот детерминизм, который позволил бы ему найти вторую строку, начинающуюся словами: «И, право, немного шальным»? Настоящее разнообразие – в этой полноте реальных и неожиданных элементов, в ветке, усеянной синими цветами, которая, совершенно вопреки ожиданию, бросается в глаза на фоне весенней изгороди, уже казавшейся нам сплошным цветением, меж тем как чисто формальное подражание разнообразию (а таким же способом можно рассуждать и применительно ко всем другим особенностям стиля) – лишь пустота и однообразие, то есть полнейшая противоположность разнообразию, и в произведениях подражателей оно может прельстить только того, кому это разнообразие не было понятно в созданиях мастеров, только ему подражатель и может напомнить мастера.
И так же как голос Бергота наверно очаровал бы нас, если бы это был не он, а какой-нибудь любитель, декламирующий поддельного Бергота, тогда как на самом деле с мыслью Бергота, деятельной и настойчивой, голос этот связывали жизненные нити, слухом улавливаемые не сразу, – совершенно так же и в языке Бергота, с точностью применявшего свою мысль к нравившейся ему действительности, было что-то положительное, чрезмерно питательное, разочаровавшее тех, кто ожидал, что он будет говорить лишь о «вечном потоке видимостей» и о «таинственных трепетах красоты». К тому же необычайность и новизна всего, что он писал, сказывались, когда он говорил, в такой хитроумной постановке вопросов, в таком пренебрежении ко всем существовавшим до сих пор решениям, что можно было подумать, будто он затрагивает лишь мелкие частности, впадает в заблуждение, говорит парадоксы, и таким образом мысли его чаще всего казались смутными, – ведь каждый называет ясными мыслями мысли, отличающиеся той же степенью смутности, что и его собственные. Впрочем, предварительным условием всякого новшества является устранение шаблонов, к которым мы привыкли и которые были для нас олицетворением жизненности, так что всякая новизна речи, равно как и всякая оригинальность в живописи, в музыке, всегда будет казаться надуманной и утомительной. Она основывается на тропах, необычных для нас, нам кажется, что собеседник говорит только метафорами, а это надоедает и производит впечатление неискренности. (В сущности, и старые формы речи тоже когда-то являлись трудными для восприятия образами, пока слушателю был еще неведом мир, изображаемый ими. Но уже давно принято считать, что это и есть настоящий мир, и на него полагаться.) Вот почему, когда Бергот говорил про Котара, что это – чертик в банке, старающийся сохранить равновесие, – слова, совершенно простые с нашей теперешней точки зрения, – или про Бришо, что «прическа причиняет ему еще больше забот, чем г-же Сван, так как занятый и профилем своим и репутацией, он должен стараться о такой куафюре, по которой его всегда можно было бы принять и за льва и за философа», – слушатель скоро начинал чувствовать усталость и хотелось найти опору в чем-то более конкретном, то есть попросту говоря, в чем-то более обычном. Хотя неузнаваемые слова, которые произносила маска, бывшая у меня перед глазами, надо было, конечно, связать с писателем, возбуждавшим мое восхищение, все же они не умещались в его книги, наподобие квадратиков головоломки, которые нужно вдвинуть в другие, они лежали в другой плоскости и требовали транспонировки, благодаря которой я однажды, повторяя себе слышанные от Бергота фразы, нашел в них все приемы его литературного стиля, узнал и смог определить различные его элементы в этой устной речи, казавшейся мне такой далекой от него.
В частности, особая, почти преувеличенная тщательность и энергия, с которой он произносил отдельные слова, отдельные прилагательные, чаще встречавшиеся в его речах и не лишенные пафоса, выделяя каждый слог, а последний слог произнося нараспев (как, например в слове «visage», которым он заменял всегда слово «figure»[17]и в котором увеличивал число v, s, g, – как будто выпуская их из разжимаемой в эти минуты ладони), в точности соответствовала тому почетному месту, на которое он в своей прозе ставил эти любимые слова, освещая их, предваряя своего рода полями и связывая с общим составом фразы таким способом, что читателю приходилось, во избежание метрической ошибки, принимать во внимание их «количество». Однако в разговорах Бергота нельзя было встретить того особого освещения, которое в его книгах, как и у других авторов, часто видоизменяет в написанной фразе внешний облик слова. Конечно, этот свет подымается из далеких глубин и лучи его не касаются наших слов в те часы, когда, открывшись другим в беседе, мы в известной степени закрываемся от самих себя. С этой точки зрения в его книгах было больше интонаций, больше ударений, чем в его речах, – ударений, независимых от красоты стиля, которых сам автор, вероятно, не замечал, потому что они неотделимы от всей его личности. В те минуты, когда Бергот в своих книгах становился совершенно естественным, именно эти ударения придавали ритм написанным словам, часто весьма незначительным. Ударения эти не отмечены в тексте, ничто не указывает на них, и все же они сами присоединяются к фразам, нельзя прочитать их иначе, они – самое эфемерное и все-таки самое глубокое в писателе, и они-то и послужат истинным свидетельством об его природе, они скажут, был ли он нежен, несмотря на все то жесткое, что было им высказано, и чувствителен, несмотря на всю свою чувственность.
Некоторые особенности произношения, лишь слабо выраженные в речи Бергота, были свойственны не ему одному, ибо когда позднее я познакомился с его братьями и сестрами, я нашел у них все это в гораздо более резкой форме. В последних словах веселой фразы появлялась какая-то хриплая отрывистость, в конце фразы печальной слышалась слабость, замирание. Сван, знавший Мэтра ребенком, говорил мне, что в то время у него, совершенно так же как у его братьев и сестер, слышались в голосе эти переходы, в известной степени наследственные, сменявшие друг друга крики буйной веселости и рокот вялой меланхолии, и что в комнате, где они играли все вместе, он лучше всех исполнял свою партию в этих концертах, порой оглушительных, порой томных. Как ни своеобразен весь этот шум, производимый людьми, он мимолетен и не переживает их. Но иначе было с произношением семейства Бергот. Ибо, хотя и трудно понять, даже в «Мейстерзингерах», как может композитор сочинять музыку, слушая щебетанье птиц, все же Бергот перенес в свою прозу и закрепил в ней эту манеру задерживаться на словах, которые повторяются, как крики радости, или падают, словно капли, грустными вздохами. В его книгах иные фразы завершаются непрерывным нарастанием звучностей, как в последних аккордах оперной увертюры, которая не может кончить и несколько раз повторяет заключительную каденцию, пока дирижер не положит свою палочку, – нарастанием, в котором впоследствии я узнал музыкальный эквивалент фонетической меди семейства Бергот. Но сам он, с тех пор как перенес ее в свои книги, бессознательно перестал пользоваться ею в своей беседе. С того дня, как он начал писать, а тем более впоследствии, когда я познакомился с ним, она уже не существовала в инструментовке его речи.
Молодые Берготы – будущий писатель и его братья и сестры – наверно стояли не выше, а ниже тех молодых людей, более тонких и более остроумных, которым Берготы казались слишком шумными и даже немного вульгарными, которых они раздражали своими шутками, характерными для «стиля» их дома, не то вычурного, не то придурковатого. Но гений, даже крупный талант, обусловлен не столько своим интеллектуальным превосходством и социальной изысканностью, сколько способностью преобразовывать, транспонировать. Для того чтобы нагреть жидкость с помощью электрической лампы, вовсе не требуется лампа самая мощная, но такая, в которой ток мог бы перестать давать свет, изменил бы свою форму и вместо света мог бы дать тепло. Чтобы двигаться по воздуху, нужен не самый мощный автомобиль, но такой, который, перестав двигаться по земле и пересекши вертикально линию своего движения, мог бы превратить свою горизонтальную скорость в энергию подъема. Точно так же и творцы гениальных произведений – это вовсе не те, кто живет в среде самой утонченной, чья речь отличается наибольшим блеском, кто обладает самым широким образованием, но те, кто обладает даром, перестав жить для самого себя, сделать из своей личности подобие зеркала, так чтобы жизнь их, сколь бы ни была она ничтожна с точки зрения светской, и даже отчасти с точки зрения интеллектуальной, отражалась в нем, ибо гений – это способность отражать, а не качества отраженного зрелища, взятые сами по себе. В день, когда молодой Бергот смог показать миру своих читателей безвкусную гостиную, где протекало его детство, и те не слишком забавные разговоры, которые он вел там с братьями, – в тот день он поднялся выше друзей своей семьи, более остроумных и более изысканных: те в своих прекрасных «роллс-ройсах» могли возвращаться домой, свидетельствуя некоторое презрение к пошлости Берготов, а он, сумев наконец на своем скромном аппарате отделиться от земли, летал над ними.
Другие особенности языка роднили его уже не с членами семьи, а с некоторыми современными ему писателями. Более молодые среди них, начинавшие отрекаться от него и утверждавшие, что у них нет никакого интеллектуального сходства с ним, проявляли его невольно, применяя те же самые наречия, те же самые предлоги, которые повторял и он, так же строя фразы, говоря тем же приглушенным, замедленным тоном, отталкиваясь от красноречия и легкого языка предыдущего поколения. Быть может, эти молодые люди – мы увидим, что такие встречались – не знали Бергота. Но его манера мышления, привитая этим писателям, вызвала у них те изменения синтаксиса и акцентовки, в которых неизбежно сказывается связь с духовной оригинальностью. Связь, которая требует, впрочем, разъяснения. Так, Бергот, если он никому не был обязан своей литературной манерой, то манеру говорить он заимствовал от одного из своих давних товарищей, который замечательно владел искусством разговора и влияние которого он испытал, которому он невольно подражал в беседе, но который, будучи менее одаренным, никогда не написал ни одной по-настоящему значительной книги. Таким образом, если ограничиться оригинальностью устной речи, то Бергота пришлось бы признать учеником, писателем второстепенным, меж тем как, поддаваясь влиянию своего друга в области разговора, он, как писатель, проявил творческую оригинальность. Наверно, для того, чтобы отграничить себя от предыдущего поколения, слишком уж склонного к абстракциям, к эффектным общим местам, Бергот, если благоприятно отзывался о книге, всегда также выделял, приводил в виде примера какую-нибудь сцену, отличавшуюся образностью, какую-нибудь картину, лишенную рационалистического смысла. «О да! – говорил он, – это хорошо! там есть девочка в оранжевом платке, о! это хорошо», или еще: «Ах! там есть место, где полк проходит через город, о да, это хорошо!» Что до стиля, Бергот оказывался не вполне современным (а вообще был исключительно верен своей родине, ненавидел Толстого, Джордж Элиот, Ибсена и Достоевского), ибо всякий раз, когда он хвалил чей-нибудь стиль, он прибегал к слову: «нежный». «Да, я все-таки люблю Шатобриана больше в «Атала», чем в «Рене», по-моему, это более нежно». Он произносил это слово, как врач, который в ответ на уверения пациента, что молоко вызывает у него боли в желудке, говорит: «Но ведь молоко вещь очень нежная». И действительно, в стиле Бергота была особая гармония, подобная той, которая иным ораторам древности снискала похвалы, малопонятные для нас, привыкших к нашим новым языкам, где не ищут этого рода эффектов.
Также, когда кто-нибудь выражал ему свое восхищение по поводу того или иного места из его книги, он с робкой улыбкой говорил: «Мне кажется, это довольно правдиво, довольно точно, это может быть полезно», – но говорил только из скромности, как женщина, которую уверяют, что ее платье или ее дочь очаровательны, отвечает в первом случае: «Оно удобное», во втором: «У нее хороший характер». Но инстинкт зодчего был слишком силен в Берготе, чтобы он мог не знать, что единственное доказательство полезности его построек и их соответствия истине – это радость, ими доставленная, сперва ему, а потом и другим. И только много лет спустя, когда у него уже не было таланта, Бергот, – лишь бы не уничтожить, как она того заслуживала, лишь бы напечатать вещь, которой он был недоволен, – говорил, на этот раз уже самому себе: «Как бы то ни было, это довольно точно, это не бесполезно для моей родины». Так что фразу, которую некогда, хитря по скромности, он шептал своим поклонникам, он теперь твердил тайникам своего сердца, уязвленный уже в своем самолюбии. И те же слова, которые служили Берготу ненужным оправданием ценности его первых произведений, стали для него тщетным утешением в слабости последних.
В особой строгости присущего ему вкуса, в твердом желании писать всегда только такие вещи, о которых он мог бы сказать: «Это – нежно», благодаря чему его столько лет считали мастером бесплодным, жеманным, чеканщиком безделок, – была, напротив, тайна его силы, ибо привычка так же определяет стиль писателя, как и характер человека, и автор, несколько раз испытавший удовлетворение тем, что ему удалось выразить свою мысль с известной приятностью, навсегда кладет границы своему таланту, подобно тому как, делая частые уступки удовольствиям, лени или страху перед болью, мы создаем себе представление о нашей личности, в котором смягчены до неузнаваемости наши пороки и положен предел нашим добродетелям.
Если все же, несмотря на такое сходство между писателем и человеком, обнаруженное мной впоследствии, я в первую минуту г-жи Сван не поверил, что передо мной Бергот, автор стольких божественных книг, я, пожалуй, был не совсем не прав, так как сам он тоже в полном смысле слова в это не «верил». Он не верил в это, раз он так заискивал у людей светских (не будучи, впрочем, снобом), у литераторов, у журналистов, стоявших гораздо ниже его. Правда, теперь, благодаря всеобщему признанию, ему стало известно, что у него талант, в сравнении с которым положение в свете и официальные должности – ничто. Ему стало известно, что у него есть талант, но он не верил в это, поскольку продолжал притворяться почтительным к ничтожным писателям, лишь бы поскорее стать академиком, между тем как Академия или Сен-Жерменское предместье имеет столь же малое отношение к частице Вечного Духа, каковой является автор книг Бергота, как и к принципу причинности или идее Бога. Это он тоже знал, как клептоман без всякой пользы знает, что красть дурно. И человек с бородкой и носом в форме улитки прибегал к хитростям джентльмена, ворующего вилки, стараясь приблизиться к вожделенному академическому креслу, к какой-нибудь герцогине, располагающей в случае избрания несколькими голосами, но приблизиться так, чтобы никто из тех, кто считает преследование подобной цели пороком, не заметил его маневров. Это удавалось ему лишь наполовину, с речами настоящего Бергота перемежались речи Бергота эгоиста, честолюбца, который о таких-то людях, влиятельных, знатных или богатых, говорит только затем, чтобы придать себе вес, – между тем как в своих книгах, когда он действительно становился самим собой, так отчетливо показывал чистое, словно родник, обаяние бедности.
