Замок
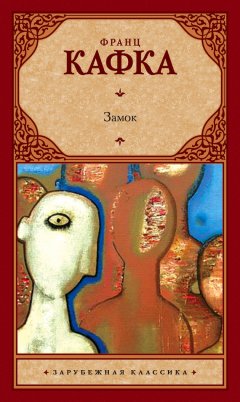
© Перевод. М.Л. Рудницкий, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2016
Глава 1
Прибытие
Был поздний вечер, когда К. добрался до места. Деревня тонула в снегу. Ни горы, ни Замка не было видно, мрак и туман окутали гору сплошь, и мощный Замок там, наверху, не выдавал себя ни единым проблеском света. Стоя на деревянном мосту, по которому уползал от тракта к деревне одинокий проселок, К. долго вглядывался в эту обманчивую пустоту.
Потом пошел искать ночлег. В трактире еще не спали, хозяин, правда, комнат не сдавал, но, застигнутый врасплох и даже напуганный приходом позднего гостя, согласился уложить К. на полу, прямо между столов, на соломенном тюфяке. К. не стал возражать. Несколько крестьян сидели за пивом, ему, однако, ни с кем говорить не хотелось, и он, сам стащив тюфяк с чердака, улегся поближе к печке. Сразу стало тепло, мужики сидели тихо; усталым, но пристальным взглядом он какое-то время на них поглядывал, потом уснул.
Вскоре, однако, его разбудили. По-городскому одетый чернявый молодой человек – лицо актерское, глазки щелочкой, брови щеточкой – склонился над ним на пару с хозяином. Посетители еще не ушли, а некоторые из любопытства даже развернули стулья в их сторону. Молодой человек весьма учтиво извинился за беспокойство, представился сыном замкового кастеляна, после чего заявил:
– Деревня относится к владениям Замка, и всякий, кто здесь живет или ночует, в известном смысле живет или ночует в Замке. Без графского разрешения это не дозволено. У вас разрешения нет, во всяком случае, вы его не предъявили.
Приподнявшись на локтях, К. сел, пригладил волосы, глянул на обоих снизу вверх, потом спросил:
– Это в какую же деревню меня занесло? Замок – это ведь здесь?
– Разумеется, – произнес молодой человек врастяжку, а кое-кто из мужиков даже укоризненно головой покачал. – Замок господина графа Вествеста.
– И чтобы переночевать, требуется разрешение? – переспросил К., словно желая удостовериться, не снится ли ему, часом, все услышанное.
– Да, разрешение иметь надо, – раздалось в ответ, причем в голосе молодого человека слышалась легкая издевка, зазвучавшая почти неприкрыто, когда он, разведя руками и обращаясь к хозяину и остальным, добавил: – Или, может, теперь уже и разрешения не требуется?
– Что ж, придется брать разрешение, – зевнув, сказал К. и откинул одеяло, намереваясь встать.
– Это у кого же? – опешил молодой человек.
– У господина графа, – ответил К. – Больше вроде не у кого.
– Сейчас, среди ночи, брать разрешение у господина графа? – вскричал молодой человек и даже отпрянул на шаг.
– А что, это невозможно? – невозмутимо проронил К. – Тогда зачем было меня будить?
Тут фигляр и вовсе вышел из себя.
– Вы эти босяцкие замашки бросьте! – заорал он. – Попрошу с уважением относиться к указаниям властей! Я вас для того и разбудил, чтобы уведомить: вам надлежит немедленно покинуть графские владения!
– Да ладно комедию-то ломать, – подчеркнуто спокойно, тихим голосом ответил К., снова ложась и натягивая на себя одеяло. – Вы, молодой человек, слишком много на себя берете, и к вашему поведению мы завтра утром еще вернемся. А хозяин и вот эти господа будут свидетелями, если таковые мне вообще понадобятся. Кроме того, позвольте вам сообщить: я землемер и вызван сюда по указанию графа. Помощники мои со всеми приборами подъедут завтра. А я не смог отказать себе в удовольствии пройтись по снежку, да вот, к сожалению, заплутал, потому и пришел так поздно. Я и сам, без поучений ваших, знаю, что являться в Замок сейчас не время и не след. Почему и решил довольствоваться таким вот ночлегом, который вы, мягко говоря, соизволили столь неучтиво нарушить. На этом пояснения мои исчерпаны. Доброй ночи, господа!
С этими словами К. повернулся лицом к печке.
– Землемер? – недоверчиво переспросил кто-то у него за спиной, потом наступила мертвая тишина. Однако молодой человек недолго пребывал в растерянности; голосом, достаточно сдавленным, чтобы не потревожить сон незнакомца, но и достаточно внятным, чтобы при желании его можно было расслышать, он бросил хозяину:
– Надо запросить по телефону.
Как? Неужели в этой убогой корчме даже телефон есть? Неплохо же у них тут все обустроено. Телефон, впрочем, удивил К. лишь отчасти, чего-то в этом роде он, пожалуй, ожидал. Оказалось, телефон висит чуть ли не у него над головой, – прежде то ли от усталости, то ли со сна он этого не заметил. Если молодой человек вздумает сейчас звонить, он хочешь не хочешь обязательно К. потревожит, вопрос лишь в том, подпускать его к телефону или нет. К. подумал и решил не препятствовать. Но тогда нет смысла прикидываться спящим – и К. снова повернулся на спину. Он увидел, как мужики, испуганно сбившись в кучку, что-то обсуждают, – видимо, приезд землемера здесь целое событие. Тут отворилась дверь кухни, и в проеме, заполнив его чуть не целиком, воздвиглась мощная фигура хозяйки; хозяин на цыпочках поспешил к ней дать необходимые пояснения. А между тем телефонные переговоры уже шли полным ходом. Кастелян спал, однако младший кастелян, вернее, один из младших кастелянов, некий господин Фриц, оказался на месте. Молодой человек, назвавшись Мракауэром, доложил, как и где он обнаружил К., незнакомца лет тридцати весьма потрепанного вида, спящим как ни в чем не бывало на соломенном тюфяке, под головой – небольшой рюкзак, тут же, поодаль, суковатая палка. Ясное дело, ему это показалось подозрительным, а поскольку трактирщик своими обязанностями явно пренебрег, он, Мракауэр, тем более посчитал необходимым во всем разобраться. Побудка, предварительный опрос и правомочная угроза выдворения из графских владений восприняты незнакомцем с чрезвычайным неудовольствием, впрочем, как выяснилось в дальнейшем, быть может, и обоснованным, ибо господин этот утверждает, будто является землемером, вызванным якобы по распоряжению господина графа. Разумеется, по меньшей мере проформы ради эти его слова надо проверить, в связи с чем он, Мракауэр, и просит господина Фрица справиться в главной канцелярии, действительно ли ожидается прибытие землемера или кого-то в этом роде, а выяснив, незамедлительно телефонировать ему.
Наступила тишина: на том конце провода Фриц наводил справки, на этом ожидали его ответа, К. лежал, как и прежде, не шевелясь, смотрел прямо перед собой и, казалось, нисколько не интересуется происходящим. Доклад Мракауэра, где очевидная зловредность перемежалась с вкрадчивой опаской, наводил на мысль о своеобразной дипломатической выучке, которой в Замке уверенно владеют даже столь мелкие людишки. И в рвении, судя по всему, здесь тоже нет недостатка, вон, в главной канцелярии и ночью не дремлют. И, как выяснилось, довольно быстро отвечают на запросы – звонок Фрица не замедлил воспоследовать. Ответ, впрочем, оказался слишком короток, ибо Мракауэр уже в ярости шваркнул трубку.
– Я же говорил! – заорал он. – Никто не звал никакого землемера, а это просто бродяга, да еще и враль, если не что похуже.
В первую секунду К. показалось, что сейчас все – Мракауэр, крестьяне, трактирщик с трактирщицей – тут же на него набросятся, и он, лишь бы укрыться от первых тумаков, с головой юркнул под одеяло, но тут – не веря своим ушам, К. снова осторожно высунулся – телефон зазвонил еще раз, причем, как почудилось К., зазвонил как-то особенно требовательно и грозно. И хотя совсем невероятно было предположить, что и этот второй звонок тоже касается К., все замерли, а Мракауэр кинулся к аппарату. Он долго выслушивал какие-то пояснения, потом тихо проронил:
– Выходит, ошибка? Как это неприятно, однако. И что, сам столоначальник звонил? Странно, странно. И как прикажете объяснить все это господину землемеру?
К. навострил уши. Выходит, Замок признал в нем землемера. С одной стороны, для него это не слишком благоприятное известие, ибо оно означает, что в Замке о нем все известно, там уже прикинули соотношение сил и вызов его принимают с усмешкой. С другой стороны, была тут, на его взгляд, и благоприятная подоплека, ибо снисходительность властей доказывала, что его недооценивают, а значит, предоставят ему бóльшую свободу действий, чем он смел надеяться. Но если они там, заведомо и настолько уверенные в своем превосходстве, рассчитывают высокомерным признанием его статуса землемера постоянно держать его в страхе, то тут они просчитались: это лишь в первую секунду они его слегка припугнули, только и всего.
От робко приблизившегося к нему Мракауэра К. теперь просто отмахнулся, переселяться в хозяйскую горницу, как его ни упрашивали, отказался наотрез, соизволил только принять от хозяина стакан сонного отвара, от хозяйки – таз для мытья, мыло и полотенце, а требовать, чтобы очистили помещение, и вовсе не понадобилось, все и так, стараясь не оборачиваться, чтобы он завтра кого-нибудь не признал, уже толклись в дверях, торопясь выйти, – да и лампа тотчас погасла, и его наконец оставили в покое. Спал он крепко до самого утра, лишь разок-другой слегка потревоженный шмыгавшими мимо крысами.
После завтрака, за который, как и за все дальнейшее пребывание К., по уверениям хозяина, теперь должен платить Замок, К. намеревался тотчас отправиться в деревню. Но поскольку хозяин, с которым К., памятуя о вчерашнем его поведении, говорил односложно и сухо, теперь с немой мольбой в глазах вертелся поблизости, К. сжалился и позволил тому ненадолго присесть за стол.
– Я еще не знаком с графом, – начал К. – Говорят, за хорошую работу он и платит хорошо, это правда? Когда, как я, от жены с ребенком в такую даль уезжаешь, хочется и вернуться не с пустыми руками.
– На этот счет, сударь, не изволь беспокоиться, на плохую оплату тут пока никто не жаловался.
– Что ж, – продолжал К., – я и сам не робкого десятка, в случае чего могу и господину графу напрямик свое мнение выложить, но, ясное дело, миром поладить с господами всегда лучше.
Трактирщик примостился напротив К. на краю подоконника, расположиться поудобнее он явно робел, и не спускал с К. испуганного взгляда широко распахнутых карих глаз. Сперва сам же около К. терся, а теперь, казалось, не чает ноги унести. Может, расспросы о графе его так встревожили? А может, он боится откровенничать с К., раз тот теперь оказался из «господ»? К. решил перевести разговор на другое. Глянув на часы, он бросил:
– Скоро помощники мои должны подъехать, ты сможешь их разместить?
– Конечно, сударь, – отозвался тот, – только разве они не будут жить с тобой в Замке?
Легко же он отказывается от постояльцев, а от К. в особенности, раз норовит непременно спровадить его в Замок.
– Это еще не наверняка, – заметил К. – Сперва надо выяснить, какую мне поручат работу. Если, к примеру, работать придется тут, внизу, то и жить удобнее здесь же. Да и вообще, боюсь, жизнь в Замке не больно-то по мне. Я люблю, когда я сам себе хозяин.
– Ты Замка не знаешь, – тихо проронил трактирщик.
– Разумеется, – согласился К. – Прежде времени ни о чем судить не стоит. Пока что о Замке я знаю лишь одно: толкового землемера там подобрать умеют. Как знать, может, найдутся у них и другие толковые качества.
И он встал, дабы избавить наконец испуганно кусающего губы хозяина от своего общества. С виду вроде простак – а не так-то просто войти к нему в доверие.
У дверей, уже на выходе, К. бросился в глаза темный, в темной же раме, портрет. Он, впрочем, еще со своего соломенного ложа успел его заприметить, однако издали разглядеть не смог и решил даже, что саму картину из рамы вынули и видит он только черный задник. Но это все-таки была картина, поясной портрет некоего господина лет пятидесяти. Голова мужчины опущена так низко, что глаз не видно почти вовсе, зато при таком наклоне резко выдавался вперед высокий, омраченный думами лоб и нос, загнутый клювом. Окладистая борода, придавленная к груди тяжелым подбородком, смотрела торчком. Левая, запущенная в густые волосы рука подпирала чело, но приподнять его, казалось, не в силах.
– Это кто? – поинтересовался К. – Граф?
К. застыл перед портретом, даже не взглянув на хозяина.
– Нет, – отозвался тот. – Это кастелян.
– Кастелян в Замке и вправду красавец, – заметил К., – жаль только, с сынком ему не повезло.
– Да нет, – возразил хозяин и, слегка притянув К. к себе, зашептал ему на ухо: – Мракауэр вчера приврал, его отец всего лишь младший кастелян, да и то из самых последних.
В эту секунду трактирщик почему-то показался К. сущим ребенком.
– Каков наглец! – усмехнулся К., но хозяин не улыбнулся, только заметил:
– И его отец – тоже власть.
– Да ладно тебе, – бросил К. – У тебя, похоже, все власть. Может, скажешь, и я тоже?
– Ты? – робко, но серьезно переспросил тот. – Нет, ты не власть.
– В наблюдательности тебе не откажешь, – заметил К. – По совести сказать, я и вправду человек небольшой. А значит, имею к власти не меньше почтения, чем ты, только я не такой откровенный, как ты, и не всегда готов это почтение выказывать.
И К. то ли в утешение, то ли в надежде заручиться расположением хозяина слегка похлопал его по щеке. Только теперь тот наконец робко улыбнулся. Он и вправду был как мальчишка – лицо мягкое, округлое, почти безбородое. И как его угораздило обзавестись столь необъятной и отнюдь не молодой супругой, которая сейчас – в окошке раздачи ее хорошо было видно, – широко расставив локти, деловито хозяйничала на кухне у плиты. Но К. не стал больше донимать трактирщика расспросами, не стал прогонять с его лица эту улыбку, с таким трудом отвоеванную, а только взмахом руки велел отворить перед собой дверь и вышел навстречу ясному зимнему утру.
Теперь наконец в прозрачном морозном воздухе он узрел наверху Замок во всей четкости его очертаний, припорошенных к тому же, словно контуром, тонким слоем снега, что без конца и края укрыл округу своей пушистой пеленой. Кстати, там, на горе, снега, казалось, гораздо меньше, чем здесь, в деревне, где К. пробирался по сугробам с таким же трудом, что и вчера по проселку. Здесь снег подпирал подоконники приземистых домишек и тяжелой бахромой нависал навстречу с низких крыш, тогда как там, на горе, все свободно и легко устремлялось ввысь, – по крайней мере отсюда, снизу, так казалось.
В целом же Замок, каким он вырисовывался сейчас из своей дали, вполне соответствовал тому, что К. предполагал увидеть. Не старинная, рыцарских времен, крепость и не красиво поставленный особняк, а распластавшаяся в длину постройка из нескольких двухэтажных зданий и множества лепившихся друг к дружке строений поменьше и пониже; всё вместе, если не знать, что это и есть Замок, вполне можно принять за небольшой городишко. Башня виднелась только одна, и к чему она относится – к церкви или к жилому дому, – понять было невозможно. Стаи ворон кружились над ней.
Не сводя с Замка глаз, К. двинулся вперед, – казалось, ни до чего больше ему нет дела. Но по мере приближения Замок его разочаровывал, это действительно оказался довольно жалкий городишко, кое-как слепленный из неказистых, деревенского вида домов, разве что построено все вроде как из камня, но штукатурка давно облупилась, да и камень, судя по всему, тоже трещинами пошел и крошился. К. невольно вспомнился родной город, уж он-то, пожалуй, нисколько этому так называемому Замку не уступит, и прибудь сюда К. просто так, глянуть из праздного любопытства, то жалко было бы времени и сил, зря потраченных на столь дальнее странствие, – куда разумней было бы съездить снова на родину, где он так давно не бывал. И он мысленно сравнил церковную башню у себя на родине с башней там, наверху. Та, что на родине, сужающаяся кверху, устремленная ввысь прямо и без колебаний, увенчанная солидной кровлей из красной черепицы, была сооружением хоть и вполне земным, – а разве посильно людям сооружать что-то иное? – но созданным с более возвышенной целью, нежели убогая толчея жилищ внизу, и с более торжественным смыслом, нежели тусклая череда невразумительных людских буден. Здешняя же башня – единственная, какую он на горе разглядел, башня жилого дома, как теперь все очевидней казалось, быть может, башня главного корпуса Замка, – напоминала скорее неказистую кадушку, кое-где из милосердия прикрытую плющом, с маленькими оконцами, что подслеповато таращились сейчас на солнце, придавая всему строению налет тихого безумия, и увенчивалась чем-то вроде навершия, зубцы которого, разные, неровные, вкривь и вкось, словно наспех нарисованные рукой перепуганного или поленившегося ребенка, нелепо вгрызались в голубизну неба. Видом своим башня напоминала горемычного приживалу, которому место в самой дальней и темной каморке дома, а он вдруг проломил крышу и зачем-то выставился всему свету на обозрение.
К. вновь остановился, словно стоя ему легче уразуметь увиденное. Но его отвлекли. За деревенской церковью, возле которой он стоял, – по сути, это была часовня с более поздней, наподобие сарая, пристройкой, чтобы все прихожане могли поместиться, – оказалась школа. Длинное низкое здание, странным образом сочетавшее в себе приметы глубокой старины и убогой времянки, укрылось за решеткой забора в саду, который сейчас походил просто на заснеженную поляну. Из школы как раз высыпали дети во главе с учителем. Обступив учителя тесной гурьбой и не спуская с него глаз, дети без умолку и наперебой галдели, да так быстро и все скопом, что К. не мог разобрать ни слова. Учитель, тщедушный, узкоплечий молодой человек, очень прямой и какой-то почти до смешного подтянутый, заприметил К. еще издали; впрочем, вокруг, если не считать самого учителя и ребят, никого больше и не было. Как и положено приезжему, особенно при виде хоть и маленького, но столь начальственного человечка, К. поздоровался первым.
– Добрый день, господин учитель, – сказал он.
Дети, как по команде, разом смолкли, и эта внезапная тишина в ожидании его ответа, видимо, настроила учителя на благодушный лад.
– Что, Замок разглядываете? – спросил он мягче, чем К. ожидал, однако тоном, в котором явственно слышалось неодобрение.
– Да, – ответил К. – Я нездешний, только со вчерашнего вечера в ваших местах.
– И Замок вам не нравится? – неожиданно спросил учитель.
– Что-что? – переспросил слегка обескураженный К. и повторил вопрос учителя, но в более учтивой форме: – Нравится ли мне Замок? А почему вы считаете, что он мне не нравится?
– Он никому из приезжих не нравится, – изрек учитель.
К., опасаясь сказать что-нибудь невпопад, на всякий случай решил перевести разговор на другое:
– Вы, конечно, знаете графа?
– Нет, – отрезал учитель и отвернулся, желая закончить разговор, но К. не позволил ему этого сделать, повторив свой вопрос:
– Как? Вы графа не знаете?
– Да откуда мне его знать? – тихо ответил учитель и уже громко добавил по-французски: – Поостерегитесь хотя бы при детях!
К., однако, счел, что это замечание дает ему право на следующий вопрос:
– Нельзя ли как-нибудь зайти к вам, господин учитель? Я приехал надолго и чувствую себя довольно неприкаянно, я ведь и в деревне всем чужой, и к Замку вроде бы тоже отношения не имею.
– Между деревней и Замком различия нет, – заметил Учитель.
– Может быть, – согласился К., – но мне от этого не легче. Так вы позволите как-нибудь к вам заглянуть?
– Я живу в Лебяжьем переулке, в доме мясника.
И хотя это было скорее сообщение адреса, чем приглашение в гости, К. живо подхватил:
– Хорошо, так я приду.
Учитель кивнул и с ватагой детворы, тотчас снова загалдевшей, двинулся дальше. Вскоре все они скрылись за горбом пригорка, круто заваливающегося вниз.
К., однако, был расстроен, разговор его раздосадовал. Впервые после приезда он вдруг почувствовал, что по-настоящему устал. Поначалу-то казалось, что дальняя дорога ничуть его не утомила, – шаг за шагом, спокойно и уверенно, шел он сквозь череду дней, – зато теперь последствия непомерного напряжения начали сказываться, и конечно, в самое неподходящее время. Его неудержимо влекло искать новых встреч и знакомств, но всякое новое знакомство усугубляло усталость. Так что если он в нынешнем своем состоянии сумеет заставить себя продлить прогулку хотя бы до ворот Замка, этого будет вполне достаточно.
И он снова двинулся вперед, но путь оказался неблизкий. Улица – та, по которой он шел, главная улица деревни – вела вовсе не к замковой горе, но лишь по направлению к ней, а потом, почти у подножия, вдруг, как нарочно, уклонялась в сторону и, вроде бы не удалялась от Замка, однако и не приближалась к нему. К. все ждал, когда дорога наконец повернет к Замку, собственно, только в ожидании этого поворота он шел и шел вперед, не решаясь – очевидно, вследствие усталости – сойти с дороги и дивясь про себя протяженности деревни, которая никак не кончалась: снова и снова тянулись по сторонам низенькие избенки, подернутые морозным узором окошки, снег, безлюдье, – пока наконец он не заставил себя сойти с дороги, чья накатанная колея держала его словно привязью, и его принял в свое русло узенький переулок, где снег, однако, оказался еще глубже и вытаскивать ноги из вязких сугробов было еще трудней, так что К. сразу прошиб пот, он вдруг встал и понял, что дальше идти просто не в силах.
Но ведь он не в чистом поле, вон, справа и слева крестьянские избы; он скатал снежок и запустил в окошко. Тотчас отворилась дверь – первая открывшаяся дверь за все время, что он шел по деревне, – и на пороге, склонив голову чуть набок, показался старик крестьянин в буром полушубке, немощный с виду, но приветливый лицом.
– Можно мне зайти ненадолго? – попросил К. – Я очень устал.
Он даже не расслышал, что отвечает старик, только с благодарным облегчением увидел у ног услужливо подсунутую доску, по которой и выбрался из сугроба; несколько шагов – и К. уже стоял в горнице.
Тут, однако, было хоть и просторно, но сумрачно. Поначалу, войдя со свету, ничего нельзя было разобрать. К. пошатнулся, наткнулся на корыто, женская рука мягко его поддержала и отвела в сторону. Где-то в углу галдели дети. В другом углу клубился пар, превращая полумрак в полную тьму, К. как будто очутился в облаках.
– Да он пьяный, – сказал кто-то.
– Кто вы такой? – почти выкрикнул чей-то властный голос, а потом, обращаясь, очевидно, к старику, тем же тоном спросил: – Зачем ты впустил его? Так и будем всякого с улицы впускать?
– Я графский землемер, – сообщил К., торопясь оправдаться, хоть и не видя, кто задает все эти вопросы.
– Ах, так это землемер, – проронил женский голос, и воцарилась тишина.
– Вы меня знаете? – спросил К.
– Да уж конечно, – бросил тот же голос.
Похоже, про К. и вправду знали, только это вовсе не говорило в его пользу.
Пар между тем слегка рассеялся, и К. огляделся. Видимо, сегодня тут был банный день. Неподалеку от двери стирали белье. Но пар валил из другого угла, где в деревянной лохани – таких огромных, чуть ли не с двуспальную кровать величиной, К. еще не видывал – смутно различимые в пелене пара, мылись двое мужиков. Но еще неожиданнее – хотя в чем тут, собственно, неожиданность, было не вполне ясно – оказался правый угол. Из оконного проема, единственного в торцевой стене, в горницу падал белесый, снежный свет, придавая мягкое шелковистое мерцание платью женщины, что глубоко в углу, в полном изнеможении, то ли сидела, то ли возлежала в высоком кресле. На груди у женщины покоился младенец. Вокруг нее тоже играли дети, причем сразу видно, крестьянские, тогда как сама она, казалось, совсем из другого теста, похоже, усталость и болезнь способны придавать утонченный вид даже крестьянской породе.
– Садитесь, – буркнул один из мужиков, бородатый, с обвислыми усами, под которыми чернела дырка постоянно открытого, тяжело отдувающегося рта, и выбросил руку над краем лохани, указав на сундук и теплыми каплями обрызгав при этом К. все лицо; было что-то нелепо жутковатое в этом его жесте, ибо рука двигалась будто сама по себе. На сундуке в дремотной задумчивости сидел старик, тот самый, что впустил К. Радуясь возможности наконец присесть, К. с благодарностью опустился на сундук. Все тут же о нем забыли. Женщина у корыта, белокурая, пышнотелая молодуха, тихо напевала за работой, мужики, тяжело ворочаясь, бултыхались и плюхались в лохани, дети норовили приблизиться к ним, но мощные всплески брызг, щедро обдававшие, кстати, и К., заставляли их отпрыгивать назад; женщина в кресле по-прежнему лежала как неживая, даже на младенца у себя на груди не смотрела, устремив остановившийся взгляд куда-то вверх.
К., должно быть, довольно долго созерцал эту прекрасную в своей скорбной неподвижности картину, но потом, судя по всему, задремал, ибо когда очнулся от чьего-то громкого окрика, оказалось, что голова его лежит на плече у старика. Мужики закончили мытье в лохани, где теперь под присмотром белокурой прачки радостно барахтались дети, и стояли перед К. одетые. Тут выяснилось, что бородач, пусть он и горластый, вовсе из них не главный. Главный был второй: хоть и ростом не выше и не с такой окладистой бородой, молчун и тугодум с виду, коренастый, крепко сбитый, и лицо, под стать фигуре, широкое, – он смотрел теперь на К исподлобья.
– Господин землемер, – вымолвил он, – негоже вам тут оставаться. Уж извините за неучтивость.
– Да не собираюсь я оставаться, – возразил К. – Просто хотел передохнуть немного. Теперь вот отдохнул и пойду.
– Вам, должно быть, в диковину такое обхождение, – продолжал коренастый. – Только гостеприимство у нас не в обычае, нам гости ни к чему.
Освеженный коротким сном, К. теперь яснее воспринимал окружающее и даже обрадовался откровенным словам мужика. Он теперь и двигался посвободнее, по-хозяйски потыкал палкой там и сям, подошел и к женщине в кресле; ему казалось, что он крупнее всех в этой комнате.
– И правда, – подхватил К., – к чему вам гости? Но иной гость может и пригодиться, например я, землемер.
– Чего не знаю, того не знаю, – протянул коренастый. – Коли вас позвали, значит, наверно, есть в вас нужда и тогда вы, должно быть, особый случай, но мы-то люди маленькие и живем по правилам, вы уж не обессудьте.
– Да нет, нет, – заверил К., – я, напротив, только благодарен, вам лично и всем тут.
И неожиданно для всех К., совершив чуть ли не антраша, резко перевернулся и оказался лицом к лицу с женщиной в кресле. Она смотрела на К. усталыми голубыми глазами, лоб наполовину прикрыт прозрачной шелковой косынкой, на груди спящий младенец.
– Кто ты? – спросил К.
С пренебрежением, которое неясно к кому относилось – то ли к К., то ли к собственным словам, – она бросила в ответ:
– Служанка из Замка.
Все это продолжалось лишь мгновение, ибо в ту же секунду оба мужика подхватили К. под локотки и, будто все средства словесного убеждения окончательно исчерпаны, молча, зато нахраписто и споро, потащили к дверям. Старик при этом, хлопая в ладоши, радовался, как младенец. Да и прачка, все еще при детях, которые вдруг заорали как оглашенные, тоже рассмеялась.
В итоге К. опять очутился на улице, хотя вокруг стало как будто посветлее; мужики с порога следили за ним. Видно устав ждать, бородач крикнул:
– Куда вам хоть надо? В Замок – это туда, в деревню – сюда.
Ему К. не ответил, зато второго, который, несмотря на свое главенство, показался ему пообходительнее, спросил:
– Кто вы такие? Кого мне благодарить?
– Я кожевник Хмелькер, – послышалось в ответ, – а благодарить никого не надо.
– Хорошо, – бросил К. – Может, еще встретимся.
– Вряд ли, – отозвался коренастый.
В ту же секунду бородатый вскинул руку и воскликнул:
– Здравствуй, Артур, здравствуй, Иеремия!
К. обернулся: оказывается, в этой деревне люди все-таки иногда выходят на улицу! Со стороны Замка к ним приближались двое парней среднего роста, оба очень стройные, в ладном облегающем платье, да и на лицо схожие, одинаково смуглые, почти коричневые, хотя их острые, клинышком, бородки даже на этом фоне выделялись своей иссиня-смоляной чернотой. Несмотря на заснеженную дорогу, шагали оба поразительно быстро, ладно, в такт выбрасывая стройные ноги.
– Куда вы? – крикнул бородатый.
Общаться с ними можно было только криком, до того быстро, не останавливаясь, они шли.
– По делам! – откликнулись оба со смехом.
– Это куда же?
– В трактир.
– Так и мне туда! – гаркнул вдруг К. во всю мочь, так ему захотелось, чтобы эти двое взяли его с собой; знакомство с ними вроде бы никаких выгод не сулило, однако попутчики они спорые и бодрые, уж это наверняка. Но те, хотя и услышали К., только кивнули – и были таковы.
К. все еще стоял в снегу, без малейшей охоты выдергивать ногу из сугроба, чтобы потом опускать ее снова в сугроб, только чуть дальше; кожевник с товарищем, довольные тем, что окончательно спровадили К., потихоньку, то и дело на него оглядываясь, протиснулись сквозь щель приоткрытой двери обратно в дом, и К. снова остался один на один с окутывающим его снежным безмолвием. «Казалось бы, ерунда, – мелькнуло у него в голове, – а ведь очутись я тут просто так, без всякого умысла, было бы отчего впасть в отчаяние».
Но тут в избушке по левую руку распахнулось крохотное оконце; закрытое, оно казалось темно-синим – быть может, это снег в нем так отражался – и было столь крохотным, что лицо смотревшего из него человека целиком в нем не умещалось, только старческие карие глаза.
– Да вон он стоит, – донесся до К. дребезжащий старушечий голос.
– Это землемер, – раздался в ответ голос мужчины.
А вскоре и сам он, сменив у оконца старуху, выглянул и – без особой враждебности, просто как хозяин, озабоченный тем, чтобы перед его домом на улице был порядок, – спросил:
– Вы кого ждете?
– Саней, чтобы меня подвезли.
– Тут саней не бывает, – заметил мужчина. – По этой дороге проезда нету.
– Но ведь это дорога к Замку, – возразил К.
– Тем не менее, тем не менее, – повторил мужчина с какой-то странной неумолимостью в голосе, – здесь проезда нету.
Какое-то время оба молчали. Но мужчина, судя по всему, о чем-то раздумывал, ибо окошко, из которого валил пар, не закрывал.
– Дорога сегодня скверная, – заметил К., лишь бы втянуть мужчину в разговор.
Тот в ответ только буркнул:
– Да уж конечно. – Но немного погодя вдруг добавил: – Если хотите, могу вас отвезти на своих санях.
– О, прошу вас, – оживился К., весьма обрадованный предложением. – Сколько это будет стоить?
– Нисколько, – бросил мужчина и, заметив удивление К., пояснил: – Вы ведь землемер, значит, от Замка. Куда вас везти?
– В Замок, – мгновенно ответил К.
– Нет, туда не повезу, – столь же быстро отрезал мужчина.
– Но ведь я от Замка, – сказал К., повторяя мужчине его собственные слова.
– Может быть, – произнес тот с прежней неуступчивостью в голосе.
– Тогда везите в трактир, – решил К.
– Ладно, – согласился мужчина. – Пойду за санями.
Весь вид его говорил о чем угодно, только не о любезности, – скорее об испуге и своекорыстном, твердолобом интересе немедленно и любой ценой спровадить К., лишь бы тот не торчал здесь, перед его домом.
Ворота во двор распахнулись, и из них выехали небольшие, для легкой поклажи, сани, запряженные хилой лошаденкой; за санями шел мужичок, с виду не старый, но весь какой-то немощный, сгорбленный, вдобавок хромой, с изможденным обветренным лицом насквозь простуженного человека, которое на фоне обмотанного вокруг шеи толстого шерстяного шарфа казалось совсем уж сморщенным и жалким. Мужичонка был явно болен, на улицу вышел только потому, что очень уж нужно увезти К. отсюда. К. попытался на что-то такое намекнуть, но мужичонка отмахнулся. К. лишь удалось узнать, что он возчик и звать его Хомутенкер, а сани эти неудобные он потому только взял, что наготове стояли, выводить большие много времени уйдет.
– Садитесь, – буркнул он, ткнув кнутом себе за спину в сторону саней.
– Я рядом с вами сяду, – предложил К.
– Да я пешком, – сказал Хомутенкер.
– Но почему? – изумился К.
– Нет уж, я пешком, – убежденно повторил Хомутенкер и тут же закатился в приступе такого кашля, что ноги его ушли в сугроб чуть ли не по колено, а руки поневоле уцепились за облучок. К. ничего больше говорить не стал, уселся в сани, выждал, пока мужичка перестанет бить кашель, и они тронулись в путь.
Замок там, наверху, в этот час загадочно сумрачный, тот самый Замок, куда К. чаял попасть еще сегодня, опять от него удалялся. Но словно в знак кратковременного, как хотелось думать, прощания, оттуда вдруг грянул удар колокола, до того светлый и вдохновенно радостный, что от этого звона – а была в нем еще и щемящая боль – в первый миг тревожно заколотилось сердце, словно свершение того, к чему К. смутно влекло, таит в себе угрозу. Но вскоре большой колокол умолк и сменился слабым однозвучным перезвоном колокольчика, то ли оттуда, с горы, то ли из деревни. И однотонный этот перезвон как-то лучше подходил и к неторопливому ходу саней, и к облику их жалкого, но неумолимого возницы.
– Послушай, – крикнул вдруг К. (они уже подъезжали к церкви, отсюда до трактира рукой подать, вот он и осмелел), – я вот удивляюсь, как ты на свой страх и риск решился меня отвезти? Разве тебе это дозволено?
Хомутенкер, словно и не слыша его, преспокойно вышагивал рядом с лошаденкой.
– Эй! – крикнул К. и, собрав с саней пригоршню снега, запустил в Хомутенкера снежком, угодив тому прямо в ухо.
Только теперь Хомутенкер остановился и обернулся; но когда К. узрел его вблизи – сани как раз успели подкатиться малость, – увидел эту согбенную, битую-перебитую жизнью и людьми фигуру, это сыромятное лицо, тощее, обветренное, изможденное, с разными щеками, одна плоская, другая запавшая, увидел разинутый в беспонятливом ожидании рот с редкими пеньками зубов, – когда он увидел все это, то повторил свой вопрос уже не со зла и не в сердцах, а просто из сострадания: мол, не накажут ли Хомутенкера за то, что тот взялся К. отвезти?
– Да что тебе надо-то? – бестолково спросил возница, но ответа дожидаться не стал, только прикрикнул на лошаденку, и они двинулись дальше.
Когда они – К. узнал поворот дороги – подъезжали к трактиру, вокруг, к немалому его изумлению, воцарилась полная тьма. Неужели он так долго отсутствовал? Да нет, час, от силы два, по его прикидкам. Но вышел-то он утром! И есть ему еще ни разу не захотелось! Ведь только что был белый день, а тут сразу такая темень!
– Короткие дни, совсем короткие, – бормотал он, слезая с саней и направляясь к трактиру.
Приятно было увидеть на крыльце трактирщика с высоко вскинутым фонарем: как-никак сам вышел встретить и ему посветить. Мельком вспомнив о вознице, К. остановился: где-то в темноте слышался кашель, да, это он. Ну да ничего, не в последний раз видятся. Лишь поднявшись на крыльцо и поравнявшись с хозяином, который подобострастно с ним поздоровался, К. вдруг заметил еще двоих – они замерли по обе стороны двери. Забрав у хозяина фонарь, он посветил на незнакомцев; оказалось, это те самые двое парней, которых он встретил в деревне и которых кликали Артуром и Иеремией. Сейчас оба дружно отдали ему честь. Припомнив славное, счастливое времечко своей военной службы, К. рассмеялся.
– Кто такие? – спросил он, переводя взгляд с одного на другого.
– Помощники твои, – прозвучало в ответ.
– Да, это помощники, – тихо подтвердил хозяин.
– То есть как? – изумился К. – Это вы-то – мои прежние помощники, те, за которыми я посылал, которых жду?
Они согласно кивнули.
– Это хорошо, – сказал К. после некоторого раздумья. – Хорошо, что пришли. Кстати, – продолжил он еще немного погодя, – вы сильно запоздали, почему такая нерадивость?
– Так путь был далекий, – ответил один из них.
– Путь далекий, – повторил К. – Но ведь это вас я встретил, когда вы из Замка шли?
– Да, – ответили оба без дальнейших пояснений.
– Где ваши приборы? – спросил К.
– У нас их нет, – отвечали помощники.
– Приборы, которые я вам доверил, где они? – не унимался К.
– У нас их нет, – повторили они.
– Ну что за народ! – сокрушенно заметил К. – А в землемерном деле хоть что-нибудь смыслите?
– Нет, – отвечали парни.
– Но если вы мои прежние помощники, значит, должны разбираться, – сказал К.
Они молчали.
– Ну ладно, пошли, – проронил К., проталкивая обоих перед собой в дверь.
Глава 2
Варнава
Потом, втроем за маленьким столиком, они молча сидели в трактире, потягивая пиво, К. посередке, справа и слева помощники. Еще один стол, как и в прошлый вечер, был занят крестьянами, других посетителей не было.
– Нелегко, однако, с вами, – сказал К., в который раз сравнивая лица помощников. – Как прикажете вас различать? У вас только имена разные, а в остальном вы похожи друг на друга, как, – тут он запнулся, потом почти против воли договорил, – как змеи.
Они улыбнулись.
– Вообще-то нас легко различают, – сказали они, словно оправдываясь.
– Охотно верю, – согласился К. – Я сам тому свидетель, но я-то на вас своими глазами смотрю, и для меня вы оба на одно лицо. Так что буду обращаться с вами как с одним человеком и кликать обоих Артуром, ведь так, кажется, кого-то из вас зовут, тебя, что ли? – спросил К., кивнув на одного из них.
– Нет, – отозвался тот. – Меня Иеремией зовут.
– Ну и ладно, какая разница, – бросил К. – Буду обоих Артурами звать. Как Артура куда-нибудь посылаю, значит, оба туда идете, работу какую-нибудь Артуру даю, значит, оба ее выполняете. Для меня, конечно, большое неудобство, что по отдельности на разных работах использовать вас не смогу, но есть и свои преимущества, потому как за все, что я вам поручу, вы несете ответственность сообща и нераздельно. А как вы между собой работу распределите, мне совершенно безразлично, только не вздумайте друг на дружку пенять, вы для меня один человек.
После некоторого раздумья они сказали:
– Однако это было бы нам весьма неприятно.
– Еще бы, – сказал К. – Разумеется, это и должно быть вам неприятно, но я так решил, и быть по сему.
К. давно приметил, что один из мужиков все время вертится возле их стола; сейчас, наконец решившись, он шмыгнул к одному из помощников, норовя что-то тому шепнуть.
– Я бы попросил, – резко сказал К., прихлопнув по столу ладонью и вставая, – это мои помощники, и у нас сейчас совещание. Никто не имеет права нам мешать.
– Извольте, извольте, – испуганно залепетал мужик и попятился к своему столу.
– И зарубите себе на носу, – сказал К., снова садясь на место, – без моего разрешения вы ни с кем разговаривать не смеете. Если я здесь чужак, а вы мои прежние помощники, то и вы здесь чужаки. А раз так, то мы, трое чужаков, должны держаться вместе. Понятно? Дайте мне руки!
Обе руки протянулись к нему с чрезмерной поспешностью.
– Да ладно лапы-то совать, – бросил К. – Но приказ есть приказ. Сейчас я спать пойду и вам советую. Сегодня у нас день для работы пропал, поэтому завтра приступим спозаранку. Завтра мне в Замок ехать, сани достанете, и чтобы в шесть утра оба у крыльца меня ждали, с санями!
– Хорошо, – сказал один.
Но второй тут же его одернул:
– Вот ты говоришь «хорошо», а прекрасно ведь знаешь, что это невозможно.
– Тихо! – сказал К. – Вы, похоже, вздумали один от другого отличаться.
Однако теперь и первый сказал:
– Он прав, это невозможно, посторонним в Замок без разрешения никак нельзя.
– Хорошо, где испрашивают разрешение?
– Не знаю, у кастеляна, наверно.
– Тогда запросим по телефону, вы оба сейчас же позвоните кастеляну.
Они кинулись к аппарату, вызвали нужный номер, – все это в страшной спешке, отталкивая друг друга и всем видом до смешного усердно стараясь изобразить послушание, – и спросили, можно ли К. завтра вместе с ними явиться в Замок. Брошенное в ответ «нет» прозвучало так резко, что донеслось даже до столика К., однако это было не все, полный ответ гласил: «Ни завтра, ни когда-либо впредь».
– Я позвоню сам, – заявил К., вставая.
Прежде, если не считать размолвки с назойливым мужичком, ни сам К., ни его помощники внимания к себе почти не привлекали, но эти его слова вызвали всеобщий переполох. Вслед за К. все повскакали с мест и беспокойной гурьбой сгрудились около телефона вокруг К., несмотря на отчаянные попытки трактирщика сдержать напор ротозеев. Мнение большинства сводилось к тому, что К. вообще никакого ответа не удостоится. К. пришлось даже прикрикнуть на них: дескать, их мнения никто и не спрашивает.
Из слухового рожка донеслось странное гудение, какого К. по телефону никогда прежде не слыхивал. Казалось, это слитное гудение бесчисленного множества детских голосов – впрочем, даже не гудение, а пение, только очень отдаленное, – как если бы из этого гудения непостижимым образом образовался один высокий, но сильный голос, бьющий прямо в барабанную перепонку, буравящий ее, словно он не только презренного слуха стремится достигнуть, а норовит проникнуть гораздо глубже. Даже не пытаясь звонить, К. вслушивался в диковинный этот звук: левой рукой оперся на подвесной корпус телефонного аппарата, да так и замер.
Неизвестно, сколько это продолжалось и сколько бы длилось еще, если бы хозяин не дернул его за рукав: к нему, мол, посыльный.
– Да уйди ты! – в сердцах крикнул К., судя по всему, прямо в переговорный рожок, потому что в слуховой ему тотчас же ответили. Разговор получился вот какого свойства…
– Освальд слушает, кто говорит? – спросил строгий, неприязненный и заносчивый голос, в котором К. почудился некий речевой изъян, а еще показалось, будто именно этот изъян голос и пытается перекрыть избытком строгости.
К. не решался назваться, ведь перед телефоном он совершенно бессилен: одна оплошность – и на том конце провода на него могут наорать, бросить трубку, а значит, один из важных путей мгновенно будет отрезан. Однако и молчание К. вызвало нетерпеливое раздражение.
– Кто говорит? – повторил голос и тотчас же добавил: – Было бы совсем неплохо, если бы с вашего номера пореже сюда звонили, ведь только что уже был звонок.
И тут К., посчитав возможным на это замечание вовсе не отвечать, в порыве внезапной решимости вдруг отозвался:
– Говорит помощник господина землемера.
– Какой помощник? Какого господина? Какого землемера?
Но К., припомнив вчерашний разговор, мигом нашелся и коротко бросил:
– Спросите у Фрица.
К немалому его изумлению, уловка сработала. Но еще больше, чем эта удача, его изумила слаженность работы тамошних служб. В ответ прозвучало:
– Ах да, знаю. Вечно этот пресловутый землемер. Так-так. Дальше что? Какой помощник?
– Йозеф, – доложил К.
Ему немного мешал ропот крестьян за спиной, видно, тем не по нраву пришлось, что он не своим именем назвался. Но сейчас ему было не до них, слишком уж занимал его телефонный разговор.
– Йозеф? – переспросил голос. – Помощников зовут… – тут возникла пауза, очевидно, голос у кого-то сверялся, – Артур и Иеремия.
– Так то новые помощники, – возразил К.
– Нет, прежние.
– Новые, это я прежний, нынче в распоряжение господина землемера прибыл.
– Нет! – гаркнули на том конце провода.
– Кто же тогда я? – спросил К., сохраняя прежнюю невозмутимость.
Опять повисла пауза, и тот же голос, с тем же речевым изъяном, только тоном пониже и вроде бы уважительнее, вдруг протянул:
– Ты – прежний помощник.
Вслушиваясь в этот переменившийся голос, К. едва не проворонил следующий вопрос:
– Так чего тебе надо?
В эту секунду К. охотнее всего просто положил бы трубку на рычаг. От этого разговора больше ждать нечего. И все же напоследок и скороговоркой, почти против воли он спросил:
– А когда моему хозяину можно прийти в Замок?
– Никогда, – раздалось в ответ.
– Хорошо, – сказал К. и повесил трубку.
Между тем крестьяне за спиной обступили его почти вплотную. Помощники, то и дело на него оглядываясь, якобы изо всех сил пытались их оттеснить. Похоже, однако, они только ломали комедию, хотя крестьяне, явно удовлетворенные итогами телефонных переговоров, помаленьку им поддавались. Но тут их толпу с тылу решительным шагом рассек человек, который, подойдя к К., с поклоном вручил ему письмо. К. принял письмо, а сам не спускал глаз с человека, ибо тот почему-то казался ему сейчас важнее. Было большое сходство между ним и помощниками: такой же стройный, одет в такое же ладное платье, такой же ловкий и спорый, как они, а все-таки совсем другой. Вот бы такого молодца ему в помощники! Чем-то он напомнил К. женщину с грудным младенцем, виденную в доме кожевника. Одет он был почти во все белое, и платье это, хотя и не из шелка, а зимнее, как и у всех прочих, вид имело нарядный и праздничный, будто шелковое. Светлое, открытое лицо, огромные распахнутые глаза. И удивительная, бодрящая улыбка; сейчас он даже рукой по лицу провел, как бы норовя эту улыбку стереть, но ему это не удалось.
– Ты кто такой? – спросил К.
– Варнавой меня зовут, – отвечал тот. – Я посыльный.
Губы его, когда он говорил, раскрывались и смыкались мужественно, но вместе с тем и нежно.
– Нравится тебе тут? – спросил К., обводя рукой по-прежнему не терявших к нему интереса мужиков, которые, все как на подбор, с перекошенными, иначе и не скажешь, образинами, – словно каждому размеренными ударами долго сплющивали черепушку, и мука этого сплющивания изуродовала лица пожизненно, – стояли вокруг, раззявив рты, раскатав толстые, слюнявые губы, и то ли глазели на него, то ли нет, потому что тупой, смутный их взгляд беспрестанно блуждал, убегая в сторону и подолгу задерживаясь на предметах вовсе уж никчемных, – а потом К. ткнул в помощников, что, стоя в обнимку, щека к щеке, одинаково лыбились, и неясно было, чего больше в их улыбке, подобострастия или издевки, – К. указал на всех них, словно представляя свою, волею обстоятельств навязанную ему свиту и ожидая – в этом и была доверительность жеста, а именно доверительности К. и добивался, – чтобы Варнава осознал различие между ним и всем этим сбродом. Но Варнава – в святой простоте, это ясно было видно – истинного смысла вопроса не понял, восприняв его, как благовоспитанный слуга воспринимает слово хозяина, даже когда слово это вроде и не к нему лично обращено, обвел, подчиняясь вопросу, глазами всех присутствующих, увидев среди мужиков знакомых, кому-то помахал рукой, перемолвился с помощниками, и все это непринужденно, с достоинством, явно не ставя себя с прочими на одну доску. К., без умысла отринутый, хотя и не посрамленный, поневоле обратился к письму у себя в руке и вскрыл его. Письмо гласило нижеследующее:
«Многоуважаемый сударь! Как вам известно, вы приняты на господскую службу. Непосредственным вашим начальством отныне является староста деревни, который и сообщит вам дальнейшее относительно вашей работы и условий оплаты и которому вы впредь подотчетны. Тем не менее и сам я не намерен упускать вас из виду. Варнава, предъявитель сего послания, время от времени будет осведомляться у вас относительно ваших пожеланий, дабы уведомлять об оных меня. В моем лице вы всегда встретите желание и готовность по мере возможности идти вам навстречу. Мы заинтересованы в том, чтобы работники наши были всем довольны». Подпись от руки была неразборчивая, но под ней было допечатано: «Начальник X канцелярии».
– Жди! – приказал К. послушно поклонившемуся Варнаве, потом кликнул трактирщика и велел показать отведенную ему комнату, он, дескать, желает побыть с письмом наедине. Тут он вспомнил, что Варнава, при всем расположении, которое в нем этот человек вызывает, всего лишь посыльный, и распорядился подать тому пива. Он проследил, как Варнава отнесется к угощению; тот принял пиво с удовольствием и отхлебнул сразу. Затем К. направился вслед за хозяином. В утлом трактире для К. смогли выделить лишь маленькую каморку под крышей, да и то с превеликим трудом, ибо пришлось куда-то переселять двух служанок, что ночевали здесь прежде. Собственно, ничего, кроме выдворения служанок, и не было сделано: сама комнатенка осталась, судя по всему, в прежнем виде, на единственной кровати никакого белья, лишь пара подушек да попона, смятые еще с прошлой ночи, на стене несколько образков святых да фотографии солдат, даже проветрить и то не удосужились, очевидно, в надежде, что новый постоялец надолго не задержится, а удерживать его обходительным услужением и вовсе незачем. К., однако, и это устраивало, он укутался в попону, присел к столу и при свете свечи принялся читать письмо еще раз.
В бумаге этой не было слитного единства, в иных местах к нему адресовались как к свободному человеку, признавая за ним право на собственную волю, – таково было обращение, а также место, где речь шла о его пожеланиях. Но, с другой стороны, были в письме и пассажи, когда с ним завуалированно, а то и неприкрыто, обходились как с букашкой, которую с начальственных высот и не разглядеть почти: начальнику канцелярии явно приходилось напрягаться, чтобы «не упустить его из виду», в непосредственные руководители ему отрядили деревенского старосту, которому он к тому же «подотчетен», а равным ему по должности сослуживцем оставался, пожалуй, лишь деревенский полицейский. Это все были несомненные несуразности и неувязки, притом настолько очевидные, что допустить их можно только с умыслом. Совершенно сумасбродная по отношению к таким властям мысль, что тут, быть может, имела место нерешительность, навестила К. лишь мельком. Скорее он усмотрел в бумаге некий открыто предложенный выбор: ему самому предоставлялось решать, как истолковать распоряжения письма, стать ли рядовым работником в деревне, хотя и отмеченным связью с Замком, но связью лишь по видимости, либо, напротив, лишь по видимости быть рядовым работником, определяя свои служебные полномочия и обязанности в соответствии с вестями, получаемыми через Варнаву. К. ни секунды не колебался в выборе: даже отбросив весь свой жизненный опыт, он бы все равно не колебался. Только рядовым работником деревни, как можно дальше от господского пригляда, он в силах чего-то от Замка добиться, а все эти люди, жители деревни, пока столь к нему недоверчивые, мало-помалу разговорятся, когда увидят в нем если не друга, то хотя бы односельчанина, когда он перестанет отличаться в их глазах, допустим, от Хомутенкера или Хмелькера, – и произойти это должно как можно скорей, от этого все зависит, – а уж тогда ему разом откроются все пути, которые, положись он лишь на господ сверху и их милости, оставались бы для него не только заказаны, но и незримы. Есть тут, правда, одна опасность, и в письме она подчеркнута более чем явно, даже с каким-то злорадством, словно от нее ему никуда не уйти. Это – само его положение работника. «Служба», «начальство», «работа», «условия оплаты», «подотчетность», «работники» – бумага подобными словами буквально кишела, и даже когда в ней имелось в виду нечто иное, более личное, непосредственно его касающееся, оно все равно имелось в виду с казенной, безличной точки зрения. Хочет К. стать работником – он может стать работником, но уж тогда за страх и за совесть, без всяких шуток и без каких-либо иных видов на будущее. К знал: страшна не угроза действительного принуждения, ее он не боится вообще, а здесь не боится и подавно, но вот угроза унылой, удручающей жизни, угроза вошедших в привычку разочарований, угроза каждого неприметно растрачивающего тебя мгновения – эта угроза, безусловно, страшила его, и с этой опасностью ему предстоит вступить в схватку. Письмо ведь не обходило молчанием, что если дело дойдет до схватки, то именно К. имел дерзость ее затеять, сказано это было не без подвоха и так, чтобы только человек с неспокойной совестью – именно с неспокойной, а не с нечистой – мог это заметить, тут все таилось в трех словцах «как вам известно», касающихся его приема на службу. К. сам вызвался, и с тех пор, как уведомляло письмо, ему известно, что он принят.
К. снял со стены какую-то картинку и вместо нее повесил на гвоздик письмо: в этой комнатенке ему предстоит жить, значит, и письму тут висеть.
Потом он спустился обратно в залу, где Варнава уже сидел за одним столом с помощниками.
– Вот ты где, – сказал К. без видимого повода, просто так, потому что рад был снова увидеть Варнаву. Тот сразу вскочил. Но и все мужики, едва К. вошел, тоже, как по команде, поднялись, норовя подступить поближе, видно, у них в привычку входило чуть ли не бегать за ним по пятам.
– Да что вам всем от меня надо? – прикрикнул на них К.
Ничуть не обидевшись на резкость, они медленно разбрелись по своим местам. А один, отходя, с невнятной ухмылкой, которая и на другие лица тут же перекочевала, пояснил:
– Так ведь охота же чего-нибудь новенькое услышать… – И даже облизнулся, словно «новенькое» для него лакомство.
К. мог бы бросить в ответ что-нибудь примирительное, однако не стал, пусть побаиваются и уважают, это хорошо, но едва он присел возле Варнавы, как тотчас почувствовал затылком чье-то дыхание, это опять был один из мужиков, которому, как он пояснил, якобы понадобилась солонка. К. от ярости даже ногами затопал, и мужик, забыв про солонку, очертя голову кинулся прочь. Видно, с ним, пришлым чужаком, и вправду нетрудно справиться: достаточно напустить на него всех этих мужиков, – назойливое любопытство одних казалось даже худшим злом, чем угрюмая замкнутость других, хотя и за назойливостью любопытных таилась все та же замкнутость: вздумай К. подсесть к их столу, они немедля встанут и разойдутся. Только присутствие Варнавы удерживало К. от того, чтобы на них наорать. Тем не менее он с угрожающим видом обернулся – оказалось, все они тоже на него смотрят. Но когда он оглядел их всех, сидящих вот так, каждый наособицу, не переговариваясь, без видимой общности и связи друг с другом, объединенных лишь тем, что все они, как один, на него глазеют, ему почудилось, что вовсе не злоба заставляет их следить и следовать за ним столь неотвязно, что они, быть может, и вправду чего-то от него ждут, только сказать не умеют, а если и не ждут, то все равно это не злоба, а только ребячливость – ребячливость, которая, похоже, у всех тут в повадке, вон и трактирщик, разве не ребячлив он сейчас, когда, замерев на месте и испуганно обхватив ладонями кружку пива, которую нес кому-то из гостей, во все глаза смотрит на К. и даже прослушал сердитый окрик своей сварливой супруги, что высунулась из раздаточного окошка кухни.
Чуть успокоившись, К. повернулся к Варнаве, помощников он сейчас охотнее всего отослал бы прочь, да как-то не находилось предлога.
– Письмо, – начал К., – я прочел. Ты знаешь, о чем оно?
– Нет, – ответил Варнава. Но глаза его, казалось, говорят больше, чем слова. Может, К. и тут только мерещится доброе, как мерещится в мужиках злое, но благотворность присутствия Варнавы была явной, он ее чувствовал.
– В письме и о тебе тоже речь, тебе предстоит теперь быть вестовым между мною и начальством, вот я и подумал, может, тебе известно, о чем письмо.
– Мне, – отвечал Варнава, – только велено вручить письмо, дождаться, пока ты его прочтешь, и доставить ответ, письменный или устный, если ты сочтешь нужным ответить.
– Хорошо, – сказал К. – Писать ничего не понадобится, передай господину начальнику… как, кстати, его фамилия? Я подпись не разобрал.
– Дупль, – отозвался Варнава.
– Так вот, передай господину Дуплю мою благодарность за прием и оказанную мне особую любезность, которую я, человек здесь новый и ничем пока себя не проявивший, весьма ценю. Я всецело в его распоряжении. Никаких особых пожеланий у меня на сегодняшний день нет.
Варнава, выслушав ответ с предельным вниманием, попросил у К. разрешения его повторить, К. разрешил, и Варнава повторил все слово в слово. После чего встал, намереваясь распрощаться.
К., и прежде испытующе вглядывавшийся в это лицо, теперь всмотрелся в него напоследок. Варнава был примерно того же, что и К., роста, однако взгляд его, казалось, смотрит чуть свысока, хотя и без всякой заносчивости – невозможно, к примеру, представить, чтобы этот человек вздумал кого-то одернуть. Конечно, он всего лишь посыльный, не знает даже содержания писем, которые доставляет, однако его взгляд, его улыбка, его поступь, казалось, тоже несут в себе некую весть, пусть сам он о ней не ведает. И К. протянул Варнаве руку, что явно того обескуражило – он-то хотел всего лишь поклониться.
Едва он ушел – перед тем как отворить дверь, он, уже навалившись на нее плечом, замер на секунду и взглядом, который ни к кому по отдельности вроде бы не относился, обвел напоследок всю залу, – К. сказал помощникам:
– Пойду возьму из комнаты свои записи, обсудим ближайшие дела.
Оба вскочили, намереваясь пойти за ним.
– Останетесь здесь! – приказал К.
Они тем не менее все еще порывались идти. К. пришлось повторить приказ еще резче. В прихожей Варнавы не было. Но он ведь только что вышел! Однако и перед домом – опять повалил снег – К. посыльного не увидел.
– Варнава! – крикнул он.
Никакого ответа. Может, он в трактире? Пожалуй, больше ему негде быть. Тем не менее К. еще раз что есть мочи выкрикнул его имя, громовым раскатом прокатившееся в ночи. И вдруг откуда-то издали донесся слабый отклик – вон, оказывается, сколько он уже отмахал. К. кликнул еще раз и сам пошел на голос Варнавы; когда они встретились, трактира позади не было видно.
– Варнава, – сказал К., не в силах унять дрожь в голосе, – я хотел еще кое-что тебе сказать. Я подумал, нескладно получится, если в своих сношениях с Замком я буду зависеть только от твоих приходов, а ты будешь являться, когда тебе вздумается. Если бы сейчас я чудом тебя не вернул – ты не ходишь, а летаешь прямо, я думал, ты еще в трактире, – кто знает, сколько бы мне пришлось потом тебя дожидаться.
– Но ты ведь можешь, – отвечал Варнава, – попросить начальника, чтобы я приходил в определенное время, какое ты установишь.
– Этого тоже недостаточно, – возразил К. – Мне, может, целый год ничего не понадобится, а потом, только ты уйдешь, как раз неотложная оказия и возникнет.
– Значит, мне доложить начальнику, чтобы с тобой другую связь установили, не через меня?
– Да нет же, – перебил его К., – совсем нет, это я так, к слову, сейчас-то я, по счастью, успел тебя вернуть.
– Может, вернемся в трактир, – предложил Варнава, – и ты дашь мне там новое поручение? – И двинулся было в сторону трактира.
– Да нет, Варнава, – сказал К., – в этом нет нужды, лучше я пройдусь с тобой немного.
– Но почему ты не хочешь вернуться в трактир? – удивился Варнава.
– Эти люди там, они мне мешают, – признался К. – Мужики эти назойливые, ты сам видел.
– Так в комнату к тебе можно пройти, – предложил Варнава.
– Это не комната, а каморка для прислуги, – отмахнулся К., – грязная, затхлая; я потому и захотел с тобой пройтись, чтобы там не сидеть, только вот, – добавил он, окончательно преодолевая нерешительность, – позволь мне за тебя ухватиться, вон как ты лихо вышагиваешь…
И К. ухватил Варнаву под руку. Кругом чернела тьма, лица Варнавы К. не видел, даже силуэт различал смутно, а руку он еще раньше пытался нащупать, да не вышло.
Варнава подчинился его желанию, и они шли теперь прочь от трактира. Однако К. чувствовал, что, несмотря на все старания, идти с Варнавой в ногу он не в силах и поневоле висит на нем обузой; выходит, даже в самых обычных обстоятельствах из-за такого, казалось бы, пустяка все может рухнуть, тем более на здешних дорогах, где К. давеча утонул в сугробах и где Варнаве, чего доброго, пришлось бы попросту выносить его на руках. Впрочем, сейчас К. гнал от себя подобные мысли, да и молчание Варнавы утешало его; раз они идут молча, значит, и Варнава согласен: само их продвижение вперед – и то имеет какой-то смысл и может считаться общим делом.
Так они и шли, правда, К. понятия не имел куда, он ничего вокруг не узнавал, даже не разглядел, миновали они уже церковь или нет. Из-за того, что столько сил приходилось тратить на обычную ходьбу, он никак не мог сосредоточиться. Мысли путались и сбивались, не в силах задержаться на одной задаче. Почему-то вспоминались родные места, и воспоминания эти переполняли К., не давая успокоиться. Там, на родине, на главной площади тоже стояла церковь со старинным погостом за высокой стеной. Из мальчишек лишь очень немногим удавалось вскарабкаться на эту ограду, вот и К. еще ни разу не взбирался. Влекло их туда не любопытство, никаких таких тайн на погосте не было, сквозь маленькую решетчатую калитку они частенько туда захаживали, и только высокая гладкая стена манила их своей неприступностью. И однажды утром – тихая, пустынная площадь была залита солнцем, ни прежде, ни потом К., пожалуй, никогда больше ее такой не видел, – ему неожиданно легко все удалось; в том месте, где стена уже не раз его сбрасывала, он с маленьким флажком в зубах взлетел на нее с первого же приступа. Еще шуршала внизу потревоженная разбегом галька – а он уже был наверху. Он укрепил флажок, ветер расправил и натянул материю, он глянул вниз, по сторонам и через плечо назад, на тяжело ушедшие в землю кресты – не было в это мгновение никого вокруг сильнее и выше, чем он! Мимо, как назло, проходил учитель, чей сердитый взгляд мигом согнал К. со стены; соскакивая, он расшиб колено, едва доковылял до дому, но на стене он все-таки побывал, и тогда казалось, что восторг этой победы послужит опорой во всей его будущей долгой жизни, – и, наверно, не такой уж это вздор, раз теперь, столько лет спустя, в заснеженной ночи, это чувство вместе с рукой Варнавы служит ему опорой.
Он уцепился еще сильней, чуть ли не повис на руке Варнавы, который его уже почти тащил, но молчание между ними не прерывалось; судя по плотному накату под ногами, они все еще шли по проезжей дороге и ни в какие переулки пока не сворачивали. К. строго-настрого наказал себе на сей раз не сдаваться, во что бы то ни стало идти вперед, отбросив мысли о трудностях пути и тем паче о тяготах возвращения, – только вперед, пусть его хоть волоком тащат, уж на это-то у него достанет сил. Да и возможно ли, чтобы у дороги не было конца? Сейчас, при свете дня, Замок вырисовывался впереди легкодостижимой целью, и посыльный наверняка знает кратчайший до нее путь.
Тут Варнава вдруг остановился. Где они? Неужто дальше не пойдут? Или Варнава вздумал с ним распрощаться? Ну уж нет, этому не бывать. И К. так вцепился Варнаве в руку, что самому больно стало. Или и вправду случилось невероятное и они уже в самом Замке или у замковых ворот? Но, сколько помнил К., в гору они вовсе не поднимались. Или Варнава провел его какой-то пологой дорогой, где подъем незаметен?
– Где мы? – тихо спросил К. скорее самого себя, чем Варнаву.
– Дома, – так же тихо отвечал тот.
– Дома?
– Только смотри не поскользнись, сударь, тут под уклон.
«Под уклон»?
– Тут всего два шага, – добавил Варнава, уже стуча в дверь.
Им отворила девушка, они стояли на пороге большой избы почти в полной тьме, только где-то слева, над столом, мерцала крохотная керосиновая лампа.
– Кто это с тобой, Варнава? – спросила девушка.
– Землемер, – отозвался тот.
– Землемер, – обернувшись к столу, громче повторила девушка.
При этих словах из-за стола поднялись люди: старик со старухой и еще одна девушка. Они поздоровались с К. Варнава всех ему представил – это были его родители и две сестры, Ольга и Амалия. У К. едва хватило сил поднять на них глаза, однако с него уже снимали промокшее пальто, чтобы высушить у печки, и он не пытался противиться.
Так значит, не оба они дома, дома только Варнава. Зачем они пришли сюда? Отведя Варнаву в сторонку, К. спросил:
– Зачем ты привел меня к себе домой? Или вы живете в пределах Замка?
– В пределах Замка? – повторил Варнава, явно не понимая, о чем речь.
– Варнава! – не унимался К. – Ты ведь собирался из трактира в Замок идти.
– Да нет, сударь, – возразил тот. – Я домой собирался, а в Замок мне только завтра утром идти, я там никогда не ночую.
– Так, – протянул К., – ты, значит, не в Замок шел, а сюда? – Улыбка Варнавы показалась ему вдруг жалкой, да и сам посыльный в его глазах как будто сразу помельчал. – Почему же ты мне раньше не сказал?
– Так ты, сударь, не спрашивал, – отвечал Варнава. – Ты вроде еще одно поручение собирался мне дать, но ни в трактире, ни в своей комнате говорить не хотел, вот я и подумал, что тут, у родителей моих, ты без помех мне все и накажешь, ты только распорядись, они сразу же выйдут, да и переночевать можешь, если тебе у нас больше понравится. Или я что не так сделал?
К. не смог ему ответить. Выходит, это недоразумение, самое обычное, гнусное житейское недоразумение, а К. так доверился – и так обманулся? Позволил ослепить себя шелковистым блеском ладно пригнанной куртки, которую Варнава как раз расстегивал и из-под которой лезла на свет грубая, грязно-серая, латаная-перелатаная рубаха, что прикрывала его костлявую, но могучую батрацкую грудь. И все вокруг было этой рубахе под стать, если не хуже: дряхлый, скрюченный подагрой отец, который, казалось, передвигается скорее с помощью шарящих в воздухе рук, нежели шаркающих по полу ног, мать с вечно сложенными на груди руками, тоже еле-еле, крошечными шажками таскающая свое непомерно тучное тело; оба они, и мать и отец, едва только К. вошел в дом, из своего угла тронулись навстречу гостю, но путь этот обещал быть еще очень долгим. Сестры, обе белокурые, похожие друг на дружку и на Варнаву, только лицами погрубее его, рослые крепкие девахи, обступили вошедших и ждали от К. хоть приветливого словца, а он ничего вымолвить не мог, он думал: здесь, в деревне, любой житель для него важен, да, наверно, так оно и есть, вот только людишки эти почему-то нисколько его не интересуют. Будь он в состоянии осилить дорогу до трактира в одиночку, он не раздумывая ушел бы сию же секунду. Возможность завтра спозаранку отправиться в Замок вместе с Варнавой теперь нисколько его не прельщала. Он хотел проникнуть в Замок сегодня же, среди ночи, никем не замеченный, да, ведомый Варнавой, но тем Варнавой, каким тот ему виделся прежде, – самым близким человеком из всех, кого он здесь пока повстречал, однако еще и человеком, гораздо теснее связанным с Замком, чем положено ему по его внешне скромной должности. А с теперешним Варнавой, отпрыском этакой семейки, с которой он сросся давно и накрепко, вон, уже за общим столом сидит, с человеком, которому, что весьма примечательно, даже ночевать в Замке не дозволено, – рука об руку с таким человеком являться в Замок белым днем совершенно исключено, это дурацкая, смешная в своей безнадежности затея.
К. присел на скамью у окна, твердо решив провести так всю ночь и больше никаких услуг от семейства Варнавы не принимать. Другие жители деревни, те, что гнали его или пугливо чурались, сейчас казались ему не такими опасными, ведь они просто предоставляли его самому себе, тем самым помогая ему собраться с силами, зато мнимые горе-помощники, что маскарадными уловками вместо Замка заманивают его к себе в дом, – вот они волей-неволей сбивают его с толку и, значит, понапрасну подтачивают его силы. Радушное приглашение откушать с хозяевами за одним столом К. попросту пропустил мимо ушей и, понуря голову, остался сидеть на скамейке.
Тогда Ольга, та из сестер, что обличьем попригожей, сама, хотя и не без девичьей застенчивости, подошла к К. и попросила его к столу, хлеб с салом уже нарезаны, за пивом она сейчас сходит.
– Куда? – спросил К.
– В трактир, – ответила она.
К. только того и нужно было, он попросил Ольгу никакого пива не покупать, а вместо этого проводить его обратно до трактира, у него там, дескать, важные дела. Однако выяснилось, что Ольга собралась не в его, далекий, трактир «У моста», а в тот, что поближе, в «Господское подворье». К. все равно попросил разрешения ее проводить, быть может, так он подумал, ему удастся найти ночлег там; каким бы этот ночлег ни оказался, К. заранее предпочитал его самой просторной кровати в этой хибаре. Ольга ответила не сразу, сперва оглянулась в сторону стола. Тогда ее брат поднялся, с готовностью кивнул и сказал:
– Ежели сударю так угодно…
Согласие это едва не подвигло К. взять свою просьбу назад, ибо ничего путного от Варнавы ждать не приходилось. Но затем, когда все принялись обсуждать, пустят ли К. вообще в трактир, и дружно в этом усомнились, К. с тем большим упорством стал на своей просьбе настаивать, даже не утруждаясь сколько-нибудь вразумительным ее объяснением; пусть это семейство принимает его таким, как есть, перед ними он совершенно не испытывал неловкости. Слегка смущала его разве что Амалия, не спускавшая с него тяжелого, упорного и, казалось, чуть туповатого взгляда.
По пути в трактир – дорога была недолгой, но К. снова уцепился, теперь за Ольгу, он ничего с собой поделать не мог, и та тащила его за собой почти так же, как недавно брат, – он узнал, что трактир этот вообще-то только для господ из Замка, которые, когда бывают по делам в деревне, там едят, а иногда и ночуют. Ольга говорила с К. тихо и доверительно, ему было приятно идти с ней, почти так же приятно, как с братом, и хотя К. пытался это благодатное ощущение от себя гнать, оно все равно не проходило.
Внешне трактир оказался очень похож на тот, где остановился К., видимо, в деревне вообще больших внешних различий ни в чем не было, тем заметнее они бросались в глаза в мелочах: здесь, к примеру, крыльцо было с перилами, его освещал красивый фонарь над дверью, а когда они вошли, над их головами колыхнулось полотнище, оказалось, это знамя с графским гербом. В прихожей они тотчас наткнулись на хозяина, должно быть совершавшего дежурный обход заведения; мимоходом стрельнув в К. сквозь прищур своих то ли пристальных, то ли сонных глазок, хозяин предупредил:
– Господину землемеру вход только до буфетной.
– Конечно, – откликнулась Ольга, незамедлительно беря К. под защиту, – он со мной, просто провожал.
Однако К. вместо благодарности решительно отстранился от Ольги и отвел трактирщика в сторонку; Ольга послушно осталась ждать у дверей.
– Я хотел бы тут переночевать, – заявил К.
– К сожалению, это невозможно, – отрезал хозяин. – Вы, похоже, не осведомлены: это заведение только для господ из Замка.
– Так то, наверно, просто предписание такое, – заметил К. – Однако дать мне прикорнуть где-нибудь в уголке, полагаю, возможность все-таки найдется.
– Был бы чрезвычайно рад пойти вам навстречу, – отозвался трактирщик, – но, даже невзирая на строгость предписания, о котором вы судите всего лишь как приезжий, желание ваше потому еще неисполнимо, что господа в подобных вопросах донельзя щепетильны, и я убежден, они совершенно не способны – по крайней мере без предупреждения – выносить один только вид постороннего лица; если я пущу вас переночевать и вас по какой-нибудь случайности – а случайность ведь всегда на стороне господ – обнаружат, пропаду не только я, но и вы. Звучит, быть может, и смешно, но поверьте, это чистая правда.
Этот высокий, безупречно застегнутый на все пуговицы господин, что, одной рукой опершись о стену, другую положив на пояс, скрестив ноги и чуть склонившись к К., доверительно и даже дружелюбно с ним беседовал, казалось, почти никакого отношения к деревне не имеет, разве что его темный костюм слегка походил на праздничный наряд крестьянина.
– Охотно и вполне вам верю, – сказал К., – да и значение предписания я вовсе не склонен недооценивать, хоть и выразился неловко. Я только на одно хочу обратить ваше внимание: у меня в Замке влиятельные связи, и еще более влиятельными я обзаведусь, они защитят вас от любой угрозы, какой чревата для вас моя ночевка, и послужат порукой моей щедрой благодарности в будущем даже за столь пустяковое одолжение.
– Это я знаю, – вымолвил трактирщик и задумчиво повторил: – Это я все знаю.
Видимо, именно сейчас К. следовало проявить побольше настойчивости, но как раз такой ответ хозяина его огорчил, и он спросил только:
– А что, много господ из Замка у вас сегодня ночуют?
– В этом отношении сегодня, можно сказать, день благоприятный, – ответил хозяин тоном уже почти зазывным. – Один постоялец всего остается.
Однако К., почти уверившись, что ему не откажут, на просьбе настаивать не решился и только осведомился о фамилии гостя.
– Дупль, – бросил трактирщик как бы между прочим и тотчас обернулся к жене, которая плыла к ним, шурша своим донельзя странным, поношенным, явно старомодным, в бесчисленных рюшах и складочках, но когда-то, несомненно, изысканным городским платьем. Она пришла позвать мужа: господин начальник изволил чего-то пожелать. Трактирщик, прежде чем уйти, напоследок обернулся, словно в отношении ночевки решающее слово теперь уже за самим К. Однако тот, вконец обескураженный тем, что в трактире оказался именно его непосредственный начальник, так ничего вымолвить и не смог; даже сам себе не умея это объяснить, он в отношении Дупля не ощущал в себе той свободы, какую чувствовал по отношению к Замку в целом, то есть вообще-то быть застигнутым здесь Дуплем он не боялся, по крайней мере в том смысле, в каком страшился этого трактирщик, и все же, случись такое, он испытал бы ужасную неловкость, как если бы кому-то, кому он обязан благодарностью, он вместо этого ненароком, по недомыслию, причинил боль; вдобавок он с тяжелым сердцем отметил, что в самих его колебаниях, очевидно, уже сказываются последствия – не зря он так опасался – его подчиненности, его удела наемного работника, и даже сейчас, когда последствия эти проявляются столь бесхитростно, он не в состоянии с ними совладать. Так он и стоял, кусая губы, не в силах произнести ни слова. Трактирщик, прежде чем окончательно скрыться в дверях, еще раз оглянулся на К., но тот только смотрел ему вслед, не сходя с места, покуда подошедшая Ольга не потянула его за рукав.
– Что тебе надо было от трактирщика? – спросила она.
– Хотел тут переночевать, – ответил К.
– Так ты ведь у нас ночуешь, – удивилась Ольга.
– Да уж конечно, – бросил в ответ К., предоставляя ей как хочешь, так и понимать его слова.
Глава 3
Фрида
В буфетной – просторной комнате, посередке свободной – вдоль стен вокруг пивных бочек, а то и прямо на них расселся народ, но совсем другого вида, чем мужики в трактире К. Эти были почище и одеты все в одинакового пошива, грубой серо-желтой материи платье: куртки пышные, штаны почти в обтяжку. Роста все были небольшого и на первый взгляд как будто на одно лицо, вроде бы худое и плоское, но при этом пухлощекое. Вели они себя очень спокойно, почти не двигались, только взглядами, да и то лениво и безразлично следя за вновь пришедшими. И тем не менее – может, оттого, что их так много и сидят они так тихо, – К. стало не по себе. Он снова взял Ольгу под руку, чтобы все увидели, почему он здесь и с кем. Тут из угла поднялся мужчина, явно знакомый Ольги, намереваясь подойти к ней, но К. едва заметным движением повернул Ольгу в другую сторону, причем никто, кроме самой Ольги, его уловки не заметил, Ольга же приняла ее безропотно, только с улыбкой покосилась в его сторону.
Пиво разливала молодая буфетчица по имени Фрида. На вид это была невзрачная, небольшого росточка, белокурая девушка с печальным лицом и впалыми щеками, однако с неожиданно острым взглядом, полным какого-то особого превосходства. Едва она посмотрела на К., тому показалось, что одним этим взглядом многие важные для него вещи улажены, в том числе и такие, о которых он еще понятия не имеет, но в существовании которых почему-то мгновенно уверился. К. продолжал наблюдать за Фридой со стороны, даже когда та, отвернувшись, заговорила с Ольгой. Не похоже, что они подруги, слишком уж натянуто и немногословно они беседуют. И К., желая оживить разговор, вдруг спросил:
– А господина Дупля вы знаете?
Ольга рассмеялась.
– Чему ты смеешься? – рассердился К.
– Да не смеюсь я, – ответила та, продолжая смеяться.
– Ольга еще почти ребенок, – сказал К., склоняясь над стойкой в надежде снова перехватить взгляд Фриды. Но та, не поднимая глаз, тихо спросила:
– Вы хотите видеть господина Дупля?
Да, К. просил бы об этом.
Она указала на дверь слева от себя:
– Там глазок, можете посмотреть.
– А как же все эти люди?
Вместо ответа она лишь брезгливо выпятила нижнюю губку и решительной, но неожиданно мягкой рукой потянула К. к двери.
Сквозь маленький глазок, высверленный, судя по всему, специально в целях наблюдения, соседняя комната просматривалась почти целиком. Посреди комнаты, за письменным столом, в удобном, с округлой спинкой кресле, выхваченный из полутьмы низко висящей прямо над ним яркой электрической лампочкой, сидел господин Дупль. Это был грузный, неуклюжий мужчина среднего роста. Лицо гладкое, без морщин, но щеки под тяжестью лет уже слегка обрюзгли. Длинная полоска черных усиков рассекала лицо поперек почти надвое. Стеклышки криво насаженного пенсне поблескивали, не давая увидеть глаза. Сиди Дупль за столом прямо, К. смог бы разглядеть его только в профиль, но он как раз повернулся и, казалось, смотрел прямо на К. Левый локоть покоится на столе, правая рука с зажатой в ней виргинской сигарой лежит на колене. Рядом на столе бокал с пивом; по краям столешницы высокий бортик, мешавший К. разглядеть, есть ли на столе какие-нибудь бумаги, но, похоже, там было пусто. Для пущей уверенности он попросил взглянуть в глазок Фриду. Но оказалось, она совсем недавно была в комнате и без всякого глазка может подтвердить: никаких бумаг на столе нет. К. спросил у Фриды, не пора ли ему уходить, но та ответила, что нет, может смотреть сколько душе угодно. К. был теперь с Фридой наедине, Ольга, как он мельком успел заметить, все-таки улизнула к своему знакомцу и теперь восседала там на бочке, болтая ногами.
– Фрида, – спросил К. полушепотом, – вы что, очень хорошо знаете господина Дупля?
– Еще бы, – отвечала та, – очень даже хорошо. – Она прислонилась возле К. к стенке, кокетливо одергивая свою легкую, кремового цвета и, как только сейчас заметил К., с вырезом блузку, которая, однако, все равно смотрелась на ее тщедушной фигурке словно с чужого плеча. Потом добавила: – Разве вы не помните, как смеялась Ольга?
– Да уж, бескультурье, – отозвался К.
– Нет, – вполне мирно заметила Фрида. – Тут было чему посмеяться, вы спросили, знаю ли я Дупля, а ведь я… – тут она невольно слегка распрямилась, и снова на К. упал ее победный, неведомо что сулящий взгляд, со смыслом ее слов никак не вяжущийся, – а ведь я его возлюбленная.
– Возлюбленная Дупля? – переспросил К.
Она кивнула.
– Но тогда вы, – проговорил К. с улыбкой, чтобы не впустить слишком много серьезности в их разговор, – тогда вы очень уважаемое для меня лицо.
– И не только для вас, – отозвалась Фрида вполне приветливо, но на улыбку не отвечая.
Однако К. знал, как ее осадить, чтобы не важничала, и немедля пустил это средство в ход, задав вопрос:
– А в Замке вы уже бывали?
Однако средство не подействовало, ибо она ответила:
– Нет, но разве не достаточно того, что я здесь, в буфетной?
А тщеславие у нее, похоже, и впрямь необузданное, и именно на К., судя по всему, она вознамерилась вдоволь его потешить.
– Ну конечно, – поспешил заверить К., – здесь, в буфетной, вы ведь все равно что хозяйка.
– Именно, – подтвердила она, – а начинала батрачкой, скотницей в трактире «У моста».
– С такими нежными ручками, – то ли спросил, то ли отметил К., сам не зная, просто так он ей льстит или и в самом деле прельщен. Руки у нее и вправду изящные и нежные, но, с другой стороны, их ведь можно назвать и невыразительными, слабыми.
– На это тогда никто не смотрел, – проговорила она, – да и сейчас…
К. бросил на нее вопросительный взгляд, но она покачала головой и ничего больше говорить не стала.
– Разумеется, – сказал К., – у каждого свои секреты, и вы о своих не станете говорить со случайным человеком, которого знаете всего полчаса и у которого даже не было возможности хоть что-то вам о себе сообщить.
Однако это замечание, как оказалось, вышло неудачным, оно словно пробудило Фриду от некой благоприятной для К. полудремы: она тотчас же деловито извлекла из кожаной сумочки у себя на поясе деревянную затычку, закрыла ею глазок и сказала К., явно с трудом стараясь скрыть от него перемену в своем настроении:
– Да нет, относительно вас я все знаю, вы тот самый землемер. – И, добавив: – А теперь мне работать пора, – отправилась за стойку, поглядывая на посетителей, из которых многие уже поднимались с мест, указывая на свои пустые кружки.
Желая незаметно для других продолжить разговор, К. снял с полки пустую кружку и подошел к буфетчице.
– Еще только одно, мадемуазель Фрида, – проговорил он. – Это, конечно, невероятное достижение – из скотниц выбиться в буфетчицы, для этого и силы нужны, и достоинства редкостные, однако захочет ли такой человек, как вы, на этом успокаиваться? Дурацкий вопрос. В ваших глазах, только не смейтесь, мадемуазель Фрида, написана не столько прошлая, сколько будущая ваша борьба. Но мир полон преград, и они тем выше, чем выше поставленные цели, поэтому вовсе не зазорно заручиться на всякий случай поддержкой пусть маленького, пусть не влиятельного человека, который, однако, тоже ведет свою борьбу. Может, мы могли бы как-нибудь переговорить спокойно, не на глазах у всех этих ротозеев?
– Не знаю, к чему вы клоните, – отвечала Фрида, и в голосе ее на сей раз невольно отозвалось не торжество всех ее побед, а горечь бесконечной вереницы разочарований. – Или, может, вы вздумали отбить меня у Дупля? Бог ты мой! – И она даже руками всплеснула.
– Да вы меня просто насквозь видите, – пошутил К., стараясь, однако, всем видом показать, насколько он устал от вечного недоверия. – Ну конечно, это мой самый сокровенный замысел. Чтобы вы бросили Дупля и стали моей возлюбленной. А теперь мне пора. Ольга! – громко позвал он. – Мы идем домой.
Ольга послушно спрыгнула с бочки, но сразу освободиться от окруживших ее друзей-приятелей не смогла. В эту секунду Фрида, глянув на К. тяжело и почти грозно, тихо спросила:
– Когда же я смогу с вами переговорить?
– А мне можно здесь заночевать? – спросил К.
– Да, – ответила Фрида.
– И можно прямо сейчас остаться?
– Выйдите с Ольгой, я тем временем всех этих выпровожу. А через какое-то время возвращайтесь.
– Хорошо, – сказал К. и в нетерпении стал дожидаться Ольгу. Но мужики не отпускали ее, они затеяли пляску, в самом средоточии которой оказалась Ольга, они же двигались вокруг нее хороводом, и время от времени то один, то другой под общий гогот и вопль к ней подскакивал, крепко обхватывал за талию и кружил на месте, хоровод раскручивался все быстрей, крики, хриплые, голодные, жадные, слились в сплошной вой; Ольга, которая вначале еще пыталась вырваться из круга с улыбкой, теперь, с растрепанными волосами, пошатываясь, только перелетала из рук в руки.
– Присылают всяких, – проговорила Фрида, в гневе кусая тонкие губы.
– А кто они такие? – спросил К.
– Да слуги Дупля, – отвечала она. – Вечно он таскает за собой целый табор, а мне с ними мучайся. Даже не помню толком, о чем я с вами, господин землемер, говорила, если что сказала со зла, вы не обессудьте, все из-за мрази этой, гнуснее и омерзительнее их я никого не знаю, и таким вот холопам я пиво в бокалы должна разливать. Сколько раз просила Дупля оставлять их дома, мало мне, что ли, от слуг других господ достается, уж мог бы обо мне немного подумать, но нет, проси не проси, а за час до его приезда они прутся сюда, как скотина в стойло. Но сейчас им и вправду в стойло пора, им там самое место. Не будь здесь вас, я бы просто вон ту дверь распахнула и Дуплю самому пришлось бы их выпроваживать.
– Разве он их не слышит? – спросил К.
– Нет, – отмахнулась Фрида. – Он спит.
– То есть как? – воскликнул К. – Спит? Но когда я в комнату заглядывал, он же за столом сидел!
– Он всегда так сидит, – отвечала Фрида. – И когда вы на него смотрели, он тоже спал – иначе разве бы я вам позволила? Это его обычная поза во время сна, господа вообще много спят, просто удивительно. Да если бы он столько не спал, как бы он выносил всю эту ораву? Но сейчас мне самой придется их выставлять.
С этими словами она взяла из угла хлыст и одним-единственным, высоким, хотя и не слишком уверенным прыжком – словно барашек, – влетела в круг танцующих. Те сперва решили, что еще одна плясунья прибавилась, и действительно в первый миг почудилось, будто Фрида сейчас свой хлыст отбросит и пустится в пляс, но тут она его вскинула.
– Именем Дупля! – пронзительно крикнула она. – В стойло! Все в стойло!
В тот же миг все они в приступе непостижимого для К. страха заметались, теснясь в глубь залы, где под напором первого беглеца уже распахивалась дверь, дохнув волной ночной прохлады с улицы, и все разом сгинули, включая и Фриду, которая, очевидно, гнала их теперь по двору к воротам конюшни. В наступившей тишине К., однако, явственно услышал чьи-то шаги в прихожей. На всякий случай он кинулся к стойке, единственному месту, где можно укрыться: хотя находиться в буфетной ему вроде бы не запрещено, но, коли он собрался здесь ночевать, на глаза попадаться не след. Вот почему, едва дверь и вправду начала отворяться, он юркнул под прилавок. Конечно, быть обнаруженным в таком месте тоже небезопасно, однако на этот случай он придумал достаточно правдоподобную отговорку: дескать, спрятался от разбуянившегося мужичья.
Оказалось, это пришел хозяин трактира.
– Фрида! – позвал он и несколько раз прошелся взад-вперед по буфетной.
Фрида, по счастью, скоро вернулась, о К. не обмолвилась ни словом, только пожаловалась на слуг и, явно пытаясь отыскать К., прошла за стойку, где К. тотчас же дотронулся до ее ноги и с этой секунды почувствовал себя в совершенной безопасности. Поскольку Фрида о К. не упомянула, хозяин заговорил о нем сам.
– А землемер где? – спросил он. Он, похоже, вообще был человек вежливый и не без тонкости, обретенной, вероятно, в длительном и довольно непринужденном общении с лицами гораздо более высокого звания, чем он сам, однако с Фридой он обходился как-то особенно уважительно, это потому бросалось в глаза, что говорил он с ней все-таки как хозяин с наемной работницей, впрочем, работницей довольно кокетливой и дерзкой.
– Про землемера я напрочь забыла, – отвечала Фрида, ставя свою маленькую ножку К. прямо на грудь. – Давно ушел, наверно.
– Но я его не видел, – не успокаивался хозяин, – а я все время в прихожей был.
– Во всяком случае, здесь его нет, – холодно возразила Фрида.
– Может, спрятался где, – предположил хозяин. – Судя по виду, от него всякого можно ожидать.
– Да нет, на такое у него смелости не хватит, – заявила Фрида, еще сильнее наступая на К. ножкой. Вон, оказывается, сколько лихости и отчаянного озорства таится в этом тихом омуте, К. поначалу ничего такого даже и не заподозрил, но сейчас именно эта удаль возобладала и била уже через край, когда Фрида, внезапно рассмеявшись, со словами: – Может, он под стойкой спрятался? – склонилась к К., наскоро его чмокнула и, мгновенно вскочив, с притворным огорчением протянула: – Нет, здесь его нет.
Но и хозяин своими следующими словами изрядно К. удивил.
– Это, однако, весьма досадно, что я не знаю с определенностью, ушел он или нет. Тут не только в господине Дупле дело, дело в предписании. А предписание, милейшая Фрида, в равной мере распространяется и на меня, и на вас. За буфетную отвечаете вы, остальной дом я обыщу сам. Доброй ночи! И приятного отдыха!
Не успел он выйти из буфетной, как Фрида, выключив электричество, уже очутилась под стойкой, подле К.
– Миленький! Сладенький мой! – шептала она, но при этом к К. даже не притрагивалась: лежа на спине, раскинув руки, она, словно обессилев, млела от любви, и перед счастьем этой любви время казалось бесконечным, она не то вздыхала, не то тихо мурлыкала какую-то песенку. Потом испуганно встрепенулась, заметив, что К. по-прежнему безмолвно погружен в свои мысли, и стала как-то по-детски его теребить: – Скорей же, тут внизу и задохнуться недолго!
Они обнялись, ее маленькое тело горело у К. в руках, в жарком беспамятстве, от которого К. все время, но тщетно силился очнуться, они перекатились по полу, с глухим стуком уткнулись в дверь Дупля и там замерли, среди лужиц пива и трактирного сора. Так проходили часы, часы слитного дыхания, слитного биения сердец, часы, когда К. ни на миг не оставляло чувство, будто он заблудился или так далеко забрел на чужбину, как до него ни один человек не забредал, на чужбину, где даже в воздухе ни частицы родины не сыскать и от чуждости неминуемо суждено задохнуться, где тебе, прельщенному вздорными и пустыми соблазнами чужбины, остается только одно – идти и идти вперед, заблуждаясь все больше, теряясь вдали все безнадежней. Вот почему, по крайней мере в первый миг, его не испугало, а скорее показалось спасительным проблеском избавления, когда из комнаты Дупля низкий, властный и равнодушный голос позвал Фриду.
– Фрида, – шепнул К. Фриде на ухо, как бы передавая ей этот зов. В порыве едва ли не врожденного послушания Фрида чуть было не вскочила, но потом опомнилась, увидев, где она и с кем, потянулась, тихо засмеялась и сказала:
– Да неужто я к нему пойду? Да в жизни я к нему не пойду!
К. попытался возразить, хотел поторопить ее пойти к Дуплю, порывался собрать обрывки ее разодранной блузки, но не мог сказать ни слова, слишком он был счастлив держать Фриду в объятиях, так счастлив, что даже страшно, ибо ему казалось: уйди сейчас от него Фрида – и вместе с ней уйдет все, чем он богат. И словно ощутив эту поддержку К., Фрида, сжав кулачок, забарабанила в дверь и крикнула:
– Я с землемером! С землемером я!
В комнате Дупля все стихло. Только теперь К. поднялся и, стоя подле Фриды на коленях, стал тревожно озираться в смутном предрассветном полумраке. Это что же такое произошло? Где теперь все его надежды? Чего ему ждать от Фриды после такого предательства? Вместо того чтобы продвигаться вперед, соблюдая предельную осторожность, как того требуют мощь врага и величие цели, он целую ночь валяется в пивных лужах, от которых сейчас, под утро, еще и вонь несусветная.
– Что ты натворила? – пробормотал он себе под нос. – Мы оба пропали.
– Нет, – возразила Фрида. – Пропала только я, зато и нашла, у меня теперь есть ты. Да успокойся ты. Смотри, вон как те двое смеются.
– Кто? – не понял К. и обернулся.
На стойке сидели его помощники, оба-два тут как тут, немного заспанные, но радостные – это была радость людей, честно исполняющих свой долг.
– Что вам здесь надо? – набросился на них К., словно именно они во всем виноваты, и уже искал глазами хлыст, что вчера вечером был в руках у Фриды.
– Но нам ведь положено тебя искать, – отвечали помощники. – В трактире ты к нам больше не спустился, вот мы и пошли искать тебя к Варнаве, пока не нашли тут. Целую ночь здесь сидим. Служба – дело нелегкое.
– Вы мне днем нужны, а не ночью, – отрезал К. – Пошли вон!
– Так сейчас день, – отвечали те, не двигаясь с места.
И действительно, был уже день, двери во двор распахнулись, мужики вместе с Ольгой, о которой К. напрочь забыл, ломились в буфетную. Ольга, несмотря на изрядно помятую прическу и платье, все такая же развеселая, как накануне вечером, от порога искала глазами К.
– Почему ты не пошел со мной домой? – чуть ли не со слезами на глазах спросила она. – И все из-за этой девки! – добавила она, а потом еще несколько раз повторила: – И все из-за этой девки!
Фрида, скрывшись ненадолго, появилась теперь с узелком в руках.
– Можем идти, – сказала она, и было само собой понятно, что подразумевается трактир «У моста», куда им предстояло отправиться. Впереди К. с Фридой, за ними помощники – так выглядело их шествие, мужики теперь вовсю норовили выказать Фриде свое презрение, оно и понятно, ведь прежде она ими помыкала, один даже схватил палку и перегородил ей дорогу, дескать, пока не перепрыгнешь, не пропущу, впрочем, одного взгляда оказалось достаточно, чтобы он сгинул. На улице, по снежку, дышалось полегче, снова очутиться на свежем воздухе было просто счастьем, даже проклятущая дорога не казалась неодолимой, а будь К. один, идти было бы и того легче. В трактире К. сразу же направился к себе в комнату и повалился на кровать, Фрида устроила себе ложе рядом, на полу, помощники тоже вперлись в каморку, их выгнали в дверь, но они уже лезли в окно. К. слишком устал, чтобы прогонять их снова. Хозяйка-трактирщица собственной персоной поднялась к ним наверх, чтобы поздороваться с Фридой, та назвала ее «матушкой», что возымело следствием необъяснимо сердечную сцену с поцелуями и долгими, крепкими объятиями. Покоя в каморке вообще было немного, то и дело заявлялись – что-то забрать или, наоборот, принести – служанки, топоча своими мужицкими сапожищами. Если нужная вещь оказывалось на битком забитой всяческим хламом кровати, служанки попросту ее из-под К. вытаскивали, на него самого не обращая ни малейшего внимания. С Фридой эти девки поздоровались по-свойски, как с ровней. Невзирая на подобные мелкие беспокойства, К. пролежал в постели весь день и всю ночь. Фрида не отходила от него ни на шаг, выполняя малейшие его прихоти. Когда на следующее утро он, свежий и отдохнувший, наконец встал, начался четвертый день его пребывания в деревне.
Глава 4
Первый разговор с хозяйкой
Ему очень хотелось поговорить с Фридой по душам, но помощники, с которыми Фрида, кстати, без конца хихикала и перешучивалась, досаждали ему одним своим назойливым присутствием. Были они, впрочем, неприхотливы, пристроились в углу на полу на двух старых юбках, то и дело уверяя Фриду, что не мешать господину землемеру и занимать как можно меньше места – для них дело чести, в разнообразных попытках осуществления коего дела они, беспрерывно шушукаясь и прыская, то сплетали по-новому руки-ноги, то вертелись волчком, в сумерках превращаясь в своем углу в один большой ворошащийся клубок. К сожалению, опыт наблюдения за ними при свете дня все очевиднее показывал, что они – очень зоркие соглядатаи, ни на минуту не оставляющие К. без присмотра; даже когда под видом детской забавы приставляли к глазам кулачки, изображая подзорную трубу, или еще какое-нибудь дурачество затевали, но и когда посматривали на К. как бы невзначай, мельком, исподтишка, занимаясь якобы исключительно уходом за своими бородками, предметом особой их гордости, бессчетное число раз сравнивая, чья длинней и гуще, и призывая в судьи Фриду, – они следили за К. неотступно. Пока лежал, К. со своей кровати частенько поглядывал на возню всех троих с полнейшим безразличием.
Когда же он почувствовал, что достаточно окреп и готов подняться с постели, все трое кинулись наперебой за ним ухаживать. Тут-то и выяснилось, что окреп он недостаточно, во всяком случае не настолько, чтобы противостоять этому услужливому рвению, которое, как он смутно осознавал, втягивает его в нехорошую, чреватую последствиями зависимость и которого он не в силах пресечь. Что скрывать, была в этом своя приятность: сидя за столом, попивать вкусный кофе, что принесла Фрида, греться у печки, которую Фрида истопила, гонять вверх-вниз по лестнице хотя и рьяных, но бестолковых помощников, посылая их поочередно за водой для мытья, за мылом, за расческой и за зеркалом, и даже, коли уж К. нечто вроде подобного желания полувопросительно высказывал, – за стопочкой рома.
И вот посреди всех этих распоряжений и услужливого их исполнения К., скорее в приливе благодушного любопытства, нежели в надежде на успех, вдруг сказал:
– А теперь подите-ка оба вон, от вас пока что ничего не требуется, а мне нужно поговорить с мадемуазель Фридой наедине. – И, не увидев в лицах помощников открытого сопротивления, добавил, лишь бы их уластить: – Потом все втроем пойдем к старосте, ждите меня в трактире.
Они, как ни странно, подчинились, только уходя сказали:
– Мы могли бы и тут обождать.
– Я знаю, – ответил К., – но я этого не хочу.
Раздосадовало, хотя в определенном смысле и почти обрадовало К., что Фрида, едва только помощники ушли, усевшись к нему на колени, сказала:
– Дорогой, чем тебе не угодили помощники? У нас не должно быть от них тайн. Они такие верные.
– Верные? – изумился К. – Да они следят за мной беспрестанно! Зачем – непонятно, но все равно противно.
– Кажется, я понимаю, о чем ты, – пробормотала Фрида и повисла у него на шее, словно хотела еще что-то сказать, но не решилась, а поскольку кресло стояло подле кровати, они, покачнувшись, перевалились на кровать. И там легли, но отдаться друг другу всецело и безраздельно, как прошлой ночью, не сумели. Каждый искал свое, оба искали неистово, яростно, пряча друг у друга на груди искаженные мукой страсти лица, но их объятия, их судорожно вскидывающиеся тела не давали им забыться, наоборот, только сильнее заставляли искать и искать дальше, – как собаки в ожесточении роют лапами землю, так и они зарывались друг в друга, в тщете отчаяния норовя ухватить последние крохи счастья и иногда по-собачьи вылизывая друг другу языком лоб, щеки, шею. Лишь полное изнеможение вынудило их наконец затихнуть, прислушиваясь к благодарному воспоминанию друг о друге. Тут вошли служанки.
– Ишь, как разлеглись, – сказала одна и то ли из жалости, то ли от стыда прикрыла обоих платком.
Какое-то время спустя, когда К., выбравшись из-под платка, осмотрелся, оказалось, что помощники – его это не удивило – уже снова тут как тут, в своем углу, тычут в сторону К. пальцами, безмолвными жестами призывая друг друга к ответственности, отдают ему честь, но кроме того, у кровати, совсем рядом, сидит трактирная хозяйка и вяжет чулок, хотя мелкая рукодельная эта работа никак не согласуется с ее мощной, едва ли не всю комнату заслонившей фигурой.
– А я давно жду, – проговорила она, вскинув от рукоделия широкое, испещренное морщинами, однако благообразно вылепленное, а когда-то, должно быть, даже красивое лицо. В словах ее слышался упрек, совершенно непонятный и неуместный: ведь К. и не думал ее приглашать. В ответ он ограничился лишь кивком, сев на кровати, и Фрида тоже поднялась, но возле К. не осталась, подошла к креслу хозяйки и стала там.
– Нельзя ли, хозяйка, – небрежным тоном бросил К., – все, что вы намереваетесь мне сказать, отложить на потом, до моего возвращения от старосты? У меня там важный разговор.
– Этот важнее, вы уж поверьте, господин землемер, – не согласилась женщина, – там, вероятно, речь всего лишь о работе, а тут о человеке, о Фриде, девочке моей, служаночке моей ненаглядной.
– Ах, вон что, – отозвался К. – Ну тогда конечно, только я не пойму, почему бы не дать нам самим друг с другом все выяснить.
– Так это от любви, от заботы большой, – продолжала трактирщица, притягивая к себе Фриду, которая ей, сидящей, едва доставала головой до плеча стоя.
– Ну, раз Фрида питает к вам такое доверие, – сказал К., – тогда и мне нельзя иначе. Поскольку же Фрида недавно сообщила мне, что и помощники у меня, оказывается, верные, то, выходит, мы все тут среди своих. Коли так, могу сообщить вам, хозяйка, что нам с Фридой, я так считаю, лучше всего пожениться, причем как можно скорей. К сожалению, к глубокому сожалению, женитьбой этой я не смогу возместить Фриде всего того, чего она из-за меня лишается: места в «Господском подворье» и благосклонности Дупля.
Фрида подняла голову, в глазах у нее стояли слезы, от былого победного торжества в ее взгляде не осталось и следа.
– Ну почему я? Почему именно мне такое выпало?
– Что? – в один голос переспросили К. и хозяйка.
– Совсем голову потеряла, бедная девочка, – сказала затем трактирщица. – Немудрено: столько счастья и несчастья враз свалилось.
И словно в подтверждение этих слов, Фрида вдруг бросилась к К., стала его целовать, как безумная, словно, кроме них, никого в комнате нет, а потом, с плачем и все еще обнимая, упала перед ним на колени. Обеими руками гладя Фриду по волосам, К. спросил хозяйку:
– Стало быть, вы одобряете мои намерения?
– Вы человек чести, – сказала та тоже со слезами в голосе, тяжко вздыхая и вообще как-то сразу, на глазах, подряхлев. Тем не менее у нее достало сил продолжить: – Надобно теперь обдумать известные ручательства, которые вы обязаны Фриде дать, ведь сколь ни велико мое к вам почтение, но вы человек чужой, пришлый, рекомендаций ни от кого не имеете, ваши домашние обстоятельства здесь неизвестны, так что ручательства нужны, вы и сами с этим согласитесь, дорогой господин землемер, сами же подчеркнули, сколько всего Фрида из-за отношений с вами не только приобретает, но и теряет тоже.
– Ну конечно, ручательства, разумеется, – проговорил К., – их, вероятно, лучше всего заверить у нотариуса, но и другие графские службы, возможно, еще вмешаются. Впрочем, до свадьбы мне непременно нужно уладить одно дело. Мне надобно переговорить с Дуплем.
– Это невозможно, – выпалила Фрида, приподнявшись с колен и прильнув к К. – Что ты такое выдумываешь!
– Нет, это обязательно нужно, – упорствовал К. – Если я сам не смогу этого добиться, значит, придется тебе.
– Но я не могу, К., не могу, – залепетала Фрида. – Никогда в жизни Дупль не станет с тобой разговаривать. Как тебе вообще в голову взбрело, будто Дупль станет с тобой разговаривать!
– А с тобой станет? – спросил К.
– И со мной не станет, – ответила Фрида. – Ни с тобой, ни со мной, это все совершенно невозможные вещи. – И, разведя руками, она обернулась к хозяйке: – Вы только посмотрите, хозяйка, что он удумал.
– Экий вы, однако, странный, господин землемер, – проговорила трактирщица. Сейчас, когда она, чуть распрямясь, сидела, широко расставив ноги с выпирающими из-под тонкой юбки мощными коленями, вид у нее был устрашающий. – Вы требуете невозможного.
– Почему же это невозможно? – не унимался К.
– А вот я вам объясню, – сказала хозяйка таким тоном, будто объяснение это с ее стороны даже не последняя милость, а скорее нечто вроде первого наказания, – охотно объясню. Сама-то я хоть к Замку и не отношусь и вообще всего лишь женщина, простая трактирщица, да еще в распоследнем трактире – ладно, пусть не в распоследнем, но близко к тому, – так что вы, быть может, словам моим особого значения не придадите, но только я жизнь не с закрытыми глазами прожила, много разных людей повидала и трактир этот одна на своем горбу поднимала, ведь муж у меня парень хоть и славный, но трактирщик из него никакой, и что такое ответственность, ему в жизни не понять. Вот вы, к примеру, только ему и его разгильдяйству – сама-то я в тот вечер умаялась до смерти – обязаны тем, что сейчас тут, в деревне, в уюте и тепле на постели сидите.
– То есть как? – изумился К., разом очнувшись от некоторой рассеянности, причем изумился не столько от досады, сколько из чистого любопытства.
– А вот так: только его разгильдяйству и обязаны! – повторила, а вернее, выкрикнула хозяйка, грозно наставляя на К. указательный палец. Фрида попыталась ее утихомирить, но та резко, всем телом к ней обернувшись, продолжила: – А как еще сказать? Господин землемер меня спросил, я ему и отвечаю. Иначе как ему уразуметь то, что всем нам само собой понятно: господин Дупль никогда не станет с ним разговаривать, да что там «не станет» – не сможет. Вот вы послушайте, господин землемер. Господин Дупль – это господин из Замка, что само по себе, совершенно независимо от его там должности, уже означает очень высокое положение. А кто такой вы, чьего согласия на женитьбу мы сейчас столь униженно вынуждены добиваться? Вы человек не из Замка, вы даже не из деревни, вы никто. Но, к несчастью, притом что вы никто, вы все же кто-то – вы пришлый, чужак, один из тех, от кого ни покоя, ни проходу, тот, из-за кого вечно одни неприятности, из-за кого прислугу приходится выселять, тот, кто непонятно чего добивается, тот, кто совратил нашу дорогую малютку Фриду и кому теперь, к сожалению, приходится отдавать ее в жены. Но все это, в сущности, не в упрек вам сказано: вы какой есть, такой и есть; слишком многое я на своем веку перевидала, чтобы именно от вашего вида вдруг в обморок падать. А теперь попытайтесь себе вообразить, чего вы требуете. Чтобы такой человек, как Дупль, и удостоил вас разговора. Мне было больно услышать, что Фрида дала вам подсмотреть в глазок – считайте, что, когда она это сделала, вы ее уже совратили. Теперь скажите: да как вы один только вид Дупля смогли вынести? Можете не отвечать, я и так знаю: прекрасно вынесли. Хотя, если хотите знать, по-настоящему-то Дупля вы видеть просто не в силах, и с моей стороны говорить вам это вовсе никакое не высокомерие, я тоже не в силах. Чтобы Дупль и с вами-то разговаривать стал – да он даже с людьми из деревни слова не скажет, еще никогда в жизни он сам ни с кем из деревенских не заговаривал. Ведь одно то, что он хотя бы Фриду имел обыкновение по имени окликать и что она могла обращаться к нему когда угодно и даже дозволение на глазок получила – одно это было для нее огромным отличием, отличием, которым я до конца дней буду гордиться, – но чтобы разговаривать, нет, даже с ней он никогда не разговаривал. А что он иногда Фриду звал, вовсе не имело того смысла, который, может, иные и хотели бы тому приписать, – он просто выкрикнет имя «Фрида», а с какой целью, – откуда нам знать? И конечно, Фриде полагалось тотчас к нему бежать, а что ее к нему безо всякого пропускали – так это тоже только благодаря Дуплю и его доброте, но утверждать на этом основании, что он будто бы и вправду по-настоящему ее позвал, никак нельзя. Хотя теперь даже и то, что было, безвозвратно прошло. Может, Дупль еще выкрикнет иной раз имя Фрида, но пропустить-то ее, девку, которая с вами спуталась, к нему теперь точно не пропустят. И одного только, одного я никак своей бедной головушкой в толк не возьму: как девушка, которая слывет возлюбленной Дупля, хотя я-то считаю, что «возлюбленная» – это очень громко сказано, больно много чести, – такому, как вы, вообще позволила до себя дотронуться…
– Разумеется, это странно, – отозвался К., усаживая Фриду, которая, хоть и с опущенной головой, сразу ему покорилась, к себе на колени, – но, полагаю, это только доказывает, что и с остальным не все в точности так обстоит, как вам видится. Вот вы, к примеру, конечно, правы, говоря, что супротив Дупля я никто и хотя все еще добиваюсь с ним разговора и даже ваши объяснения не отбили у меня охоты с ним перемолвиться, однако это вовсе не значит, что я в силах вынести вид Дупля с глазу на глаз, без двери между нами, и не вылечу из комнаты пробкой при одном его появлении. Но подобное, хотя и обоснованное, опасение для меня еще не повод отказываться от задуманного. Зато если мне удастся вынести его вид, тогда, быть может, и разговор не понадобится, мне достаточно будет оценить впечатление, которое произведут на него мои слова, или не произведут, или он вовсе меня не услышит, – все равно при мне останется хотя бы тот выигрыш, что я свободно говорил перед лицом власти. Но именно вы, хозяйка, с вашим жизненным опытом и знанием людей, вы и Фрида, которая еще вчера была возлюбленной Дупля – не вижу, кстати, никакого резона от этого слова отказываться, – уж вы-то, конечно же, легко можете обеспечить мне возможность переговорить с Дуплем, хотя бы в «Господском подворье», если другой оказии нету, быть может, он и сегодня еще там.
– Да невозможно это, – проговорила трактирщица, – и я вижу, у вас просто соображения не хватает это понять. Но скажите: о чем таком вы хотите говорить с Дуплем?
– О Фриде, конечно, – ответил К.
– О Фриде? – недоуменно переспросила трактирщица и даже повернулась к Фриде: – Ты слышишь, Фрида, это он-то, он, о тебе с Дуплем, понимаешь, с Дуплем говорить хочет.
– Бог ты мой, – вздохнул К., – госпожа трактирщица, вы такая умная, такая уважаемая женщина, а всякого пустяка пугаетесь. Ну да, я хочу переговорить с Дуплем о Фриде, и ничего чудовищного в этом нет, скорее тут все само собой разумеется. Ведь если вы полагаете, будто с той секунды, как я вошел в ее жизнь, Фрида перестала для Дупля что-либо значить, вы тоже заблуждаетесь. Вы недооцениваете Дупля, если так думаете. Я хорошо понимаю, поучать вас большая самонадеянность с моей стороны, но поневоле приходится. Поймите, из-за меня в отношении Дупля к Фриде ровно ничего измениться не могло. Либо ничего серьезного в его отношении к Фриде не было – собственно, именно это и имеют в виду те, кто хотел бы отнять у Фриды почетное звание возлюбленной, – и тогда его и сегодня нет, либо отношение все-таки было серьезное, и тогда из-за меня, в глазах Дупля полного, как вы сами совершенно справедливо утверждаете, ничтожества, как, скажите, могло оно пострадать? Это в первый миг испуга нам лезет в голову всякий вздор, но стоит немного подумать – и все становится на свои места.
Все еще прижимаясь щекой к груди К. и задумчиво глядя куда-то вдаль, Фрида пробормотала:
– Все будет так, как матушка говорит. Дупль больше и знать меня не захочет. Но, конечно, не из-за того, что ты, милый, ко мне пришел, его ничто такое потрясти вообще не способно. Скорее, я думаю, то, что мы обрели друг друга тогда под стойкой, – дело его воли, да благословен, а не проклят будет тот час.
– Если так, – протянул К., ибо сладки были для него слова Фриды и он даже глаза на миг прикрыл, чтобы до конца эту сладость прочувствовать, – если так, то у меня тем меньше причин страшиться беседы с Дуплем.
– И вправду, – проронила хозяйка, глянув на К. совсем уж свысока, – вы иной раз мне мужа моего напоминаете, такой же упрямец и ребенок. Вы всего несколько дней здесь, а полагаете все знать лучше нас, местных, лучше меня, пожилой женщины, и лучше Фриды, которая в «Господском подворье» столько всего повидала и слышала. Не спорю, может, иной раз и можно чего-то добиться вопреки предписаниям и обычаю, я сама ничего подобного не видывала, но, говорят, случаи бывали, может быть, – но даже если такое возможно, то происходит оно совсем не таким манером, каким вы это делаете, вечно твердя лишь «нет» да «нет», во всем норовя жить своим умом и самых доброжелательных советов слушать не желая. Думаете, я об вас пекусь? Да разве я о вас беспокоилась, когда вы один-то были? Хотя, наверное, надо было еще тогда вмешаться, глядишь, кое-чего удалось бы избежать. Единственное, что я еще тогда мужу своему про вас сказала: «Держись от него подальше!» Мне бы и самой себе нынче впору то же самое сказать, если бы Фриду в вашу судьбу не затянуло. Только ей одной – нравится вам это или нет – вы обязаны моей заботливостью и даже уважением моим. А потому права не имеете просто так от меня отмахнуться, ведь я единственная, кто о малютке Фриде по-матерински печется, а значит, вы передо мной за нее в ответе. Возможно, Фрида и права, и все, что случилось, случилось по воле Дупля, только про Дупля я знать ничего не знаю, говорить с ним никогда не смогу, он для меня совершенно недоступен, а вы вот сидите тут, держите на коленях мою Фриду, тогда как вас-то самого – с какой стати мне об этом умалчивать? – держат здесь только по моей милости. Да-да, по моей милости, попробуйте-ка, молодой человек, если я вам на порог укажу, найти в деревне хоть какое-нибудь пристанище, даже и в собачьей конуре.
– Спасибо за откровенные слова, – сказал К., – я вполне вам верю. Вот, значит, до чего ненадежно мое положение, а вместе с ним, выходит, и положение Фриды.
– Нет! – яростным вскриком перебила его хозяйка. – Положение Фриды с вашим никак не связано. Фрида все равно что член моей семьи, и никто не смеет называть ее положение в моем доме ненадежным.
– Хорошо, хорошо, – не прекословил К., – я и тут с вами согласен, тем паче что Фрида по не ясным для меня причинам, похоже, слишком вас боится, чтобы вставить хоть слово. Остановимся пока на мне одном. Положение мое крайне ненадежно, вы сами этого не отрицаете, наоборот, всячески стараетесь мне это доказать. Но, как и во всем, что вы говорите, вы правы только отчасти, пусть по большей части, однако не полностью. Я, к примеру, знаю место, где меня ждет вполне приличный ночлег.
– Это где же? Где? – вскричали хозяйка и Фрида в один голос и с таким нетерпением, будто для их жадного любопытства имелась какая-то общая и особая причина.
– У Варнавы, – ответил К.
– У этой голытьбы! – воскликнула хозяйка. – У распоследней голытьбы подзаборной! У Варнавы! Нет, вы слыхали, – и она обернулась в угол на помощников, но те давно оттуда вышли и плечом к плечу стояли у нее за спиной; узрев их и словно ища опоры, хозяйка одного даже схватила за руку, – вы слыхали, с кем этот господин якшаться изволит! С семейкой Варнавы! Разумеется, там-то его на ночлег пустят, по мне, так лучше бы он там и заночевал, чем в «Господском подворье». Но вы-то оба где были?
– Хозяйка, – встрял К., прежде чем помощники успели что-либо ответить, – это мои помощники, вы же обращаетесь с ними так, словно помощники они ваши, а ко мне приставлены в сторожа. Что до всех прочих ваших суждений, то я готов самым учтивым образом с вами что угодно обсуждать, но только не касательно моих помощников, уж тут-то все ясно как день. А потому прошу вас с моими помощниками не разговаривать, если же этой просьбы вам мало, я просто запрещу помощникам вам отвечать.
– Выходит, мне с вами и поговорить нельзя, – бросила хозяйка помощникам, и все трое рассмеялись, причем хозяйка с легкой издевкой, но куда более безобидной, чем К. ожидал, помощники же смеялись на свой обычный лад – ни к чему не обязывающим и заранее снимающим с них всякую ответственность смехом.
– Ты только не сердись, – сказала Фрида. – И пойми правильно; мы ведь за тебя беспокоимся. В конце концов, если угодно, мы только благодаря Варнаве и обрели друг друга. Когда я в первый раз увидела тебя в буфетной – ты вошел под ручку с Ольгой, – я хоть и знала о тебе кое-что, но, в сущности, ты был мне совершенно безразличен. То есть не только ты был мне безразличен, а почти всё, почти всё на свете было мне безразлично. Вообще-то я, конечно, и тогда многим бывала недовольна, а кое-что меня просто злило, только какое это было недовольство, какая там злость! К примеру, оскорбит меня кто-то из посетителей – они в буфетной вечно ко мне приставали, ты и сам этих мужланов видел, а приходили и похлеще, слуги Дупля еще ничего – так вот, оскорбит меня кто-нибудь, а для меня это что? Да почти ничто, словно много лет назад случилось, да и то не со мной, словно я только понаслышке это знаю и забыла почти. Нет, не могу описать, даже представить себе всего этого уже не могу – настолько все изменилось с тех пор, как Дупль меня бросил…
И, оборвав свой рассказ, Фрида печально понурила голову, сложив руки на коленях.
– Вы посмотрите, – воскликнула хозяйка с таким видом, будто это не она говорит, будто это голос Фриды все еще через нее вещает, она, кстати, и придвинулась к Фриде поближе и сидела теперь с ней совсем рядом, – вы посмотрите только, господин землемер, к чему ваши дела приводят, и помощники ваши, с которыми мне, оказывается, уже и говорить нельзя, тоже пусть посмотрят себе в назидание! Вы вырвали Фриду из счастливейшего блаженства, какое она могла изведать в жизни, и удалось вам это лишь потому, что Фрида, наивное, доброе дитя, просто не смогла спокойно глядеть, как вы за руку Ольги уцепились и, значит, всей Варнавиной семейке в когти угодили. Вас она спасла – а собой пожертвовала. А теперь, когда случилось то, что случилось, и Фрида все, что имела, променяла на счастье сидеть у вас на коленях, вы являетесь сюда и козыряете тем, что, оказывается, имели возможность разок переночевать у Варнавы. Желая, очевидно, этим доказать, насколько вы от меня независимы. Что ж, оно и правда: если б вы и в самом деле у Варнавы переночевали, вы бы настолько были от меня независимы, что вам пришлось бы немедленно, сию же секунду выметаться из моего дома.
– Не знаю, какие такие у семейства Варнавы грехи, – сказал К., осторожно снимая Фриду, которая и теперь покорилась как неживая, с колен и пересаживая на кровать, после чего встал. – Может, вы и в этом правы, но в чем безусловно прав я, так это в том, что просил наши с Фридой дела предоставить выяснять нам самим. Вы тут поначалу что-то говорили о любви и заботе, но не больно-то много любви и заботы я заметил, зато ненависти, издевки и желания выставить меня вон – сколько угодно. Если вы замыслили нас с Фридой разлучить, то взялись за это довольно ловко, только, думаю, все равно вам это не удастся, а даже если и удастся – позвольте и мне разок прибегнуть к невнятной угрозе, – вы горько об этом пожалеете. Что до жилья, которое вы мне предоставили, – если не ошибаюсь, вы имеете в виду вот эту мерзкую конуру, а не что-то другое, – то я не вполне уверен, что вы сделали это по доброй воле, скорее, похоже, на сей счет имеется указание графских властей. Вот я и доложу, что мне здесь от квартиры отказано, и когда мне определят другое место жительства, вы сможете вздохнуть с облегчением, а я и подавно. Ну а теперь мне пора – по этому, да и по другим делам – к сельскому старосте. Прошу вас, хотя бы Фриду теперь пощадите, ее ваши, с позволения сказать, материнские речи и так уже совсем доконали.
После чего он обернулся к помощникам.
– Пошли, – сказал он, снимая с гвоздика письмо Дупля и направляясь к двери. Хозяйка наблюдала за ним молча, и только когда он взялся за дверную ручку, проговорила:
– Господин землемер, на дорожку только еще одно напутствие хочу вам дать, ибо какие бы речи вы тут ни вели и как бы меня, пожилого человека, ни норовили оскорбить, все-таки вы для меня будущий муж Фриды. Только потому и говорю вам, что насчет порядков здешних вы ужасающе несведущи, просто голова кругом идет, как вас послушаешь да сравнишь в уме ваши рассуждения, мысли ваши с истинным положением дел. И поправить это незнание одним махом никак нельзя, может, его вообще уже не поправишь, однако многое все-таки можно улучшить, если вы хоть чуточку мне поверите и свою неосведомленность постоянно будете в уме держать. Вы бы тогда, к примеру, сразу ко мне справедливее относиться стали и начали бы понимать, какой ужас я пережила – и до сих пор от него толком не оправилась, – когда осознала, что моя малютка, можно сказать, бросила гордого орла, предпочтя связаться со слепым кротом, хотя истинное соотношение величин и того хуже, гораздо хуже, просто я изо всех сил стараюсь о нем позабыть, иначе и слова бы спокойно с вами сказать не смогла. Ну вот, опять вы сердитесь. Нет, не уходите, хотя бы одну просьбу еще выслушайте. Куда бы вы ни направились, каждую секунду помните: вы здесь самый несведущий человек на свете и будьте начеку; это среди нас, где присутствие Фриды оберегает вас от любых невзгод, можете потом срывать зло и молоть все, что душе угодно, можете, к примеру, изображать нам, как намереваетесь побеседовать с Дуплем, вот только там, на людях, умоляю, ничего такого не делайте.
Она встала, даже слегка пошатнулась от волнения, подошла к К. и с мольбой в глазах схватила его за руку.
– Хозяйка, – отвечал К., – не понимаю, почему из-за такого пустяка вы так передо мной унижаетесь. Если, как вы уверяете, мне и вправду невозможно поговорить с Дуплем, то, значит, проси не проси, у меня все равно ничего не выйдет. Но если это каким-то образом возможно, то почему мне не попытаться, ведь тогда и все прочие ваши страхи становятся весьма сомнительными. Разумеется, я несведущ, что правда, то правда, и для меня это весьма прискорбно, однако есть тут и преимущество: несведущий человек действует смелей, вот почему я и не прочь еще какое-то время влачить на себе бремя неведения и его скверных последствий, покуда сил хватит. К тому же последствия, в сущности, затронут только меня, и это главное, почему я не понимаю вашей просьбы. О Фриде вы всегда сможете позаботиться, так что если я напрочь сгину и глаза ее больше меня не увидят, то, на ваш-то взгляд, это будет только счастье. Чего в таком случае вам бояться? Уж не боитесь ли вы – несведущему человеку все кажется возможным, – спросил К., уже приоткрывая дверь, – не боитесь ли вы часом за Дупля?
Хозяйка только безмолвно смотрела, как он торопливо сбегает по лестнице, а вслед за ним, семеня, поспешают помощники.
Глава 5
У старосты
К. и сам слегка удивлялся: почему-то предстоящее совещание у старосты его почти не беспокоило. Для себя он объяснял это тем, что покамест, по его личному опыту, сношения по службе с графскими властями шли как по маслу. С одной стороны, причиной тому, надо полагать, была некая весьма благоприятная реляция, с самого начала вышедшая где-то наверху в отношении его лично, с другой же стороны, и сама работа всех служб отличалась достойной восхищения согласованностью, совершенство которой особенно чувствовалось там, где согласованности этой внешне как будто не наблюдалось вовсе. Вот почему К., покуда раздумывал только об этой стороне дела, склонен был находить свое положение вполне удовлетворительным, хотя всякий раз после подобных приступов благодушия торопился внушить себе, что как раз в благодушии-то главная опасность и есть. Да, прямое сношение с властями оказалось делом не слишком трудным, ибо властям, при всей слаженной их деятельности, надлежало в интересах далеких и незримых вышестоящих господ оборонять далекие и незримые цели, тогда как К. сражался за свой кровный, жизненно насущный интерес, к тому же, по крайней мере в первое время, сражался по своей воле и сам шел на приступ, да и сражался не в одиночку, на его стороне, очевидно, выступали какие-то еще силы, которых он, правда, пока не распознал, но в существование которых, судя по действиям властей, имел все резоны верить. Хитрость, однако, состояла в том, что власти, заранее и с готовностью идя ему навстречу в несущественных мелочах, – о чем-то большем пока нечего и думать, – тем самым коварно отнимали у К. возможность маленьких легких побед, а значит, лишали его и победного удовлетворения, и вытекающей из этого удовлетворения обоснованной уверенности в себе, столь необходимой для грядущих, более серьезных сражений. Вместо этого власти – пока, правда, только в пределах деревни – всюду перед ним отступали, всюду, куда бы он ни направился, уходили от прямого столкновения, расслабляя его волю и притупляя бдительность; они, казалось, пока что любые военные действия вообще исключают, вместо этого все больше впутывая его в здешний мирный быт, в неслужебную жизнь, напрочь чуждую, смутную, не проницаемую для его понимания. Этак, если не быть начеку, вполне могло случиться, что он, несмотря на всю предупредительность властей, несмотря на сугубо аккуратное исполнение всех своих пока что подозрительно легких обязанностей, убаюканный оказанными ему мнимыми поощрениями, в своей неслужебной, обыденной жизни настолько утратит осторожность, что в конце концов неминуемо оплошает и какая-нибудь из властных инстанций, внешне по-прежнему любезно и кротко, вроде бы даже и не по своей воле, а только именем некоего не известного ему общественного установления, обязана будет вмешаться и попросту его устранить. Да и что вообще такое эта здешняя так называемая «обыденная» жизнь? Нигде еще К. не приходилось видеть, чтобы служба и жизнь переплетались столь же тесно, тесно настолько, что временами казалось, будто они поменялись местами. Много ли, к примеру, значила сейчас та сугубо формальная власть, которую имел над К. и его служебными обязанностями Дупль, по сравнению с той действительной и непререкаемой властью, которую Дупль наяву и со всею силой вершил у К. в спальне? Вот оттого и получалось, что некоторое легкомыслие, известная игривая непринужденность были здесь возможны и даже уместны только в прямом служебном сношении с властями, тогда как в остальном всегда и всюду потребна была крайняя осторожность, оглядка на каждом шагу и во все стороны.
В этих своих взглядах на повадки местных властей К., явившись к старосте, поначалу еще более утвердился. Сам староста, приветливого вида, гладко выбритый толстяк, оказался болен: подкошенный тяжелым приступом подагры, он принял К., лежа в постели.
– А вот и наш господин землемер, – объявил он, пытаясь приподняться, но так и не сумел и, как бы в извинение показав на ноги, обессиленно упал обратно на подушки. Его тихая супруга, едва различимой тенью скользя в полумраке хотя и просторной, но темной горницы с низкими, к тому же занавешенными окнами, – придвинула к кровати принесенный для К. стул.
– Садитесь, садитесь, господин землемер, – предложил староста, – и расскажите, какие у вас ко мне пожелания.
К. зачитал письмо Дупля, присовокупив к нему несколько слов от себя. И опять у него возникло странное чувство необыкновенной легкости в общении с властями. Казалось, они готовы принять на себя буквально любую обузу, хоть все на них перекладывай, а сам без забот и хлопот гуляй припеваючи. Со своей стороны, староста, как будто смутно угадав мысли К., беспокойно заворочался в постели. Потом наконец заговорил:
– Я, господин землемер, как вы, должно быть, успели заметить, о деле этом и раньше знал. А что сам ничего не предпринял, так то, во-первых, по причине болезни, а еще потому, что вы долго не приходили, вот я и подумал, может, у вас надобность отпала. Но уж теперь, коли вы так любезно соизволили сами меня навестить, я вынужден открыть вам всю правду, и правду весьма неприятную. Вы, как сами говорите, приняты землемером, но, к сожалению, землемер нам не нужен. У нас нет для него никакой, ну просто ни малейшей работы. Межи наших мелких наделов давно размечены, все занесено в реестры, смена владельцев происходит редко, а разногласия по спорным межам и участкам мы улаживаем сами. Зачем нам, спрашивается, землемер?
Где-то в глубине души – правда, не успев облечь эту мысль в слова – К. нечто подобное и ожидал услышать. Именно потому он и не замедлил с ответом:
– Я чрезвычайно поражен. Это опрокидывает все мои планы. Остается надеяться, что тут какое-то недоразумение.
– К сожалению, нет, – проговорил староста. – Все так, как я сказал.
– Но как такое возможно! – воскликнул К. – Не для того же я в такую даль тащился, чтобы меня тотчас спровадили обратно!
– Это уже другой вопрос, – сказал староста, – и не мне его решать, а вот как подобное недоразумение могло произойти, это я вам разъяснить могу. В канцеляриях столь огромных, как графская, иной раз вполне может случиться, что один отдел распорядится произвести одно, а другой, ничего о том не ведая, напротив, совсем другое, вышестоящий же контроль за их распоряжениями работает хотя и чрезвычайно тщательно, но как раз из-за тщательности, по самой природе своей, нередко запаздывает, тогда-то и возникают подобные мелкие неурядицы. Разумеется, это всегда только пустяки, сущие мелочи вроде вашего случая, в серьезных-то делах мне еще ни разу об ошибках слышать не доводилось, однако и мелочи тоже бывают достаточно досадны. Что же до вашего случая, то, не утаивая от вас никаких служебных секретов, – не настолько уж я чиновник, я крестьянином был, крестьянином и останусь, – я расскажу вам все как было начистоту. Давным-давно, я тогда еще только несколько месяцев старостой был, пришел указ, уж не помню теперь, от какого отдела, в котором в свойственном тамошним господам непререкаемом тоне сообщалось, что, дескать, вызван землемер и нашей общине предписывается держать наготове все необходимые для его работы чертежи и реестры. Указ этот, разумеется, к вам никакого отношения иметь не мог, потому как это много лет назад было, я бы даже и не вспомнил о нем, кабы не слег, в постели, знаете ли, и не о такой ерунде начинаешь думать. Мирочка, – сказал он вдруг, внезапно прерывая свой рассказ и обращаясь к жене, которая все еще тенью шмыгала по комнате в приступе бесшумной, но бурной и совершенно не понятной стороннему человеку деятельности, – пожалуйста, глянь там в шкафу, может, ты и найдешь указ. Это еще с первых времен моей службы, – пояснил он для К., – я тогда каждую бумажку норовил сохранить.
Жена открыла шкаф, К. и староста за ней наблюдали. Шкаф был забит доверху, едва распахнулись дверцы, из него тут же вывалились две огромные бумажные кипы, туго, как вязанки дров, перехваченные вкруговую бечевкой; женщина испуганно отпрянула.
– Где-то внизу он должен быть, внизу, – не унимался староста, из постели продолжая руководить поисками.
Жена, охапками сгребая бумаги, послушно выбрасывала из шкафа все подряд, лишь бы добраться до нижних папок. Вскоре бумагами было завалено уже полкомнаты.
– Да, большая работа проделана, – сказал староста, задумчиво кивая. – И это лишь малая часть. Основную-то массу я в сарае храню, а еще больше, по правде сказать, просто потерялось. Да разве такую прорву сохранишь! В сарае, правда, этого добра еще много. Ну, так найдешь ты указ или нет? – нетерпеливо обратился он к жене. – Ты ищи папку, на которой синим подчеркнуто слово «землемер».
– Больно тут темно, – пожаловалась жена. – Пойду принесу свечку. – И, ступая прямо по бумагам, вышла из комнаты.
– В этой муторной канцелярской канители, которую мне хочешь не хочешь, а между делом справлять все равно надо, жена моя главная опора, – сообщил староста. – Мне хоть проформы ради и придан в помощники письмоводитель, это учитель наш, да только со всей писаниной все равно не управишься, много дел так и остается без движения, я их туда складываю, вон их сколько скопилось. – И он указал на другой шкаф. – А сейчас, когда болею, от бумаг и вовсе спасу нет, – добавил он, устало, но не без гордости откидываясь на подушки.
– Нельзя ли и мне, – попросил К., когда жена старосты вернулась со свечой и, став на колени, возобновила поиски, – помочь вашей супруге?
Староста улыбнулся и покачал головой:
– Как я уже сказал, у меня нет от вас служебных секретов, однако позволить вам самому разбирать рабочую документацию я никак не могу, это уж ни в какие ворота не лезет.
В комнате стало тихо, слышно было только шуршание бумаг, под которое староста, похоже, начал слегка задремывать. Робкий стук в дверь заставил К. обернуться. Конечно, это были помощники. Все-таки он немного их вышколил, они уже не ломились в комнату без спроса, а, приотворив дверь, с порога прошептали:
– Мы там на улице совсем продрогли.
– Кто это? – спросил староста, встрепенувшись.
– Помощники мои, – сказал К. – Не знаю, где их оставлять, на улице мороз, а здесь они будут надоедать.
– Мне они не помешают, – приветливо сказал староста. – Пусть заходят. К тому же я их знаю. Старые знакомые.
– Да они мне будут надоедать, – не таясь, сказал К. и, переводя глаза с помощников на старосту и обратно, обнаружил, что все трое улыбаются, причем до неразличимости одинаковой ухмылкой. – Ну ладно, раз уж вы здесь, – продолжил он наудачу, – оставайтесь и помогите госпоже отыскать папку, на которой синим подчеркнуто слово «землемер».
Староста и не подумал возражать; выходит, то, что К. запрещено, помощникам разрешается, они, кстати, мигом набросились на бумаги, но больше ворошили, чем искали, и пока один по слогам разбирал написанное, другой уже норовил выхватить папку у него из рук. Жена старосты, напротив, застыла на коленях перед пустым шкафом и, казалось, давно ничего не ищет – свечка, во всяком случае, стояла от нее очень далеко.
– Так, значит, – заметил староста с самодовольной улыбкой, словно все вокруг происходит по его велению, только никто об этом даже смутно не подозревает, – помощники вам надоедают. Но ведь это ваши помощники?
– Нет, – холодно возразил К. – Эти только здесь ко мне приблудились.
– Что значит, «приблудились»? – удивился староста. – Вы, наверно, имели в виду, что их вам выделили.
– Ну, значит выделили, – сказал К. – Хотя с тем же успехом они, как снег на голову, и с неба могли свалиться, до того бездумно их выделяли.
– Бездумно здесь ничего не делается, – наставительно изрек староста и, даже позабыв о своих недужных суставах, вдруг сел очень прямо.
– Так уж и ничего? – переспросил К. – А как тогда с моим вызовом?
– И с вашим вызовом все было тщательно взвешено, – не смутился староста, – просто вмешались непредвиденные сторонние обстоятельства, я вам с бумагами в руках докажу.
– Да этих бумаг в жизни не найти, – сказал К.
– Как это не найти! – возмутился староста. – Мирочка, прошу тебя, нельзя ли искать поживее? Впрочем, для начала я могу изложить вам всю историю и без бумаг. На тот указ, о котором я уже говорил, мы тогда с благодарностью ответили в том смысле, что землемер нам не нужен. Однако ответ наш, похоже, попал не в тот отдел, из которого указ вышел, назовем его отдел «А», а по ошибке угодил в другой отдел, скажем, «Б». То есть в отдел «А» наш ответ не поступил, но и в отдел «Б» он, к сожалению, тоже поступил не полностью; содержимое папки то ли у нас где-то завалялось, то ли по пути пропало – в самом-то отделе точно нет, за это я ручаюсь, – как бы там ни было, но и в отдел «Б» пришла только пустая папка, на которой и пометок никаких не было, кроме одной: что дело касается якобы прилагаемого – в действительности же отсутствующего – указа о вызове землемера. Между тем отдел «А» все еще ждал нашего ответа, и хотя соответствующие регистрационные записи у них были, но, как это вполне понятным образом нередко происходит и даже при самом неукоснительном и точном делопроизводстве иногда неизбежно случается, ответственный за дело чиновник понадеялся, что мы на запрос еще ответим и тогда он либо землемера вызовет, либо, в соответствии с надобностью, с нами переписку продолжит. Вследствие чего произведенные по делу регистрационные записи он оставил без внимания, и само дело у него как-то забылось. Однако в отделе «Б» пустая папка дошла до славящегося своей добросовестностью чиновника по фамилии Сордини, он итальянец, и даже мне, человеку, как-никак посвященному во многое, совершенно непостижимо, как такого работника, при его-то способностях, все еще держат едва ли не на самой низкой должности. Разумеется, этот Сордини прислал нам пустую папку обратно с требованием ее доукомплектовать. Но со времени написания первого рескрипта из отдела «А» прошли уже месяцы, если не годы, что и понятно, ведь если дело движется верным путем, оно в нужный отдел самое позднее за одни сутки поступает и в тот же день решается, однако если оно с пути сбилось – а при такой превосходной организации, как у нас, оно буквально из кожи вон должно лезть, чтобы куда-то не туда прошмыгнуть, иначе ему эту ложную лазейку нипочем не найти, – ну, тогда, конечно, все тянется очень долго. И когда мы получили от Сордини запрос на пополнение папки, мы о самой надобности помнили уже очень смутно, вся работа тогда только на нас двоих держалась, на Мирочке да на мне, учителя мне в подмогу еще не выделили, и копии мы сохраняли лишь с самых важных бумаг, – короче, ответ мы смогли дать только очень расплывчатый в том смысле, что о вызове землемера нам ничего не известно и потребности в таковом у нас не имеется. Однако, – вдруг перебил сам себя староста, как будто даже испугавшись, не слишком ли далеко он зашел или вот-вот может зайти в своем повествовательном раже, – не наскучила ли вам эта история?
– Нет-нет, – ответил К., – она меня очень даже занимает.
На это староста откликнулся укоризненно:
– Я вам не занятности ради все это рассказываю.
– Мне потому только это занятно, – пояснил К., – что позволяет заглянуть в курьезные хитросплетения, от которых при известных обстоятельствах, оказывается, зависит человеческая жизнь.
– Никуда вы пока что не заглянули, – строго одернул его староста. – Вот погодите, дальше расскажу. Ответ наш такого доку, как Сордини, ясное дело, не устроил. Я преклоняюсь перед этим человеком, хотя он, можно сказать, просто бич мой. Он, надобно вам заметить, не доверяет вообще никому; даже если кто-то уже бессчетное число раз зарекомендовал себя заслуживающим всяческого доверия человеком, Сордини во всяком следующем деле будет не доверять ему точно так же, как если бы не знал его вовсе, а точнее сказать, как если бы знал, что перед ним отъявленный мошенник. Я-то считаю, что оно и справедливо, чиновник только так и должен действовать, но, к сожалению, сам, по слабости характера, этому правилу следовать не могу, сами видите, как я вам, человеку пришлому, все подчистую выкладываю, – ну, что делать, если не умею я иначе. Сордини, напротив, едва получив наш ответ, сразу почуял неладное. Ну и завязалась долгая переписка. Сордини заинтересовался, с какой стати я решил вдруг известить канцелярию, что землемера вызывать не требуется, я на это – с помощью Мирочки и ее замечательной памяти – ответил, что первый рескрипт относительно землемера исходил как раз из самой канцелярии (что это совсем другой отдел был, мы, конечно, давно запамятовали); Сордини на это мне: почему о служебном рескрипте я только теперь упоминаю; я в ответ: потому что только сейчас о нем вспомнил; Сордини: это, однако, весьма странно; я: вовсе не странно, ежели дело тянется так долго; Сордини: тем не менее это весьма странно, ибо рескрипта, о котором я изволил упомянуть, не существует; я: разумеется, его не существует, поскольку потерялось все содержимое папки; Сордини: однако относительно того первого рескрипта должна иметься хотя бы регистрационная запись, а ее нет. Тут я, признаться, запнулся, ибо ни утверждать, ни даже поверить, что у Сордини в отделе могла закрасться ошибка в работе, я не осмелился. Быть может, вы, господин землемер, про себя делаете господину Сордини упреки в том смысле, что мои утверждения могли бы побудить его справиться об этой оказии в других подразделениях. Но как раз это и было бы в корне неверно, и я не хочу, чтобы на этом человеке, пусть хотя бы в чьих-то мыслях, оставалось пятно. Одно из первых правил в работе канцелярии в том и состоит, что возможность ошибки как таковая вообще не допускается. Правило, кстати, совершенно оправданное безупречной организацией делопроизводства в целом и совершенно необходимое, поскольку в продвижении документов потребна предельная быстрота. Так что осведомляться в других отделах Сордини попросту права не имел, да они, отделы-то, ему бы и не ответили, сразу бы смекнули, что их подбивают на расследование возможной ошибки.
– Разрешите, господин староста, перебить вас одним вопросом, – встрял К. – Разве не упоминали вы давеча о контрольной службе? Судя по вашим же словам, тут такой размах работы, что при одной мысли, будто все это вершится бесконтрольно, просто голова кругом идет.
– Вон вы какой строгий, – заметил староста. – Но преумножьте вашу строгость тысячекратно, и все равно это будет пшик в сравнении со строгостью, с которой службы наши с самих себя спрашивают. Вопрос вроде вашего может задать только совсем неосведомленный чужак. Есть ли у нас контрольные службы? Да только контрольные службы у нас и есть! Правда, назначение их вовсе не в том, чтобы, грубо говоря, выискивать ошибки, ибо ошибок у нас не случается, а если даже вдруг и проскочит где ошибка, как вот в вашем случае, кто возьмет на себя смелость с окончательной уверенностью утверждать, ошибка ли это?
– Ого, это уже что-то новенькое! – опешил К.
– Для вас новенькое, а для меня так очень даже старенькое, – не дал смягчить себя староста. – Я и сам не меньше вашего убежден, что произошла ошибка, и знаю, что Сордини из-за этой ошибки в отчаянии и даже тяжело заболел, да и первые контрольные инстанции, которым мы обязаны вскрытием ошибки, все происшедшее именно как ошибку аттестуют. Но кто поручится, что контрольные инстанции второго уровня рассудят так же, а потом и третьего и так далее?
– Может быть, – проговорил К. – Мне в подобные рассуждения лучше не вникать, я и слышу-то о контрольных службах впервые и, разумеется, не могу сразу в них разобраться. Только все равно я думаю, что здесь надвое смотреть нужно, различая, во-первых, то, что в самих службах творится и что внутри самих служб, по служебной линии, так или этак расценивать можно, а во-вторых, с другой стороны, меня, отдельную личность, живого человека, который отдельно от служб существует и которому со стороны этих служб теперь ущемление грозит, причем настолько несуразное, что в серьезность угрозы я толком поверить не могу. Так вот, с первой точки зрения все, что вы, господин староста, с таким обескураживающим знанием дела тут рассказывали, возможно, и верно, но теперь я хотел бы хоть слово и о себе услышать.
– И до этого дойдет, – молвил староста, – только, боюсь, не поймете вы, если прежде я еще кое-что вам не растолкую. Я вот упомянул про контрольные службы, а ведь даже это преждевременно было. Поэтому вернусь к недоразумению с Сордини. Как уже сказано, отпираться мне становилось все трудней. А Сордини, коли учует в противнике хоть малейшую слабину, можно считать, уже победил, тут его бдительность, энергия, присутствие духа возрастают неимоверно, и тогда один вид его способен повергнуть неприятеля в ужас, зато врагов неприятеля – в восторг. Я и сам не однажды этот восторг испытывал, только потому вам сейчас так об этом человеке и рассказываю. Мне, кстати, ни разу не доводилось видеть его в лицо, он сюда не успевает спускаться, слишком завален работой, про кабинет его рассказывают, будто там папки с делами прямо колоннами от пола до потолка громоздятся, из-за них стен не видно, причем все это только те папки, которые у Сордини непосредственно в работе, и поскольку дела выхватываются и засовываются обратно целыми пачками, откуда и куда попало, колонны папок то и дело обрушиваются, и этот почти непрерывный, снова и снова сотрясающий стены грохот стал, говорят, самой верной приметой, по которой кабинет Сордини издалека найти можно. Да, что и говорить, Сордини – это работник, он и самой мелкой оказии уделяет столько же тщания, сколько самому серьезному делу.
– Вот вы, господин староста, – заметил К., – все время числите мое дело по разряду самых мелких, а скольким чиновникам пришлось им заниматься, так что если поначалу оно и было совсем ничтожным, то благодаря рвению чиновников вроде Сордини оно, наверно, уже в большое разрослось. Добавлю: к сожалению и совершенно против моей воли, ибо совсем не в том мое честолюбивое рвение, чтобы из-за меня росли и обрушивались колонны папок с касающимися меня бумагами, а в том, чтобы простым землемером спокойно работать за скромным чертежным столом.
– Ну нет, – возразил староста, – ваше дело совсем не большое, в этом отношении вам жаловаться не на что, оно, можно считать, среди мелких дел одно из мельчайших. Ведь степень важности дела вовсе не объемом работы обусловлена, вы очень далеки от понимания сути наших служб, если так полагаете. Но даже если бы все решал объем работы, и тогда ваш случай был бы одним из пустяковейших, рядовые дела, то бишь те, в которых всё без так называемых ошибок обходится, задают работы куда больше, правда, от них больше и отдача. Кстати, о самой-то работе, которую ваш случай причинил, вы пока и не знаете, я только собираюсь о ней рассказать. Поначалу меня самого Сордини вроде бы не трогал, зато чиновники от него зачастили в деревню, каждый день в «Господское подворье» вызывали кого-нибудь из уважаемых односельчан и проводились допросы, с протоколом. Большинство-то меня поддержало, но нашлись и супротивники, межевание наделов для крестьянина – вопрос нешуточный, им сразу стали чудиться сговоры да обманы, выискался среди них, кстати, и застрельщик, вот по их сведениям у Сордини и сложилось убеждение, что будто бы, когда я докладывал вопрос на совете общины, против вызова землемера высказались вроде как не все. В итоге самоочевидная вещь – а именно что землемер нам не нужен, – начала казаться по меньшей мере сомнительной. Особо постарался небезызвестный Брунсвик[1], вы его, наверно, еще не знаете, мужик он, может, и неплохой, но глупый и взбалмошный, он зять Хмелькера.
– Кожевника? – оживился К. и описал внешность бородатого мужика, которого он видел в доме Хмелькера.
– Да, это он, – подтвердил староста.
– Я и жену его знаю, – бросил К. скорее наугад.
– Тоже возможно, – проронил староста и умолк.
– Очень красивая женщина, – продолжал К., – только бледная малость, вид какой-то болезненный.
Староста глянул на часы, налил себе в ложку микстуры и с торопливой жадностью проглотил снадобье.
– Вы, должно быть, только служебные помещения в Замке знаете? – без околичностей спросил К.
– Ну да, – отозвался староста с чуть насмешливой, но все же как будто благодушной улыбкой. – Так они самое главное и есть. А что до Брунсвика: будь у нас такая возможность, почти все, и Хмелькеры не в последнюю очередь, были бы просто счастливы исключить его из общины. Но в ту пору Брунсвик приобрел в деревне некоторый вес, говорить он, правда, не больно мастак, зато орать горазд, а некоторым и этого довольно. Вот и вышло, что мне пришлось доложить вопрос на совете общины, – кстати, это и был единственный успех Брунсвика, ведь большинство совета, разумеется, ни о каком землемере даже слушать не пожелало. И это тоже давным-давно было, много лет назад, однако все это время дело никак не могло утрястись, отчасти из-за добросовестности Сордини, который путем тщательнейших опросов пытался выяснить настроения как большинства, так и оппозиции, отчасти же из-за дурости и зазнайства Брунсвика, у которого самые неожиданные личные связи в инстанциях, и он эти связи всячески старался пустить в ход все новыми и новыми бреднями. Сордини, впрочем, провести себя не дал – да и как Брунсвику провести самого Сордини? – но чтобы опровергнуть его домыслы, всякий раз требовались новые опросы и расследования, а прежде чем они успевали завершиться, Брунсвик опять удумывал что-то новенькое, такая уж неугомонная у него глупость, заполошный до невозможности. Вот тут я и подхожу к одной странной особенности всего нашего управленческого механизма. Насколько он точен, настолько же и капризен. И коли дело рассматривается слишком долго, может случиться, что еще до окончания всех рассмотрений вдруг – молниеносно и в совершенно непредсказуемом, а впоследствии и не установимом месте – выскакивает решение, которым дело закрывается; закрывается в большинстве случаев, конечно же, крайне справедливо, но все-таки самопроизвольно. И тогда возникает чувство, будто механизм делопроизводства, перенапрягшись от многолетнего раздражения вечно одним и тем же, вдобавок, бывает, совершенно ничтожным казусом, принимает и извлекает из себя решение сам, без всякого участия чиновников. Разумеется, на деле это никакое не чудо, где-то в инстанциях какой-нибудь чиновник наверняка написал заключение или даже без всякой писанины решение принял, но по крайней мере извне, с нашей-то колокольни, да и изнутри, в самих службах, невозможно установить, какой именно чиновник в данном случае принимал решение и по каким причинам. Только много позже контрольные службы, бывает, способны это установить, но нам-то об этом нипочем не узнать, да к тому времени оно, пожалуй, и интересовать никого не будет. Так вот, как я уже сказал, по большей части эти самопроизвольные решения превосходны, одно только в них неладно: так уж водится, что узнаёшь о них с большим запозданием, и получается, что из-за давным-давно решенного дела еще долго и совершенно зазря ломаются копья. Не знаю, как в вашем случае, выпало такое решение или нет – многое говорит за, многое против, – но если бы оно, допустим, выпало, то вам бы послали вызов, вы, едучи сюда, проделали бы долгое путешествие, времени прошло бы уйма, а между тем здесь Сордини все еще до изнеможения бился бы над вашим делом, Брунсвик по-прежнему плел бы свои козни и, уж конечно, оба они донимали бы меня. Я вам на такую возможность только намекаю, доподлинно мне известно лишь одно: тем временем одна из контрольных служб обнаружила, что много лет назад из отдела «А» в общину был направлен запрос относительно землемера, и ответа на запрос этот до сих пор не получено. Совсем недавно меня снова по этому поводу запрашивали, и тут, конечно, все дело сразу разъяснилось, отдел «А» вполне моим ответом удовлетворился, – в смысле, что землемер нам не требуется, – и даже Сордини пришлось признать, что в данном случае вопрос был совсем не по его ведомству и, значит, он хоть и без вины, но все-таки проделал прорву бесполезной, зазря изматывающей нервы работы. Так что если бы новая работа не наваливалась со всех сторон и если бы ваш случай, как уже сказано, не был таким мелким, – а он, можно сказать, и из мелких-то самый мельчайший, – то все мы, конечно, вздохнули бы с облегчением, по-моему, даже и сам Сордини, и только Брунсвик по-прежнему бы злобствовал и воду мутил, но это уж было бы только смешно. А теперь, господин землемер, вообразите себе мое разочарование, когда после благополучного разрешения всей этой кутерьмы – а с тех пор тоже немало воды утекло – вдруг являетесь вы и даете повод полагать, будто все дело надо начинать сызнова. Надеюсь, вы понимаете, что я, насколько это в моих силах, полон решимости ничего подобного не допустить?
– Да уж конечно, – протянул К. – А еще яснее я понимаю, что со мной лично, а возможно, и вообще с законностью в ваших краях творится возмутительный произвол. И со своей стороны найду способ за себя постоять.
– И как вы намерены это сделать? – поинтересовался староста.
– А вот этого я вам не раскрою, – ответил К.
– Не хочу навязываться, – сказал староста, – но советую принять в соображение, что в моем лице вы можете найти не скажу чтобы друга, – мы ведь совсем чужие люди, – но в известном смысле дружественного союзника. Вот только чтобы вас приняли землемером – этого я никак не допущу, в остальном же с полным доверием всегда можете ко мне обращаться, разумеется, в пределах моих властных полномочий, а они невелики.
– Вот вы все время говорите, – заметил К., – что я еще только должен быть принят землемером, но я ведь уже принят, вот же письмо Дупля.
– Письмо Дупля, – отозвался староста, – конечно, вещь ценная и заслуживающая всяческого уважения из-за самой подписи Дупля, которая, кажется, и вправду подлинная, в остальном же… впрочем, не берусь да и не смею об этом судить. Мирочка! – позвал он жену, но тут же вскричал: – Да что это вы делаете?
Надолго оставленные без присмотра, помощники и Мирочка, видимо, так и не обнаружив искомый указ, вознамерились уложить и запереть бумаги обратно в шкаф, однако в связи с беспорядочностью и обилием разбросанных по полу папок им это не удавалось. И тогда не иначе, что именно помощников осенила идея, которую они сейчас и приводили в исполнение. Они положили шкаф на пол, запихали в него папки и, усевшись вместе с Мирочкой на дверцы, пытались теперь медленным и дружным нажимом все-таки их закрыть.
– Значит, так и не нашли указ, – изрек староста. – Жаль, впрочем, всю историю вы и так знаете, в сущности, указ нам больше не нужен, потом он, конечно, обязательно отыщется, вероятно, он у учителя лежит, у него тоже целая прорва бумаг и папок. Мирочка, подойди-ка лучше со свечой ко мне да прочти мне это письмо.
Мирочка подошла, и теперь, когда она присела на край кровати подле своего крепкого, полного жизни супруга, который вдобавок тотчас обнял ее за плечи, вид у нее сделался совсем уж серенький и невзрачный. В мерцании свечи из темноты выделялось только ее маленькое личико с ясными, строгими, лишь под воздействием лет слегка смягчившимися чертами. Едва завидев письмо, она даже руками слегка всплеснула.
– От Дупля, – вымолвила она.
Потом они вместе прочитали письмо, о чем-то пошушукались, покуда наконец – тут помощники дружно грянули «ура!», ибо им удалось-таки дожать и закрыть дверцы шкафа, за что Мирочка вознаградила их безмолвным благодарным взором, – староста не объявил:
– Мирочка совершенно моего мнения, теперь, пожалуй, я рискну его высказать. Это вообще не служебная бумага, а частное письмо. Уже из самого обращения «Многоуважаемый сударь!» это совершенно ясно. Кроме того, здесь и словом не упомянуто, будто вы приняты землемером, скорее тут общие рассуждения о вашей господской службе, но и в них ничего определенного и обязывающего нет, сказано только, что вы приняты, «как вам известно», то есть бремя доказательства, что вы и в самом деле приняты, возложено на вас. Наконец, в отношении служебной подчиненности вас определяют исключительно ко мне, старосте, как к вашему непосредственному начальству, которое и должно сообщить вам все дальнейшее, что по большей части, кстати, уже исполнено. Кто в чтении служебных бумаг поднаторел, а вследствие этого и неслужебные письма еще лучше разбирает, для того здесь все ясней ясного; а что вы, сторонний человек, всех этих тонкостей не улавливаете, так оно и неудивительно. В общем и целом письмо ни о чем не говорит, кроме того, что Дупль лично намерен о вас позаботиться, если вы будете приняты на господскую службу.
– Вы, господин староста, – проговорил К., – так ловко письмо истолковали, что от него в конце концов вообще ничего не осталось, кроме подписи на пустом листе бумаги. Да разве вы не замечаете, что этим вы принизили само имя Дупля, которого на словах якобы так уважаете?
– Это недоразумение, – возразил староста. – Я вовсе не отрицаю значение письма и толкованием своим нисколько это значение не умаляю, совсем напротив. Частное письмо от Дупля, разумеется, имеет куда большее значение, чем служебное послание, однако как раз того значения, какое вы ему приписываете, у него нет.
– Вы Мракауэра знаете? – вдруг спросил К.
– Нет, – ответил староста. – Может, ты, Мирочка? Тоже нет? Нет, не знаем такого.
– Странно, – заметил К. – Он же сын младшего кастеляна?
– Дорогой мой господин землемер, – проронил староста. – Ну откуда мне знать всех сыновей всех младших кастелянов.
– Хорошо, – сказал К. – Тогда вам придется поверить мне на слово, что такой человек есть. С этим Мракауэром у меня сразу по прибытии неприятная стычка вышла. Так он запросил обо мне по телефону некоего младшего кастеляна по имени Фриц и получил справку, что я действительно принят землемером. Как, по-вашему, это можно объяснить?
– А очень просто, – ответил староста. – В том-то и дело, что в действительности вы пока ни разу в соприкосновение с нашими властями и не вступали. Все эти соприкосновения лишь кажущиеся, вы же по неведению, по неосведомленности в наших делах принимаете их за действительные. А что до телефона – взгляните: у меня, кому по долгу службы и вправду приходится достаточно часто сноситься с властями, телефона вовсе нет. В трактирах и тому подобных заведениях от телефона еще может быть какой-то прок, ну, вроде как от музыкального автомата, но не более того. Вам ведь уже приходилось здесь звонить, верно? Тогда, может, вы и поймете, о чем я. В самом-то Замке телефон, очевидно, работает безукоризненно; как мне рассказывали, там звонят беспрерывно, что, разумеется, очень ускоряет работу. Так вот, эти непрестанные телефонные переговоры мы в наших здешних телефонных аппаратах тоже слышим – они доносятся сюда пением и шумом, которые и вы наверняка слыхали. Но пение и шум – единственное, чему и вправду можно доверять в наших здешних телефонах, все остальное, что из них до нас доходит, сплошной обман слуха. Между деревней и Замком прямого телефонного сообщения нет, нет и телефонной станции, которая бы соединяла наши вызовы с Замком; и если кто удумает вдруг отсюда позвонить в Замок, там трезвонят разом все аппараты во всех самых нижних отделах, вернее сказать, трезвонили бы, если бы почти во всех, как мне доподлинно известно, не были отключены звонки. Но иной раз то в одном отделе, то в другом у какого-нибудь переутомившегося чиновника нет-нет да и возникнет прихоть малость развеяться, особенно по ночам или вечером, вот он и включает звонок, и тогда мы в самом деле получаем ответ, правда, ответ этот не более чем шутка. Да оно и понятно. Кому в голову взбредет со своими мелкими личными заботами соваться в важнейшие и всегда сугубо срочно исполняемые дела Замка? Вот я лично не пойму, как даже несведущий сторонний человек может надеяться, что если он, допустим, Сордини позвонил, то ему и вправду Сордини ответит? Куда вероятней, это будет мелкий регистратор из совсем другого подразделения. С другой стороны, но это в редчайшем случае, может выпасть и такая оказия, что позвонишь мелкому регистратору, а ответит тебе сам Сордини. Тогда, правда, впору сразу бросать трубку и опрометью бежать от телефона при первых же звуках его голоса, а лучше и того раньше.
– Я, конечно, так на это дело не смотрел, – сказал К., – и подробностей этих знать не мог, но особого доверия здешние телефонные переговоры у меня тоже не вызывали, я всегда понимал: действительное значение имеет только то, что сам узнаешь или чего сам добьешься непосредственно в Замке.
– Нет, – ответил староста, решив, видимо, сегодня твердо стоять на этом слове. – Действительное значение у этих телефонных ответов безусловно имеется, а как же иначе? Как это может быть, чтобы справка, данная чиновником из Замка, не имела значения? Я и в отношении письма Дупля примерно то же самое вам говорил. Служебного значения все эти высказывания не имеют; если вы им служебное значение приписываете, то вы заблуждаетесь, зато их частное значение – в дружественном или, наоборот, враждебном вам смысле – крайне велико, настолько велико, что никакому служебному значению такая важность и не снилась.
– Хорошо, – сказал К., – если допустить, что все обстоит именно так, то, выходит, у меня в Замке уйма добрых друзей; ведь если так смотреть, то еще тогда, много лет назад, осенившая какой-то отдел идея – мол, не вызвать ли землемера? – была, можно сказать, в отношении меня дружественным актом, и благоприятствования эти, судя по всему, потом следовали одно за другим, покуда не обернулись таким вот злополучным фортелем: меня сперва заманили, а теперь норовят вышвырнуть.
– Вообще-то доля правды в таком взгляде на вещи есть, – заметил староста. – Вы правы в том, что никакие указания из Замка нельзя принимать буквально. Но осторожность – она ведь всюду нужна, не только здесь, и она тем нужнее, чем серьезнее указание, о котором идет речь. Вот только ваши слова насчет заманивания мне не совсем понятны. Если бы вы повнимательнее следили за моими рассуждениями, то должны бы уразуметь: вопрос вашего сюда вызова слишком сложен, чтобы нам двоим прояснить его в столь краткой беседе.
– Значит, в конечном итоге остается, – вымолвил К., – что все весьма неясно и неразрешимо, кроме одного: меня отсюда вышвыривают.
– Да кто же осмелится вас вышвырнуть, господин землемер? – изумился староста. – Как раз неясность всех изначальных вопросов и есть порука самого вежливого с вами обхождения, просто вы, похоже, слишком чувствительны. Никто вас здесь не удерживает, но это вовсе не значит, что вас вышвыривают.
– Э-э, господин староста, – возразил К., – на сей раз это вы на некоторые вещи слишком просто смотрите. Я вам сейчас примерно перечислю, что меня тут удерживает: лишения, жертвы и издержки, ценой которых я оторван от родного дома, тяготы долгого пути, обоснованные надежды, которые я питал в связи с видами на должность, мое полное нынешнее безденежье, невозможность по возвращении на родину снова найти приличествующую мне работу и, наконец, совсем не в последнюю очередь, моя невеста, она-то ведь здешняя.
– Ах, Фрида! – бросил староста, нисколько не удивленный. – Я знаю. Ну, Фрида хоть на край света за вами пойдет. Что же до остального, тут и правда кое-что в соображение принять следует, я так в Замке и доложу. И если решение придет или понадобится прежде еще раз вас допросить, я распоряжусь вас вызвать. Вас это устраивает?
– Нет, нисколько, – возразил К., – я не желаю от Замка никаких подачек из милости, я хочу добиться своего права.
– Мирочка, – обратился староста к супруге, которая по-прежнему сидела, прильнув к мужниному плечу, и в задумчивости играла письмом Дупля, успев соорудить из него бумажный кораблик; К., заметив это, тотчас же испуганно отобрал у нее письмо, – Мирочка, что-то нога у меня опять разболелась, пора примочку сменить.
К. встал.
– Тогда позвольте откланяться, – сказал он.
– Да-да, – отозвалась Мирочка, уже готовя какое-то снадобье. – А то что-то очень дует.
К. обернулся: помощники в своем – как всегда, неуместном – услужливом рвении, едва услышав, что К. откланивается, распахнули настежь обе створки двери. Торопясь уберечь больного от ворвавшейся в дом волны уличной стужи, К. успел только слегка поклониться старосте. После чего, увлекая за собой помощников, стремглав выбежал из комнаты и поспешно прикрыл дверь.
Глава 6
Второй разговор с хозяйкой
Перед трактиром его дожидался муж хозяйки. Заговорить первым он явно робел, и К. сам спросил, что ему нужно.
– Ты уже подыскал себе новую квартиру? – спросил тот, пряча глаза.
– Это жена тебя послала? – поинтересовался К. – Ты, похоже, совсем у нее под каблуком.
– Нет, – ответил трактирщик. – Я не от нее, я сам по себе спрашиваю. Но она очень разволновалась и расстроилась из-за тебя, работать совсем не может, в постель слегла, только вздыхает и плачется без конца.
– Так мне что, сходить к ней? – спросил К.
– Да, очень тебя прошу, – взмолился трактирщик. – Я уж и к старосте за тобой ходил, там под дверью стоял, но у вас разговор был, я помешать боялся, да и о жене беспокоился, обратно домой побежал, только она меня к себе не допустила, вот мне ничего и не осталось, кроме как здесь тебя дожидаться.
– Тогда пошли скорей, – сказал К., – я живо ее успокою.
– Хорошо бы, коли так, – вздохнул трактирщик.
Они прошли через просторную, светлую кухню, где три или четыре служанки, работавшие порознь и довольно далеко друг от друга, при виде К. все как одна буквально оцепенели. Уже отсюда, из кухни, слышны были вздохи хозяйки. Оказалось, она лежит в небольшой каморке без окон, отделенной от кухни лишь тонкой дощатой перегородкой. Уместились в каморке только двуспальная супружеская кровать да шкаф. Кровать стояла так, чтобы с нее можно было обозревать всю кухню и происходящие там работы. Из кухни же, напротив, разглядеть что-либо в закутке было почти невозможно, такая там стояла темень, только бело-красная постель смутно проступала из мрака. И лишь войдя внутрь и дав глазам попривыкнуть, посетитель хоть что-то начинал различать.
– Наконец-то вы пришли, – простонала хозяйка слабым голосом. Она лежала на спине, вытянувшись, дышать ей, судя по всему, было трудно, она даже перину с себя сбросила. Сейчас, в постели, она выглядела гораздо моложе, чем давеча в платье, хотя ночной чепчик из тонкого кружева, – возможно, еще и оттого, что был ей мал и плохо держался на волосах, – оттенял меты возраста на ее лице и вызывал к ней жалость.
– Да как же я мог прийти, – сказал К. как можно ласковей, – когда вы меня не звали?
– Нехорошо заставлять меня ждать так долго, – с настырностью капризного больного продолжала твердить хозяйка. – Садитесь, – сказала она, указывая на край кровати. – А вы, все остальные, уйдите.
Оказалось, что помимо помощников в каморку тем временем набились еще и служанки.
– Мне тоже уйти, Гардена? – спросил трактирщик, и К. впервые услышал имя хозяйки.
– Конечно, – протянула та и, словно занятая еще какими-то мыслями, рассеянно добавила: – С какой стати именно тебе оставаться?
Но и когда все ретировались на кухню, включая помощников, которые на сей раз подчинились безропотно, – впрочем, они просто увязались за одной из служанок, – Гардену это не устроило; сообразив, что из кухни все будет слышно, ибо двери в каморке нет, она распорядилась всем и из кухни тоже выйти. Что и было исполнено.
– Пожалуйста, господин землемер, – попросила Гардена, – в шкафу, наверху, вы сразу же увидите, висит шаль, подайте ее мне, я ею накроюсь, перину я терпеть не могу, мне под ней не продохнуть. – А когда К. принес шаль, сказала: – Видите, какая красивая?
На взгляд К., ничего особенного в шали не было, обычный шерстяной платок; он из вежливости пощупал шаль еще раз, но ничего не сказал.
– Да, очень красивая, – проговорила Гардена, кутаясь в шаль. Теперь она лежала на кровати вполне уютно, казалось, все ее беды и хвори как рукой сняло, она даже вспомнила, что волосы не в порядке, и, ненадолго сев в постели, слегка поправила под чепчиком прическу. Волосы у нее были пышные.
Начиная терять терпение, К. спросил:
– Вы, госпожа трактирщица, посылали спросить, подыскал ли я себе новое жилье?
– Я посылала? – удивилась трактирщица. – Нет, тут какая-то ошибка.
– Ваш муж только что меня об этом спрашивал.
– А, это на него похоже, – заметила хозяйка. – Совсем я с ним измучилась. Когда не хотела вас держать, он вас привечал, а теперь, когда я счастлива, что вы у нас живете, он вас гонит. С ним всегда вот этак.
– Так значит, – спросил К., – вы успели изменить свое мнение обо мне? За какой-нибудь час-другой?
– Мнения своего я не меняла, – проговорила хозяйка, снова заметно слабея голосом. – Дайте мне вашу руку. Вот так. А теперь обещайте быть со мной совершенно откровенным, тогда и я ничего от вас утаивать не стану.
– Хорошо, – сказал К. – Кто первый начнет?
– Я, – выдохнула хозяйка, словно она не в угоду К. соглашается, а сама давно жаждет выговориться.
Достав из-под подушки, она протянула К. фотографию.
– Взгляните вот на это, – попросила она.
Чтобы получше разглядеть снимок, К. шагнул на кухню, но и там, на свету, нелегко было хоть что-то различить на фотокарточке, настолько та выцвела от старости, потрескалась, помялась, да и захватана-заляпана была изрядно.
– Не сказать, чтобы она хорошо сохранилась, – заметил К.
– Увы, к сожалению, – согласилась хозяйка. – Когда вещь столько лет всегда и всюду при себе держишь, так оно и бывает. Но если как следует вглядитесь, то все увидите наверняка. Да я и помочь вам готова, расскажите только, что вы видите, мне так приятно про эту карточку слушать.
– Вижу молодого человека, – сказал К.
– Верно, – подтвердила хозяйка. – А что он делает?
– По-моему, лежит на какой-то доске, тянется и зевает.
Хозяйка рассмеялась.
– Нет, совсем не то, – сказала она.
– Но вот же доска, – стоял на своем К., – а вот он лежит.
– А вы внимательней присмотритесь, – уже с раздражением в голосе посоветовала она. – По-вашему, он в самом деле лежит?
– Нет, – вынужден был согласиться К., – он парит в воздухе, я теперь вижу, и это не доска, а вероятней всего, веревка, молодой человек прыгает в высоту.
– Ну вот, – обрадовалась хозяйка. – Именно что прыгает, это канцелярские посыльные так тренируются, я же знала, вы разберетесь. А лицо его видите?
– Да лица-то почти не видно, – сказал К. – Но похоже, старается он изо всех сил: рот раскрыт, глаза зажмурены, волосы растрепаны.
– Очень хорошо, – похвалила хозяйка. – Больше-то, если его лично не знать, и не разглядишь ничего. Но он красивый был мальчик, я его только один раз мельком видела и уже вовек не забуду.
– И кто это был? – поинтересовался К.
– Это был, – вымолвила хозяйка, – посыльный, через которого Дупль в первый раз меня к себе вызвал.
К., впрочем, не мог толком слушать – его отвлекало дребезжание стекла. Он вскоре обнаружил источник помехи. За окном, во дворе, стояли помощники, вернее, не стояли, а подскакивали, переминаясь с ноги на ногу. И делали вид, будто страшно рады снова видеть К.: вне себя от счастья, они показывали на него друг дружке, беспрестанно тыча пальцами в оконное стекло. К. замахнулся на них, и они тотчас прекратили стучать, отпрянули, оттаскивая друг друга, но один тут же вывернулся, и вскоре оба снова прилипли к окну. К. поспешил в каморку, откуда помощники его видеть не могли, да и ему глаза не мозолили. Но тихое, как будто просительное дребезжание оконного стекла доносилось и сюда и еще долго не давало ему покоя.
– Опять эти помощники, – оправдываясь, бросил он трактирщице, указывая на окно. Но та даже внимания не обратила, забрала у него фотографию, разгладила и снова сунула под подушку. Движения ее вдруг замедлились, но не от усталости, а от погруженности в прошлое. Она собиралась что-то рассказать К., но, похоже, за раздумьями о предстоящем рассказе напрочь о самом К. позабыла. Рассеянно играла бахромой шали. Лишь некоторое время спустя подняла голову, провела рукой по глазам и сказала:
– И шаль эта тоже от Дупля. И чепчик. Фотокарточка, шаль да чепчик – всего три вещи у меня от него на память. Я уже не молоденькая, как Фрида, не такая гордячка, как она, и не такая ранимая, она-то ужасно ранимая, – словом, я всякого в жизни понавидалась, но одно скажу: без этих трех вещей мне бы так долго здесь не выдержать, нет, я бы, наверно, и дня здесь не вытерпела. Вам они, может, покажутся ерундой, но судите сами: у Фриды, которая с Дуплем вон как долго была, вообще ничего от него на память нету, я ведь ее спрашивала, но она мечтательница, да и привереда, а я хоть всего три раза у Дупля побывала, уж не знаю, почему он меня больше не вызывал, только я как будто чувствовала, что счастье мое недолгим будет, вот и взяла на память. Да-да, тут самой о себе позаботиться надо, по своей охоте Дупль ничего не даст, но если там что подходящее лежит, выпросить можно.
К. почему-то испытывал неловкость, внимая всем этим откровенностям, сколь бы близко они его ни касались.
– И давно все это было? – вздохнув, спросил он.
– Да уж годков двадцать с лишним, – ответила хозяйка. – Много больше двадцати.
– Вот, значит, как хранят верность Дуплю, – проговорил К. – Отдаете ли вы себе отчет, госпожа трактирщица, что такими признаниями вы мне, без пяти минут молодожену, большие тревоги внушаете относительно моего будущего брака?
Хозяйка, посчитав, видимо, крайней бестактностью со стороны К. встревать сейчас со своими личными делами, только искоса стрельнула в него сердитым взором.
– Ну зачем так гневаться, госпожа трактирщица? – заметил К. – Я ведь слова против Дупля не говорю, но по воле событий я тоже имею теперь некоторое к нему отношение, этого даже самый ревностный почитатель Дупля не станет отрицать. Вот то-то и оно. А значит, теперь при всяком упоминании Дупля я поневоле и о себе думаю, тут уж ничего не попишешь. И вообще, госпожа трактирщица, – тут К., невзирая на легкое сопротивление, взял ее за руку, – вспомните, как скверно наша прошлая беседа закончилась, а сегодня мы ведь хотели миром разойтись.
– И то правда, – согласилась хозяйка, опуская голову. – Но вы уж меня пощадите. Я не обидчивей других, напротив, но у каждого свои больные места имеются, у меня вот только одно это.
– К сожалению, это и мое больное место, – сказал К. – Но с собой я как-нибудь справлюсь. А теперь объясните, хозяйка, как мне прикажете терпеть в собственном браке такую чудовищную верность Дуплю, если, конечно, предположить, что Фрида в этом будет похожа на вас?
– Чудовищную верность? – с негодованием повторила хозяйка. – Да какая же это верность? Это мужу своему я верна, а Дуплю? Дупль однажды соизволил сделать меня своей возлюбленной, разве кто-нибудь лишит меня этого звания? Как вам терпеть подобное с Фридой? Да кто вы такой, господин землемер, чтобы иметь дерзость задавать подобные вопросы?
– Хозяйка! – предостерегающе осадил ее К.
– Да знаю, знаю, – проговорила та, смиряясь. – Только вот муж мой таких вопросов не задавал. Даже не знаю, кого из нас двоих несчастнее считать – меня тогда или Фриду теперь? Фриду, у которой хватило духу самой от Дупля уйти, или меня, которую он больше к себе не вызвал. Наверно, все-таки Фриду, хоть она пока всей меры своего несчастья и не ведает. Моя печаль занимала тогда мои мысли всецело, я без конца спрашивала себя, да и по сей день не перестаю спрашивать: ну почему так? Три раза Дупль меня вызывал, а в четвертый не вызвал, так никогда в четвертый раз и не вызвал! А что еще могло меня тогда больше-то занимать? О чем еще было с мужем говорить, с которым мы вскоре после этого поженились? Днем времени у нас не было, трактир этот нам в жутком виде достался, и поднимали мы его тяжко, но ночью? Годами все наши ночные разговоры вокруг одного только и вертелись – все о Дупле да о том, почему его чувства переменились. И когда муж мой за этими разговорами ненароком засыпал, я его будила, и мы говорили дальше.
– Тогда я, – сказал К., – если позволите, задам очень грубый вопрос.
Хозяйка промолчала.
– Значит, спросить нельзя, – ответил за нее К. – Что ж, мне и этого довольно.
– Ну конечно, – пробурчала трактирщица. – Вам и этого довольно, вам как раз только этого и довольно. Вы все, все по-своему перетолковываете, даже молчание. Просто не можете иначе. Так вот, я позволяю – спрашивайте.
– Если я все по-своему перетолковываю, – заметил К., – я, может, и вопрос свой понимаю неверно, может, он вовсе и не такой грубый. Я просто хотел спросить, как вы с мужем вашим познакомились и как вам трактир этот достался?
Хозяйка наморщила лоб, потом равнодушно сказала:
– Ну, это очень простая история. Отец мой кузнецом был, а Ханс, мой нынешний муж, конюхом работал у одного богатого крестьянина и часто к отцу моему захаживал. А было это как раз после моей последней встречи с Дуплем, я тогда от горя просто убивалась, хотя вообще-то на такое отчаяние права не имела, ведь все чин чином прошло, а что меня больше к Дуплю не допускали, так на то была его воля, то есть опять-таки все как положено, только причины мне были неясны, но чтобы от горя убиваться, такого права у меня не было, ну а я все равно убивалась и даже работать не могла, только сидела целыми днями перед домом в садочке нашем, и все. Там Ханс меня и видел, иногда подсаживался ко мне, я ему не жаловалась, но он понимал, каково у меня на душе, а поскольку мальчик он добрый, то, бывало, даже и всплакнет со мной вместе. И как-то раз тогдашний трактирщик – у него жена померла, и пришлось дело прикрыть, да он уже и старый был – проходил мимо нашего дома, увидел, как мы в садочке сидим, остановился и с ходу предложил свой трактир нам в аренду сдать, даже задатка брать не стал, сказал, что и так нам доверяет, и плату назначил очень божескую. А я обузой отцу быть не хотела, остальное же все было мне безразлично, и я, подумав о трактире и о новой работе, которая вдруг да и поможет мне забыться, отдала свою руку Хансу. Вот и вся история.
Некоторое время было тихо, потом К. сказал:
– Трактирщик поступил, конечно, благородно, но ведь необдуманно, или, может, у него особые причины имелись так вам обоим доверять?
– Так он Ханса хорошо знал, – пояснила трактирщица, – дядей Хансу приходился.
– Ну, тогда конечно, – сказал К. – Очевидно, семье Ханса очень хотелось породниться с вами?
– Может быть, – бросила хозяйка. – Не знаю, меня это не волновало.
– Наверно, так оно и было, – продолжал К. – Раз уж семья готова была такие жертвы принести и без всяких ручательств трактир в ваши руки отдать.
– Ну, потом-то оказалось, что не такая уж это и опрометчивость с их стороны, – заметила трактирщица. – На работу я, можно сказать, набросилась, девка я была сильная, даром что дочь кузнеца, ни служанок, ни батраков мне не требовалось, я всюду сама поспевала, и в столовой, и у плиты, и в стойле, и во дворе, а стряпала так, что из «Господского подворья» клиентов переманивать стала, вы наших обеденных гостей еще не знаете, поначалу их и того больше у нас столовалось, но с тех пор многие обратно отбились или по другим местам разошлись. А в итоге мы не только арендную плату исправно платить смогли, но через несколько лет и все хозяйство откупили, а теперь и из долгов почитай что выбрались. Есть тут, правда, и другой итог – что здоровье я себе вконец угробила, сердце у меня никуда, да и сама вон совсем старуха. Вы небось думаете, что я намного Ханса старше, а на самом деле он только на два-три годка меня моложе, правда, он и не постареет никогда на такой-то работе – трубку выкурить, с гостями поболтать, потом трубку выбить, ну и, может, пива кому разок подать, – нет, от такой работы не состаришься.
– Вы поразительно многого добились, – сказал К., – тут и сомневаться нечего, но мы ведь говорили о временах до вашей свадьбы, и в ту пору разве не было странно, что родственники Ханса, не страшась денежных потерь или по крайней мере идя на такой большой риск, как передача вам трактира, все-таки настаивали на свадьбе, не имея в этом отношении других надежд, кроме как на вашу рабочую силу и трудолюбие, которых они тогда еще знать не могли, и на рабочую силу и трудолюбие Ханса, об отсутствии каковых им наверняка было хорошо известно?
– Ну да, да, – устало бросила хозяйка, – понятно, куда вы клоните, да только опять пальцем в небо. Дупль во всех этих делах ни словом ни духом не замешан. С какой стати ему было обо мне заботиться, а вернее сказать – как он вообще мог обо мне позаботиться? Он обо мне ровным счетом ничего не знал. И раз больше не вызывал, значит, забыл. Кого он больше не вызывает – про того забывает напрочь. Я уж при Фриде об этом говорить не стала. Но это не просто забвение, тут гораздо больше. Кого однажды позабыл – с тем когда-нибудь снова познакомиться можно. А с Дуплем на это надеяться уже нельзя. Если он кого к себе больше не вызывает, значит, позабыл напрочь не только в прошлом, но и на будущее, на веки вечные, можно сказать. Если постараться, я могу, конечно, вашими мыслями начать думать, которые там, на чужбине, вам, может, и пригодились бы, только здесь, у нас, это мысли совершенно бесполезные, вздорные. Может, вы в своих рассуждениях даже до такого сумасбродства дошли, будто Дупль нарочно мне Ханса сосватал, чтобы мне без помех к нему, Дуплю, приходить, если когда-нибудь в будущем он меня вызвать надумает. Вот уж поистине ничего сумасброднее и придумать нельзя. Да где такого мужа сыскать, который помешал бы мне к Дуплю по первому его зову, по первому кивку бегом побежать? Вздор, сущий вздор, тут у самой ум за разум зайдет, когда с такими бреднями играться начинаешь.
– Нет, нет, – сказал К., – ум за разум у нас не зайдет, да и я в своих мыслях так далеко не заходил, как вам подумалось, хотя, по правде сказать, двигался куда-то в ту же сторону. Поначалу меня просто удивило, с какой стати родня Ханса столько надежд возлагала на свадьбу и каким образом все эти надежды и вправду сбылись, хотя и ценой вашего сердца, вашего здоровья? Мысль о причастности Дупля к этим обстоятельствам, разумеется, напрашивалась, но не в таком – вернее, еще не в таком – грубом виде, как ее представили вы, полагаю, единственно с одной лишь целью опять меня осадить, благо вам это доставляет удовольствие. Что ж, я рад вам его доставлять! Но мысль моя была вот какая: во-первых, очевидно, что Дупль стал причиной этой свадьбы. Не будь Дупля, вы не убивались бы от горя, не сидели бы без дела в садочке, не будь Дупля, вас не увидел бы там Ханс, а не будь вы так печальны, робкий Ханс и заговорить бы с вами в жизни не решился, не будь Дупля, вы никогда бы с Хансом не обнялись в слезах, не будь Дупля, добрый старый дядюшка-трактирщик никогда бы не увидел, как вы в садочке, словно два голубка, сидите, не будь Дупля, вы не были бы столь безразличны ко всему на свете и, значит, не пошли бы за Ханса замуж. Все-таки рискну сказать, что во всем этом Дупль достаточно сильно замешан. Но оно и дальше все одно к одному складывается. Не ищи вы возможности забыться, вы бы уж наверняка не стали так гробить себя работой, а значит, так истово не поднимали бы трактир. Выходит, и тут без Дупля не обошлось. Но и помимо этого Дупль, безусловно, виновник ваших недугов, ведь сердце ваше еще до свадьбы было иссушено пагубной страстью. Остается только один вопрос: чем это родню Ханса так привлекала его женитьба на вас? Вы сами как-то упомянули, что стать возлюбленной Дупля – значит, получить пожизненное высокое звание, которого невозможно лишиться, – наверно, вот это их и привлекло. А кроме того, полагаю, еще и надежда на вашу счастливую звезду, – если только согласиться, что звезда и вправду счастливая, но вы на этом настаиваете, – на то, что звезда эта всегда будет вам сопутствовать, а не покинет вас столь же скоропалительно и внезапно, как покинул Дупль.
– Вы все это всерьез говорите? – спросила хозяйка.
– Всерьез, – не задумываясь, ответил К. – Только я думаю, что родичи Ханса в своих надеждах оказались не совсем правы, хотя и не совсем просчитались, а еще я думаю, что вы допустили ошибку, и я эту ошибку вижу. Внешне вроде бы все удачно вышло, Ханс всем обеспечен, и жена у него из себя видная, семья в почете, хозяйство без долгов. Но на самом деле все вовсе не так удачно, с простой девушкой, полюбившей его первой большой любовью, он наверняка изведал бы счастья куда больше; и если он иной раз ходит по трактиру как потерянный, в чем вы его упрекаете, то лишь потому, что он и в самом деле чувствует себя тут потерянным – ничуть, правда, не будучи из-за этого несчастным, уж настолько я успел его узнать, – однако столь же очевидно и то, что этот ладный, смышленый малый с другой женой был бы куда более счастливым человеком, а значит, и вполне мужчиной самостоятельным, дельным, работящим. И вы тоже нисколько не счастливы и, как сами говорите, без трех вещей, оставшихся на память, жить бы дальше не захотели, да и сердце у вас больное. Выходит, родня в своих надеждах все-таки просчиталась? Нет, я так не думаю. Благословение было над вами, да только вы не сумели его с неба достать.
– Что же мы упустили? – спросила хозяйка. Она лежала теперь, вытянувшись на спине, и смотрела в потолок.
– Дупля спросить, – сказал К.
– Опять вы за свое, – устало бросила трактирщица.
– Или за ваше, – возразил К., – дела-то наши одного свойства.
– Хорошо, что вы хотите от Дупля? – спросила хозяйка. Она теперь села прямо, взбив подушки и откинувшись на них, и смотрела К. прямо в глаза. – Я свою историю откровенно вам рассказала, может, вас это чему и научит. Но теперь и вы откровенно мне скажите: о чем таком вы хотите Дупля спросить? Я еле-еле Фриду уговорила в комнату к себе подняться и там побыть, боялась, вы при ней начистоту говорить не станете.
– Мне скрывать нечего, – сказал К. – Но сперва я хотел бы обратить ваше внимание на одну вещь. Вот вы говорите, Дупль забывает сразу же. Во-первых, мне это представляется крайне маловероятным, во-вторых, это утверждение совершенно бездоказательно, не иначе это сказка, выдумка досужих девичьих умов, сочиненная возлюбленными, которые побывали у Дупля в фаворе. Удивляюсь, как вы способны верить в такие сказки.
– Никакие это не сказки, – проронила трактирщица, – скорее общий наш жизненный опыт.
– Значит, как и всякий прежний опыт, он когда-нибудь опровергается новыми обстоятельствами, – заметил К. – Но есть и еще одно различие между вашим и Фридиным случаями. Невозможно утверждать, что Дупль больше не позвал бы к себе Фриду, ведь дело в известном смысле было совсем не так, скорее, напротив, он ее позвал, а она не пошла. Очень даже может быть, что он до сих пор ее ждет.
Хозяйка молчала и только смерила К. испытующим взглядом. Потом наконец произнесла:
– Я себе наказала все, что вы тут будете говорить, выслушать спокойно. Так что лучше говорите прямо, не старайтесь меня щадить. Об одном лишь прошу: имя Дупля не поминайте. Называйте его «он» или еще как-нибудь, только не по имени.
– Извольте, – согласился К. – Мне, однако, трудно сказать, чего я от него хочу. Для начала хочу просто посмотреть на него вблизи, потом хочу услышать его голос, потом хотел бы узнать, как он относится к нашей свадьбе; а вот уж о чем я потом, быть может, его бы попросил, это зависит от дальнейшего хода беседы. На словах много всего может проявиться, но главное для меня – предстать перед ним. Ведь я по-настоящему, с глазу на глаз, еще ни с одним чиновником не разговаривал. Похоже, этого труднее добиться, чем я полагал. Но теперь я просто обязан, это мой долг – переговорить с ним как с частным лицом по частному делу, и уж это, думается мне, осуществить гораздо легче; как с чиновником я могу говорить с ним только в Замке, в его кабинете, доступ куда мне, возможно, заказан, или в «Господском подворье», но и это скорее сомнительно, зато как частное лицо я могу заговорить с ним везде, дома, на улице, всюду, где бы я его ни встретил. Что в лице этого частного лица передо мной одновременно будет еще и чиновник – с этим я охотно примирюсь, но это не главная моя цель.
– Хорошо, – сказала трактирщица, вдруг пряча лицо в подушки, словно она произносит нечто совсем постыдное, – если я, используя свои связи, добьюсь, чтобы вашу просьбу о беседе довели до Дупля, вы обещаете мне до получения ответа ничего на свой страх и риск не предпринимать?
– Этого я обещать не могу, – сказал К., – сколь бы ни хотелось мне исполнить вашу просьбу, вернее, не просьбу даже, а прихоть. Дело не терпит, особенно теперь, после неблагоприятного исхода моего разговора со старостой.
– Ну, это не довод, – возразила трактирщица. – Староста сам по себе совершенно пустое место. Разве вы не заметили? Да он бы дня в своей должности не продержался, если бы не жена, вот она все и решает.
– Мирочка? – изумился К.
Хозяйка кивнула.
– Она тоже там была, – вымолвил он.
– И как-нибудь высказалась?
– Нет, – ответил К. – И у меня не создалось впечатления, что она вообще на это способна.
– Ну да, – заметила трактирщица. – Вы у нас все вот этак, шиворот-навыворот видите. В любом случае: как бы там староста относительно вас ни распорядился, никакого значения это не имеет, а с женой его я при случае переговорю. Ну а если я вам пообещаю, что ответ от Дупля придет самое позднее через неделю – уж тогда-то у вас не будет оснований не уважить мою просьбу?
– Тут не это решает, – ответил К. – Намерение переговорить с Дуплем у меня твердое, и даже если бы ответ пришел неблагоприятный, я все равно буду пытаться его осуществить. А коли так, никакого нет смысла просить о разговоре заранее. То, что без просьбы было бы, возможно, поступком дерзким, но по крайней мере благонамеренным, после отказа станет открытым неподчинением. А это куда хуже.
– Хуже? – переспросила трактирщица. – Да это в любом случае будет неподчинение. Ладно, поступайте как знаете. Подайте-ка мне юбку.
Прямо при К., не стесняясь, она надела юбку и поспешила в кухню. Действительно, из зала давно доносился непривычно громкий шум. И в окошко раздачи уже не однажды стучали. Теперь его вдруг разом распахнули помощники и принялись орать, что хотят есть. За их спинами виднелись и другие лица. А потом вдруг послышалось пение, тихое, но многоголосое.
Разумеется, из-за разговора К. с хозяйкой обед сильно задержался, а столовики уже собрались, однако нарушить запрет и сунуться в кухню никто не отваживался. Теперь, когда наблюдатели от окошка раздачи доложили, что трактирщица на подходе, служанки кинулись в кухню как полоумные, и когда К. вышел в зал, он застал там поразительно многолюдное общество, человек этак двадцать, мужчин и женщин, вида хотя и провинциального, но не деревенского: сейчас все они ринулись от окошка к столам занимать места. Только за маленьким столиком в углу уже сидела супружеская чета с детьми, отец семейства, приятный голубоглазый господин с бородкой и растрепанной седой шевелюрой стоял, склонясь над детьми, и ножом отбивал такт их пению, которое, однако, он всячески старался приглушить. Видно, пением он надеялся отбить у детей голод. Хозяйка извинилась перед всеми, произнеся несколько безразличных, ни к чему не обязывающих слов, но никто и не осмелился ее упрекнуть. Она поискала глазами мужа, который ввиду столь критического положения, похоже, уже давно куда-то сбежал. Потом медленно направилась в кухню; на К., который поспешил в свою комнату к Фриде, она больше не взглянула.
Глава 7
Учитель
Наверху К. застал учителя. Комнату, по счастью, было почти не узнать, так постаралась Фрида. И проветрено хорошо, и печка натоплена жарко, и пол помыт, и постель прибрана, вещи служанок, весь этот мерзкий скарб, включая картинки на стенах, исчезли без следа, а стол, который прежде, куда ни повернись, буквально таращился на тебя заскорузлой и липкой от грязи столешницей, теперь укрывала белая вязаная скатерка. Теперь тут и гостей принять не стыдно, и даже сушившееся у печки нехитрое бельишко К., очевидно спозаранку простиранное Фридой, пригожий вид комнаты почти не портило. Учитель и Фрида сидели за столом, при появлении К. оба встали, Фрида встретила К. поцелуем, учитель слегка поклонился. К., все еще расстроенный и взбаламученный после разговора с хозяйкой, начал было извиняться, что до сих пор к учителю не зашел, и в итоге создалось неловкое впечатление, будто учитель, не дождавшись визита К., сам пришел его навестить. Тот, однако, в свойственной ему степенной манере, казалось, лишь сейчас смутно припомнил, что они с К. о чем-то таком уславливались.
– Так вы, господин землемер, тот самый приезжий, с которым я пару дней назад возле церкви беседовал?
– Да, – хмуро бросил К. Он не желал снова, теперь уже у себя в комнате, подвергаться обхождению, какое вынужден был терпеть одиноким и неприкаянным чужаком, до которого никому нет дела. И предпочел обратиться к Фриде, спросив, как ему получше одеться для важного визита, который ему сейчас безотлагательно предстоит сделать. Даже не полюбопытствовав, что за визит, Фрида немедля кликнула помощников – те как раз с большим интересом изучали новую скатерть – и распорядилась снести во двор и хорошенько почистить костюм и сапоги К., которые тот послушно принялся снимать. Сама же сдернула с веревки сорочку и помчалась в кухню ее гладить.
Теперь К. остался с учителем, который снова тихо сидел за столом, с глазу на глаз, но, решив заставить того еще немного подождать, стянул с себя рубашку и, подойдя к раковине, начал мыться. И лишь тогда, стоя к учителю спиной, поинтересовался надобностью его прихода.
– Я по поручению господина старосты, – отозвался тот.
К. сказал, что готов поручение выслушать. Однако, поскольку в плеске воды слова его звучали неразборчиво, учитель вынужден был подойти к К. поближе и даже прислониться возле него к стенке. К. извинился за свое мытье и спешку ввиду срочности предстоящего визита. Учитель пропустил его извинения мимо ушей и сказал:
– Вы были непочтительны с господином старостой, с пожилым, многоопытным, заслуженным, достойным всяческого уважения человеком.
– Не могу припомнить, чтобы я был непочтителен, – ответил К., вытираясь, – но что голова моя другим занята и мне не до хороших манер было, это верно, речь ведь шла о моем существовании, которое сейчас под угрозой из-за возмутительного и позорного чиновничьего ротозейства, в подробности коего не мне вас посвящать, ведь вы и сами прилежный участник здешнего делопроизводства. А что, староста на меня пожаловался?
– Да кому он может пожаловаться? И даже если б было кому, разве он стал бы? Я просто под его диктовку составил небольшой протокол о вашей встрече и из него достаточно много смог уяснить о доброте господина старосты и вашей манере на эту доброту откликаться.
Стараясь разыскать свой гребешок, который Фрида, очевидно, куда-то задевала, К. спросил:
– То есть как? Протокол? Составленный в мое отсутствие, задним числом, да еще человеком, которого при разговоре вообще не было? Неплохо, однако. А к чему вообще протокол? Разве это была служебная оказия?
– Нет, – ответил учитель. – Наполовину служебная, и протокол тоже только наполовину служебный и составлен лишь потому, что так положено: на все свой порядок. Как бы там ни было, протокол имеется и служит не к вашей чести.
К., отыскав наконец соскользнувший на кровать гребешок, уже спокойнее заметил:
– Что ж, пусть себе имеется. Вы только затем и пришли, чтобы меня об этом известить?
– Нет, – ответил учитель. – Но я не автомат и должен был высказать вам свое мнение. Поручение же мое, напротив, только лишнее доказательство доброты господина старосты; от себя хочу подчеркнуть, что мне эта доброта непостижима и поручение я исполняю сугубо по служебной своей подчиненности, а еще из глубокого почтения к господину старосте.
Между тем К., уже умытый и причесанный, сидя за столом в ожидании свежей рубашки и костюма, под впечатлением недавнего пренебрежительного отзыва хозяйки о старосте особого любопытства к учителю и его поручению не проявлял.
– Должно быть, уже за полдень? – спросил он, погруженный в размышления о предстоящей дороге, но потом, словно спохватившись, добавил: – Так вы мне хотели что-то передать от старосты?
– Ну да, – сказал учитель, передернув плечами и тем самым как бы снимая с себя всякую собственную ответственность за происходящее. – Господин староста опасается, как бы вы, если решение вашего дела затянется, не предприняли на свой страх и риск какого-нибудь необдуманного шага. Со своей стороны я понятия не имею, почему он этого опасается, по мне пусть бы вы поступали, как вам угодно. Мы вам не ангелы-хранители и повсюду бегать за вами и оберегать вас вовсе не обязаны. Ну да ладно. Господин староста иного мнения. Ускорить само решение, которое есть сугубое дело графских властей, он, разумеется, не в силах. Однако в рамках своих полномочий он покамест намерен отдать поистине великодушное распоряжение, и только в вашей воле принять его или нет: он предлагает вам временно занять место школьного смотрителя.
О сути самого предложения К. поначалу едва успел подумать, но одно то, что ему что-то предлагают, показалось ему весьма знаменательным. Похоже, у старосты сложилось впечатление, что К., защищая свои интересы, способен на шаги, оградить от которых общину надобно, даже не поступаясь некоторыми затратами. И какую важность придают его делу! Судя по всему, староста буквально погнал сюда учителя, и тот не счел за труд его дождаться, а прежде ведь еще и протокол составлял!
Заметив, что он все-таки заставил К. призадуматься, учитель продолжил:
– Я, со своей стороны, имел возражения. Я указал, что прежде никакого смотрителя школе не требовалось, жена церковного служки время от времени в школе убирает, за этим барышня Гиза, учительница, присматривает, у меня-то хватает своих забот с детьми, чтобы еще со школьным смотрителем маяться. На это господин староста заявил, что, мол, в школе грязь страшная. На что я, в свою очередь и в полном соответствии с истиной, возразил, что все отнюдь не так уж плохо. А еще, добавил я, разве станет лучше, если мы наймем смотрителем мужчину? Да конечно нет. Мало того, что он в подобной работе ничего не смыслит, так ведь и в школе самой только две большие классные комнаты без всяких подсобных помещений, это значит, смотрителю с семьей придется жить, спать, а то, не приведи бог, даже и готовить в одном из классов, и чистоты от этого уж точно не прибавится. Но на это господин староста нашел что возразить; мол, для вас это место будет спасением от беды и вы, следовательно, будете стараться исполнять свой долг как можно добросовестнее; а кроме того, считает господин староста, нанимая вас, мы заручаемся еще помощью вашей жены и рабочей силой ваших помощников, благодаря чему не только сама школа, но и пришкольный сад будет содержаться в образцовом порядке. Ну, уж это-то все я опроверг с легкостью. В конце концов господин староста, не имея больше никаких доводов в вашу пользу, рассмеялся и сказал, что раз вы, дескать, землемер, то сможете особенно красиво разбить грядки и клумбы в пришкольном саду. Ну, против шутки как возражать, вот и пришлось идти к вам с поручением.
– Вы напрасно беспокоитесь, господин учитель, – сказал К., – я и не подумаю принять это место.
– Вот и отлично! – откликнулся учитель. – Отлично. Значит, вы отказываетесь без всяких объяснений.
И тут же, взяв шляпу, откланялся и ушел.
В комнату тотчас вошла Фрида – лицо опрокинутое, сорочку принесла не выглаженную, на вопросы не отвечала; К., надеясь ее развлечь, рассказал об учителе и его предложении, но она, едва выслушав, бросила рубашку на кровать и выбежала вон. Вскоре она вернулась, причем не одна, а с учителем, который явно был раздосадован и даже не кивнул. Фрида попросила учителя еще немного обождать – судя по всему, она по пути уже не раз это делала – и через боковую дверцу, которой К. прежде не замечал, увлекла К. за собой на соседний чердак, где, задыхаясь от волнения, рассказала ему наконец, что случилось. Оказывается, хозяйка, возмущенная тем, что унизилась перед К. до откровенных признаний и даже до уступок относительно возможной беседы К. с Дуплем, ничего при этом не достигнув, кроме, как она сама выразилась, холодного и к тому же неискреннего отказа, теперь решительно заявила, что долее терпеть К. в своем доме не намерена; раз у него есть связи в Замке, пусть воспользуется ими как можно скорей, а пока пусть покинет ее дом сегодня же, нет, сейчас же, и впредь она по своей воле приюта ему не даст, разве что под нажимом, по прямому приказу властей, но она надеется, что до этого не дойдет, у нее тоже свои связи в Замке имеются, и она знает, как пустить их в ход. Он и попал-то в ее трактир только по недосмотру мужа и в жилье вовсе не нуждается, еще нынче утром похвалялся, будто в другом месте всегда может переночевать. Фрида, конечно, пусть остается, а если Фрида надумает вместе с К. съехать, то она, хозяйка, конечно, будет очень горевать, уже сейчас, там, внизу, на кухне, у нее при одной этой мысли ноги подкосились и она, бедная больная женщина, сердечница, разрыдавшись, прямо у плиты осела на пол, но может ли она поступить иначе, особенно теперь, когда, по крайней мере в ее понимании, сама ее память о Дупле осквернена. Вот как хозяйка теперь к ним относится. Фрида, конечно, пойдет за К. на край света, хоть по снегу, хоть по льду, об этом и говорить нечего, но дела у них обоих сейчас очень плохи, вот почему предложение старосты она встретила с такой радостью, хоть это, разумеется, для К. совсем не подобающее место, но ведь оно, это особо все подчеркивают, временное, что позволит им выиграть некоторый срок, а там и другие возможности легко сыщутся, даже если окончательное решение выпадет неблагоприятным.
– В крайнем случае, – довершая разговор и уже повиснув на шее у К., воскликнула Фрида, – уедем совсем, что нас тут в деревне держит? Но пока что, миленький, мы примем предложение, хорошо? Я и учителя обратно привела, ты только ему скажи «согласен», и мы сразу переедем в школу.
– Скверно все это, – буркнул К., но всерьез не расстроился: жилье вообще не особо его беспокоит, вдобавок сейчас, в одном белье, он уже основательно продрог на чердаке, где с торцов ни стен, ни окон и дует нещадно. – Только ты комнату так красиво прибрала, и нам съезжать. Не по душе, не по душе мне принимать это место и унижаться перед этим учителишкой тошно, а ведь в школе он будет моим начальником. Нам бы хоть сколько-нибудь тут продержаться, а там, как знать, может, уже к вечеру положение мое переменится. Или хотя бы ты оставайся, чтобы нам чуток выждать, а учителю пока что-нибудь неопределенное ответить. Для себя я всегда ночлег найду, хотя бы у Вар…
Фрида прикрыла ему рот ладошкой.
– Только не это, – испуганно пролепетала она. – Прошу тебя, никогда больше этого не повторяй. Во всем остальном я всегда буду тебя слушаться. Хочешь, чтобы я тут одна осталась, – останусь, как бы грустно мне это ни было. Хочешь, мы и от места откажемся, сколь бы ошибочно, на мой взгляд, ни было такое решение. Ведь сам посуди: если сыщется другая возможность, тем более сегодня к вечеру, то, конечно, само собой, мы от места в школе сразу откажемся, отказаться-то никогда не поздно. А что перед учителем унижаться надо, так это уж моя забота, чтобы никакого унижения не было, я сама с ним поговорю, ты только стой рядом и молчи, и потом всегда будет так же, если не захочешь, тебе с ним и слова сказать не придется, на самом деле подчиненной его буду я, да и то не буду, я его слабости знаю. Мы ведь ничего не теряем, принимая это место, зато если откажемся, потеряем многое, прежде всего ты останешься ни с чем: если сегодня же хоть чего-нибудь от Замка не добьешься, ни у кого, ни у кого в деревне ты ночлега не найдешь, то есть, я имею в виду, такого ночлега, чтобы мне, твоей будущей жене, стыдиться не пришлось. А если ты ночлега не найдешь, не станешь же ты требовать от меня, чтобы я тут в тепле спала, покуда ты там всю ночь где-то по холоду бродишь.
К., который слушал все это, обхватив себя руками и похлопывая по ребрам в тщетной надежде хоть немного согреться, наконец сказал:
– Значит, ничего другого не остается. Надо соглашаться. Пошли.
Войдя в комнату, он сразу устремился к печке, на учителя даже не взглянув. Тот, по-прежнему за столом, извлек карманные часы и сказал:
– Однако поздно уже.
– Зато мы во всем пришли к согласию, господин учитель, – бодро доложила Фрида. – Мы принимаем место.
– Хорошо, – сказал учитель, – но место предложено господину землемеру, пусть он и выскажется.
Фрида и тут пришла К. на помощь.
– Ну конечно, – сказала она, – конечно, он принимает место, правда ведь, К.?
Благодаря этому К. смог ограничить свое заявление о согласии простым «да», обращенным даже не к учителю, а к Фриде.
– Тогда, – проговорил учитель, – мне остается только изложить вам ваши должностные обязанности, чтобы в этом отношении у нас раз и навсегда не было недоразумений. Вам, господин землемер, надлежит ежедневно убирать и топить обе классные комнаты, производить мелкие починки в доме, а также ремонт имеющегося учебного и гимнастического инвентаря, расчищать от снега аллею в саду, выполнять отдельные поручения, мои и госпожи учительницы, а в теплое время года справлять всю работу по саду. За это вам предоставляется право жить в любой из классных комнат по вашему выбору, однако, если уроки идут не одновременно в обоих классах, а вы находитесь в той из комнат, где начинаются занятия, вам, разумеется, придется переселяться в другую комнату. Готовить еду в школе не разрешается, вы и ваша семья будете питаться здесь, в трактире, за счет общины. О том, что поведение ваше не должно ронять достоинство школы, а в особенности вынуждать детей во время занятий становиться свидетелями неприглядных сцен вашей семейной жизни, я упоминаю лишь вскользь, вы человек культурный и сами все должны понимать. В этой связи хотел бы заметить: мы вынуждены настаивать, чтобы ваши отношения с госпожой Фридой были как можно скорей узаконены. Обо всем этом, включая и другие несущественные мелочи, будет составлен договор, который вам надлежит подписать сразу по въезде в служебное помещение.
К. все это казалось несущественным, как будто даже не к нему относящимся или, во всяком случае, его лично ни к чему не обязывающим, только апломб учителя безмерно его раздражал, поэтому он нарочито небрежно бросил:
– Ну да, обычные условия…
Чтобы как-то загладить надменность его тона, Фрида осведомилась о жалованье.
– Вопрос о назначении жалованья, – сообщил учитель, – будет решаться только после месячного испытательного срока.
– Это, однако, тяжкое условие для нас, – попыталась возразить Фрида. – Выходит, нам и жениться почти без гроша, и хозяйство на ровном месте без денег заводить. Нельзя ли нам, господин учитель, подать ходатайство в совет общины с просьбой о назначении скромного жалованья уже сейчас? Как вы посоветуете?
