Фантомы мозга
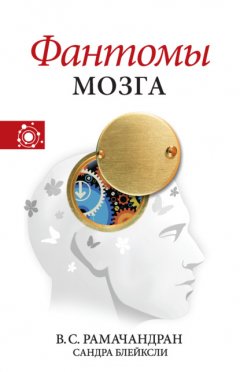
Мир погибнет не из-за недостатка чудес, а из-за отсутствия чуда.
– Дж. Б. С. Холдейн
V.S. Ramachandran, M.D., Ph.D., and Sandra Blakeslee
PHANTOMS IN THE BRAIN
© V.S. Ramachandran and Sandra Blakeslee, 1998
© Foreword by Oliver Sacks, 1998
© Перевод. А. Чечина, 2019
Школа перевода Баканова, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
Предисловие
Великие неврологи и психиатры девятнадцатого и начала двадцатого веков по праву могут считаться настоящими мастерами описания. Клинический материал в их изложении пестрит удивительными подробностями, абсолютно несвойственными науке на рубеже веков. Так, Сайлас Уэйр Митчелл, который оказался не только выдающимся ученым, но и талантливым романистом, оставил незабываемые описания фантомных конечностей (или «сенсорных призраков», как он их называл), которые ему довелось наблюдать у солдат, раненных во время Гражданской войны. Жозеф Бабинский, знаменитый французский невролог, описал еще более загадочный синдром – анозогнозию, неспособность осознать паралич собственных рук и ног, а иногда даже приписывание парализованной конечности другому человеку. (Говоря о левой половине своего тела, такой больной запросто может сказать: «Эта рука моего брата» или «Это ваша нога».)
Доктор В. С. Рамачандран, один из самых интересных нейроученых нашего времени, проделал грандиозную работу в сфере изучения природы и лечения фантомных конечностей – устойчивых и иногда в высшей степени мучительных ощущений призрачных рук и ног, утраченных много лет назад, но так и не забытых мозгом. Поначалу фантом может «вести себя» как нормальная конечность, часть нормальной схемы тела; однако впоследствии, лишенный обычной чувствительности и подвижности, он нередко приобретает патологический характер. У одних больных фантом оказывается «парализованным», у других деформируется, третьим причиняет невыносимую боль. Некоторые пациенты жалуются, что их несуществующие ногти впиваются в несуществующую ладонь с непередаваемой, неудержимой силой. Уверения, что боль и фантом «нереальны», бесполезны и в действительности могут лишь осложнить лечение – зачастую больной просто не в силах разжать «парализованный» кулак. В попытке избавиться от фантомных конечностей врачи и их пациенты часто вынуждены идти на крайние меры: от укорочения культи и рассечения сенсорных путей в спинном мозге до уничтожения высших центров болевой чувствительности в головном мозге. К несчастью, в большинстве случаев это не помогает; фантом и фантомные боли почти всегда возвращаются вновь.
К этим, казалось бы, неразрешимым проблемам Рамачандран подходит с совершенно новой точки зрения, основанной на его исследованиях самой сути фантомов, а также механизмов их возникновения в нервной системе человека. Ранее считалось, что репрезентации в мозге, в том числе репрезентации схемы тела и фантомов, фиксированы и стабильны. Но Рамачандран, а вслед за ним и другие ученые показали, что реорганизация схемы тела в сенсорной коре происходит очень быстро – в течение сорока восьми часов после ампутации конечности, а то и меньше.
Согласно Рамачандрану, именно эта перестройка схемы тела и порождает фантомы, которые затем могут сохраняться за счет так называемого выученного паралича. Но если в основе генезиса фантомной конечности лежат столь быстрые изменения, если коре свойственна такая пластичность, нельзя ли обратить этот процесс вспять? Другими словами, можно ли заставить мозг отучиться от фантома?
Используя хитроумное устройство «виртуальной реальности» – простую коробку с зеркалом, Рамачандран обнаружил, что помочь некоторым больным не так уж и сложно: достаточно показать им в зеркале нормальную конечность – например, их собственную правую руку, которую они теперь видят на левой стороне тела, вместо фантома. Это настоящее волшебство! Вид нормальной руки соперничает с ощущениями фантома; в результате деформированный фантом выпрямляется, а парализованный – обретает подвижность. В конце концов он может вообще исчезнуть. С присущим ему чувством юмора Рамачандран говорит о «первой успешной ампутации фантомной конечности» и о том, что вместе с «призраком» должна исчезнуть и боль – лишившись своего воплощения, она не может выжить и затихает навсегда. (На вопрос, мучают ли ее боли, миссис Грэдграйнд – героиня романа «Тяжелые времена» – отвечает: «Мне кажется, какая-то боль бродит по комнате, но я не могу утверждать с уверенностью, что это моя боль». Впрочем, это либо следствие спутанности сознания, либо шутка Диккенса, ибо человек в принципе не в состоянии ощущать боль кроме как в самом себе.)
Возникает вопрос: способны ли такие простые «уловки» помочь пациентам с анозогнозией – людям, которые не признают одну из сторон собственного тела? И здесь, утверждает Рамачандран, пригодятся зеркала, хотя в ряде случаев деление тела и мира на две половины настолько глубоко, что этот прием может лишь усугубить ситуацию: некоторые больные пытаются сунуть руку в зазеркалье, думая, что предмет находится «позади» зеркала или в нем самом. (Рамачандран первым описал так называемую зеркальную агнозию.) Что же позволило Рамачандрану проникнуть в самый корень этих причудливых, редких синдромов? Думаю, залогом успеха стали две вещи: необычайная цепкость его ума в сочетании с деликатным и заботливым отношением к пациентам.
Большинство врачей отмахиваются от зеркальной агнозии, а также склонности приписывать собственные конечности другим людям, как от чего-то иррационального или непостижимого. Рамачандран, напротив, считает эти проблемы отнюдь не беспочвенными; для него они не проявления безумия, но защитные меры, направленные на совладание с внезапно изменившимися функциями тела и пространством вокруг него. Рамачандран видит в них вполне нормальные защитные механизмы (отрицание, вытеснение, проекцию, конфабуляцию и т. д.) – намеченные Фрейдом универсальные стратегии, к которым прибегает бессознательное, дабы приспособиться к чему-то невыносимому или непонятному. Подобная точка зрения возвращает таких пациентов из царства безумцев и чудаков обратно в царство дискурса и разума (пусть и бессознательного).
Еще один синдром ошибочной идентификации – синдром Капгра, при котором больной считает знакомых и близких ему людей самозванцами. И здесь Рамачандрану удается выявить четкую неврологическую основу – отсутствие обычных аффективных сигналов в сочетании с вполне естественной интерпретацией безэмоционального восприятия («Он не может быть моим отцом, потому что я ничего не чувствую – значит, этот человек просто похож на моего папу»).
Доктор Рамачандран проявляет интерес и к бесчисленному множеству других тем: к природе религиозного опыта и удивительным «мистическим» синдромам, связанным с дисфункцией височных долей, неврологии смеха и щекотки, внушения и плацебо. Как и психолог Ричард Грегори (в соавторстве с которым он опубликовал увлекательную работу по целому ряду вопросов – от заполнения слепого пятна до зрительных иллюзий и защитной окраски), Рамачандран обладает редчайшим даром видеть принципиально важное и готов приложить свой ум, свой свежий взгляд и свою изобретательность практически к любой сфере исследований. Всякое нарушение становится для него окном в устройство нашей нервной системы, нашего мира и нашего «Я». В этом смысле его изыскания, как любит говорить он сам, превращаются в некую разновидность «экспериментальной эпистемологии». Он – подлинный натурфилософ из восемнадцатого века, только обладающий всеми знаниями и ноу-хау конца двадцатого столетия.
Во введении к настоящей работе Рамачандран рассказывает о научных книгах, которые особенно нравились ему в детстве: это «Химическая история свечи» Майкла Фарадея, труды Чарльза Дарвина, Гемфри Дэви и Томаса Хаксли. В то время не делали различий между сугубо академической и научно-популярной литературой, даже самый глубокий и серьезный научный труд мог вместе с тем быть абсолютно доступным широкому кругу читателей. В более старшем возрасте, продолжает Рамачандран, он наслаждался исследованиями Джорджа Гамова, Льюиса Томаса, Питера Медавара, Карла Сагана и Стивена Джея Гулда. Сегодня Рамачандран присоединяется к этим великим ученым-писателям с очень серьезной, но одновременно понятной и увлекательной книгой «Фантомы мозга». На мой взгляд, это одна из самых оригинальных и доступных работ по неврологии нашего поколения.
Оливер Сакс
Введение
В любой области найдите самое странное и исследуйте это.
Джон Арчибальд Уилер
Эта книга зрела в моей голове много лет, но, боюсь, я бы никогда ее не написал, если бы около трех лет назад меня не попросили прочесть лекцию на ежегодном собрании Общества нейронаук. В зале присутствовало более четырех тысяч ученых. Я рассказал о своих открытиях, в том числе об исследованиях, посвященных фантомным конечностям, схеме тела и иллюзорной природе «Я». После лекции меня буквально засыпали вопросами. Как разум влияет на здоровье и болезнь? Каким образом можно стимулировать правое полушарие, чтобы стать более креативным? Может ли психологическая установка в самом деле помочь в лечении астмы и рака? Гипноз действительно работает или это выдумки? Готовы ли мы предложить новые способы лечения паралича после инсультов? Кроме того, я получил несколько писем от студентов, коллег и даже нескольких издателей с просьбой взяться за написание учебника по неврологии. Учебники не мое призвание, но я подумал, что популярную книгу о мозге – о моем личном опыте работы с неврологическими пациентами – я бы смог написать. В течение последних лет десяти я многое узнал о том, как работает человеческий мозг, и стремление донести эти выводы до других ученых не давало мне покоя. Когда вы участвуете в столь увлекательном предприятии, желание поделиться своими мыслями с окружающими вполне естественно. Так уж устроен человек. Более того, я чувствую, что обязан это сделать хотя бы ради налогоплательщиков, которые поддерживают мои исследования через гранты Национальных институтов здоровья.
Научно-популярная литература имеет богатую историю и восходит к семнадцатому веку – в частности, Галилею, для которого это был основной метод распространения его идей. Так, в своих сочинениях он часто обращается к воображаемому протагонисту по имени Симпличио – своеобразному сплаву учивших и критиковавших его профессоров. Почти все знаменитые труды Чарльза Дарвина, включая «Происхождение видов», «Происхождение человека», «Выражение эмоций у человека и животных», «Насекомоядные растения» (но не двухтомная монография об усоногих раках!), были написаны для широкого круга читателей по требованию его издателя Джона Мюррея. То же можно сказать и о многих работах Томаса Хаксли, Майкла Фарадея, Гемфри Дэви и других ученых Викторианской эпохи. «Химическая история свечи» Фарадея, основанная на рождественских лекциях, которые он читал детям, остается классикой и по сей день.
Должен признаться, я не читал всех этих книг, но я в большом интеллектуальном долгу перед научно-популярной литературой. Это чувство разделяют и многие мои коллеги. Так, доктор Фрэнсис Крик из Института Солка однажды поведал мне, что в популярной книге Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь?» содержится несколько весьма умозрительных замечаний о химической основе наследственности. Именно эти замечания оказали глубочайшее влияние на его интеллектуальное развитие, кульминацией которого стала расшифровка генетического кода совместно с Джеймсом Уотсоном. Многие лауреаты Нобелевской премии начали исследовательскую карьеру, прочитав книгу Поля де Крюи «Охотники за микробами», изданную в 1926 году. Мой собственный интерес к научным исследованиям зародился в раннем подростковом возрасте, когда я взахлеб читал Джорджа Гамова, Льюиса Томаса и Питера Медавара. Сегодня это пламя активно поддерживает новое поколение писателей – Оливер Сакс, Стивен Джей Гулд, Карл Саган, Дэн Деннетт, Ричард Грегори, Ричард Докинз, Пол Дэвис, Колин Блейкмор и Стивен Пинкер.
Около шести лет назад мне позвонил Фрэнсис Крик, первооткрыватель структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), и сообщил, что пишет популярную книгу о мозге под названием «Удивительная гипотеза». Как выяснилось, он уже закончил черновик и отправил его редактору. Редактор нашла рукопись чудесной, но указала на обилие мудреных терминов, понять которые мог разве что специалист. В итоге Крику посоветовали показать рукопись двум-трем непрофессионалам. «Я ей говорю, Рама, – проворчал Крик со своим чеканным британским акцентом, – я бы рад, но проблема в том, что я не знаю ни одного непрофессионала. Ты знаешь каких-нибудь непрофессионалов, которым я мог бы показать книгу?» Сначала я подумал, что он шутит, но нет – Крик говорил абсолютно серьезно. Сам я не могу утверждать, что не знаю ни одного непрофессионала, но тем не менее отлично понимаю, в какую переделку угодил мой друг. Сочиняя популярную книгу, ученый вынужден искусно лавировать между двумя крайностями: с одной стороны, он должен сделать книгу максимально понятной для широкого круга читателей, а с другой – избежать чрезмерного упрощения, дабы не раздражать специалистов. Для себя я нашел оптимальное решение – я вовсю использую примечания. Всякий раз, когда необходимо написать просто о сложном, мы с моим соавтором Сандрой Блейксли добавляем примечание, дабы внести соответствующие уточнения, указать на исключения или подчеркнуть, что результаты носят предварительный или противоречивый характер. Во-вторых, мы используем примечания, чтобы развить мысль, которая в основном тексте изложена вкратце – на случай, если читателю захочется поподробнее узнать о заинтересовавшем его вопросе. И наконец, в-третьих, примечания содержат ссылки на первоисточники, а также позволяют отдать дань тем, кто работал над смежными темами. Я заранее прошу прощения у всех, чьи работы не цитируются; мое единственное оправдание в том, что подобные упущения неизбежны в такой книге, как эта (какое-то время примечания грозили превысить объем основного текста). Тем не менее я постарался включить как можно больше ссылок в раздел библиографии, хотя не все из них удалось упомянуть в тексте непосредственно.
Настоящая книга основана на реальных историях целого ряда пациентов с неврологическими нарушениями. Из соображений конфиденциальности я, как водится, изменил их имена, обстоятельства жизни и характерные особенности. Некоторые из приведенных мною «историй болезни» на самом деле представляют собой некий «сплав» из историй нескольких больных, в том числе описанных в классической медицинской литературе, ибо моя главная цель – проиллюстрировать ключевые аспекты расстройств, таких как синдром неглекта или височная эпилепсия. Описывая классические случаи (например, знаменитого пациента с амнезией, который вошел в историю как Г. М.), я вынужден отослать читателя к первоисточникам, где он сможет найти более подробную информацию по тому или иному вопросу. Другие истории основаны на исследованиях единичных случаев – людей, страдающих редким или необычным синдромом.
В современной неврологии наблюдается своеобразное противостояние между теми, кто считает, что наиболее ценные уроки о мозге можно извлечь из статистического анализа больших объемов данных, и теми, кто считает, что правильные эксперименты с правильными больными – даже с одним больным – могут дать гораздо больше важной информации, чем вся статистика вместе взятая. На самом деле это глупая дискуссия, ибо ответ очевиден: лучше всего начать с изучения отдельных пациентов, а затем подтвердить результаты в ходе исследований с привлечением большого числа субъектов. В качестве аналогии представьте, что я привожу свинью в вашу гостиную и заявляю, что она умеет говорить. Вы можете сказать: «Ой, правда? Покажите мне». Я взмахиваю волшебной палочкой, и свинья начинает говорить. Скорее всего, вы воскликнете: «Боже мой! Это потрясающе!» Вы вряд ли скажете: «Ах, но это всего лишь одна свинья. Вот когда вы покажете мне еще несколько, тогда я поверю». И все же именно так думают многие специалисты в моей области.
Полагаю, будет справедливо сказать, что большинство крупных открытий в неврологии, выдержавших испытание временем, изначально базировались на изучении единичных случаев. Всего за несколько дней, проведенных с пациентом по имени Г. М., ученые узнали о памяти больше, чем за десятилетия анализа усредненных данных целого множества испытуемых. То же самое верно и в отношении специализации полушарий (деления мозга на левую и правую половины, выполняющие разные функции), а также экспериментов, проведенных на двух пациентах с так называемым расщепленным мозгом (разъединение левого и правого полушарий путем рассечения соединяющих их волокон). Эти два человека позволили нам узнать больше, чем пятьдесят лет исследований нормальных людей.
В науке, которая до сих пор пребывает в стадии младенчества (например, в нейробиологии и психологии), демонстрационные эксперименты играют особенно важную роль. Классический пример – использование Галилеем первых телескопов. Многие люди полагают, будто именно Галилей изобрел телескоп, но он этого не делал. Примерно в 1607 году голландский мастер очков Иоганн Липперсгей поместил две линзы в картонную трубку и обнаружил, что это устройство заставляет удаленные объекты казаться ближе. Его изобретение быстро стало популярной детской игрушкой; вскоре его уже продавали на всех крупных сельских ярмарках в Европе, включая Францию. В 1609 году об этом гаджете услышал Галилей. Вместо того чтобы шпионить за людьми или разглядывать другие земные объекты, он поднял трубку к небу. Как ни странно, до него подобная мысль не приходила в голову никому. Сначала Галилей нацелил трубку на Луну и обнаружил, что она покрыта кратерами, оврагами и горами. Это навело его на мысль, что так называемые небесные тела, вопреки общепринятому мнению, в конце концов, не так уж совершенны: они не только полны недостатков и несовершенств, но и поддаются наблюдению глазами смертных, как любые предметы на Земле. Затем он направил телескоп на Млечный Путь и заметил, что он вовсе не похож на однородное облако (как считали раньше), но состоит из миллионов звезд. Впрочем, свое самое поразительное открытие Галилей совершил, посмотрев на Юпитер. Вообразите его удивление, когда возле Юпитера он увидел три крошечные точки. Изначально великий астроном принял их за новые звезды, но через несколько дней одна из них исчезла. Галилей выждал несколько дней и снова посмотрел на Юпитер. Его ждали два сюрприза: во-первых, пропавшая точка появилась снова, а во-вторых, теперь точек стало четыре, а не три! Галилей догадался, что четыре точки – это спутники Юпитера; луны, подобные нашей, которые вращаются вокруг своей планеты. Последствия этого открытия были воистину революционными. Одним махом Галилей доказал, что не все небесные тела вращаются вокруг Земли, ибо вот четыре тела, которые вращались вокруг другой планеты, Юпитера. В результате геоцентрическая теория уступила место коперниковской модели, постулировавшей, что Солнце, а не Земля, находится в центре известной Вселенной. Доказательства не заставили себя ждать: направив свой телескоп на Венеру, Галилей обнаружил, что она похожа на наш лунный серп, только для прохождения всех фаз ей требуется год, а не месяц. На основании этих наблюдений Галилей заключил, что планеты вращаются вокруг Солнца, и что Венера находится между Землей и Солнцем. Все это он узнал благодаря простой картонной трубке с двумя линзами. Никаких вам уравнений, графиков и количественных измерений: «просто» демонстрация.
Когда я привожу этот пример студентам-медикам, типичная реакция такова: «Ну, это ж было во времена Галилея, а сейчас, в двадцатом веке, все эпохальные открытия уже сделаны… Никаких новых исследований без дорогостоящего оборудования и сложных количественных методов мы провести не можем». Ерунда! Даже сегодня удивительные открытия находятся прямо у вас под носом. Самое сложное – понять это. Например, последние несколько десятков лет всех студентов-медиков учили, что язвы вызывает стресс; он приводит к чрезмерному образованию кислоты, которая разрушает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, создавая характерные кратеры или раны, которые мы называем язвами. На протяжении десятилетий их лечили антацидами, блокаторами гистаминовых рецепторов, ваготомией (пересечением блуждающего нерва, стимулирующего секрецию соляной кислоты в желудке) и даже гастрэктомией (удалением части желудка). Но однажды молодой врач из Австралии, доктор Билл Маршалл, посмотрел на окрашенный срез человеческой язвы под микроскопом и заметил, что он кишит Helicobacter pylori – распространенной бактерией, встречающейся у многих здоровых людей. Поскольку он регулярно видел эти бактерии в язвах, он подумал: а не они ли на самом деле вызывают эти язвы? Когда он изложил эту идею профессорам, ему сказали: «Да ладно! Этого просто не может быть. Все мы знаем, что язвы вызывает стресс. То, что вы видите, просто вторичная инфекция».
Но доктор Маршалл не поверил и продолжал оспаривать традиционное представление. Первым делом он провел эпидемиологическое исследование, которое показало выраженную корреляцию между инфицированием Helicobacter и заболеваемостью язвой двенадцатиперстной кишки. Однако это открытие не убедило его коллег; из чистого отчаяния Маршалл проглотил бактерии сам, через несколько недель сделал себе эндоскопию и продемонстрировал, что его желудочно-кишечный тракт усеян язвами! Затем он провел официальное клиническое испытание и показал, что пациенты, которых лечили комбинацией антибиотиков, висмута и метронидазола, выздоравливали гораздо быстрее и имели меньше рецидивов, чем контрольная группа, получавшая только блокаторы гистаминовых рецепторов.
Я упоминаю этот эпизод, дабы подчеркнуть, что один единственный медик, чей ум открыт для новых идей и который работает без сложного оборудования, может произвести революцию в медицинской практике. Именно в этом духе мы все должны подходить к нашей работе, ибо никто не знает, какие еще тайны скрывает природа.
Кроме того, я хотел бы сказать несколько слов о «предположении» – термине, который в научных кругах приобрел уничижительный оттенок. Словосочетание «простое предположение» часто считают оскорбительным. Это печально. Как заметил английский биолог Питер Медавар, «воображаемая концепция того, что может быть правдой, есть отправная точка всех великих открытий». По иронии судьбы иногда это верно, даже если само предположение оказывается ошибочным. Прислушайтесь к Чарльзу Дарвину: «Ложные факты в высшей степени вредны для прогресса науки, так как они часто долго признаются истинными; но ложные взгляды, если они поддержаны некоторыми доказательствами, приносят мало вреда, потому что каждому доставляет спасительное удовольствие доказывать, в свою очередь, их ошибочность; а когда это сделано, то один из путей к заблуждению закрывается и часто в то же время открывается путь к истине».
Каждый ученый знает, что лучшие исследования построены на диалектике между предположениями и здоровым скептицизмом. В идеале они должны сосуществовать в одном мозге, но это не обязательно. Поскольку всегда найдутся люди, которые представляют обе крайности, все идеи в конечном итоге безжалостно проверяют. Многие забраковываются (например, холодный синтез), другие обещают перевернуть наши взгляды на мир (например, мнение, что язвы вызывают бактерии).
Некоторые из открытий, о которых вы прочитаете на страницах этой книги, были подсказаны интуицией и позже подтверждены другими группами ученых (главы о фантомных конечностях, синдроме неглекта, слепозрении и синдроме Капгра). В других главах описывается работа на более ранней стадии, а значит, бо́льшая ее часть носит откровенно умозрительный характер (глава об отрицании и височной эпилепсии).
Я твердо верю, что автор обязан четко разграничивать голословные размышления и выводы, подтвержденные наблюдениями. Я приложил все усилия, дабы сохранить это различие на протяжении всей книги, а потому щедро снабжал текст соответствующими примечаниями и оговорками. Придерживаясь равновесия между фактами и фантазиями, я стремлюсь стимулировать ваше интеллектуальное любопытство и расширить ваш кругозор, а не дать однозначные универсальные ответы на поставленные вопросы.
Знаменитое пожелание «Чтоб ты жил в эпоху перемен» несет особый смысл для всех, кто изучает мозг и поведение человека. С одной стороны, несмотря на двести лет исследований, основные вопросы о человеческой психике – как мы узнаем лица? почему мы плачем? почему смеемся? почему мечтаем? почему восхищаемся музыкой и искусством? – до сих пор остаются без ответа, равно как и самый главный вопрос: что такое сознание? С другой стороны, развитие новых экспериментальных подходов и методов визуализации несомненно должно в корне изменить наше понимание человеческого мозга. Нашему поколению и поколению наших детей дарована уникальная возможность стать свидетелями величайшей революции в истории человечества – понимания себя. Однако подобная перспектива и будоражит, и тревожит одновременно.
Есть что-то определенно странное в лысом современном примате, который эволюционировал в биологический вид, способный оглядываться назад и задаваться вопросами о собственном происхождении. Впрочем, самое странное в другом: мозгу недостаточно знать, как работает другой мозг – он живо интересуется самим собой. Кто я? Что происходит после смерти? Возникает ли разум исключительно из составляющих меня нейронов? И если да, то каковы пределы свободной воли? Именно специфическое рекурсивное качество таких вопросов – когда мозг пытается понять самого себя – и делает неврологию такой захватывающей.
Глава 1
Фантом внутри
Все обсудив без страха, мы истину найдем, —
Небесный свод представим волшебным фонарем.
Источник света – солнце, наш мир – сквозной экран,
А мы – смешные тени и пляшем пред огнем.
Рубаи Омара Хайяма
Я знаю, мой дорогой Уотсон, что вы разделяете мою любовь ко всему необычному, ко всему, что нарушает однообразие нашей будничной жизни.
Шерлок Холмс
В моем кабинете сидит человек с огромным, усыпанным драгоценными камнями крестом на золотой цепи и рассуждает о своих беседах с Богом, «подлинном значении» космоса и скрытой истине, лежащей в основе всего сущего. Вселенная кишит откровениями, говорит он, если только вы дадите себе труд настроиться на нужную волну. Я смотрю в его медицинскую карту и про себя отмечаю, что он страдает височной эпилепсией с раннего подросткового возраста. Именно тогда с ним и «начал разговаривать Бог». Может, думаю я, его религиозные переживания как-то связаны с приступами?
Упав с мотоцикла, спортсмен-любитель потерял руку, но продолжает ощущать ее «фантом» – хуже того, он определенно чувствует, как этот фантом двигается! Он может помахать отсутствующей конечностью в воздухе, «прикоснуться» к предмету и даже «взять» чашку кофе. Когда я внезапно отодвигаю от него чашку, он вскрикивает от боли. «Ой! Я прямо чувствую, как ее вырывают из моих пальцев», – морщась, жалуется он.
У одной медсестры возникло большое слепое пятно в зрительном поле, что само по себе причиняет определенный дискомфорт. К сожалению, на этом ее беды не закончились: к своему ужасу, она часто видит в нем мультяшных персонажей. Когда я сажусь напротив, у меня на коленях появляются Баггс Банни, Элмер Фадд или Дорожный Бегун. Иногда она видит рисованные версии реальных людей, которых знает много лет.
Другая женщина – школьная учительница – перенесла инсульт, в результате которого вся левая половина ее тела оказалась парализованной. Впрочем, сама больная настаивает на том, что левая рука не парализована. Однажды, когда я спросил ее, чья это рука неподвижно лежит на одеяле рядом с ней, она заявила, что конечность принадлежит ее брату.
Библиотекарь из Филадельфии, пережившая другой тип инсульта, начала неудержимо смеяться. Это продолжалось целый день, пока она буквально не умерла от смеха.
И, наконец, есть Артур, который получил ужасную травму головы в автомобильной аварии и вскоре после этого стал утверждать, будто его отца и мать заменили двойники. Их лица казались ему странными, незнакомыми. В итоге молодой человек пришел к единственному логичному выводу, возможному в такой ситуации, – он предположил, что «новые» родители самозванцы. По большому счету, ничего другого ему и не оставалось.
Ни один из этих людей отнюдь не «сумасшедший»; визит к психиатру был бы пустой тратой времени. Скорее, у каждого из них повреждена определенная часть мозга, что привело к причудливым, но весьма характерным изменениям в поведении. Они слышат голоса, ощущают недостающие конечности, видят вещи, которые не видит никто, отрицают очевидное и высказывают дикие, невероятные суждения о других людях и мире, в котором мы все живем. И все же, по большей части, они находятся в здравом уме, рассудительны и не более безумны, чем вы или я.
Хотя эти и другие загадочные расстройства интриговали и озадачивали врачей на протяжении всей истории медицины, обычно их относят к необъяснимым курьезам – случаям, которые преимущественно запихивают в самый дальний ящик с надписью: «Убери и забудь». Большинство неврологов не особенно заинтересованы в объяснении такого странного поведения. Их цель – облегчить симптомы и улучшить самочувствие; при этом, разумеется, вовсе не обязательно копать глубже или выяснять, как работает мозг. Психиатры, напротив, часто изобретают мудреные теории для любопытных синдромов, как будто причудливые симптомы требуют столь же причудливого объяснения. Ответственность за непонятные поступки списывают на условия воспитания (плохие мысли с детства) или на мать (плохие родители). В книге «Фантомы мозга» мы будем придерживаться противоположной точки зрения. Пациенты, чьи истории болезни мы разберем подробно, суть наши проводники во внутреннее устройство и механизмы человеческого мозга – вашего и моего. Описанные здесь синдромы отнюдь не досадные курьезы; напротив, они иллюстрируют фундаментальные принципы работы нормальной психики и мозга, проливая свет на природу схемы тела, речь, смех, мечты, депрессию и другие отличительные признаки человеческой природы. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни шутки смешные, а другие нет, почему смех звучит именно так, а не как-нибудь иначе, отчего человек склонен верить либо не верить в Бога, или с какой стати сосание пальцев ног вызывает эротические ощущения? Удивительно, но теперь нам под силу дать научные ответы хотя бы на некоторые из этих вопросов. Более того, изучая неврологических больных, мы можем обратиться к высоким «философским» проблемам касательно самой природы «Я»: например, какой механизм позволяет личности оставаться неизменной в пространстве и времени или что обеспечивает монолитное единство субъективных переживаний? Что значит выбор или волевой акт? А главное, как активность крошечных пучков протоплазмы в мозге рождает сознательный опыт?
Философы обожают разглагольствовать на такие темы, но только недавно стало ясно, что к подобным проблемам можно подойти с эмпирической точки зрения. Обследуя больных в клинике и лаборатории, мы можем провести эксперименты, которые помогут выявить глубинную архитектуру нашего мозга. Мы можем начать с того самого места, где остановился Фрейд, и провозгласить новую эпоху – эпоху экспериментальной эпистемологии (изучение того, как мозг представляет знания и убеждения) и когнитивной нейропсихиатрии (интерфейс между психическими и физическими нарушениями в мозге). Сегодня мы можем экспериментально исследовать убеждения, сознание, связь между разумом и телом, а также все другие отличительные черты человеческого поведения.
На мой взгляд, работа ученого-медика не так уж сильно отличается от работы сыщика. В этой книге я прежде всего стремился поделиться ощущением тайны, лежащим в основе всех научных изысканий и особенно характерным для наших неутомимых попыток познать собственный разум. Каждая глава начинается либо историей больного, который страдает якобы необъяснимыми симптомами, либо общим вопросом о человеческой природе, например, почему мы смеемся или почему мы так склонны к самообману. Затем, шаг за шагом, мы пройдем через ту же цепочку рассуждений, которой следовал я, когда пытался разобраться в этих загадочных нарушениях. В некоторых случаях – как в случае с фантомными конечностями, например, – я могу утверждать, что раскрыл тайну. В других – как в главе о Боге – окончательный ответ по-прежнему остается за пределами нашего разумения, хотя мы и подошли к нему максимально близко. Впрочем, независимо от того, разгадана загадка или нет, я надеюсь передать читателю тот дух интеллектуального приключения, который и делает неврологию самой захватывающей дисциплиной из всех. Как говорил Шерлок Холмс доктору Уотсону: «Зверь поднят!»
Возьмем хотя бы Артура, который считал своих родителей самозванцами. Большинство врачей наверняка сочли бы его просто сумасшедшим; во всяком случае, таково наиболее распространенное объяснение данного расстройства, предлагаемое во многих учебниках. Однако, показывая ему фотографии разных людей и измеряя активность потовых желез (с помощью устройства, похожего на пресловутый детектор лжи), я смог точно установить, что́ именно сломалось в его мозге (см. главу 9). Аналогичным образом построена вся книга: мы начинаем с набора симптомов, которые кажутся странными и непонятными, а заканчиваем – по крайней мере, в некоторых случаях – интеллектуально удовлетворительным объяснением сквозь призму нейронных сетей. При этом нам часто удается не только узнать что-то новое о работе мозга, но и распахнуть двери для совершенно нового направления исследований.
Прежде чем мы начнем, вы, однако, должны понимать, в чем суть моего личного подхода к науке и почему вообще меня привлекают всякие неординарные случаи. Когда я читаю лекции для непрофессиональной аудитории (а я читаю их по всей стране), мне снова и снова задают один и тот же вопрос: «Когда вы, неврологи, наконец придумаете единую теорию о том, как работает ум? В физике, например, существует общая теория относительности Эйнштейна и закон всемирного тяготения Ньютона. Почему такой универсальной теории не может быть и для мозга?»
Проблема заключается в том, что мы еще не готовы формулировать общие теории разума и мозга. Всякая наука должна пройти через две стадии: начальную «экспериментальную» стадию, движимую наблюдаемыми явлениями, когда ученые открывают базовые законы, и более сложную стадию, движимую теорией. Возьмем эволюцию знаний об электричестве и магнетизме. Хотя люди имели смутные представления о магнетитах и магнитах на протяжении веков и даже придумали компас, первым ученым, который предпринял систематические исследования магнитов, стал викторианский физик Майкл Фарадей. Он провел два очень простых эксперимента и получил невероятные результаты. В рамках одного эксперимента, который может повторить любой школьник, Фарадей просто насыпал железные опилки на лист картона, а снизу подносил магнит. В результате он обнаружил, что опилки самопроизвольно выстраивались вдоль магнитных силовых линий. Во втором эксперименте ученый перемещал магнит в центре катушки проволоки, и – о чудо! – в проволоке появлялся электрический ток. Эти неофициальные опыты – а эта книга полна примеров такого рода – оказали глубочайшее влияние на научную мысль того времени: благодаря им Фарадей не только впервые продемонстрировал существование невидимых полей, но и доказал связь магнетизма и электричества[1]. Хотя собственные интерпретации Фарадея носили качественный характер, его эксперименты подготовили почву для знаменитых уравнений электромагнитных волн Джеймса Клерка Максвелла, появившихся несколько десятилетий спустя – математических формализмов, которые составляют основу всей современной физики.
По моему глубочайшему убеждению, нынешняя нейронаука находится в стадии Фарадея, а не в стадии Максвелла, и забегать вперед едва ли разумно. Конечно, я бы хотел ошибаться, да и попытки сформулировать формальные теории о мозге, даже если при этом многие потерпят неудачу (к счастью, недостатка в таких энтузиастах пока не наблюдается), едва ли могут принести вред. Тем не менее лично я считаю, что оптимальная исследовательская стратегия может быть охарактеризована как «подновление». Всякий раз, когда я произношу это слово, люди в шоке смотрят на меня, как будто я сказал несусветную глупость: можно подумать, заниматься сложной наукой без всеобъемлющей теории, задающей идеям и догадкам правильное направление, заведомо невозможно. Но именно это я и имею в виду (хотя догадки отнюдь не случайны; их всегда подсказывает интуиция).
Я интересовался наукой с самого детства. Когда мне было восемь или девять лет, я начал собирать окаменелости и ракушки и всерьез увлекся таксономией и эволюцией. Чуть позже родители разрешили мне оборудовать небольшую химическую лабораторию дома, под лестницей; я подолгу наблюдал за тем, как железные опилки «шипят» в соляной кислоте и периодически поджигал водород, с удовольствием слушая, как он «хлопает». (Железо вытесняет водород из соляной кислоты с образованием хлорида железа и водорода). Мысль, что простой эксперимент может так много рассказать об устройстве мира и что все во Вселенной основано на взаимодействии, приводила меня в восторг. Помню, как-то раз, когда учитель рассказал мне об экспериментах Фарадея, я был ошеломлен: оказывается, человек может узнать так много, сделав так мало! Эти переживания вселили в меня, с одной стороны, пожизненное отвращение к мудреному оборудованию, а с другой – уверенность в том, что научную революцию можно совершить и без сложных приспособлений; все, что нужно, – пара-тройка хороших гипотез[2].
Другая моя странность заключается в том, что меня всегда привлекали скорее исключения, нежели правила. Так было в каждой науке, которую мне доводилось изучать. В старших классах меня мучил вопрос, почему йод – единственный элемент, который при нагревании превращается из твердого вещества сразу в пар, минуя плавление и жидкую фазу. Почему кольца есть у только Сатурна, но не у других планет? Почему вода, превращаясь в лед, расширяется, тогда как все прочие жидкости при затвердении сжимаются? Почему некоторые животные бесполые? Почему головастики регенерируют утраченные конечности, а взрослой лягушке это недоступно? Это потому, что головастик моложе, или потому, что он – головастик? Что произойдет, если задержать метаморфозу, заблокировав действие гормонов щитовидной железы (для этого в аквариум можно добавить несколько капель тиоурацила), и вырастить очень старого головастика? Он сможет восстановить недостающую конечность? (Будучи школьником, я предпринял несколько слабых попыток разобраться в этом вопросе, но, насколько мне известно, ответа мы не знаем и по сей день.)[3]
Конечно, изучать всякие странности отнюдь не единственный – и, тем более, не самый лучший (хотя и весьма увлекательный) – способ заниматься наукой. Скорее, это просто чудачество, которое свойственно мне с детства и которое, к счастью, я сумел превратить в преимущество. Наука – особенно клиническая неврология – изобилует примерами, которые «истеблишмент» упрямо игнорирует: они, видите ли, не согласуются с общепринятым мнением. Я же, к своему великому удовольствию, обнаружил, что многие из них – неограненные алмазы.
Тем, кто с подозрением относится к теории тесной связи разума и тела, например, стоит присмотреться к расстройству множественной личности. Некоторые клиницисты утверждают, что их пациенты могут фактически «менять» структуру своих глаз (близорукий человек становится дальнозорким, а синеглазый[4] – кареглазым) и формулу крови (высокий или низкий уровень глюкозы) в зависимости от личности, активной в данный конкретный момент. Кроме того, в литературе описаны случаи, когда после психологического шока люди седели буквально за одну ночь, а у благочестивых монахинь, переживших экстатическое единство с Иисусом, появлялись на ладонях стигматы. Как ни странно, несмотря на три десятилетия исследований, мы даже не уверены, что именно представляют из себя эти феномены: реальность или фальшивку. Ясно одно: происходит нечто интересное. Так почему бы не изучить такие случаи более подробно? Они сродни заявлениям о похищении инопланетянами и способности гнуть ложки, или же это подлинные аномалии, такие как рентгеновское излучение или трансформация бактерий[5], которые однажды могут привести к смене парадигмы и научной революции?
Медицина полна двусмысленностей; это-то меня всегда в ней и привлекало – стиль Шерлока Холмса импонировал мне с юных лет. Диагностика проблемы пациента – и наука и искусство в равной степени, а значит, требует не только развитых способностей к наблюдению и рассуждению, но и участия всех органов чувств. Я вспоминаю одного профессора, доктора К. В. Тирувенгадама, который учил нас определять болезнь по запаху. Так, безошибочный запах диабетического кетоза похож на сладковатый запах лака для ногтей; брюшной тиф пахнет как свежий хлеб; для скрофулеза характерен застоявшийся пивной дух; запах краснухи напоминает куриные перья; абсцесс легкого источает зловоние; а печеночной недостаточности свойственен запах аммиака. (Современный педиатр смело может добавить к этому перечню аромат виноградного сока, который возникает при инфицировании Pseudomonas у детей, и запах потных ног изовалериановой ацидемии.) Тщательно осмотрите пальцы, говорил нам доктор Тирувенгадам, ибо небольшое изменение угла между ногтевым ложем и подушечкой может указывать на развитие рака легких задолго до появления более зловещих клинических симптомов. Примечательно, что данный признак – утолщение концевых фаланг пальцев – мгновенно исчезает на операционном столе, стоит только хирургу удалить опухоль, но даже сегодня мы понятия не имеем, почему это происходит. Другой мой учитель, профессор неврологии, настаивал на том, чтобы мы диагностировали болезнь Паркинсона с закрытыми глазами – слушая шаги больных (пациенты с этим расстройством характерно шаркают). В наш век высокотехнологичной медицины этот «детективный» аспект клинической практики – умирающее искусство, но оно успело посеять семя в моем сознании. Внимательно наблюдая за поведением пациента, слушая его шаги, прикасаясь к нему и даже нюхая его, врач может прийти к разумному диагнозу и использовать лабораторные тесты, дабы подтвердить то, что и так уже известно.
Наконец, при обследовании и лечении больного долг всякого врача – задать себе вопрос: «Каково быть на месте этого пациента? Что, если бы я был им?» Лично я никогда не переставал восхищаться мужеством и стойкостью многих моих пациентов, не говоря уж о том, что иногда трагедия, как ни парадоксально, не только обогащает их жизнь, но и придает ей новый смысл. По этой причине клинические истории, которые изложены далее, суть истории о триумфе человеческого духа над бедами и невзгодами. Хотя многие из них окрашены печалью, все они проникнуты неиссякаемым оптимизмом. Например, один невролог из Нью-Йорка, которого я наблюдал, в возрасте шестидесяти лет вдруг начал страдать эпилептическими припадками, возникающими в правой височной доле. Разумеется, приступы вызывали беспокойство, но, к его изумлению и восторгу, он – впервые за всю свою жизнь – пристрастился к поэзии и сам начал думать в стихах, выдавая бесконечный поток рифм. Поэзия, признался он, позволила ему будто заново родиться, начать жизнь с чистого листа. Следует ли из этого примера, что все мы – тайные поэты в душе, как утверждают многие гуру и мистики Нового века? Обладает ли каждый из нас нереализованным потенциалом сочинять прекрасные стихотворения и поэмы, запрятанным в дальних уголках нашего правого полушария? Если да, можно ли каким-то образом высвободить такую латентную способность, только без эпилептических припадков?
Прежде чем мы познакомимся с моими пациентами и попытаемся разгадать кое-какие тайны нервной системы, я хотел бы пригласить вас на небольшую экскурсию по человеческому мозгу. Эти анатомические подробности (обещаю, я постараюсь объяснить их как можно проще) помогут вам лучше понять, почему неврологические пациенты ведут себя именно так, а не иначе.
Говорят, человеческий мозг – самая сложно организованная форма материи во Вселенной. Сегодня это почти клише, однако в нем есть определенная доля истины. Если вы отделите кусочек мозга, скажем, от извилистого наружного слоя – новой коры, или неокортекса, – и взглянете на него под микроскопом, вы увидите, что он состоит из нейронов (нервных клеток) – основных функциональных единиц нервной системы. При рождении типичный мозг, вероятно, содержит более ста миллиардов нейронов, однако с возрастом их число постепенно уменьшается.
Каждый нейрон состоит из тела (сомы) и десятков тысяч крошечных отростков, дендритов, которые получают информацию от других нейронов. Кроме того, у каждого нейрона имеется аксон – длинный отросток, который передает информацию от нервной клетки органам и другим нервным клеткам. Концевые участки аксона называются терминалями и служат для связи с другими нейронами.
Рис. 1.1
Если вы посмотрите на рисунок 1.1, вы заметите, что изображенный на нем нейрон связан с другими нейронами. Место контакта между двумя нейронами называется синапсом. Каждый нейрон образует от тысячи до десяти тысяч синапсов. Синапсы могут быть активными или неактивными, возбуждающими или тормозящими. Кусочек вашего мозга размером с песчинку содержит сто тысяч нейронов, два миллиона аксонов и один миллиард синапсов; и все они «разговаривают» друг с другом. На основании этих цифр было подсчитано, что количество возможных состояний мозга – теоретически возможных комбинаций активности – превышает количество элементарных частиц во Вселенной. Но если все так сложно, как нам разобраться в функциях мозга? Поскольку очевидно, что понимание функций нервной системы невозможно без понимания ее структуры[6], я начну с краткого обзора анатомии головного мозга.
Головной мозг начинается с продолговатого мозга – образования, которое соединяет спинной мозг с головным мозгом и содержит кластеры клеток (так называемые ядра), контролирующие жизненно важные функции, например кровяное давление, сердечный ритм и дыхание. Продолговатый мозг соединяется с варолиевым мостом, волокна которого идут в мозжечок – структуру размером с кулак в задней части мозга, помогающую нам выполнять скоординированные движения. Чуть выше располагаются два огромных полушария – похожие на орех половины мозга. Каждая половина делится на четыре доли – лобную, височную, теменную и затылочную, о которых мы подробнее поговорим в следующих главах (рис. 1.2).
Рис. 1.2
Макроскопическая анатомия человеческого мозга.
(а) Левая часть левого полушария. Обратите внимание на четыре доли: лобную, теменную, височную и затылочную. Лобная часть отделена от теменной центральной (роландовой) бороздой, а височная от теменной – латеральной (сильвиевой) бороздой.
(б) Внутренняя поверхность левого полушария. Мозолистое тело выделено черным цветом, таламус – белым. Мозолистое тело соединяет два полушария.
(в) Большие полушария, вид сверху.[7]
Каждое полушарие контролирует мышцы (например, в руке или ноге) на противоположной стороне тела. Правое полушарие заставляет вашу левую руку махать на прощание, а левое – вашу правую ногу бить по мячу. Две половины мозга связаны пучком нервных волокон под названием мозолистое тело. Если этот пучок перерезать, связь между двумя сторонами будет потеряна; результат – синдром, позволяющий получить кое-какое представление о роли, которую каждая сторона играет в познании. Внешняя часть каждого полушария представлена корой – шестью слоями клеток, образующими извилины и борозды и напоминающими кочан цветной капусты.
В самой середине мозга находятся два таламуса. Считается, что таламус эволюционно более примитивен, чем кора больших полушарий, и выполняет функции «ретранслятора»: вся сенсорная информация, за исключением запаха, проходит через него по пути к внешней мантии. Между таламусом и корой расположены базальные ядра или ганглии (структуры с весьма забавными названиями – например, скорлупа и хвостатое ядро). Наконец, ниже таламуса находится гипоталамус, который, по-видимому, отвечает за регулирование метаболических функций, выработку гормонов и различные базовые импульсы, такие как агрессия, страх и сексуальность.
Хотя эти анатомические факты известны давно, мы до сих пор не имеем четкого представления о том, как именно работает мозг[8]. Многие более старые теории можно отнести к одному из двух воюющих лагерей – модульной теории или холизму. Последние триста лет маятник в основном качался между двумя этими крайностями. Один конец спектра оккупировали сторонники модульного подхода: они полагают, что различные части мозга высокоспециализированы. Так, существует отдельный модуль для языка и речи, отдельный модуль для памяти, отдельный модуль для математических способностей, отдельный модуль для распознавания лиц и, возможно, даже отдельный модуль для выявления лжи. Более того, эти модули, или области, характеризуются существенной автономией. Каждый из них выполняет свою собственную работу, последовательность вычислений или что-то еще, а затем, подобно ведерной бригаде, передает данные в следующий модуль, почти не «разговаривая» с другими участками.
На другом конце спектра мы имеем холизм – теоретический подход, который в значительной степени пересекается с тем, что в наши дни принято называть «коннекционизмом». Представители данной научной школы утверждают, что мозг функционирует как единое целое и что все его части одинаково хороши. В пользу принципа целостности говорит тот факт, что многие участки мозга, особенно коры, могут выполнять самые разные задачи. Все связано со всем остальным, считают холисты, а потому поиск отдельных модулей – пустая трата времени.
Мой собственный опыт наблюдения за больными подсказывает, что эти две точки зрения отнюдь не исключают друг друга. Судя по всему, мозг – это динамическая структура, которая использует оба «режима». Величие человеческого потенциала проявляется только тогда, когда мы принимаем во внимание все возможности, не примыкая к поляризованным лагерям и не спрашивая, локализована данная конкретная функция или не локализована[9]. Как мы увидим далее, гораздо целесообразнее решать каждую проблему по мере ее возникновения, а не зацикливаться на определенной, заранее сформулированной четкой позиции.
На самом деле оба подхода в их крайних формах довольно абсурдны. В качестве аналогии предположим, что вы смотрите сериал «Спасатели Малибу». Где он локализован? В люминофоре на экране телевизора или в танцующих электронах внутри кинескопа? Или в электромагнитных волнах, передаваемых по воздуху? А может, на целлулоидной ленте или на видеопленке в студии, из которой транслируется шоу, или в камере, которая смотрит на актеров?
Большинство людей сразу понимают – вопрос бессмысленный. Тогда, возможно, у вас возникнет соблазн заключить, что сериал вообще не локализован (то есть модуль «Спасатели Малибу» не существует) в некоем конкретном месте, а пронизывает всю Вселенную, но это тоже абсурдно. Мы знаем, что он не локализован на Луне, или в моей кошке, или в стуле, на котором я сижу (хотя некоторые электромагнитные волны могут проникать в эти места). Очевидно, что люминофор, кинескоп, электромагнитные волны и видеопленка играют гораздо большую роль в этом действе, которое мы называем «Спасатели Малибу», чем Луна, стул или чужой кот.
Как только вы понимаете, что такое телевизионная программа на самом деле, вопрос «локализована или не локализована?» отступает на задний план, и вас начинает мучить другая проблема: «Как это работает?» Разумеется, изучение электронно-лучевой трубки и электронной пушки в конечном итоге даст вам кое-какие подсказки относительно того, как работает телевизор и почему время от времени на экране появляются спасатели из Малибу. Со стулом, на котором вы сидите, такой номер не пройдет: сколько бы вы на него ни смотрели, принципы телевизионной трансляции останутся тайной за семью печатями. Выходит, локализация не такая уж плохая площадка для старта – если, конечно, мы не ждем, что она содержит все ответы.
То же справедливо и в отношении многих обсуждаемых в последнее время вопросов о функционировании мозга. Речь локализована? А цветное зрение? А смех? Стоит нам лучше понять эти функции, как вопрос «где?» становится менее важным, чем вопрос «как?». На сегодняшний день собрано множество эмпирических данных, которые подтверждают существование специализированных участков или модулей мозга, опосредующих различные умственные способности. Тем не менее, чтобы разгадать главный секрет мозга, нужно не только выявить структуры и функции каждого модуля, но и установить, как они взаимодействуют друг с другом, генерируя весь спектр способностей, которые мы называем человеческой природой.
Вот тут-то в игру и вступают пациенты с необычными неврологическими нарушениями. Подобно аномальному поведению собаки, которая не лаяла во время убийства и тем самым навела Шерлока Холмса на след истинного преступника, любопытное поведение таких больных может подсказать нам, как различные части мозга создают внутреннюю репрезентацию внешнего мира и генерируют иллюзию «Я», сохраняющуюся в пространстве и времени.
Дабы в полной мере прочувствовать суть такого подхода к науке, рассмотрим несколько колоритных случаев – и соответствующие выводы, – которые описаны в старой неврологической литературе.
Более пятидесяти лет назад в клинику всемирно известного невролога Курта Гольдштейна вошла женщина среднего возраста. Она казалась совершенно нормальной и не испытывала проблем с речью. На самом деле с ней все было в порядке, за исключением одной-единственной странной жалобы – время от времени ее левая рука хватала ее за горло и пыталась задушить. В таких случаях женщина брала левую руку правой и, опустив ее, прижимала к боку – нечто подобное проделывал актер Питер Селлерс в образе доктора Стрейнджлава. Иногда ей даже приходилось садиться на мятежную конечность, так настойчиво та пыталась лишить ее жизни.[10]
Неудивительно, что лечащий врач женщины решил, что она психически нездорова, и направил ее сразу к нескольким психиатрам. Те ничем не смогли ей помочь и посоветовали обратиться к доктору Гольдштейну – великолепному диагносту, который брался за самые сложные случаи. Осмотрев больную, Гольдштейн констатировал: его новая пациентка не страдает ни психозом, ни истерией, ни каким-либо иным психическим расстройством. Отсутствовали и признаки выраженных неврологических дефицитов, таких как паралич или гиперрефлексия. Впрочем, скоро он нашел объяснение ее странному поведению. Как у вас и у меня, у этой женщины было два больших полушария, каждое из которых специализировалось на разных умственных способностях и контролировало движения на противоположной стороне тела. Как известно, полушария соединены сплетением нервных волокон под названием мозолистое тело, которое позволяет двум сторонам «переговариваться» и действовать «в согласии друг с другом». Однако в отличие от большинства из нас, правое полушарие этой женщины (которое управляло ее левой рукой) явно питало латентные склонности к суициду – другими словами, оно испытывало непреодолимое желание себя убить. Вероятно, раньше эти побуждения сдерживались «тормозами» – ингибирующими сигналами, поступающими через мозолистое тело из более рационального левого полушария. Если в результате инсульта, предположил Гольдштейн, мозолистое тело оказалось повреждено, эти «тормоза» исчезли. В итоге правая сторона мозга и кровожадная левая рука обрели свободу и периодически пытались задушить свою хозяйку.
Это объяснение не так надуманно, как кажется: некоторое время назад ученые установили, что правое полушарие более склонно к эмоциональной неустойчивости, чем левое. Больные, перенесшие инсульт на левой стороне мозга, часто тревожны, подвержены депрессии и в целом пессимистически смотрят на перспективы реабилитации. Причина, по-видимому, заключается в том, что при поражении левого мозга правый берет управление на себя и начинает паниковать по любому поводу. Люди с поражениями правого полушария, напротив, блаженно равнодушны к своему состоянию и прочим невзгодам. Левое полушарие просто не умеет сильно расстраиваться. (Подробнее об этом см. в главе 7.)
Когда Гольдштейн озвучил свой диагноз, последний, должно быть, казался научной фантастикой. Но вскоре женщина внезапно умерла – возможно, от второго инсульта (во всяком случае, точно не от удушения). Вскрытие подтвердило подозрения знаменитого невролога: некоторое время назад больная перенесла обширный инсульт в мозолистом теле, в результате которого левая сторона ее мозга утратила обычный контроль над правой стороной. Таким образом, Гольдштейн вскрыл двойственную природу функции мозга, показав, что два полушария в самом деле специализированы и предназначены для выполнения разных задач.
Следующим рассмотрим простой акт улыбки – нечто, что все мы делаем в социальных ситуациях. Вы видите друга и улыбаетесь. Что же происходит, когда друг достает фотоаппарат и просит вас улыбнуться по команде? Вместо естественного выражения радости у вас получается отвратительная гримаса. Как ни парадоксально, вы запросто улыбаетесь десятки раз в день, но стоит кому-то попросить вас улыбнуться, как действие, которое раньше совершалось без всяких усилий, становится чрезвычайно трудным. Думаете, из-за смущения? Ничего подобного: если вы подойдете к зеркалу и попробуете улыбнуться, уверяю вас, получится такая же гримаса.
Причина, по которой эти два вида улыбок различаются, состоит в том, что за них отвечают разные участки мозга, но только один из них содержит специальную «нейронную цепь улыбки». Спонтанную улыбку порождают базальные ганглии – скопления клеток между корой головного мозга (где происходит мышление и планирование) и эволюционно более старым таламусом. Когда вы видите дружелюбное лицо, зрительная информация в конечном итоге достигает эмоционального центра – лимбической системы, а затем передается базальным ганглиям, которые дирижируют последовательными сокращениями лицевых мышц, необходимыми для естественной улыбки. Когда эта нейронная цепь активна, ваша улыбка выглядит искренней. Весь каскад событий происходит в долю секунды без участия «мыслящих» участков коры.
Что происходит, когда кто-то просит вас улыбнуться на камеру? Устная инструкция фотографа поступает в высшие центры мозга, включая слуховую кору и речевые центры. Оттуда она передается в моторную кору, которая расположена в передней части мозга и отвечает за выполнение сложных произвольных движений, таких как игра на фортепиано или расчесывание волос. Несмотря на кажущуюся простоту, улыбка невозможна без тщательной «оркестровки» сокращений десятков крошечных мышц в нужной последовательности. Для моторной коры (которая не предназначена для генерирования естественных улыбок) это так же сложно, как сыграть Рахманинова без подготовки, и она терпит фиаско. Ваша улыбка получается вынужденной, напряженной, неестественной.
Лучшее доказательство существования двух разных «нейронных цепей улыбки» – пациенты с повреждением мозга. При инсульте в правой моторной коре – специализированной области, которая управляет сложными движениями на левой стороне тела, – проблемы возникают слева. Если вы попросите такого человека улыбнуться, то увидите ту же деланую, неестественную усмешку. Впрочем, зрелище будет даже отвратительней: фактически только половина улыбки на правой стороне лица. Однако, когда тот же самый пациент видит, как в палату входит любимый друг или родственник, его губы мгновенно растягиваются в широкую, естественную улыбку, затрагивающую обе стороны рта. Дело в том, что инсульт пощадил его базальные ганглии, а потому специальная нейронная цепь для создания симметричных улыбок осталась неповрежденной[11].
Изредка больной и не подозревает, что перенес инсульт, пока не попытается улыбнуться. Внезапно его близкие замечают, что улыбается только одна половина его лица. И все же, когда его просит улыбнуться невролог, у него получается симметричная, хотя и неестественная, усмешка – прямая противоположность предыдущему пациенту. Оказывается, в результате инсульта у этого парня оказались избирательно повреждены базальные ганглии на одной стороне мозга.
Еще одно доказательство наличия специализированных нейронных сетей – зевота. Как мы уже отмечали, многие пациенты с инсультом парализованы на правой или левой стороне тела, в зависимости от того, где находится очаг поражения. Произвольные движения на противоположной стороне исчезают навсегда. И все же, когда такой больной зевает, он вытягивает обе руки. К его изумлению, парализованная конечность внезапно оживает! Это происходит потому, что движение рук во время зевоты контролирует другой путь, тесно связанный с дыхательными центрами в стволе мозга.
Иногда микроскопическое поражение мозга, содержащего миллиарды здоровых клеток, может вызвать серьезные проблемы, которые кажутся абсолютно несоразмерными масштабам повреждения. Например, вы можете полагать, что в памяти участвует весь мозг. Когда я говорю слово «роза», оно вызывает всевозможные ассоциации: образы розового сада или первого свидания, на котором вам подарили этот цветок, его аромата, бархатных лепестков, женщины по имени Роза и так далее. Если такое простое понятие, как «роза», порождает столь многочисленные ассоциации, значит, для фиксации каждого следа памяти (энграммы) определенно нужен весь мозг.
Однако печальная история пациента, известного как Г. M., говорит совсем другое[12]. Поскольку Г. M. страдал фармакорезистентной формой эпилепсии, врачи решили удалить «больную» ткань с обеих сторон мозга, в том числе и две крошечные структуры (по одной с каждой стороны), по форме напоминающие морского конька, – гиппокамп, который отвечает за новые воспоминания. После операции Г. М. полностью утратил способность сохранять новую информацию, хотя прекрасно помнил все, что произошло до вмешательства. Сегодня врачи относятся к гиппокампу с бо́льшим уважением и никогда не станут сознательно удалять его с обеих сторон (рис. 1.3).
Рис. 1.3
Изображение мозга с частично прозрачной корой, под которой видны внутренние структуры. Посередине находится таламус (выделен темным); между ним и корой расположены базальные ганглии (не показаны). В височной доле находится миндалевидное тело («ворота» в лимбическую систему) и гиппокамп (отвечающий за память). Помимо миндалевидного тела, на рисунке можно видеть и другие части лимбической системы, например гипоталамус (расположен ниже таламуса). Пути лимбической системы опосредуют эмоциональное возбуждение. Полушария соединены со спинным мозгом мозговым стволом (состоящим из продолговатого мозга, моста и среднего мозга). Под затылочными долями находится мозжечок, отвечающий главным образом за координацию и синхронизацию движений.[13]
Хотя я никогда не работал с Г. M. лично, я часто видел пациентов с аналогичными формами амнезии, вызванной хроническим алкоголизмом или гипоксией (кислородным голоданием мозга после хирургического вмешательства). Разговаривать с ними – жуткий опыт. Когда я вхожу в палату к такому больному, он кажется вполне разумным и внятно говорит. Он может рассуждать на философские темы и с легкостью справляется с примерами на сложение или вычитание. Он эмоционально и психологически устойчив и охотно обсуждает свою семью.
Затем я приношу извинения и выхожу якобы в уборную. По возвращении я не вижу ни малейшего признака узнавания, ни малейшего намека на то, что этот человек видел меня раньше.
– Вы помните, кто я?
– Нет.
Я показываю больному авторучку.
– Что это?
– Ручка.
– Какого она цвета?
– Красная.
Я кладу ручку под подушку, которая лежит на соседнем стуле, и спрашиваю:
– Что я только что сделал?
Он отвечает быстро:
– Вы положили ручку вон под ту подушку.
Тогда я спрашиваю его о семье или о чем-нибудь еще. Проходит одна минута, и я задаю главный вопрос:
– Недавно я вам кое-что показал. Вы помните, что это было?
Больной явно озадачен.
– Нет.
– Вы помните, что я показал вам некий предмет? Вы помните, куда я его положил?
– Нет.
Он напрочь забыл, как я спрятал ручку, а ведь с тех пор прошло всего шестьдесят секунд!
Такие пациенты буквально застыли во времени: они помнят только те события, которые произошли до повреждения мозга, – свой первый бейсбольный матч, первое свидание, окончание колледжа и так далее. После травмы в их памяти не откладывается ничего. Они снова и снова перечитывают старую газету или детективный роман, каждый раз наслаждаясь сюжетом и неожиданной развязкой. Я могу рассказывать им одну и ту же шутку полдюжины раз, и каждый раз, стоит мне подойти к концовке, они смеются от души (кстати, мои аспиранты тоже так делают).
Эти больные говорят нам нечто очень важное – что крошечный отдел мозга, гиппокамп, абсолютно необходим для фиксации новых следов памяти (хотя фактические следы памяти в гиппокампе не хранятся). Кроме того, их амнезия наглядно иллюстрирует мощь модульного подхода и помогает существенно сузить область исследования: если вы хотите понять память, посмотрите на гиппокамп. И все же, как мы увидим далее, изучение одного гиппокампа никогда не объяснит всех аспектов памяти. Чтобы разобраться, как воспоминания извлекаются по нашему желанию, редактируются, подавляются (иногда даже подвергаются цензуре!), нужно установить, как гиппокамп взаимодействует с другими участками мозга, такими как лобные доли, лимбическая система (которая отвечает за эмоции) и структуры в мозговом стволе (которые позволяют выборочно обращать внимание на конкретные воспоминания).
Роль гиппокампа в формировании воспоминаний четко установлена, но существуют ли участки мозга, которые специализируются на более «продвинутых» способностях – например, «арифметическом мышлении», свойственном исключительно человеку? Недавно я познакомился с одним джентльменом, Биллом Маршаллом, неделей ранее перенесшим инсульт. Веселый и беззаботный, он находился на пути к выздоровлению и охотно согласился обсудить со мной свою жизнь и здоровье. Когда я попросил его рассказать о семье, он назвал имена всех своих детей, перечислил их профессии и подробно рассказал о внуках. Говорил он грамотно и бегло – большая редкость у больных сразу после инсульта.
– Кем вы работали? – спросил я Билла.
– Раньше я был пилотом ВВС, – ответил он.
– На каком самолете вы летали?
Билл назвал модель и добавил:
– В то время это была самая быстрая штуковина на планете.
Затем он рассказал, как быстро летал самолет, и сообщил, что его построили еще до изобретения реактивных двигателей.
В какой-то момент я сказал:
– Билл, вы можете вычесть семь из ста? Чему равно сто минус семь?
– О. Сто минус семь?
– Да.
– Х-м-м, сто минус семь… – протянул Билл.
– Да, сто минус семь.
– Вы хотите, чтобы я вычел семь из ста? Сто минус семь, да?
– Да.
– Девяносто шесть?
– Нет.
– О.
– Давайте попробуем другой пример. Чему равно семнадцать минус три?
– Семнадцать минус три? Знаете, я не очень хорош в математике, – пробормотал Билл.
– Скажите, – не унимался я, – это число будет меньше или больше семнадцати?
– Конечно, меньше, – просиял он.
– Отлично. Так сколько будет семнадцать минус три?
– Двенадцать? – наконец предположил Билл.
У меня возникли подозрения, что Билл плохо понимает числа и их природу. Это и неудивительно: проблема чисел – старый и глубокий философский вопрос, восходящий к самому Пифагору.
– Что такое бесконечность? – спросил я.
– О, это самое большое число, которое только есть на свете.
– Какое число больше: сто один или девяносто семь?
Билл ответил сразу:
– Сто один больше.
– Почему?
– Потому что в нем больше цифр.
Это означало, что Билл понимал сложные числовые понятия, такие как разряды и их значение. Кроме того, хотя он не смог вычесть три из семнадцати, его ответ не был вопиюще абсурдным. Он сказал «двенадцать», а не семьдесят пять или двести. Следовательно, он мог давать приблизительные оценки.
Подумав, я решил рассказать ему одну забавную историю:
– На днях один человек зашел в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке и увидел огромный скелет динозавра. Он захотел узнать, сколько ему лет, поэтому он подошел к старому куратору, сидящему в углу, и спросил: «Скажите, пожалуйста, сколько лет этим костям?» – «О, им шестьдесят миллионов и три года, сэр», – ответил куратор. «Шестьдесят миллионов и три года? Я и не знал, что ученые могут так точно измерить возраст костей. Но подождите… Что вы имеете в виду – шестьдесят миллионов и три года?» – «Понимаете, – объяснил куратор, – когда меня взяли на эту работу три года назад, то сказали, что костям шестьдесят миллионов лет. Значит, сейчас им шестьдесят миллионов лет плюс три года».
Услышав концовку, Билл громко расхохотался. Очевидно, он разбирался в числах гораздо лучше, чем казалось на первый взгляд. Чтобы понять эту шутку, требуется весьма изощренный ум, особенно если учесть, что она содержит то, что философы называют «ошибкой неуместной конкретности».
Я повернулся к Биллу и спросил:
– Почему это смешно, как вы думаете?
– Ну, – протянул он, – уровень точности неуместен.
Итак, Билл понимает шутку и идею бесконечности, но не может вычесть три из семнадцати. Означает ли это, что у каждого из нас в районе левой угловой извилины (именно эта область была поражена у Билла в результате инсульта) имеется особый числовой центр, который отвечает за сложение, вычитание, умножение и деление? Думаю, что нет. Ясно одно: данная область – угловая извилина – каким-то образом необходима для вычислительных задач, но не нужна для других способностей, например для кратковременной памяти, речи или юмора. Как ни парадоксально, не нужна она и для понимания числовых понятий, лежащих в основе таких вычислений. Мы еще не установили, как работает «арифметическая» нейронная цепь в угловой извилине, но зато мы хотя бы знаем, куда смотреть[14].
У многих пациентов с дискалькулией наблюдается сопутствующее расстройство под названием пальцевая агнозия: они не могут сказать, на какой палец указывает невролог или к какому прикасается. Выходит, арифметические операции и способность различать пальцы занимают в мозге смежные области. Это простое совпадение или как-то связано с тем, что в детстве все мы учимся считать именно на пальцах? Тот факт, что у некоторых таких пациентов одна функция может оставаться сохранной (способность называть пальцы), в то время как другая (сложение и вычитание) исчезает навсегда, отнюдь не исключает того, что обе могут быть связаны и занимать в мозге одну и ту же анатомическую нишу. Вполне возможно, что обе функции лежат в непосредственной близости друг от друга и взаимозависят на этапе обучения, однако по мере взросления каждая обретает самостоятельность и может жить без своей соседки. Другими словами, ребенок не может не шевелить пальцами при счете, тогда как вам и мне этого делать не обязательно.
Исторические примеры и клинический материал из моих заметок говорят нам, что специализированные нейронные цепи, или модули, действительно существуют. Но есть и другие, одинаково интересные вопросы. Как именно работают эти модули? Как они «разговаривают» друг с другом, порождая сознательный опыт? В какой степени все эти сложные нейронные сети заданы нашими генами? Какие из них формируются под воздействием раннего опыта, по мере того как младенец взаимодействует с миром? (Довольно древняя дискуссия о роли воспитания и природы, которая продолжается уже сотни лет, но даже сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что затронули лишь верхушку айсберга.) Даже если определенные нейронные цепи запрограммированы с рождения, значит ли это, что их нельзя изменить? Какая доля взрослого мозга поддается модификации? Чтобы узнать ответы на указанные вопросы, давайте познакомимся с Томом – одним из первых людей, которые оказали мне существенную помощь в исследовании этих более общих проблем.
Глава 2
О картах и гомункулусах
Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы.
Новые…
…Небеса изменяют и все, что под ними,
Форму свою, и земля, и все, что под ней существует.
Так – часть мира – и мы…
Овидий
Том Соренсон живо помнит ужасающие обстоятельства, которые привели к потере руки. Он ехал домой с футбольной тренировки усталый и голодный, когда прямо перед ним выскочил встречный автомобиль. Взвизгнули тормоза, машина Тома вышла из-под контроля, и его выбросило на обочину, поросшую ледяником. Летя по воздуху, Том оглянулся и увидел, что его рука по-прежнему «сжимает» подушку сиденья – оторванная от его тела, точно реквизит в фильме ужасов про Фредди Крюгера.
В результате той ужасной аварии Том потерял левую руку выше локтя. Ему было семнадцать лет; беда случилась всего за три месяца до окончания школы.
Хотя после аварии прошло несколько недель и Том прекрасно понимал, что руки больше нет, он до сих пор чувствовал ее призрачное присутствие ниже локтя. Он мог шевелить каждым «пальцем» и «хватать» предметы, которые находились в зоне его досягаемости. Одним словом, фантомная рука могла делать все, что автоматически делает настоящая рука, например, блокировать удары, предотвращать падения или похлопывать младшего брата на спине. Поскольку Том был левшой, именно фантом тянулся к трубке всякий раз, когда звонил телефон.
Том не был сумасшедшим. Ощущение, что недостающая рука по-прежнему на месте, – классический пример фантомной конечности: руки или ноги, которая остается в умах пациентов еще долго после того, как она была утрачена в результате несчастного случая или хирургической операции. Некоторые просыпаются от анестезии и не верят, когда врачи говорят им, что рукой пришлось пожертвовать: как и раньше, они живо ощущают ее присутствие[15]. Только заглянув под простыни, эти люди приходят к шокирующему осознанию того, что конечность действительно исчезла. Многие испытывают мучительную боль в фантомной руке, кисти или пальцах – настолько сильную, что подумывают о самоубийстве. Боль не только невыносима, но и не поддается контролю с помощью лекарственных препаратов; никто не имеет даже смутного представления о том, как она возникает и как с ней бороться.
Как врач, я знал, что боль при фантомной конечности – серьезная клиническая проблема. Хронические боли в реальной части тела, такие как боли в суставах при артрите или боли в пояснице, достаточно сложно поддаются лечению, но как лечить боль в призраке? Как ученый, я живо интересовался вопросом, почему это вообще происходит: почему рука сохраняется в сознании пациента еще долгое время после ампутации? Почему разум просто не смирится с утратой и не «скорректирует» схему тела? Конечно, у некоторых – весьма немногочисленных – пациентов так и происходит, хотя обычно это занимает годы или десятилетия. Почему десятилетия? Почему не неделю или день? Изучение этого феномена, надеялся я, не только поможет нам понять, как мозг справляется с внезапной и обширной потерей, но и позволит решить более фундаментальный спор о роли воспитания и природных факторов – другими словами, в какой степени схема тела, а также другие аспекты нашего разума определяются генами, а в какой модифицируются опытом.
Сохранение ощущений в конечностях длительное время после ампутации было замечено еще в шестнадцатом веке французским хирургом Амбруазом Паре. Неудивительно, что вокруг этого явления возник богатый фольклор. После того как лорд Нельсон потерял правую руку во время неудачного нападения на Санта-Крус-де-Тенерифе, его мучили сильные боли в фантомной конечности, в том числе безошибочное ощущение ногтей, впивающихся в несуществующую ладонь. Появление этих призрачных ощущений в отсутствующей конечности побудило морского лорда провозгласить, что его фантом – «прямое доказательство существования души». Ибо, если рука может существовать после ампутации, почему весь человек не может выжить после физического уничтожения тела? Вот доказательство, утверждал лорд Нельсон, существования духа после того, как он сбросит свою оболочку.
Термин «фантомная конечность» предложил выдающийся врач из Филадельфии Сайлас Уэйр Митчелл[16]. Случилось это сразу после Гражданской войны. В то время антибиотики еще не имели широкого распространения, а потому типичным следствием травм и ранений была гангрена. Хирурги отпиливали зараженные конечности тысячами. Поскольку большинство выживших солдат возвращались домой с фантомами, дискуссии о механизмах их возникновения разгорелись с новой силой. Сам Уэйр Митчелл настолько заинтересовался этим феноменом, что опубликовал первую статью на данную тему. Статья вышла под псевдонимом и не в научном, а в популярном издании Lippincott’s Journal. Очевидно, Митчелл не рискнул подвергнуться нападкам со стороны коллег, которые, разумеется, подняли бы его на смех, опубликуй он ее в профессиональном медицинском журнале. В конце концов, фантомы, если задуматься, весьма жутковатое явление.
Со времен Уэйра Митчелла были предложены самые разные гипотезы о происхождении фантомов, от возвышенных до нелепых. Еще пятнадцать лет назад в статье, опубликованной канадским журналом психиатрии, утверждалось, будто фантомные конечности всего лишь результат принятия желаемого за действительное. По мнению авторов, пациент отчаянно хочет вернуть свою руку и, следовательно, выдумывает себе фантом, в этом отношении мало чем отличаясь от здорового человека, который видит повторяющиеся сновидения или даже «призраки» недавно умерших родителей. Данный аргумент, как мы увидим далее, несусветная чепуха.
Второе, более популярное объяснение фантомов заключается в том, что поврежденные нервные окончания в культе (невромы), которые раньше обслуживали руку, часто воспаляются, тем самым заставляя высшие мозговые центры думать, будто утраченная конечность по-прежнему на месте. Хотя в этой теории раздражения нервов слишком много пробелов, это простое и удобное объяснение, а потому большинство врачей до сих пор придерживаются именно его.
На сегодняшний день проведены сотни крайне любопытных клинических исследований. Впрочем, основная масса опубликована в более старых выпусках медицинских журналов. Некоторые из описанных явлений получили неоднократное подтверждение и до сих пор требуют объяснения, тогда как другие кажутся надуманными продуктами собственного воображения автора. Одна из моих любимых – история о пациенте, который начал ощущать фантомную руку вскоре после ампутации (пока вроде бы ничего особенного), но через несколько недель стал жаловаться, что его фантом как будто кто-то грызет. Естественно, он был весьма озадачен внезапным появлением этих новых ощущений и спросил своего лечащего врача, почему это происходит. Доктор не знал ответа и ничем не смог ему помочь. Наконец, из чистого любопытства, парень спросил: «Что случилось с моей рукой после того, как вы ее отрезали?» – «Хороший вопрос, – ответил доктор. – Нужно спросить хирурга». Парень спросил хирурга. «О, – сказал хирург, – обычно мы отправляем ампутированные конечности в морг». Парень позвонил в морг и спросил: «Что вы делаете с ампутированными руками?» – «Мы отправляем их либо в крематорий, либо в патологию. Но обычно мы их сжигаем». – «А что вы сделали с этой конкретной рукой? С моей
