Сталинская премия по литературе: культурная политика и эстетический канон сталинизма
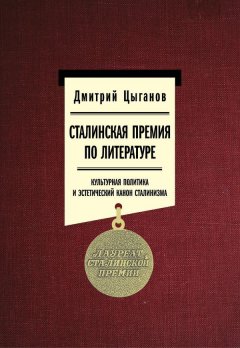
УДК 821.02(47+57)«194/195»Социалистический реализм
ББК 83.3(2)631-003.3
Ц94
Дмитрий Цыганов
Сталинская премия по литературе: Культурная политика и эстетический канон сталинизма / Дмитрий Цыганов. – М.: Новое литературное обозрение, 2023.
Вопрос об эстетическом каноне сталинской эпохи и смежная с ним проблема взаимодействия эстетики и политики в послевоенном СССР – центральные и вместе с тем самые малоисследованные фрагменты культурной истории «малого» ХX века. С помощью каких институций и учреждений обеспечивалось сообщение между политической и эстетической сферами? Какую роль в этом процессе играла Сталинская премия в области литературы и искусства? Книга Дмитрия Цыганова – это первое исследование, целиком построенное на архивных источниках и содержащее подробное описание и всесторонний анализ институционального облика Сталинской премии по литературе. Автор не только рассматривает детали работы Комитета по Сталинским премиям и нюансы присуждения наград, но и реконструирует ключевые культурные тенденции, которые определили динамику развития соцреалистического литературного проекта. Показывая сложное взаимовлияние различных институтов, формировавших канон сталинской эпохи, исследователь уводит читателя от упрощающей схематичности и предлагает ему более комплексное представление о литературном процессе 1930-х – начала 1950‐х годов. Дмитрий Цыганов – филолог, историк культуры, научный сотрудник ИМЛИ РАН.
ISBN 978-5-4448-2323-7
© Д. Цыганов, 2023
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
Введение. Соцреализм в отдельно взятой стране
В письме к Л. М. Кагановичу от 15 августа 1934 года И. В. Сталин написал: «Надо разъяснить всем литераторам-коммунистам, что хозяином в литературе, как и в других областях, является только ЦК и что они обязаны подчиняться последнему беспрекословно»1. Эта фраза наиболее точно характеризует специфику историко-литературного процесса сталинской эпохи. Объем того влияния, которое лично Сталин и ряд приближенных к нему членов Центрального комитета партии оказывали на литературное производство 1930‐х – начала 1950‐х годов, отнюдь не исчерпывается частными санкциями и точечными вмешательствами в общий ход культурного развития: в отношении к сложившейся в Советском государстве ситуации можно говорить о целенаправленном и инициированном высшими структурами власти воздействии на формирование соцреалистического канона сталинской культуры. Механизмами, посредством которых проводилась эта культурная политика, стали многочисленные институции и учреждения (творческие союзы и объединения, съезды писателей, Литературный фонд Союза ССР2, «городок писателей» Переделкино3, читатель и писатель как основные институты сталинской культуры, школы и университеты (в том числе основанный в 1933 году Вечерний рабочий литературный университет4), «толстые» литературно-художественные журналы и разнообразные газеты, Сталинская премия, литературная критика, цензура и «теория социалистического реализма», составлявшая ведущую отрасль «советского литературоведения»); их совокупность стала ключевым контекстом оформления сталинского культурного канона. Неравномерный характер протекания этого процесса особенно ощутим при сопоставлении хронологически дистанцированных этапов развития режима: полученный в первой половине 1930‐х годов5 и очевидно ослабевший к 1936–1938 годам импульс литературного развития к концу десятилетия вновь набирает силу, однако, будучи прерванным начавшейся войной и довольно краткосрочным периодом послевоенного восстановления, достигает апогея уже в период позднего сталинизма, когда и происходит окончательное складывание культурного канона социалистического реализма. Наметившиеся незадолго до судьбоносного XIX съезда партии (октябрь 1952 года) деструктивные тенденции, обозначившие необходимость скорейшей переориентации литературного процесса и как бы завершившие послевоенную «литературу метрополии», позволяют значительно сузить хронологические рамки рассмотрения, сосредоточившись на периоде 1940‐х – начала 1950‐х годов и лишь отчасти привлекая материал, относящийся к ближайшему по времени контексту. Кроме того, в этот же временной промежуток укладывается 14-летняя (1940–1953) история функционирования института Сталинской премии в области литературы и искусства, чьей роли в формировании послевоенного соцреалистического канона и – шире – месту в системе литературного производства и посвящено это исследование.
Говорить об исчерпывающем и относительно полном обзоре работ, посвященных проблеме «основного метода советской художественной литературы и литературной критики», на сегодняшний день не приходится: о культуре сталинской эпохи в целом и о множестве ее частных аспектов написано такое количество исследований, что одна их библиография растянулась бы на сотни страниц. Условно весь этот массив текстов, руководствуясь сугубо хронологическим критерием, можно разделить на две части: теоретические работы, созданные в период с середины 1950‐х до начала перестройки, и исследования, написанные в условиях дезинтеграции основных институтов Советского государства и определившие специфику современного освещения сталинской культуры в отечественной и зарубежной историографии.
Первая группа текстов по вполне понятным причинам характеризуется относительной однородностью: большинство из входящих в нее образцов не столько описывает соцреалистическую культуру сталинизма, сколько является ее закономерным продолжением, производной тех «теоретических» установок на «борьбу с формализмом в науке», которые оформились в советском литературоведении и критике в конце 1940‐х – начале 1950‐х годов. Зачастую работы, входящие в эту группу, создавались либо непосредственными современниками и участниками художественной жизни послевоенного периода, либо сотрудниками различных институций и людьми, чья деятельность так или иначе соотносилась с бюрократическим контекстом официального советского литературоведения. К этой группе можно отнести опубликованные ближе к середине 1950‐х годов работы А. А. Фадеева6, Ф. В. Гладкова, В. В. Ермилова, Е. Ф. Книпович, В. А. Луговского, В. М. Озерова, П. А. Павленко, В. О. Перцова, А. К. Тарасенкова, А. Н. Толстого, К. А. Федина, М. С. Шагинян, Н. З. Шамоты7 и статьи многих видных функционеров Союза писателей или других институций, вовлеченных в литературное производство8. Вместе с тем авторы этих текстов ставили своей задачей не осмысление соцреалистической культуры сталинской эпохи, а ее приращение: совокупность подобных работ оформляла теоретическое поле, в пространстве которого разговор о соцреализме как об эстетической системе вообще становился возможным. Иначе говоря, происходила нормализация теоретического дискурса, создававшая (пусть и в ограниченном пространстве Страны Советов) видимость единства и цельности соцреалистического художественного «метода», материально явленного в образцах сталинского искусства. Однако уже в 1930–1950‐е годы преимущественно в критике эмиграции оформляется альтернативный господствующему взгляд на культуру эпохи сталинизма, ставящий под сомнение повсеместно тиражируемое утверждение о безальтернативности «основного метода советской художественной литературы и литературной критики» (А. Жданов). «Молодая» советская литература в русской эмигрантской литературной критике и теории явилась чуть ли не центральным объектом анализа и рефлексии, потеснив и классическое наследие XIX столетия, и даже вопрос о самоидентификации уехавших писателей. Интеллектуальному производству альтернативных точек зрения на литературную культуру сталинизма способствовала и весьма разветвленная институциональная сеть, включавшая кружки, периодику, издательства. Тем не менее, по точному замечанию Г. Тиханова, «фактически лишь три эмигрантских критика – Пильский, Слоним и Юрий Мандельштам – сумели в межвоенный период опубликовать книги новых критических статей и рецензий»9. Литературные критики в эмиграции, утверждая принципиальную разницу сложившихся культурных обстановок в сталинском Советском Союзе и за его пределами, как бы обретали право не только на независимые суждения и оценки, но и на самостоятельное определение иерархии, свободное выстраивание внешней концепции эстетического канона. Очевидно, что работы, написанные в таком ключе, не могли без известных последствий для их авторов публиковаться в Советском Союзе, поэтому подавляющая часть не встраивавшихся в санкционированный государством «литературоведческий» дискурс исследований создавалась и печаталась за пределами СССР. Так, в 1951 году вышло третье издание расширенных до формата 400-страничной книги сводных курсов по истории советской литературы Г. П. Струве на английском языке10. Эта книга «апостола антикоммунизма»11 в Советском Союзе получила негативную оценку12; при этом Струве, наряду с другими «белоэмигрантами», оценивался не столько как историк литературы, сколько как американский «советолог». Позднее за рубежом выйдут и другие исследования, посвященные советскому литературному процессу 1930–1950‐х годов, среди которых особенно выделялись книга М. Л. Слонима «Soviet Russian Literature: Writers and Problems»13 и опубликованная в 1971 году итоговая работа Г. Струве о литературе сталинского периода «Russian Literature under Lenin and Stalin 1917–1953»14, которая представляла расширенную редакцию упомянутого выше издания 1951 года. Помимо монографических трудов, на Западе в 1960‐е годы появилось множество менее объемных работ по частным вопросам истории советской литературы15; именно они и послужили основанием для формирования западной «советологии» как отдельной области исследований (уже в 1970‐е годы в СССР – не без участия А. Л. Дымшица16 – за термином «советология» закрепится однозначно негативная коннотация). Первым русскоязычным текстом, поставившим под сомнение статус социалистического реализма как эстетической системы, стала статья А. Синявского «Что такое социалистический реализм»17, написанная под псевдонимом Абрам Терц в 1957 году. Вскоре ее автор был подвергнут жестоким, но вполне закономерным нападкам: в 1962 году в журнале «Иностранная литература» (№ 1) появилась статья его главного редактора Б. С. Рюрикова «Социалистический реализм и его „ниспровергатели“»18, где Терц объявлялся «эстетствующим рыцарем „холодной войны“», а два его текста – рассказ «Суд идет» (1956) и эссе о соцреализме – оценивались как «неуемные антисоветские фальшивки». Очевидно возросший к 1950‐м годам теоретический уровень создававшихся на Западе исследований, взявших на вооружение «буржуазную» «антимарксистскую» методологию, провоцировал необходимость в создании советской эстетической теории, которая упрочила бы статус соцреализма как доминирующей художественной системы19. Первые попытки придать разговору о культурной обстановке сталинизма научный характер относятся к началу 1960‐х годов.
Состояние теоретического осмысления соцреалистической культуры в 1960‐е годы характеризовалось отходом от литературно-критических форм в сторону историко-литературной рефлексии: переместившиеся с журнальных на страницы академических изданий под грифом различных учреждений и институтов дискуссии о «методе» советской литературы исходили из положения о завершенности сталинского культурного проекта20. Работы, созданные в этот период, свидетельствовали об окончательном выведении разговора о соцреализме за рамки соцреалистической художественной практики. Иначе говоря, дискурс о культурном производстве сталинизма перестал быть органической составляющей этого производства, несколько нейтрализовался, приобретя черты историчности21. Поэтому доминирующим направлением исследований литературного процесса первой половины ХX века становилось (псевдо)академическое. В конце 1950‐х – 1960‐е годы начинают появляться многотомные издания по истории советской литературы22, а позднее – изрядное количество монографических работ23, составляются и издаются курсы лекций по литературной истории и «теории социалистического реализма»24, проводятся конференции по «актуальным проблемам» советской литературы и литературоведения, материалы которых также публикуются в формате сборников25. Однако, несмотря на укрепившееся в гуманитарной среде и в известной степени поддержанное хрущевским докладом 1956 года ощущение относительной свободы слова в исследовании литературного процесса сталинской эпохи, многие литературоведы и историки, вопреки открывшимся перед ними возможностям, обратились к хронологически более раннему периоду советской культуры – к 1920‐м годам. Этот парадокс во многом объясняется стремлением исследователей сохранить память о старательно уничтожавшейся в сталинском СССР культуре «нэповской оттепели»26, характеризовавшейся относительной свободой творческих дискуссий и полемик по вопросам эстетики. Тогда и выходят основополагающие работы по истории литературы и литературной критики досталинского периода: публикуются книги Г. А. Белой, Е. Б. Скороспеловой, М. О. Чудаковой и других27. Это направление, расцвет которого пришелся на перестроечную эпоху, ставило своими задачами, прежде всего, расширение поля фактического материала (с чем связана активная публикаторская работа, благодаря которой в научный оборот был введен внушительный массив материалов о художественной жизни 1920–1930‐х годов28) и проблематизацию отдельных тематических участков историко-литературного процесса. В позднесоветский период развитие этой тенденции серьезно осложнялось тем, что в теоретической мысли наметилась апологетическая линия, со временем ставшая доминирующей в пространстве дискуссий о социалистическом реализме в 1970‐е – первую половину 1980‐х годов29. В известной степени этот откат к оправдательной риторике стал возможным благодаря усилиям представителей академической бюрократии, в итоге монополизировавшей сферу до того времени сравнительно свободного изучения официальной культуры 1930–1950‐х годов. Позиции ведущих специалистов заняли академик АН СССР, президент (1970–1986) Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы М. Б. Храпченко, директор (1968–1974) ИМЛИ Б. Л. Сучков, заведующий Отделом советской литературы (1941–1970) ИМЛИ Л. И. Тимофеев, заведующий кафедрой истории советской литературы (1952–1985) филологического факультета МГУ А. И. Метченко, заведующий кафедрой советской литературы (1962–1972) ЛГУ П. С. Выходцев, главный редактор (1959–1978) журнала «Вопросы литературы» В. М. Озеров, член-корреспондент АН СССР В. В. Новиков, а также заведующий сектором ПСС М. Горького в ИМЛИ (1965–1988) А. И. Овчаренко30 и ряд других партийных функционеров от литературоведения.
Конец 1980‐х годов стал во всех отношениях переломным периодом: «поминками по советской литературе»31 ознаменовано рождение окончательно отошедшего от жесткой идеологической регламентации подлинно научного дискурса, предметом которого стала сталинская соцреалистическая культура. Именно в те годы начали появляться исследования, радикальным образом пересматривавшие подход к официальному советскому искусству сталинского периода и выводившие разговор о соцреализме за рамки оценочности, равно отдаляясь как от чрезмерно патетических восклицаний о его «передовом характере», так и от огульного поругания, по выражению А. Терца, «мертворожденного» «полуискусства не слишком социалистического совсем не реализма». Эти тексты, которые спешно и массово появлялись с 1989–1990 годов, положили начало второй выделенной нами группе исследований; первым в ряду таковых оказался вышедший в 1990 году 400-страничный сборник под заглавием «Избавление от миражей: Соцреализм сегодня» (М.: Советский писатель, 1990). Общая установка авторов, чьи статьи были собраны Е. А. Добренко в этом полемическом по характеру представленных позиций томе, определяется «необходимостью избавления от догм и нормативности, от стереотипов и голословных, беспочвенных посылок» в разговоре о соцреализме32. Несмотря на характерные для абсолютного большинства изданий той поры методологическую неопределенность (в предисловии она названа «объемным зрением»), ангажированность выводов и публицистичность их изложения, этот сборник по праву может считаться первым специализированным изданием, посвященным официальному искусству сталинизма33. Кроме того, в издании освещена полемика о соцреализме, развернувшаяся в публицистике конца 1980‐х годов34. В том же году в «Новом мире» (1990. № 2) появилась статья Добренко «Фундаментальный лексикон: Литература позднего сталинизма», об основных положениях которой мы еще скажем особо.
Начало проблематизации теории и культурной практики социалистического реализма в постсоветской науке было положено в № 1 журнала «Вопросы литературы» за 1992 год, имевшем подзаголовок «Тоталитаризм и культура» (основной раздел состоял из десяти статей российских и западных исследователей и примыкавшего к ним эссе А. Камю «Бунт и рабство»)35. В этом же году вышла монография М. М. Голубкова «Утраченные альтернативы: Формирование монистической концепции советской литературы. 20–30‐е годы» (М., 1992), где автор предложил взгляд на соцреализм через призму общих тенденций историко-литературного процесса первой половины ХX века. Все стремительнее возраставший интерес к деидеологизированному изучению тоталитарного искусства сталинизма привел к появлению первопроходческого сопоставительного36 исследования И. Н. Голомштока «Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy, and the People’s Republic of China» (London, 1990), в 1994 году переведенного на русский язык и напечатанного под названием «Тоталитарное искусство» (М., 1994). В нем ученый выстраивает убедительную концепцию генетической связи художественных практик четырех стран, где тоталитаризм, с его точки зрения, в ХX веке возымел значение определяющей политико-эстетической тенденции. В этом же направлении А. А. Георгиев рассматривает организацию советских творческих союзов как одну из стратегий насаждения в СССР тоталитарной идеологии и эстетики37. Обсуждая понятие «тоталитаризм», Л. Д. Гудков пишет о том, что «к середине 1990‐х годов интерес к данной концепции заметно ослабел, само понятие к этому времени уже исчезло из публицистики»38. И действительно, в конце 1990‐х годов наблюдается снижение интереса к обобщающим работам теоретической направленности39, а внимание ученых все чаще привлекают частные вопросы (стремление к формату case studies). На первый план выдвигаются исследования, осмысляющие ранее недоступный для ученых материал. Неслучайно именно в этот период появляются «Писатели и цензоры: Советская литература 1940‐х годов под политическим контролем ЦК»40 (М., 1994) Д. Л. Бабиченко, «Писатель и власть» (М., 1996) Н. Н. Примочкиной, «Русская литературная критика 1930‐х годов: Критика и общественное сознание эпохи» (СПб., 1997) В. В. Перхина, «Формовка советского читателя: Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы» (СПб., 1997) и «Формовка советского писателя: Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры» (СПб., 1999) Е. А. Добренко, «Сумбур вместо музыки: Сталинская культурная революция, 1936–1938» (М., 1997) Л. В. Максименкова, «Сталин: Власть и искусство» (М., 1998) Е. С. Громова.
Но уже в 2000 году в издательстве «Академический проект» под редакцией Е. Добренко и Х. Гюнтера вышел 1000-страничный труд – сборник статей «Соцреалистический канон», в своих методологических установках последовательно развивающий, реактуализирующий те исследовательские стратегии, которые наметились еще в упомянутом выше номере «Вопросов литературы» и к тому моменту отчетливо были резюмированы И. Голомштоком. Изданию сборника предшествовала работа пяти научных конференций в Университете и Центре междисциплинарных исследований германского Билефельда в 1994–1998 годах. Издание это уже в момент своего появления вызвало известный резонанс в научном сообществе: с того момента ни одно (!) исследование, посвященное советскому официальному искусству эпохи сталинизма, не обходится без ссылок на этот труд. Масштаб «Соцреалистического канона» настолько потряс ученых как широтой привлеченного материала, так и неожиданностью ракурсов, что от их внимания ушел один принципиально важный момент: собственно, о каноне сталинского искусства в этом сборнике почти ничего не сказано. А немногочисленные высказанные Х. Гюнтером соображения о характере и объеме понятия канона в отношении к советской культуре при их критическом осмыслении недвусмысленно демонстрируют несостоятельность.
Спустя некоторое время в научном сообществе наметилась тенденция к переосмыслению взгляда на советскую официальную культуру, оформившегося в работах авторов «Соцреалистического канона». Одним из первых скептических откликов стала книга М. М. Голубкова «Русская литература ХХ в.: После раскола» (М., 2001), в которой ученый, учитывая опыт западных славистов, предложил свой взгляд на проблему социалистического реализма, противопоставив «нейтральный стиль» официальной культуры «новому реализму» русской прозы ХХ столетия41. А уже в 2003 году в свет вышла монография профессора МГУ Е. Б. Скороспеловой «Русская проза ХХ в.: от А. Белого („Петербург“) до Б. Пастернака („Доктор Живаго“)», где соцреализму посвящен раздел «Литература социалистического выбора: Мифотворчество советской эпохи». В нем последовательно проводится дифференциация «социалистического реализма», основанного на властной интенции, и литературы «социалистического выбора», создавшей и оформившей, по Скороспеловой, «советскую мифологическую систему»42. (Заметим, что такое деление хоть и несколько неудачно с терминологической точки зрения, но тем не менее во многом отвечает специфике соцреалистического канона, о чем мы еще скажем подробнее.)
Диаметрально противоположных взглядов на эстетическую значимость явления придерживается Добренко, критически отозвавшийся об основных положениях концепции Скороспеловой43; он выдвинул тезис об «отсутствии (в эпоху сталинизма. – Д. Ц.) литературы»44 как таковой. В монографии Добренко «Политэкономия соцреализма» (М., 2007), которая последовательно развивает систему теоретических установок более ранней его книги «Метафора власти: Литература сталинской эпохи в историческом освещении» (Мюнхен, 1993), предложена точка зрения на соцреализм (если попытаться ее метафорически сформулировать) как на механизм, работающий на идее топлива: исследователь старательно проводит сомнительную мысль об изолированности литературного производства сталинизма от сугубо экономических вопросов распределения прибыли. Между тем этот аспект оказывается одним из ключевых в вопросе организации художественной жизни сталинского СССР45. В последние годы все яснее наблюдается отход от больших обобщающих проектов, интерес к которым начал иссякать к концу 2000‐х46, в сторону частных разысканий в области советской официальной культуры первой половины прошлого столетия47. В это время вышли сборник «Образ врага» (М., 2005) под редакцией Н. Конрадова, монография Т. А. Кругловой «Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма» (Екатеринбург, 2005), были переведены работы Ш. Фицпатрик48, напечатаны книга А. И. Куляпина и О. А. Скубач49, местами спорный в методологическом отношении сборник статей В. Ю. Вьюгина «Политика поэтики: Очерки из истории советской литературы»50, активно публиковались историко-документальные исследования в серии «История сталинизма»51, готовились учебные пособия52 и т. д. Отдельно стоит упомянуть фундаментальное двухтомное исследование В. В. Петелина «История русской литературы ХX века»53, которое явилось итогом многолетних историко-литературных и архивных разысканий автора. Между тем сомнителен тот ракурс, который автор выбирает для освещения весьма противоречивой культурной истории прошлого столетия, поэтому оба тома неоднородны в содержательном плане. Ценные и подчас весьма оригинальные наблюдения в них перемежаются псевдонаучными выкладками о великой тысячелетней культурной традиции России, о «коренной русской жизни» в духе почвеннического «юродства», которым по сей день «славится» журнал «Наш современник». В 2015 году свет увидела книга О. И. Киянской и Д. М. Фельдмана «Очерки истории русской советской литературы и журналистики 1920‐х – 1930‐х годов», послужившая прологом к исследованию «Словесность на допросе: Следственные дела советских писателей и журналистов 1920–1930‐х годов», увидевшему свет в 2018 году54. В этих работах внимание сосредотачивается на неочевидных контекстах сложных и подчас парадоксальных отношений советской власти и некогда «выброшенных» из историко-литературного процесса писателей.
Не менее значимым событием в области изучения культурной истории сталинской эпохи стало появление в 2011 году в издательстве Гарвардского университета работы К. Кларк «Moscow, the Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931–1941», явившейся продолжением ее публикации 1995 года «Petersburg, Crucible of Cultural Revolution». Обе книги переведены на русский язык и опубликованы в 2018 году. В 2020‐м в издательстве «Новое литературное обозрение» вышло двухтомное исследование Е. Добренко «Поздний сталинизм: Эстетика политики», общий объем которого составляет более полутора тысяч страниц. Такой масштаб позволяет слависту не только попытаться легитимировать применение им метода аналитики «политической тропологии соцреализма» (этот метод в зачаточном виде предложен уже в упомянутой монографии 1993 года, которая не случайно озаглавлена «Метафора власти»), но и на частных примерах проиллюстрировать ключевой аспект своего труда, состоящий в определении позднесталинского периода как времени создания «советского человека» и «советской нации» в целом. Большая форма дает читателю возможность ознакомиться с методом работы Добренко над материалом. Прочтение столь объемного труда на фоне множества ранее написанных исследований позволяет говорить, что ученый прибегает к приему компиляции фактов, ранее отмеченных в специальной литературе. Иначе говоря, «Поздний сталинизм» – в большей степени результат обобщения и систематизации материала, а не специальных разысканий в первоисточниках (как архивных, так и литературных). Приоритет в двухтомнике отдан историческому и социально-политическому планам55, тогда как культура во многом мыслится как производная от идеологии. Почти полностью игнорирует Добренко и институциональную сторону культурного производства позднесталинского периода (о Сталинской премии говорится лишь в контексте обсуждения «Молодой гвардии»56). Новинками 2022 года стали книга А. Васькина «Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки» (М., 2022), явившаяся своеобразным сиквелом к исследованию В. Антипиной 2005 года57, и внушительный том «Госсмех: Сталинизм и комическое» (М., 2022), написанный Е. Добренко в соавторстве с Н. Джонссон-Скрадоль и опубликованный сначала по-английски (New York, 2022), а затем и по-русски. Если первое исследование ориентировано на массового читателя и не претендует на статус научного, то второй труд представляет собой попытку ученых осмыслить сталинскую культуру через трансформации комического и изменение функций смешного в сталинизме. Однако «Госсмех» лишен единого сюжета и является скорее тяготеющим к всеохватности и методологически разобщенным «собраньем пестрых глав», чем образцом многостороннего фундаментального исследования сталинской массовой культуры.
На фоне этого внушительного корпуса научных и кажущихся научными сочинений доля тех, которые имеют своим предметом соцреалистическое искусство как особый канон, оказывается едва ли не самой скудно представленной. Не изучена и институциональная сторона советского культурного производства. Предпринимаемые в актуальной литературе попытки анализа институционального комплекса сталинской культуры неудовлетворительны как с точки зрения скудности привлекаемых фактических сведений, так и с позиции методологии: доминирующим подходом оказывается «теория поля» П. Бурдье, попросту не приспособленная для анализа тоталитарно ориентированной культуры58. Закономерности, выведенные Бурдье из анализа принципиально иной (!) историко-культурной ситуации, не работают на советском материале. Так, творческая репутация М. А. Булгакова не может быть объяснена в терминах «теории поля»: безусловно талантливый писатель, временами имевший возможность публиковать собственные тексты, – автор любимой пьесы Сталина, с которым он не только созванивался, но и, по воспоминаниям современников, встречался лично, тем не менее приобрел репутацию опального писателя, не став советским «классиком».
До сегодняшнего дня не становились предметом специального историко-литературного исследования «толстые» литературно-художественные журналы периода позднего сталинизма как институциональное ядро советской литературы. Вообще, издательский процесс сталинской эпохи изучен крайне слабо: современная наука обладает минимумом сведений об организации книгоиздания в СССР в 1930–1950‐е годы59. Такое положение объясняется не только банальной невозможностью сформировать представление о выходившей в период сталинизма книжной продукции ввиду колоссальных объемов ее производства60, но и известной брезгливостью многих специалистов, с позиции современности предпочитающих «высокую» (и зачастую непечатную) литературу «макулатуре» советских «классиков», печатавшейся тиражами в сотни тысяч экземпляров. В этом перекосе обнаруживает себя прагматически мотивированное нежелание понять культурную ситуацию первой половины прошлого столетия и, как следствие, определить эту «высокую» литературу как периферийную по отношению к сталинскому литературному проекту61.
Это малозначимое для компаративистских опытов или штудий по теоретической или исторической поэтике обстоятельство оказывается ключевым для историко-литературных разысканий: появление текста в периодическом издании (в газете, «толстом» литературном журнале или альманахе) и тем более его последующее издание отдельной брошюрой/книгой в реалиях сталинской эпохи оказывались фактами, свидетельствовавшими о признании автора писательским и партийным истеблишментом. Наиболее осмысленным на сегодняшний день оказывается лишь один из фрагментов этой большой темы – цензура и репрессивные механизмы недопущения «вредоносных» текстов до части читательской публики, чей круг чтения не определялся приматом «снабжения» и формировался, насколько это позволяла обстановка, самостоятельно. Однако и эта волнующая умы ученых тема разрабатывается лишь в тех направлениях, которые затрагивают «большие имена»; вопросы же, связанные с практиками производства и распределения печатной продукции, оказываются вне поля зрения специалистов.
Исследования последних лет значительно сузили поле советской литературы как объект изучения, превратив в набор имен, случаев и редких контактов: фокус на периферийных для культурной обстановки первой половины прошлого столетия фактах сделал возможной ситуацию, когда из пространства художественной жизни исключаются центральные явления, а интересующие ученых сюжеты «вынимаются» из нелитературного окружения и компонуются в последовательно организуемые изолированные ряды или альтернативные «соцреалистической доктрине» потоки. Вместе с тем советская литература, если понимать ее как все, что написано и опубликовано советскими писателями (то есть членами писательских организаций всех уровней), существовала именно в пространстве печатного литературного процесса. Куда больше исследователей привлекают другие связанные с культурным производством сталинизма проблемы: вопрос о содержании термина «социалистический реализм»62, соотношение соцреалистического текста и действительности (проблема так называемого «соцреалистического мимесиса»)63, трансформация отдельных жанровых структур64, отражение и реактуализация официальных культурных практик сталинизма в более поздние исторические периоды65 и др. Исходя из невозможности даже вскользь упомянуть каждое исследование, мы ограничимся приведенным выше перечнем работ, а также отметим, что качественные и интересные тексты (мы старались сосредоточиться именно на них) составляют меньшинство написанного о сталинской культуре, тогда как подавляющее большинство работ отмечено тривиальностью выводов, скудностью фактических и библиографических сведений и научным провинциализмом.
В 2009 году Х. Гюнтер, чьи труды стоят у истоков осмысления феномена соцреалистического канона, в статье «Пути и тупики изучения искусства и литературы сталинской эпохи»66 охарактеризовал некоторые работы, с его точки зрения стоявшие у истоков «критического осмысления ушедшей сталинской эпохи» с позиции ее культурной обособленности, тяготения к оформлению в иерархически организованное целое. Эта отнюдь не единственная работа, содержащая анализ текстов об искусстве сталинского периода советской истории67, ценна для нас именно тем, что в ней выразилось стремление автора к обобщению и систематизации опыта (преимущественно западных славистов) изучения советского культурного канона. Отчасти охарактеризованное выше колоссальное количество разысканий в частных областях сталинской соцреалистической культуры вполне отвечает логике, сформулированной М. Чудаковой в статье 1998 года. В ней литературовед указывает на то, что «анализы [отдельных литературных текстов] предельно – вернее, беспредельно – детализировались; они бывают очень интересны (как и совсем неинтересны), попадаются доказательные и убедительные, но они не отвечают на основные вопросы – хотя бы потому, что их не ставят»68. Между тем одним из этих «основных вопросов» является вопрос о методе исследования канона соцреализма, о той теоретической логике, благодаря которой отдельные сюжеты смогут преодолеть рубеж иллюстративности и сами по себе приобретут качество объясняющих специфику культурной динамики 1930–1950‐х годов. Важность этого вопроса первостепенна еще и потому, что наблюдаемое сегодня «растекание» научного знания в подавляющем большинстве случаев имеет произвольный характер, когда каждая новая работа все больше усложняет, декомпозирует и все меньше проясняет картину литературного процесса эпохи сталинизма. Наиболее последовательным и вполне отвечающим специфике ситуации, сложившейся в Советском Союзе в период сталинского правления, оказывается метод, предполагающий рассмотрение сферы соцреалистического культурного производства как совокупности прихотливо взаимодействующих институциональных механизмов формирования и трансляции текстового канона соцреализма69.
На сегодняшний день не возникает сомнений в необходимости преодолеть стагнацию в изучении официальной советской культуры сталинизма, которая возникла в гуманитарной науке в связи с появлением в начале 2000‐х годов работ, монополизировавших эту область культурной истории. Поэтому особенно важным оказывается поиск нового подхода к исследованию институциональных механизмов, структурировавших поле соцреалистической культуры, определявших его центр и периферию.
Сложилось так, что в отечественной и зарубежной науке о литературе наибольший интерес для исследователей традиционно представляют именно негативные санкции власти, адресуемые писателям, поэтам, драматургам и другим участникам литературного производства. Не представляется возможным сегодня даже подсчет работ, полностью или частично посвященных, например, случаям О. Э. Мандельштама или М. А. Булгакова, травле Б. Л. Пастернака или печально известному ждановскому постановлению 1946 года70. Несомненно, ряд имен и случаев может и должен быть продолжен; об осознании этой необходимости специалистами говорят многочисленные труды и публикации последних лет71. Н. А. Богомолов в статье, посвященной вопросам периодизации и специфики русского литературного процесса первой половины ХX века, пишет о необходимости обращения к «литературному быту»72 при построении истории литературы прошлого столетия: «…награждение орденами, премии (особенно сталинские) <…> вообще экономическое положение писателей и т. п.»73. Однако рассуждает он об этом обращении как о периферийном (если не факультативном) в вопросе создания «общей картины исторического развития русской литературы после 1917 года», отдавая предпочтение задаче изучения «противостояния [власти] отдельных личностей»74. Между тем рассмотрение подобных разрозненных взаимодействий писателей и власти на общем фоне литературного процесса не позволяет прийти к выводам, в полной мере характеризующим то влияние, которое эти сфабрикованные дела и срежиссированные кампании оказывали на складывание литературного канона официального искусства сталинизма. В подавляющем большинстве случаев мы имеем дело именно с частными аспектами творческой биографии отдельно взятого автора, которые, конечно, влияли на своеобразие литературного процесса сталинской эпохи, но отнюдь не обуславливали его специфику. Вместе с тем писатель, не имевший возможности публиковать собственные тексты и, как следствие, напрямую контактировать с потенциальным потребителем этих текстов, исключался из литературного производства. Говорить о «значимом отсутствии» можно и нужно, но не в тех случаях, когда речь идет о формировании литературного канона или читательского сознания. Анализ же «эволюции литературного ряда» (по Ю. Н. Тынянову) неуклонно сопрягается с анализом того влияния, которое печатный литературный процесс оказывает на «массового читателя». (Не стоит, думается, лишний раз повторять, что степень воздействия на читательское сознание печатного текста многократно весомее и объемнее, чем текста непечатного.) В свете этого куда более приоритетное положение в системе литературного производства сталинской эпохи занимали положительные санкции власти75, потому как именно они не только «размечали литературный поток, сортировали множество образцов, бесперебойно поступающих на литературный рынок, а тем самым ориентировали, структурировали литературное и читательское сообщество»76, но и непосредственно определяли общий характер соцреалистического канона, формировали категорию читательского вкуса, обуславливали и предопределяли стратегии и направления его развития и эволюции. Главным институтом в системе литературного производства начала 1940‐х – середины 1950‐х годов, работа которого была связана с осуществлением не репрессивной, а, наоборот, поощрительной деятельности, становится Комитет по Сталинским премиям в области литературы и искусства.
Институт Сталинской премии не был упорядоченной и стабильной структурой. Дело в том, что характер его функционирования определялся правительственными распоряжениями, которые Центральный комитет партии ежегодно спускал в Комитет. Кроме того, вплоть до конца 1940‐х эксперты не выработали строго определенный порядок осуществления собственных обязанностей и поэтому руководствовались внутрикомитетскими договоренностями. С изменением этих договоренностей закономерно менялись и процедуры выдвижения, рассмотрения и премирования кандидатур. Это обстоятельство прямо повлияло на бюрократическое обеспечение работы Комитета: с принятием очередных постановлений секретариату приходилось изобретать новую адекватную форму учета необходимой информации, а также документально сопровождать многочисленные инициативы экспертов. Этим и объясняется неупорядоченность, свойственная архивному фонду Комитета по Сталинским премиям. Даже если мы будем исходить из самоочевидной версии о том, что некоторые документы попросту могут быть утерянными, нам так или иначе придется констатировать беспорядочное ведение документооборота: во все годы велись стенограммы пленарных заседаний Комитета, но не во все годы специально готовились протоколы этих заседаний; практика стенографирования и протоколирования секционных заседаний была отлажена только в последние годы существования Сталинской премии77 (до этого мы имеем лишь косвенные и весьма обрывочные свидетельства о том, как проходили обсуждения вне пленумов); полные списки рассмотренных произведений с указанием выдвинувших организаций начали формироваться только с 1945 года78. Лишь с 1952 года рецензирование критической литературы стало постоянным (то есть осуществлялось систематически вплоть до 1954 года); аннотирование79 же художественной литературы приобрело системный характер только в 1953 году. С известным пренебрежением члены Комитета относились к формированию личных дел кандидатов на премии; об этом – далее.
Все это не могло не повлиять на выбор тех аналитических стратегий, которые мы с разной степенью интенсивности реализуем в этом исследовании. Однако все они подчинены представлению о релевантности применения динамического метода для описания функционирования Сталинской премии в контексте культурной политики сталинизма и в качестве ключевого механизма, посредством которого в 1940‐е – начале 1950‐х годов формировался соцреалистический канон. Основанием применения такой подвижной теоретической рамки стала отнюдь не невозможность подчинить множество разнородных фактов единой схеме, реализовать так называемый принцип генеральной линии, а, напротив, отсутствие потребности намеренно скрывать противоречия. Именно в этих противоречиях и внутренних эстетических конфликтах состояла специфика сталинской культуры, которая в конечном счете уподобилась уроборосу. Поэтому задачей книги стало создание исторически достоверной и максимально детализированной картины происходившего в те годы. Читатель по ходу знакомства с настоящей книгой не обнаружит в ней последовательно реализующуюся схему механического описания всех 14 лет работы Комитета по Сталинским премиям. В каждой главе аналитический фокус будет смещаться на отдельные подробности, важные для понимания культурно-идеологической обстановки той эпохи.
Основным принципом исследования стал подробный анализ первоисточников (как архивных, так и печатных). Привлекаемые в работе литература и источники призваны не столько проиллюстрировать, сколько выявить и объяснить специфику литературного производства сталинской эпохи. Архивные и печатные источники распределены по группам, первая из которых связана с проблемой соцреалистического канона (она охарактеризована выше), а вторая – с работой институции Сталинской премии (ее характеристика приводится в соответствующем разделе далее). Цитаты приводятся без нормализации, с сохранением орфографических, пунктуационных и графических особенностей первоисточника. Все вписывания, вычеркивания и исправления отражены либо при наборе, либо в сопроводительном комментарии к цитате. Литература и источники на иностранных языках цитируются в нашем переводе без дублирования текста на языке оригинала.
Это исследование имеет принципиально открытую структуру. Взаимодействие и нередко полемика с предложенными ранее точками зрения, с одной стороны, выявляют проницаемость и слабую предметную очерченность проблемы культурной политики сталинизма, а с другой – если не указывают на вероятный путь решения вопроса об описании канона соцреалистического искусства в русском ХX веке, то обнаруживают необходимость поиска отличных от ныне имеющихся принципов и стратегий анализа, на которых это описание может быть основано. Вместе с тем структура книги определена нашим представлением о том, каким образом функционировала культурная индустрия в 1940–1950‐е годы и как ее работа сказывалась на характере сталинского эстетического канона. Видимость того, что в эпоху позднего сталинизма литературный процесс характеризовался полным отсутствием развития, обманчива, так как в отношении к этому периоду следует говорить о динамике иного порядка – не эволюционной, а накопительной. Динамика проекта «многонациональной советской литературы» стала главным свидетельством порочности сталинского диалектического постулата: четвертьвековой этап неуемного количественного разрастания привел не к «качественному скачку», а к демонтажу соцреалистического канона. Книга предварена введением, в котором пока что в общих чертах охарактеризованы основные параметры этого канона и предложен подробный библиографический обзор источников по заявленной теме. Основная часть исследования состоит из семи глав и условно распадается на два раздела, первый из которых (первая – пятая главы) посвящен собственно истории института Сталинской премии по литературе, а второй (шестая и седьмая главы) связан с проблемой сталинского эстетического канона. Деление работы на главы призвано выразить методологическую установку исследования: главы с первой по пятую организованы в хронологической последовательности и посвящены не только деталям работы Комитета по Сталинским премиям и нюансам присуждения высших советских наград, но и тем ключевым тенденциям, которые закреплялись в советском культурном поле, накладывались друг на друга и в итоге определяли облик соцреалистического литературного проекта; шестая глава описывает собственно культурную обстановку позднего сталинизма, сосредотачивается на механизмах структурирования литературного поля и складывания соцреалистического канона; седьмая глава, фокусируясь на анализе институционального облика международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами», описывает специфику функционирования соцреалистической литературной продукции в культурном пространстве сталинского СССР и за его пределами.
К основному тексту примыкают четыре приложения:
1) сводная таблица выданных премий по всем областям искусства за 1934–1951 годы;
2) состав Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства (1940–1954);
3) сводная таблица лауреатов Сталинской премии по литературе (1940–1953);
4) С. И. Сталина. Развитие передовых традиций русского реализма в советском романе (М., 1954).
Я выражаю глубокую признательность Ирине Прохоровой, любезно предложившей опубликовать настоящее исследование в «Новом литературном обозрении». Я благодарен Татьяне Тимаковой – чуткому и отзывчивому редактору этой книги. Спешу поблагодарить и тех, кто всячески помогал мне и поддерживал меня в работе над рукописью, – Дмитрия Белкина, Михаила Голубкова, Елену Лурье (Бирюкову), Марию Михайлову, Анну Михалеву, Марию Руденко, Ирину Синепупову, Владимира Турчаненко, Андрея Устинова, Лазаря Флейшмана, Анну Юрьеву и многих других друзей и коллег, чью помощь невозможно переоценить. Отдельная благодарность – сотрудникам всех архивохранилищ, где мне представилась счастливая возможность работать. Словом, я благодарю всех причастных к появлению этой книги сейчас…
Глава первая. «Не судите, да не судимы будете»
Очерк истории Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства
Культ Вождя, отлитый в золоте: Институциональный облик высшей советской награды
Г. М. Маленков в отчетном докладе XIX съезду партии в октябре 1952 года, подытоживая «огромные успехи», сделанные СССР во всех отраслях производства, в числе прочих «крупных достижений» упомянул и то, что «высокого звания лауреата Сталинской премии удостоены 2339 работников литературы и искусства»80. Съезд этот оказался итоговым во всех отношениях. Это был первый съезд, собравшийся в послевоенной истории, и вместе с тем последний, в котором принял участие «великий вождь трудящихся мира»81 И. В. Сталин. Он, являясь бессменным секретарем ЦК и Председателем Совета Министров СССР, передоверил выступление с отчетным докладом Г. Маленкову, ограничившись лишь заключительной речью в последний день работы съезда, 14 октября 1952 года. На этом же съезде, прошедшем под эгидой «триумфа» сталинской мысли82, партия фактически прекратила свое существование в былом качестве: она была переименована из Всесоюзной коммунистической партии большевиков в Коммунистическую партию Советского Союза, был изменен состав ее Центрального комитета. На последовавшем сразу за съездом не стенографировавшемся октябрьском Пленуме ЦК КПСС Политбюро было ликвидировано, а на его месте была образована новая управленческая структура – Президиум ЦК КПСС, в который вошли 25 членов и 11 кандидатов, лично предложенных Сталиным. К. М. Симонов вспоминал, что в полуторачасовой речи Сталин «о себе <…> не говорил, вместо себя говорил о Ленине, о его бесстрашии перед лицом любых обстоятельств»83. Как замечают Олег Хлевнюк и Йорам Горлицкий,
сам Сталин в последние месяцы своей жизни принимал активное участие в заседаниях Президиума и Бюро Президиума ЦК, которые, в отличие от заседаний Политбюро в предшествующие годы, проводились на регулярной основе. С 18 октября 1952 г. по 26 января 1953 г. состоялось четыре заседания Президиума и семь заседаний Бюро Президиума ЦК, т. е. в среднем одно в неделю. Сталин присутствовал на всех84.
Вскоре с новой силой качнулся маховик репрессий: в январе 1953 года была развернута подхватившая так называемое «дело врачей»85 массовая идеологическая кампания, которая позволяла манипулировать общественными настроениями, при отсутствии реальной войны поддерживала состояние всеобщей мобилизованности86 для борьбы с «вредителями в лечебном деле» и «внутренними врагами», ликвидация которых, по Сталину, была прямо связана с победой над «ротозейством в наших рядах»87. Угасавшим, но почти никогда не спавшим вождем до последнего дня владела мысль о необходимости удержать абсолютную безраздельную власть; он замкнул на себе решение всех ключевых вопросов и, будучи уверенным в собственной исключительности, не считал нужным даже вскользь касаться вопроса о порядке преемства «его» власти. Но сталинская диктатура в начале 1950‐х годов была уже на излете, а «мрачное семилетие» позднего сталинизма близилось к завершению. Вместе с умирающим вождем изживал себя и институт Сталинской премии – главный орган, обеспечивавший не только жизнеспособность, но и полнокровность сталинского культа. Четырьмя годами позднее, взявшись за его, как тогда всем казалось, окончательное развенчание, Н. С. Хрущев в докладе на XX съезде КПСС не забудет отметить: «Даже цари не учреждали таких премий, которые назвали бы своим именем»88. С учреждением в 1966 году Государственной премии СССР89 история института Сталинской премии фактически завершилась: дипломы и почетные знаки Сталинских лауреатов были заменены новыми наградными атрибутами. Более того, с тех пор и вплоть до настоящего времени в многочисленной биографической и справочной литературе (в том числе в энциклопедических статьях) премии 1940–1950‐х годов стыдливо именуются Государственными премиями90. Таким образом, несмотря на явно различающийся «символический капитал» двух этих наград, была сконструирована их условная равноценность.
За 14 полных лет работы Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства к октябрю 1952 года было учреждено и присуждено 984 Сталинские премии по всем видам искусства и литературы на общую сумму 57 720 000 рублей (см. Приложение 1). Число лауреатов, названное Г. Маленковым в цитированном выше отчетном докладе на XIX съезде партии, является известным преувеличением, основанным на подсчете выданных лауреатских дипломов и игнорирующим далеко не единичные факты неоднократного получения нескольких премий одним и тем же человеком (если исходить из приведенных Маленковым данных, то, например, шестикратный сталинский лауреат композитор С. С. Прокофьев был посчитан, соответственно, как шесть разных «работников искусства», таким же образом обошлись и с обладательницей четырех премий скульптором В. И. Мухиной и т. д.). В действительности, выведенный за рамки сталинской диалектики, предполагающей неминуемый «скачкообразный переход» количества в качество, взгляд на утвержденные списки лауреатов обнаруживает несколько менее внушительное число – 1706 авторов (как индивидуальных, так и «коллективных»). Несостоятельность приведенных в докладе «для красного словца» данных, по всей видимости, включенных в окончательный текст самим И. Сталиным91, определена еще и невниманием к принципиально разнившейся роли лауреатов в создании произведений, за которые присуждалась награда: авторство, соавторство или членство в авторском коллективе этой статистикой сознательно уравнивались. По разным областям литературы и искусства мы получаем следующее соотношение92: литераторов (и в их числе переводчиков, литературоведов, искусствоведов, киносценаристов, кинодраматургов) – 248; музыкантов (композиторов, дирижеров, исполнителей) – 167; художников (живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов и кинооператоров) – 452; артистов – 631; режиссеров-постановщиков и руководителей коллективов – 208. В этих цифрах статистически выразился итог функционирования не только отдельной институции, но и целого институционального комплекса, деятельность которого определяла характер всего послевоенного культурного континуума и непосредственно оформляла позднесталинский соцреалистический канон. Впоследствии в центре нашего внимания по преимуществу будут оказываться обстоятельства функционирования именно литературной секции Комитета, обсуждения номинированных на премию или предложенных к рассмотрению произведений, проходившие на заседаниях Политбюро при участии Сталина, а также отмеченные наградой тексты и их авторы, существовавшие в культурном пространстве послевоенного СССР и в известной степени это пространство формировавшие.
Попытке охарактеризовать особенности формального устройства и очертить круг полномочий Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства при СНК СССР посвящена данная глава.
Наиболее существенный сдвиг в процессе трансформации культа вождя пришелся на 60-летие И. Сталина93, широко отмечавшееся в конце декабря 1939 года и совпавшее с усугублением положения армии на фронтах Зимней войны (1939–1940). Драматург А. К. Гладков 17 декабря отметил в дневнике: «Газеты полны очерками и статьями о Сталине перед его 60-летием. Все ждут какого-нибудь крупного государственного акта в связи с этим юбилеем. Вряд ли…»94. Спустя пять дней, 22 декабря, он запишет:
Все вчерашние газеты были посвящены юбилею Сталина. «Правда» вышла на 12 страницах, кажется, впервые у нас. Постановление о присвоении Сталину звания «Герой Социалистического Труда» и учреждении стотысячных премий во всех областях науки и искусства. Все юбилейные статьи отличаются только разве подписями авторов95.
Речь шла о постановлении № 2078 «Об учреждении премии и стипендии имени Сталина»96 от 20 декабря 1939 года за подписью В. М. Молотова и М. Д. Хломова. Позднее ими же будет подписано и постановление № 178 «Об учреждении премий имени Сталина по литературе»97 от 1 февраля 1940 года. Именно этими двумя документами был учрежден институт Сталинской премии, пришедший на смену премии Ленинской (учрежденной в 1925 году и вручавшейся с 1926 по 1935 год) и прекративший существование после смерти человека, чье имя он носил, в 1954 году98. Следом за этими постановлениями в «Правде» (№ 92 (8138)) 2 апреля 1940 года был напечатан документ, регламентировавший первоначальный состав (впоследствии он будет претерпевать довольно существенные изменения – см. Приложение 2) ранее учрежденного Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства:
Комитет по Сталинским премиям в области литературы и искусства утвержден Советом Народных Комиссаров СССР в составе:
Председателя Комитета – народного артиста СССР Немировича-Данченко В. И.,
Заместителей Председателя – 1) Глиэра Р. М., 2) Шолохова М. А., 3) Довженко А. П.
и членов Комитета: Асеева Н. Н., Александрова Г. Ф., Александрова А. В., Байсеитовой Куляш, Большакова И. Г., Веснина В. А., Грабаря И. Э., Гольденвейзера А. Б., Герасимова А. М., Гурвича А. С., Гаджибекова У., Гулакяна А. К., Дунаевского И. О., Янка Купала, Кузнецова Е. М., Корнейчука А. Е., Луппола И. К., Мухиной В. И., Меркурова С. Д., Молдыбаева Абдылас, Мордвинова А. Г., Москвина И. М., Михоэлса С. М., Мясковского Н. Я., Насыровой Халимы, Самосуда С. А., Симонова Р. Н., Судакова И. Я., Толстого А. Н., Фадеева А. А., Храпченко М. Б., Хорава А. А., Чиаурели М. Э., Черкасова Н. К., Шапорина Ю. А., Эрмлера Ф. М.99
Хотя Марина Фролова-Уолкер и пишет, что нет никаких прямых доказательств преемственности двух организаций100, список экспертов, вошедших в Комитет, почти полностью дублировал состав Художественного совета при председателе Всесоюзного комитета по делам искусств. 29 января 1939 года Фадеев и Павленко направили председателю Совнаркома Молотову записку101, в которой приведен первоначальный список кандидатов на включение в Совет:
Художники: Игорь Грабарь, С. Герасимов, Дейнека.
Актеры: Барсова,
Щукин, , Штраух102.
Окончательный состав Совета был учрежден постановлением Политбюро ЦК от 4 марта 1939 года. Предусматривалось три секции: театра и драматургии, музыки, изобразительных искусств. Все эксперты подразделялись по этим секциям следующим образом103.
Секция театра и драматургии: A. M. Бучма, , , Н. Ф. Погодин, , К. М. Тренев, , Б. В. Щукин.
Секция музыки: В. В. Барсова, , , , ,
Секция изобразительных искусств: , , , Б. В. Иогансон,
Из 19 членов Совета не войдут в состав Комитета лишь пятеро. Таким образом, сомнения в преемственности Художественного совета и учрежденного позднее Комитета по Сталинским премиям быть не может. Следовательно, можно говорить о причастности Храпченко к формированию состава новосозданной институции.
Главная функция учрежденного Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства определялась «Положением о Комитете по Сталинским премиям при СНК СССР» и заключалась в «предварительном рассмотрении»104 работ, представляемых различными общественными организациями на соискание Сталинской премии. (Отметим, что никаких четких критериев выдвижения у этих организаций не было, потому что с самого начала порядок попросту не был утвержден105.) После заключительной баллотировки и подачи итоговых списков рекомендованных к премированию кандидатов в вышестоящие органы Комитет больше не мог влиять ни на дальнейшую процедуру рассмотрения, ни на детали финального списка номинантов. Документы направлялись в Совнарком СССР, копии рассылались в Комитет по делам искусств при СНК СССР, с 1939 года возглавляемый М. Б. Храпченко, Комитет по делам кинематографии при СНК СССР (с 20 марта 1946 года – Министерство кинематографии СССР, возглавляемое И. Г. Большаковым) и в Комитет по делам архитектуры при СНК СССР, с сентября 1943 года ставший обособленной административной структурой106. Непосредственно процессуальной стороной премирования занимался Агитпроп ЦК (Управление пропаганды и агитации ЦК; с 1948 года – Отдел пропаганды и агитации ЦК), заметно упрочивший свои позиции в разветвленной системе, обеспечивающей работу института Сталинской премии, уже в послевоенный период. Д. Т. Шепилов в мемуарах подробно описал ход подготовки премирования во второй половине 1940‐х годов:
…кандидаты на Сталинскую премию выдвигались государственными и общественными организациями, а также отдельными учеными, литераторами, работниками искусств. Затем выдвинутые кандидатуры обсуждались общественностью. С учетом материалов обсуждения Комитет по Сталинским премиям тайным голосованием принимал решение по каждой кандидатуре. После этого все материалы поступали в Агитпроп ЦК.
Агитпроп давал свое заключение по каждой работе и каждому кандидату, составлял проект постановления Политбюро (Президиума) ЦК и направлял все материалы Сталину.
Но до этого у Андрея Александровича Жданова тщательно обсуждалось и взвешивалось каждое предложение. Мы обсуждали вышедшие за год художественные произведения. Просматривали некоторые кинокартины. Председатель Радиокомитета Пузин организовывал в кабинете Жданова прослушивание грамзаписей симфоний, концертов, песен, выставленных на премию.
Андрей Александрович очень детально и всесторонне оценивал каждое произведение, взвешивал все плюсы и минусы107.
Стоит отметить, что на каждом из этих этапов список предложенных Комитетом кандидатур корректировался, а в Комиссию Политбюро (этот орган был создан постановлением Совнаркома № 1202 от 28 мая 1945 года не в качестве постоянно действующей институции, а формируемой ежегодно) поступало несколько «редакций» этого списка, содержавших правки, внесенные по результатам обсуждений в каждой из организаций. И уже Комиссией Политбюро формировался итоговый список кандидатов, по возможности учитывавший все ранее поступившие предложения; именно он обсуждался на заседаниях Политбюро. С усилением позиции Жданова в 1947–1948 годах необходимость в ежегодном созыве Комиссии Политбюро исчезла108, а ее полномочия перешли к Агитпропу. Очевидно, что последнее слово в решении вопроса о присуждении произведению Сталинской премии оставалось за человеком, чье имя носила награда. Вся эта система строго укладывается в схему, отражающую ее устройство в довоенный и послевоенный периоды109.
