Полый человек
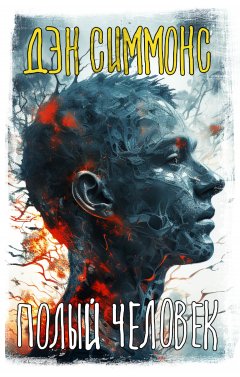
© Dan Simmons, 1992
© Перевод. Ю. Гольдберг, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
Благодарности
Автор хотел бы поблагодарить людей, превративших невыполнимую задачу в просто трудную.
Сью Болтон и Эдварда Брайанта за то, что прочли книгу, которая была написана вместо той, которую ждали другие. Табиту и Стива Кинг за долгий и непростой марафон чтения… и за слова поддержки, которые за ним последовали. Ники Гернольда за объяснение механизма телепатии. Бетси Митчелл за демонстрацию смелости наших общих убеждений. Эллен Датлоу за то, что полюбила (и купила) рассказ, с которого все началось, десять лет назад. Ричарда Куртиса, необыкновенный профессионализм которого помог избежать путаницы. Математика Иэна Стюарта, сумевшего вызвать страстный отклик у математически неграмотного человека. Карен и Джейн Симмонс за их любовь, поддержку и терпение, когда я упорно пытался снова превратить просто трудную задачу в невыполнимую.
Кроме этих чудесных людей, я должен поблагодарить и тех, кого с нами уже нет: Данте Алигьери, Джона Карди, Т. С. Элиота, Джозефа Конрада и Фому Аквинского. Все они исследовали – гораздо глубже и выразительнее, чем позволяют мне мои способности, – навязчивую тему…
Блуждание меж двух миров,
меж миром мертвым
и миром неродившимся.
Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.
Данте. «Рай» XVII [1]
Те глаза, что не смеют сниться,
В сонном царстве смерти
Мне не являются.
Т. С. Элиот. «Полые люди» [2]
Тень твоя вечером
Джереми Бремен вышел из больницы, где умирала его жена, и поехал на восток, к морю. В этот необычно теплый пасхальный уикенд жители Филадельфии устремились за город, и в плотном потоке машин Бремену приходилось внимательно следить за дорогой, оставив лишь тончайшую связь с сознанием жены.
Гейл спала. Болеутоляющее подействовало, но сны ее были беспорядочными и тревожными. Она искала мать в бесконечной анфиладе комнат, заставленных викторианской мебелью. В сознании ее мужа картины из этих снов смешивались с вечерними тенями сосновых лесов Пайн-Барренс. Гейл проснулась, когда он съезжал с автострады, и в те несколько секунд, когда она еще не чувствовала боли, Джереми увидел яркую полоску солнечного света на синем одеяле в ногах кровати, ощутил легкое недоумение, когда жене показалось – всего на секунду, – что теперь утро на ферме.
Мысли Гейл потянулись к нему, как только вернулась боль, пронзившая левый глаз, словно тонкая, но невероятно острая игла. Бремен поморщился и уронил монетку, которой собирался расплатиться за платный участок шоссе.
– Что-то не так, приятель? – спросил принимавший плату служащий.
Бремен покачал головой, выудил из кармана доллар и не глядя сунул его в руку мужчины в будке. Потом он бросил сдачу в захламленный бардачок своего «Триумфа» и сосредоточился на управлении маленьким автомобилем, пытаясь отгородиться от боли жены. Боль медленно затихала, но тревога захлестывала его, словно волна поднимающейся изнутри тошноты.
Гейл быстро взяла себя в руки, несмотря на полотнища страха, плескавшиеся на границе ее сознания.
Она мысленно заговорила с Бременом, сузив спектр передачи до симуляции голоса:
Привет, Джереми.
И тебе привет, малыш. Отправив эту мысль, мужчина свернул к острову Лонг-Бич. Потом поделился картинкой – яркая зелень травы и сосен под золотистым апрельским солнцем, тень спортивного автомобиля, прыгнувшая на плавный изгиб насыпи дорожной развязки. Ветер принес с побережья неповторимый запах соли и разлагающихся водорослей – им Бремен тоже поделился с Гейл.
Чудесно. Мысли умирающей женщины текли медленно, заторможенные болью и наркотиками. Почти лихорадочным усилием воли она цеплялась за образы, которые ей посылал муж.
Приморский городок выглядел не слишком привлекательно: обшарпанные рестораны с меню из морепродуктов, непомерно дорогие мотели, построенные из дешевых шлакоблоков, бесконечные пристани… Но привычный пейзаж успокаивал, и Бремен постарался передать его во всех подробностях. Жуткие приступы боли прошли, Гейл начала расслабляться, и на мгновение ее присутствие показалось Джереми настолько реальным, что он повернулся к пассажирскому сиденью, обращаясь к жене. И не успел скрыть разочарование и растерянность, которые тут же передались ей/
На подъездных дорожках к расположенным на берегу домам люди выгружали вещи из вместительных универсалов и тащили корзины с поздним ужином на пляж. Вечерние тени несли с собой холод ранней весны, но Бремен, направив машину на север, к Барнегат-Лайт, сосредоточился на свежем воздухе и теплых полосах солнечного света. Скосив взгляд направо, он увидел рыбаков, стоявших в воде у самого берега, – их тени резко выделялись на фоне белой пены прибоя.
Моне, – подумала Гейл, и Джереми кивнул, хотя на самом деле эта картинка вызывала у него ассоциации с Евклидом. – Математик до мозга костей. – Боль вернулась, и мысли женщины прерывались. Обрывки предложений разлетались, словно брызги от белых волноломов.
Бремен остановил «Триумф» около маяка, вылез из машины и зашагал через невысокие дюны к пляжу. Там он бросил на песок ветхое одеяло, которое они с Гейл столько раз приносили на это место. Мимо него к воде с криками промчалась стайка ребятишек. Они были в купальных костюмах – несмотря на холодную воду и быстро остывающий воздух. Девочка лет девяти с длинными белыми ногами и, вероятно, в прошлогоднем купальнике, из которого она уже выросла, резвилась на мокром песке, исполняя некий сложный, бессознательный танец в паре с морем.
Свет за окном, закрытым жалюзи, стал меркнуть. Медсестра, от которой пахло сигаретами и несвежей пудрой, сменила лекарство в капельнице и сосчитала пульс больной. Переговорное устройство в коридоре о чем-то громко и требовательно вещало, но усиливающийся туман боли мешал разобрать слова. Около шести пришел доктор Сингх и ласково заговорил с Гейл, но она не слушала его и смотрела на дверной проем, где должна была появиться медсестра с заветным шприцем. Прикосновение ватного тампона к руке обещало избавление от боли, и умирающая с точностью до секунды знала время, через которое морфий подействует в полную силу. Врач тем временем что-то говорил:
– …ваш муж? Я думал, он останется на ночь.
– Прямо здесь, доктор. – Гейл похлопала по одеялу и одновременно по песку.
Бремен натянул нейлоновую ветровку, защищаясь от ночного холода. Звезды были закрыты высокими облаками, сквозь которые изредка проглядывало небо. Далеко в море, у самого горизонта, медленно плыл неправдоподобно длинный нефтяной танкер. Окна домов на первой линии за спиной Джереми отбрасывали на песок дюн желтые прямоугольники света.
Ветер принес запах жарившегося на огне мяса. Бремен попытался вспомнить, ел он сегодня или нет. Желудок скрутило от боли – не слишком сильной, поскольку наркотик уже подействовал на Гейл. Нужно вернуться в ночной магазин у маяка и съесть сэндвич, подумал Джереми, но потом вспомнил, что в кармане его куртки все еще лежит шоколадный батончик, купленный на прошлой неделе в торговом автомате во время дежурства в больнице. Он стал жевать окаменевший арахисовый брусок, наблюдая за сгущавшимися сумерками.
Из больничного коридора доносилось эхо шагов. Как будто там маршировала целая армия. Топот ног, звяканье подносов, приглушенные голоса санитаров, разносящих ужин другим пациентам, – все это напомнило Гейл детство: она лежит в кровати и прислушивается к доносящимся снизу звукам вечеринки, которую устроили родители.
Помнишь вечеринку, на которой мы познакомились? – мысленно спросил Бремен.
М-м… – Его жене было трудно сосредоточиться. Морфин проигрывал сражение с болью, и черные пальцы паники уже хватались за край ее сознания. Игла позади глаза словно раскалилась докрасна.
Джереми попытался отправить Гейл образы с вечеринки Чака Гилпена, на которой они встретились десять лет назад, воспоминания о той первой секунде, когда их разумы открылись друг другу и они поняли: Я не одинок. И как следствие: Я не фрик. Там, в битком набитом людьми доме Чака Гилпена, среди бессвязной болтовни и еще более хаотичного потока мыслей преподавателей и аспирантов, их жизни навсегда изменились.
Едва переступив порог – хотя кто-то уже успел сунуть ему в руку стакан со спиртным, – Бремен вдруг почувствовал рядом собой еще один ментальный щит. Он осторожно прощупал этот щит, попытался преодолеть его, и мысли Гейл ударили в него, словно лучи прожектора в темной комнате.
Оба были потрясены. Первая реакция – укрепить ментальный щит, свернуться в клубок, как испуганный броненосец. Но вскоре каждый обнаружил, что беззащитен перед бессознательным и почти невольным прощупыванием другого. Они еще не встречали настоящих телепатов – только людей с примитивными, неразвитыми способностями. Оба считали себя не такими, как все люди, – уникальными и неуязвимыми. И вот они словно стояли обнаженными друг пред другом – в пустоте. Секунду спустя, сами того не желая, они затопили друг друга потоками образов, представлений, полустертых воспоминаний, секретов, чувств, предпочтений, ощущений, тайных грехов, неоформленных желаний и укоренившихся страхов. Они ничего не скрывали друг от друга. Неприглядные поступки, сексуальные эксперименты, предрассудки – все это смешивалось с воспоминаниями о прошедших днях рождения, бывших любовниках, родителях, а также с бесконечным потоком мелочей. Даже супруги, прожившие в браке пятьдесят лет, редко бывают так близки, как стали Джереми и Гейл в тот момент.
Минуту спустя они впервые увидели друг друга.
Луч маяка Барнегат проходил над головой Бремена каждые двадцать четыре секунды. Теперь в море было больше огней, чем вдоль темной линии берега. После полуночи поднялся ветер, и мужчина плотнее закутался в одеяло. Во время последнего обхода медсестры Гейл отказалась от укола, но ее мысли все равно путались. Контакт поддерживался исключительно силой воли Джереми.
Гейл всегда боялась темноты. За девять лет брака он много раз ночью тянулся к ней, рукой или мыслью, пытаясь успокоить ее. И теперь она снова была той маленькой девочкой, испуганной и одинокой, на втором этаже большого старого дома на Берлингейм-авеню. В темноте под ее кроватью притаилось что-то страшное.
Преодолев ее боль и страх, Бремен поделился с ней шумом волн. Он рассказал ей о проделках их трехцветной кошки Джернисавьен, а потом лег в углубление в песке, копируя положение тела Гейл на больничной койке. И она медленно расслабилась, уступила его мыслям. Ей даже удалось подремать несколько минут без морфия, и ее сны были наполнены звездами, мерцавшими в просветах между облаками, и резким запахом Атлантики.
Джереми рассказал о том, что успел сделать на ферме за неделю – немного, в перерывах между дежурствами, – и поделился изысканной красотой уравнений Фурье, написанных мелом на доске в его кабинете, а также солнечной радостью от посаженного у подъездной дорожки персикового дерева. Он передал Гейл воспоминания об их лыжной прогулке в Аспене год назад, свой испуг от неожиданно осветившего берег прожектора невидимого корабля. Потом стал мысленно повторять те немногие стихи, которые помнил, но слова ускользали, уступая место чистым образам и чувствам.
Ночь все не кончалась, и мужчина делился ее чистой свежестью, окутывая каждый образ теплым одеялом любви. Рассказывал о всяких мелочах, о надеждах на будущее. С расстояния семидесяти пяти миль он протянул руку и коснулся руки Гейл. А когда задремал на несколько минут, то поделился с ней своими снами.
Гейл умерла незадолго до рассвета, когда небо на востоке только начало светлеть.
Увидел стяг вдали
Через два дня после похорон Фрэнк Лоуэлл, заведующий кафедрой математики в Хэверфорде, явился домой к Бремену и заверил, что сохранит за ним место преподавателя на столько, на сколько потребуется, – даже на несколько месяцев.
– Серьезно, Джереми, – говорил Фрэнк, – тут тебе не о чем волноваться. Делай все, что нужно, чтобы снова наладить свою жизнь. Когда бы ты ни вернулся, место твое. – Он улыбнулся своей искренней, детской улыбкой и поправил очки без оправы. Складывалось впечатление, что борода Лоуэлла скрывает пухлые щеки и подбородок тринадцатилетнего мальчишки. Взгляд его голубых глаз был чистым и простодушным.
Удовлетворение. Соперник устранен. Никогда не любил Бремена… слишком умен. Исследование для Голдмана сделало его опасным.
Лицо молодой блондинки из Массачусетского технологического, которую Фрэнк интервьюировал прошлым летом и с которой спал всю долгую зиму.
Превосходно. Больше не нужно лгать Нелл или придумывать конференции, чтобы улетать на выходные. Шери может жить в городе, неподалеку от кампуса, и если Бремен пропадет надолго, к Рождеству она займет его место.
– Серьезно, Джер. – Фрэнк наклонился и похлопал коллегу по колену. – Времени у тебя сколько угодно. Мы оформим это как творческий отпуск и сохраним для тебя должность.
Бремен поднял на него взгляд и кивнул. Три дня спустя он отправил в колледж заявление об увольнении.
Дороти Паркс с кафедры психологии пришла на третий день после похорон, настояла, что приготовит ужин, и осталась до позднего вечера, объясняя вдовцу механизмы скорби. Они сидели на крыльце, пока темнота и холод не загнали их в дом. Казалось, зима снова возвращается.
– Пойми, Джереми, стремление избавиться от знакомой обстановки – самая распространенная ошибка, которую совершают люди, пережившие тяжелую утрату… – говорила Дороти. – Они берут слишком длинный отпуск на работе… слишком быстро меняют дом… Им кажется, что так будет легче, но это лишь очередной способ отложить неизбежное столкновение с тоской.
Бремен кивнул, делая вид, что внимательно слушает.
– В данный момент ты находишься на стадии отрицания, – продолжала Дороти. – Гейл прошла эту стадию, когда заболела раком, а тебе придется пройти ее со своим горем… пережить и преодолеть. Ты понимаешь, о чем я, Джереми?
Хозяин дома поднес сжатый кулак к нижней губе и медленно кивнул. Дороти Паркс уже исполнилось сорок, но одевалась она слишком легкомысленно для своего возраста. В этот вечер на ней была мужская рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, заправленная в длинную расклешенную юбку, и обувь на платформе высотой не меньше двадцати дюймов. Браслеты на ее руках звенели при каждом движении, а коротко постриженные волосы с прядями рыжего и фиолетового цвета были уложены с помощью мусса в петушиный гребень.
– Гейл хотела бы, чтобы ты как можно скорее преодолел это отрицание и стал жить своей жизнью, Джереми, – заявила Паркс. – Ты ведь это знаешь, правда?
Он слушает. Смотрит на меня. Наверное, не стоило расстегивать четвертую пуговицу… сегодня просто побыть психотерапевтом… надеть серый свитер. Ладно, черт с ним. Я видела, что он смотрел на меня в гостиной. Он меньше Даррена… выглядит не таким сильным… но это не столь важно. Интересно, хорош ли он в постели?
Мужчина с рыжеватыми волосами… Даррен… Скользит щекой по ее животу.
Ладно, он поймет, что нравится мне. Интересно, где тут спальня? Где-то на втором этаже. Нет, у меня дома… нет, в первый раз лучше на нейтральной территории. Часы тикают. Биологические часы. Черт, мужчине, придумавшему эту фразу, нужно отрезать яйца.
– …важно делиться своими чувствами с друзьями, с кем-то близким, – говорила она. – Отрицание может продолжаться так долго, что боль уйдет внутрь. Ты обещаешь позвонить? Поговорить?
Бремен поднял голову, кивнул. И в эту секунду твердо решил, что не будет продавать ферму.
На четвертый день после похорон Гейл пришли Боб и Барбара Саттон, их соседи и друзья, чтобы еще раз выразить ему свое сочувствие. Барбара тихо плакала. Ее муж беспокойно ерзал на стуле. Это был крупный мужчина со светлым ежиком волос, неизменным румянцем на круглом лице и толстыми и короткими, как у маленького ребенка, пальцами. Он думал о том, как бы вернуться домой вовремя и успеть к игре «Селтикс» [3].
– Ты же знаешь, Джереми, что Господь возлагает на нас только то бремя, которое мы в состоянии вынести, – произнесла миссис Саттон между всхлипываниями.
Бремен задумался над ее словами. Скользнул взглядом по пряди ранней седины в ее темных волосах, уходившей от лба, нырявшей под заколку для волос и исчезавшей из виду. Мысли Барбары были похожи на струю раскаленного воздуха из печи.
Свидетельствование. Пастор Миллер очень обрадуется, когда я приведу к Богу этого профессора колледжа. Если я процитирую Святое Писание, то оттолкну его… и Дарлин позеленеет от зависти, когда на вечернюю службу в среду я приду вместе с этим агностиком… атеистом… кем бы он ни был… готовым прийти к Христу!
– …Он дает нам столько сил, сколько нужно, и тогда, когда нужно, – говорила Саттон. – Даже когда мы не в состоянии понять такие вещи, у них есть причина. У всего есть причина. Милосердный Господь призвал к себе Гейл по какой-то причине, которую откроет, когда придет время.
Джереми рассеянно кивнул и встал. Удивленные, его гости тоже поднялись со своих мест. Он проводил их до двери.
– Если мы что-то можем для вас… – начал Боб.
– Да, пожалуйста, – сказал Бремен. – Не могли бы вы позаботиться о Джернисавьен – меня какое-то время не будет.
Барбара улыбнулась и нахмурилась одновременно.
– О кошечке? Да, конечно… Джерни дружит с моими двумя сиамскими… Мы с радостью… Но как долго вы рассчитываете…
Джереми попытался улыбнуться.
– Недолго. Просто нужно кое с чем разобраться. Мне будет спокойнее, если Джернисавьен останется с вами, а не в ветеринарной клинике или приюте для кошек на Конестога-роуд. Если не возражаете, я завезу ее утром.
– Конечно, – сказал Боб и снова пожал соседу руку. Осталось пять минут до предматчевого шоу.
Бремен помахал им с Барбарой рукой, наблюдая, как их «Хонда» разворачивается и исчезает за поворотом гравийной дорожки, а потом вернулся в дом и принялся медленно обходить все комнаты.
Джернисавьен спала на синем одеяле в ногах кровати. Трехцветная голова кошки дернулась, когда ее хозяин вошел в спальню, желтые глаза осуждающе сощурились – он ее разбудил. Бремен коснулся шеи кошки, подошел к шкафу, достал одну из блузок Гейл, прижал ее на секунду к щеке и зарылся в нее лицом, глубоко дыша. Потом вышел из спальни и зашагал по коридору к своему кабинету. Стопка брошюр с тестами для студентов лежала на том же месте, где он бросил ее месяцем раньше. На доске остались уравнения Фурье, наспех нацарапанные мелом во время двух утренних вспышек вдохновения за неделю до того, как Гейл поставили страшный диагноз. Везде горы рукописей и непрочитанных журналов.
Бремен какое-то время стоял посреди комнаты и тер виски. Даже здесь, в полумиле от ближайшего соседа и в девяти милях от города или автострады, его голова гудела и потрескивала от чужих мыслей. Как будто он всю жизнь слушал радио, тихо бормочущее в соседней комнате, а потом кто-то вставил приемник ему в голову и выкрутил громкость на максимум. В то утро, когда умерла Гейл.
Шум стал не только громче, но и мрачнее. Джереми понимал, что теперь он исходит из более глубокого, скрытого источника – это уже не случайные мысли и эмоции, которые он слышал с тех пор, как ему исполнилось тринадцать. Словно почти симбиотические взаимоотношения с Гейл служили щитом, буфером между его сознанием и острыми, как бритва, осколками миллионов беспорядочных мыслей. До прошлой пятницы ему требовалось сосредоточиться, чтобы уловить смесь образов, чувств и неоконченных фраз, из которых состояли мысли Фрэнка, Дороти, Боба или Барбары. А теперь ему нечем было защититься от агрессии. То, что они с Гейл называли ментальным щитом, – простой барьер, позволявший заглушить фоновое шипение и треск чужих мыслей, – теперь просто исчезло.
Бремен взял губку и прикоснулся ею к доске, собираясь стереть уравнения, но затем передумал и спустился на первый этаж. Вскоре Джернисавьен пришла к нему на кухню и потерлась о его ноги. Мужчина понял, что, пока он сидел за столом, на улице уже стемнело, но свет зажигать не стал, а просто открыл банку кошачьих консервов и покормил трехцветную кошку. Джернисавьен с укором посмотрела на него, как будто осуждала за то, что он не ест вместе с ней или не включает свет.
Потом, когда Бремен лег на диван в гостиной и стал ждать рассвета, кошка устроилась у него на груди и замурлыкала.
Джереми обнаружил, что когда закрывает глаза, то чувствует головокружение и нарастающее ощущение ужаса… Ему казалось, что Гейл где-то здесь, в соседней комнате или на лужайке возле дома, и что она зовет его. Он как будто слышал ее голос. Бремен не сомневался, что если заснет, то пропустит тот момент, когда ее голос достигнет его ушей. Он лежал без сна и ждал, а дом стонал и потрескивал, тоже не находя себе места, пока шестая бессонная ночь не превратилось в серое и холодное утро – седьмое утро без Гейл.
В семь часов Джереми встал, снова покормил кошку, включил на полную громкость радио на кухне, побрился, принял душ и выпил три чашки кофе, после чего позвонил в службу такси и договорился, чтобы через сорок пять минут машина забрала его из автомастерской на Конестога-роуд. Затем посадил Джернисавьен в переноску – кошка недовольно била хвостом, потому что после катастрофического путешествия в Калифорнию к сестре Гейл клетка использовалась только для визитов к ветеринару – и отнес ее на пассажирское сиденье «Триумфа».
В понедельник, перед похоронами, Бремен купил восемь канистр керосина. Теперь он поставил четыре канистры на заднее крыльцо и открутил крышки. В холодном утреннем воздухе разнесся резкий запах. Судя по небу, к вечеру пойдет дождь.
Джереми начал со второго этажа – полил керосином кровать, одеяло, шкафы для одежды вместе с содержимым и кедровый комод, а затем снова кровать. В кабинете темнела и съеживалась от пахучей жидкости из второй канистры белая бумага. Потом он полил керосином ступени лестницы и темные балясины перил, которые они с Гейл пять лет назад с таким трудом очистили от старой краски и обновили.
Оставшиеся две канистры Бремен разлил внизу, ничего не пощадив, – даже рабочую куртку жены, все еще висевшую на крючке у двери, – а с пятой канистрой обошел вокруг дома, поливая переднее и заднее крыльцо, садовые стулья, дверные косяки и сетки от комаров. Последние три канистры пошли на дворовые постройки. «Вольво» Гейл стоял в амбаре, который они приспособили под гараж.
Отъехав по дорожке ярдов на пятьдесят, Бремен остановил «Триумф», вылез и вернулся к дому. Он забыл спички, и пришлось идти на кухню и рыться в ящике стола, забитом всяким хламом. От паров керосина по его щекам бежали слезы и все вокруг немного расплывалось, словно кухонный стол, пластиковая стойка и высокий старый холодильник были чем-то нематериальным, просто миражом в жаркой пустыне.
А потом, когда в забитом всякой всячиной ящике обнаружились два коробка спичек, Джереми вдруг озарило: он понял, что должен делать.
Стой тут. Зажги их. Ложись на диван.
Он уже достал две спички и собирался чиркнуть ими о коробок, но у него закружилась голова. Остановил его не голос Гейл – это была сама Гейл. Словно пальцы отчаянно царапали плексигласовую пластину, которая их разделяла. Пальцы царапали крышку гроба из красного дерева.
Ты не в гробу, малыш. Тебя кремировали – как ты просила три года назад, на Рождество, когда мы напились и сокрушались по поводу смертности человека.
Бремен подошел к столу и поднес две спички к крышке коробка. Головокружение усилилось.
Кремация. Это правильно. Мы оба станем пеплом. Твой я рассыпал в саду за амбаром… Может быть, ветер принесет туда немного моего.
Джереми принялся чиркать спичками о коробок, но царапанье усилилось, проникая в его череп и превращаясь в сильнейшую мигрень, от которой картинка перед глазами рассыпалась на тысячи светлых и темных точек, а слух наполнился шорохом крысиных лапок, скребущих по линолеуму.
Открыв глаза, Бремен увидел, что стоит снаружи, а пламя уже бушует на кухне, освещая окна на фасаде дома. Он постоял немного, ощущая пульсирующую в такт с ударами сердца головную боль и размышляя, не вернуться ли в дом, но когда пламя показалось в окнах второго этажа, а дым повалил из противомоскитной сетки на заднем крыльце, повернулся и направился к надворным постройкам. Гараж вспыхнул с приглушенным хлопком, опалив его брови, и он пошел к машине мимо пылающего дома.
Стая ворон, громко крича и бранясь, поднялась с садовых деревьев в небо. Джереми запрыгнул в «Триумф», дотронулся до клетки, словно успокаивая встревоженную кошку, и поспешно уехал.
Глаза Барбары Саттон, которой он отдал кошку, были красными от слез. Деревья заслоняли столб дыма из долины, откуда он только что уехал. Джернисавьен съежилась в своей переносной клетке, настороженная и не отрывавшая взгляда от Бремена. Он не поддержал попыток Барбары завязать светскую беседу, сказав, что у него встреча, и поехал в автомастерскую на Конестога-роуд, где продал «Триумф» своему бывшему механику по заранее оговоренной цене, после чего сел в такси и поехал в аэропорт. Когда машина выехала на шоссе, ведущее в Филадельфию, навстречу промчались пожарные машины. Джереми отставал от графика всего на пять минут.
В аэропорту Бремен подошел к стойке «Юнайтед эйрлайнз» и купил билет на ближайший рейс. Когда «Боинг‐727» оторвался от земли, Джереми немного расслабился, откинул спинку кресла и почувствовал, что может позволить себе заснуть. И случившееся навалилось на него всей своей тяжестью.
Тогда-то и начался настоящий кошмар.
Глаза
В начале было не Слово.
По крайней мере, для меня.
В это трудно поверить и еще труднее объяснить, но существуют вселенные опыта, не зависящие от Слова. Такие, как моя. Тот факт, что в ней я был Богом… или, по меньшей мере, одним из божеств… пока не имеет значения.
Я не Джереми и не Гейл, хотя когда-нибудь я разделю с ними всё, что они знают, всё, кем они были или хотели стать. Но это не делает меня ими – точно так же, как просмотр телевизионного шоу не превращает вас в поток электромагнитных импульсов, из которых состоит сигнал. Кроме того, я не Бог и не какое-то мифическое существо, хотя был и тем и другим до неожиданного столкновения с событиями и людьми – до той встречи параллельных прямых, которые не должны пересекаться.
Я начинаю мыслить математическими категориями, как Джереми. На самом деле в начале было и не Число. Для меня. Такого понятия не существовало… Не было ни сложения, ни вычитания, ни других удивительных откровений, из которых состоит математика… Что есть число, как не дух разума?
Ладно, пора отбросить ложную скромность, пока не создалось впечатление, что я – некое бестелесное инопланетное существо, прилетевшее из космоса. (На самом деле это недалеко от истины, даже несмотря на то, что понятия космоса для меня тогда не существовало… и даже теперь оно кажется абсурдным. Что касается чужого разума, то его не обязательно искать в космосе, свидетельством чего могу служить я сам и о чем скоро узнает Джереми Бремен. На земле, среди вас, достаточно чужих разумов, которые вы не замечаете или не понимаете.)
Но в это апрельское утро, когда умирает Гейл, все это не имеет для меня смысла. Мне незнакомо само понятие смерти, не говоря уже о многочисленных нюансах и вариациях.
Теперь я об этом знаю – какими бы невинными и чистыми ни были душа Джереми и его чувства этим апрельским утром, в них всегда жила тьма. Порождение обмана и необыкновенной (хотя и непреднамеренной) жестокости. Его не назовешь жестоким человеком – это качество так же чуждо его натуре, как и моей, но тот факт, что он много лет скрывал от Гейл свою тайну, притом что они не могли спрятать друг от друга ни одной мысли, а также тот факт, что эта тайна отрицает все желания и стремления, которые были у них общими на протяжении прожитых вместе лет… Жестокостью является сама тайна. И она глубоко ранила Гейл, которая об этом не догадывалась.
Ментальный щит, который Бремен якобы утратил, когда сел в выбранный наугад самолет, на самом деле частично сохранился – Джереми по-прежнему мог оградить свое сознание от случайных телепатических потоков чужих мыслей, – однако защита оказалась бессильной против этих «темных волн», которые вскоре атакуют его. Теперь это уже не «общий ментальный щит» или просто общая с Гейл жизнь, которая защищала его от жестокой изнанки бытия.
Начиная спуск в ад, Джереми несет с собой еще одну тайну – скрытую даже от него. Именно эта вторая тайна, невидимый потенциал, контрастирующий с прошлой невидимой бесплодностью, будет так много значить для меня.
Для нас троих.
Но сначала позвольте познакомить вас еще кое с кем. В то утро, когда Бремен сел в самолет, чтобы отправиться в неизвестность, микроавтобус забрал Робби Бустаманте, чтобы, как обычно, отвезти его в школу для слепых в восточной части Сент-Луиса. Робби был не просто слепым – он с рождения был слепоглухонемым и умственно отсталым. Будь он чуть более нормален, к списку диагнозов прибавился бы и «аутизм», но для абсолютно слепого, глухого и умственно отсталого ребенка это уже лишнее.
Бустаманте всего тринадцать, но весит он уже восемьдесят килограммов. Запавшие глаза – если их можно назвать глазами – безнадежно слепого похожи на темные пещеры. Зрачки хаотично дергаются, почти невидимые под набрякшими, слишком длинными веками. У него отвислые, пухлые губы, редкие и гнилые зубы. Над верхней губой уже появился темный пушок. Темные волосы растут клоками, густые брови сходятся на переносице широкого носа.
Обрюзгшее тело Робби неуклюже балансирует на тонких белесых ножках. Он научился ходить в одиннадцать лет, но до сих пор самостоятельно может сделать лишь несколько шагов – а потом падает. Когда он двигается своей неуклюжей голубиной походкой, его короткие и толстые руки плотно прижаты к телу, словно сломанные крылья, запястья вывернуты под неестественным углом, пальцы растопырены. Подобно многим слепым и умственно отсталым людям, он любит подолгу раскачиваться и проводить ладонью перед запавшими глазами, словно заслоняя от света эти колодцы тьмы.
Этот мальчик не умеет говорить – только рычит, как животное, иногда бессмысленно хихикает или протестующе верещит пронзительным фальцетом.
Как я уже говорил, Робби был слепым, глухим и умственно отсталым с самого рождения. Наркотики, которые его мать принимала во время беременности, и плацентарная недостаточность лишали ребенка всех чувств с такой же неотвратимостью, как задраиваются переборки в тонущем корабле, отрезая отсеки от внешнего мира.
Робби уже шесть лет посещал школу для слепых. О его жизни до школы никто толком не знает. Еще в роддоме власти обратили внимание на наркотическую зависимость его матери и прикрепили к семье социального работника, но в бюрократической машине произошел какой-то сбой, и на протяжении семи лет ими никто не занимался. Причиной появления соцработника была предписанная судом метадоновая терапия для матери, а не забота о ребенке. По правде говоря, суды, власти и медицинский персонал – абсолютно все – просто забыли о существовании мальчика.
Дверь в квартиру была открыта, и социальный работник услышал какие-то звуки. Потом женщина объясняла, что вошла внутрь только потому, что эти звуки напоминали жалобный писк какого-то маленького животного. И она почти угадала.
Робби был заперт в ванной при помощи куска фанеры, перегораживавшего нижнюю половину двери. Маленькие ручки и ножки ребенка атрофировались настолько, что он не мог ходить и даже ползал с трудом. Ему было семь лет. Голый, перемазанный собственными экскрементами, он лежал на устланном мокрыми газетами полу. Мальчик провел здесь несколько дней, не меньше. Из крана бежала тонкая струйка, и вода на полу поднялась сантиметров на десять. Робби копошился в грязи, издавая похожие на мяуканье звуки, и пытался держать лицо над водой.
Четыре месяца Бустаманте провел в больнице, потом – месяц в приюте, а потом его вернули матери. Согласно постановлению суда, его возили в школу для слепых – на пять часов в день, шесть дней в неделю.
Будущее тридцатипятилетнего Джереми, садившегося тем апрельским утром в самолет, было таким же предсказуемым, как изящная эллипсоидная траектория игрушки йо-йо. Тем же утром, на расстоянии более восьмисот миль, тринадцатилетнего Робби Бустаманте сажали в микроавтобус для короткого ежедневного путешествия в школу для слепых, и его будущее было плоским и однообразным, как протянувшаяся в бесконечность прямая, без надежды на пересечение – с кем-то или с чем-то.
Из мертвой земли
Командир отключил табло «Пристегнуть ремни» и объявил, что пассажиры могут передвигаться по салону, но если они останутся сидеть, то ремни лучше не отстегивать – на всякий случай. И тут для Бремена начался настоящий кошмар.
В первую секунду ему показалось, что на борту самолета взорвалась бомба, пронесенная террористом, – такой яркой была вспышка белого цвета и таким оглушительным явился внезапный рев ста восьмидесяти семи голосов в его мозгу. Ощущение, что он падает, еще больше усиливало убежденность в том, что самолет рассыпался на тысячи обломков и что среди этих обломков он кувыркается в стратосфере вместе с другими кричащими пассажирами. Джереми закрыл глаза и приготовился к смерти.
Но он не падал. Какая-то часть его сознания фиксировала, что под ним по-прежнему находится кресло, что его ноги стоят на полу, а слева через иллюминатор в салон проникает солнечный свет. Но крик не умолкал. Наоборот, он становился громче. Бремен понял, что его голос вот-вот присоединится к оглушительному хору, и впился зубами в костяшки пальцев.
Благодаря такому простому событию, как взлет самолета, сто восемьдесят семь разумов внезапно вспомнили о том, что смертны. Одни с ужасом признавали этот факт, другие предпочли отрицание, отвлекаясь на газеты и напитки, третьи находили опору в какой-нибудь привычной процедуре, но у всех в самой глубине сознания гнездился страх – им было страшно сидеть здесь, в этом длинном герметичном гробу, на высоте нескольких миль над землей.
Джереми беспокойно ерзал и морщился в своем пустом ряду кресел, а сто восемьдесят семь взбудораженных разумов топтали его своими подкованными копытами.
Господи, я забыл позвонить Саре перед вылетом…
Сукин сын знал, что написано в контракте. Или должен был знать. И не моя вина, если…
Если Барри не хотел, чтобы я спала с ним, то не позвонил бы…
Она лежала в ванне. Вода была красной. А запястья – белыми, как разрезанный клубень…
Чертов Фридриксон! Чертов Фридриксон! И Майерс с Ханиуэллом тоже! Чертов Фридриксон!..
Что, если самолет разобьется… проклятье, Господи Иисусе… что, если он упадет и они найдут портфель… проклятье, Господи Иисусе… пепел, обгоревшая сталь, куски моего тела… и что, если они найдут деньги и «узи», и зубы в бархатном мешочке, и пакеты, похожие на сосиски, в моей заднице и в кишках… пожалуйста, Иисусе… что, если самолет разобьется…
И это было еще самое безобидное – обрывки фраз обрушивались на Бремена, словно тупые осколки металла. Образы – вот что резало и проникало внутрь. Как скальпель. Джереми открыл глаза и увидел обычный салон самолета, солнечные лучи, падающие из иллюминатора слева от него, двух немолодых стюардесс, начавших разносить завтрак, а также спавших или читавших пассажиров… Но поток пронизанных страхом картин не иссякал, а голова кружилась так сильно, что Бремен расстегнул ремень безопасности, поднял подлокотник и прилег на соседнее кресло, сжавшись в комок под градом звуков, форм и кричащих красок тысяч непрошеных мыслей.
Зубы, скользящие по шиферу. Запах озона и сгоревшей эмали, как будто дантист слишком долго не убирает бор от гнилого зуба. Шейла! Боже, Шейла… Я не хотел… Зубы, медленно скользящие по шиферу.
Кулак раздавливает помидор, и мякоть просачивается сквозь испачканные пальцы. Только это не помидор, а сердце.
Трение и влага, медленные ритмичные движения секса в темноте. Дерек… Дерек, я тебя предупреждала… Рисунки пениса и вульвы, как на стенах общественного туалета. Яркие краски и трехмерное изображение. Крупный план отверстия вагины, похожей на пещеру среди влажных лепестков. Дерек… Я предупреждала, что она поглотит тебя!
Вопиющая жестокость. Немыслимая. Жестокость без границ и остановки. Удар по лицу, словно расплющивают фигурку из сырой глины, только лицо настоящее, а не глиняное… Кость и хрящи трещат и расплющиваются, плоть рвется, превращаясь в кровавое месиво… Кулак не знает пощады.
– С вами всё в порядке, сэр?
Бремен заставил себя сесть, стиснул рукой правый подлокотник и улыбнулся стюардессе.
– Всё хорошо, – заверил он ее.
Женщина средних лет с загаром и макияжем, скрывающими морщины и усталость. В руках поднос с завтраком.
Черт. Только этого нам сегодня не хватало… придурка с эпилепсией или чем-то похуже. Мы никогда не накормим гусей, если мне придется держать этого парня за руку, пока он будет дергаться и исходить потом всю дорогу до Майами…
– Если вы больны, сэр, я могу попросить командира, чтобы он узнал, есть ли на борту врач, – предложила бортпроводница.
– Нет-нет. – Джереми улыбнулся, взял поднос с завтраком и разложил откидной столик на спинке кресла впереди. – Со мной всё в порядке, честное слово.
Ели этот чертов самолет упадет, они найдут сосиски в моей заднице, и ублюдок Галлего отрежет сиськи Дорис и скормит их Санктусу на завтрак.
Бремен отрезал кусочек омлета, поднес вилку ко рту, сделал глотательное движение. Стюардесса кивнула и двинулась дальше.
Убедившись, что никто на него не смотрит, Джереми выплюнул мягкую массу омлета в бумажную салфетку и положил ее рядом с подносом. Руки у него тряслись. Он откинул голову на спинку сиденья и закрыл глаза.
Папа… ой, папа… прости меня, папа…
Кулак превращает лицо в бесформенную массу, продолжает бить, пока единственными чертами на бугристой плоти не остаются вмятины от костяшек пальцев, потом снова бьет, превращая плоскую массу в грубое подобие лица, чтобы опять обрушиться на нее…
Двадцать восемь тысяч от «Пирс», семнадцать тысяч от «Лордс», сорок две тысячи от «Юнимарт-Селекс»… Белое запястье в ванне, похожее на разрезанный клубень… Пятнадцать тысяч семьсот от «Маркс», девять тысяч от булочной «Пирс»…
Бремен опустил левый подлокотник и стиснул его пальцами. Обе его руки напряглись. Он словно висел на вертикальной стене… Как будто ряд кресел был привинчен к отвесной скале, и только сила рук удерживала его от падения. Он может провисеть еще минуту… или две… Он продержится три минуты, прежде чем его смоет приливная волна образов и непристойностей, цунами ненависти и страха. Может, пять минут. Он заперт в этой длинной сигаре, под которой несколько миль пустоты; он не может сбежать, и ему некуда идти.
– Говорит командир. Хочу сообщить вам, что мы достигли заданной высоты в тридцать пять тысяч футов, и что сегодня на всем побережье ожидается ясная погода, а наш полет до Майами продлится… э-э… три часа пятнадцать минут. Я постараюсь сделать ваш полет максимально комфортным… И спасибо, что воспользовались услугами «Юнайтед».
На берегу печальном
Бремен не помнил остальной полет, не помнил аэропорт Майами, не помнил, как арендовал машину и поехал из города в Эверглейдс.
Хотя должен был помнить. Он был там… где-то там.
Взятая напрокат «Беретта» [4] стояла в тени невысоких деревьев у обочины гравийной дороги. Перед машиной и по обе стороны от нее поднималась зеленая стена из высоких пальм и буйной тропической растительности. Дорога была пустой. Джереми сидел, уткнувшись лицом в рулевое колесо, которое продолжал крепко сжимать обеими руками. Пот капал ему на колени и на пластиковую оплетку руля. Бремена била дрожь.
Он выдернул ключи, рывком распахнул дверцу и, пошатываясь, пошел прочь от машины. Оказавшись среди деревьев, упал на колени, больше неспособный сопротивляться спазмам в желудке. Его вырвало на траву, и он отполз в сторону, но следующие волны тошноты заставили его приподняться на локтях – приступ не стихал, пока желудок полностью не освободился от содержимого. Затем Бремен повалился на бок, откатился в сторону, вытер подбородок ладонью и стал смотреть на небо сквозь резные листья пальм.
Небо было свинцово-серым. Джереми слышал шорох далеких мыслей, а образы по-прежнему эхом отражались у него в голове. Он вспомнил цитату, которую однажды показала ему Гейл, – она нашла ее у спортивного комментатора Джимми Кэннона после того, как они с Бременом поспорили, можно ли считать профессиональный бокс спортом. «Бокс – грязное дело, и если вы занимаетесь им достаточно долго, ваш мозг превращается в концертный зал, в котором не умолкает китайская музыка».
Ага, – мрачно согласился Джереми, с трудом отделяя свои мысли от неумолчного фона чужих, – мой мозг точно похож на концертный зал. Жаль, что в нем играет не только китайская музыка.
Он поднялся на колени, увидел за кустами внизу проблеск зеленой воды, встал и нетвердой походкой принялся спускаться по склону. Перед ним в тусклом свете тянулась река или болото. С дуба свисал испанский мох, на берегу росли кипарисы, а несколько деревьев поднимались прямо из затхлой воды. Бремен присел, раздвинул пленку зеленой тины и вымыл щеки и подбородок, а потом прополоскал рот и сплюнул в воду, в которой просвечивали густые водоросли.
Под деревьями, ярдах в пятидесяти справа от него, виднелся домик – даже не домик, а хижина. Взятая напрокат «Беретта» стояла у начала тропинки, которая вела сквозь заросли к покосившемуся строению. Выцветшие сосновые доски хижины терялись среди вечерних теней, но Джереми удалось разглядеть вывески на обращенной к дороге стене: «ЖИВАЯ НАЖИВКА», «УСЛУГИ ГИДА», «АРЕНДА БУНГАЛО» и «ПОСЕТИТЕ НАШ СЕРПЕНТАРИЙ». Бремен побрел к хижине вдоль коричневато-зеленой воды – по берегу реки… или ручья… или болота…
Домик стоял на фундаменте из цементных блоков, из-под которых шел густой запах влажной земли. С противоположной стороны здания был припаркован старый «Шевроле», и теперь Бремен увидел широкую аллею, отходившую от дороги. У двери с москитной сеткой он остановился. Внутри было темно, и, несмотря на вывески, хижина была больше похожа на деревенский дом, чем на магазин. Пожав плечами, Джереми толкнул дверь, которая со скрипом открылась.
– Привет, – поздоровался один из двух мужчин, смотревших на него из темноты. Он стоял за прилавком, а второй мужчина сидел в полутьме у дверного проема, ведущего в другую комнату.
– Привет. – Бремен замер, почувствовав поток чужих мыслей, словно горячее дыхание какой-то гигантской сигареты, и уже поворачивался к двери, когда заметил большой электрический холодильник и почувствовал сильнейшую жажду, как будто не пил несколько дней. Холодильник был старым, со сдвигающейся крышкой, – бутылки с газированными напитками лежали на подтаявшем льду. Джереми выудил первую попавшуюся бутылку, «Эр-Си Кола», и направился к прилавку, чтобы расплатиться.
– Пятьдесят центов, – сказал стоящий мужчина. Теперь Бремен мог его рассмотреть: мятые слаксы, футболка, которая когда-то была голубой, но после многочисленных стирок стала почти серой, грубое лицо с красноватым загаром и синие глаза (не выцветшие), смотревшие из-под козырька нейлоновой кепки с сетчатым верхом.
Джереми порылся в кармане, но мелочи там не оказалось. Кошелек тоже был пуст. Бремен решил, что у него нет денег, но потом нащупал в кармане серого пиджака сверток купюр, судя по всему, двадцаток и пятидесяток, и вспомнил, что вчера заходил в банк и снял с их с Гейл общего счета 3865 долларов и 71 цент, оставшиеся после оплаты закладной на дом и счетов из больницы.
Черт. Еще один проклятый наркодилер. Наверное, из Майами.
Бремен слышал мысли стоящего мужчины так отчетливо, словно они были произнесены вслух, и поэтому ответил ему, вытаскивая двадцатидолларовую купюру и кладя ее на прилавок.
– Не-а, – прохрипел он. – Я не наркодилер.
Продавец моргнул, накрыл красной ладонью двадцатидолларовую купюру и снова моргнул. Потом прочистил горло.
– Я этого не говорил, мистер.
Теперь настала очередь Джереми удивленно моргнуть. Злость ярким раскаленным пятном пульсировала в мыслях стоящего перед ним мужчины. Бремену удалось выделить несколько образов среди сильного шума.
Проклятые торговцы наркотиками убили Норма-младшего, все равно что приставили пистолет к его голове. Парень никогда не понимал, что такое дисциплина или здравый смысл. Будь жива его мама, все могло быть иначе… Потом череда образов – маленький ребенок на качелях, смеющийся десятилетний мальчик с дыркой на месте переднего зуба. Этот же мальчик, ставший взрослым тридцатилетним мужчиной… Мешки под глазами, бледная, блестящая от пота кожа. Пожалуйста, папа… Клянусь, я отдам. Просто небольшая ссуда, чтобы я мог снова стать на ноги.
То есть стать на ноги, чтобы раздобыть очередную порцию кокаина, крэка, или как вы его теперь называете. Это голос Норма-старшего. Когда он ездил в округ Дэйд повидать парня. Норм-младший дрожит, он болен, по уши в долгах и готов залезть в долги еще глубже, лишь бы не отказываться от своей пагубной привычки. Деньги на это дерьмо ты получишь только через мой труп. Возвращайся домой, работать в магазине… так будет правильно. Мы поместим тебя в окружную больницу… Мальчик, теперь уже мужчина, смахивает тарелки и кофейные чашки со скатерти и, спотыкаясь, выходит из кафе… Воспоминания о том, как Норм-старший плачет – впервые за пятьдесят лет.
Бремен вздрогнул, увидев протянутую ему сдачу.
– Я… – начал он, но затем сообразил, что не может выразить свое сочувствие. – Я не наркодилер, – повторил он. – Да, со стороны это выглядит странно. Кассир выдал мне остаток двадцатками и пятидесятками… наши сбережения. – Джереми открутил крышку бутылки с колой и жадно глотнул. – Я только что прилетел из Филадельфии. – Он вытер подбородок тыльной стороной ладони. – В воскресенье у меня… умерла жена.
Эти слова Бремен произнес впервые, и они показались ему безжизненными и абсолютно фальшивыми. Он сделал еще глоток и сконфуженно опустил взгляд.
Мысли Норма бурлили, но яростное пламя исчезло. Может, и так… Какого черта… от смерти жены парень может одуреть не хуже, чем от наркотиков. Больно я стал подозрительным. Вид у него такой же, как был у меня, когда умерла Альма Джин… Парень совсем не в себе.
– Хотите порыбачить? – спросил Норм-старший.
– Порыбачить… – Бремен допил бутылку и окинул взглядом полки, заставленные наживкой и маленькими картонными коробками с поплавками и катушками. У дальней стены стояли бамбуковые и стекловолоконные удочки. – Да-а… – медленно протянул он, удивляясь своему ответу. – Пожалуй.
Норм-старший кивнул.
– Вам нужно снаряжение? Наживка? Лицензия? Или у вас уже есть?
Джереми облизнул губы, чувствуя, как в черепную коробку – пустую, дочиста вычищенную – начинают возвращаться мысли.
– Мне нужно все, – тихо, почти шепотом, ответил он.
– Ну, мистер, деньги у вас есть. – Норм улыбнулся и принялся демонстрировать покупателю рыбацкое снаряжение, наживку и удочки, которые можно было взять напрокат. Бремен не хотел ничего выбирать – он соглашался на первое, что предлагал продавец. Груда товаров на прилавке росла.
Джереми вернулся к холодильнику и взял вторую бутылку, почувствовав некоторое облегчение от мысли, что она тоже войдет в растущий счет.
– Хотите где-то переночевать? – спросил Норм. – Если вы собираетесь рыбачить на озере, удобнее остановиться на одном из островов.
Неужели это не болото, а озеро Эверглейдс?
– Переночевать? – повторил Бремен, читая неспешные мысли Норма-старшего, который думал, что он отупел от горя. – Да. Я хочу провести тут несколько дней.
Продавец повернулся к молчаливому мужчине на стуле. Джереми сосредоточился на незнакомце, но не увидел в его сознании почти никаких осмысленных фраз. Мозг мужчины был подобен очень медленной стиральной машине, в которой вращались обрывки образов, но слов там почти не было. Бремен едва удержался от удивленного восклицания – такого он еще не встречал.
– Вердж, тот парень из Чикаго уже освободил второй остров? – спросил Норм.
Вердж кивнул. Свет из единственного окна вдруг стал ярче, и теперь Джереми видел, что это беззубый старик с яркими коричневыми пятнами на морщинистом лице.
Норм-старший повернулся к Бремену.
– После удара Вердж плохо говорит… док Майерс называет это афазией… но мозги у него на месте. У нас есть одно свободное бунгало на острове. Сорок два доллара в день плюс аренда лодки и подвесного мотора. Или вас отвезет туда Вердж – бесплатно. Отличная рыбалка прямо на острове.
Джереми кивнул. Да. Он на все согласен.
Норм кивнул в ответ.
– Ладно, минимум три ночи, залог сто десять долларов. Вам на три ночи?
Бремен снова кивнул. Да.
Продавец включил на удивление современный электронный кассовый аппарат и принялся выбивать чек. Джереми вытащил несколько пятидесяток из комка купюр, а остальные сунул в карман.
– Послушайте, – Норм-старший задумчиво потер щеку, и Бремен почувствовал нежелание задавать личные вопросы. – Наверное, у вас есть одежда для рыбалки, но если… ну… вам еще что-нибудь нужно… или продукты…
– Минутку, – сказал Джереми и вышел из магазина.
По узкой тропинке, мимо того места, где его вырвало, он вернулся к арендованной «Беретте». На пассажирском сиденье лежал багаж – старая спортивная сумка. Бремен не помнил, как сдавал ее в аэропорту, но к сумке был приклеен багажный ярлык. Он взял сумку – она оказалась пустой, там болтался только маленький и тяжелый сверток – и расстегнул молнию.
В сумке лежал, завернутый в красную бандану, которую Гейл купила ему прошлым летом, револьвер «Смит-и-Вессон» калибра.38. Его подарил им брат Гейл, полицейский, когда они жили в Джермантауне и в их квартале начались ограбления домов. Ни Джереми, ни Гейл ни разу не стреляли из револьвера. Бремен всегда хотел его выбросить – вместе с коробкой патронов, которую Карл приложил к пистолету, – но почему-то не решался, а держал в запертом нижнем левом ящике письменного стола.
Бремен не помнил, как оружие оказалось в сумке. Он развернул бандану, уверенный, что по крайней мере не заряжал револьвер.
Револьвер был заряжен. Кончики пяти пуль торчали из круглых лунок барабана – серые, несущие в себе смерть. Джереми завернул пистолет, сунул его в сумку и застегнул молнию. А потом вернулся в магазин.
Норм-старший вопросительно поднял брови.
– Похоже, я не взял одежду для рыбалки. – Бремен попытался изобразить улыбку. – Поищу на полках.
Мужчина за прилавком кивнул.
– И продукты, – прибавил Джереми. – Мне нужен запас на три дня.
Норм-старший подошел к стеллажам в передней части магазина и начал доставать консервные банки.
– В бунгало есть старая печь. Но большинство парней пользуются только плитой. Супа, бобов и нарезки хватит? – Похоже, он понял, что Бремен не в состоянии сам принимать решения.
– Да, – кивнул Джереми.
Ему удалось найти брюки и рубашку защитного цвета всего на размер меньше, чем нужно. Он отнес одежду на прилавок и, нахмурившись, посмотрел на свои начищенные туфли. Окинув взглядом полки, понял, что в этом удивительном магазине нет ни ботинок, ни кроссовок.
Норм снова пробил чек на кассе, и Джереми достал несколько двадцаток, поймав себя на мысли, что уже много лет не испытывал такого удовольствия от покупок. Хозяин магазина сложил все вещи в картонную коробку – контейнеры с живой наживкой, хлеб и белый бумажный пакет с ломтиками вареного мяса – и протянул Бремену удочку из стекловолокна.
– Вердж уже разогрел мотор. То есть, если вы готовы…
– Готов, – сказал Джереми.
– Наверное, лучше убрать машину с дороги. Можете припарковать ее за магазином.
То, что произошло потом, стало неожиданностью для самого Бремена. Он протянул Норму-старшему ключи, нисколько не сомневаясь, что машина будет в целости и сохранности.
– Вас не затруднит? – Джереми был не в силах скрыть своего нетерпения.
Норм удивленно вскинул брови, а потом улыбнулся.
– Без проблем. Сейчас переставлю. Когда захотите уехать, ключи будут здесь.
Бремен вышел вслед за ним через заднюю дверь и оказался на маленькой пристани, которую не было видно с дороги. Старик сидел на корме маленькой лодки, улыбаясь беззубым ртом.
Джереми почувствовал, как его грудь заполняет тоска – подобно тому, как тропическая птица расправляет крылья после сна, открывая яркое оперение. Ему с трудом удалось сдержать слезы.
Норм-старший передал Верджу коробку с покупками и подождал, пока Бремен неуклюже спустится в лодку и устроится в центре, осторожно уложив стекловолоконную удочку на сиденья.
– Вам должно понравиться, слышите? – Норм подергал козырек своей кепки.
– Да, – прошептал Джереми, глубоко вдохнув запах озера, моторного масла и даже остатков керосина на своей одежде. – Да. Да.
Глаза
Наверное, никто из живущих на земле людей не понимает работу человеческого мозга так хорошо, как Джереми. Кроме того, имея доступ к чужому сознанию с тринадцатилетнего возраста, Бремен затеял исследование, которое показывает истинный механизм мышления. Или по крайней мере дает достаточно хорошую метафору для него.
За пять лет до смерти Гейл Джереми наконец закончил свою диссертацию, посвященную анализу волнового фронта, но тут на его рабочем столе в Хэверфорде появляется статья Джейкоба Голдмана. Записка Чака Гилпена, бывшего соседа по комнате в общежитии, сообщает: «Полагаю, тебе будет интересно взглянуть, что об этом думают другие».
Джереми возвращается домой в таком волнении, что едва может говорить. Джернисавьен смотрит на него и выбегает из комнаты. Гейл наливает ему чай со льдом и усаживает его за кухонный стол.
– Медленнее, – просит она. – Говори медленнее.
– Ладно. – Ее муж втягивает в себя воздух, едва не поперхнувшись кубиком льда. – Знаешь мою диссертацию? О волновом фронте?
Гейл закатывает глаза. Как она может не знать о диссертации, которая вот уже четыре года заполняет их жизнь и отнимает все свободное время?
– Да, – терпеливо отвечает она.
– Так вот, она устарела, – с неуместной улыбкой сообщает Джереми. – Чак Гилпен сегодня прислал мне материал одного парня по имени Голдман, из Кембриджа. Весь мой анализ Фурье устарел.
– Ой, Джереми… – Гейл по-настоящему расстроилась.
– Нет, нет… это потрясающе! – Бремен почти кричит. – Это чудесно, Гейл. Исследование Голдмана заполняет все пробелы. Я все делал правильно – только выбрал не ту задачу.
Гейл качает головой. Она в растерянности.
Джереми наклоняется к жене, лицо его пылает. Чай со льдом проливается на разделочный стол, а Бремен пододвигает к жене статью.
– Смотри, малыш, тут все есть. Помнишь, о чем моя работа?
– Анализ волнового фронта памяти, – автоматически отвечает Гейл.
– Да. Только я сглупил и ограничился памятью. А Голдман и его команда занимаются исследованием холистических параметров волнового фронта для аналогов человеческого сознания в целом. Начало этому направлению положил анализ, выполненный одним русским математиком в тридцатых годах – на основе данных об аномалиях реабилитации после инсульта, – и это привело прямо к моему анализу Фурье для функции памяти… – Джереми, сам того не осознавая, подключается к сознанию Гейл. Поток его мыслей смешивается со словами, образы следуют один за другим, словно распечатки с перегруженного терминала. Бесконечные кривые Шредингера, язык которых гораздо точнее слов. Спад кривых вероятности в биноминальной последовательности.
– Нет! – вскрикивает Гейл и качает головой. – Говори. Объясняй словами.
Бремен пытается, прекрасно понимая, что математика, которую его жена считает слишком формальной, рассказала бы все гораздо яснее.
– Голограммы, – говорит он. – В основе работы Голдмана – исследование голограмм.
– Как и твоего анализа памяти. – Гейл слегка хмурится – как всегда, при обсуждении его работы.
– Да… верно… Только работа Голдмана выходит за пределы анализа синоптической функции памяти, обобщая все до аналога человеческой мысли… черт, даже до всего сознания!
Гейл делает глубокий вдох, и Бремен видит, что до нее постепенно доходит. Ему хочется заменить чистой математикой те искусственные языковые конструкции, с помощью которых она прокладывает путь к пониманию, но он подавляет свое желание и сам пытается найти более точные слова.
– Значит… – Гейл умолкает в нерешительности. – Получается, что работа Голдмана объясняет наши… способности?
– Телепатию? – улыбается Джереми. – Да, Гейл… да. Черт возьми, она объясняет почти все, во что я тыкался, словно слепой! – Он умолкает и допивает остатки чая со льдом. – Команда Голдмана выполняет множество сложных исследований с использованием ЭЭГ и сканов мозга. У него масса первичных данных, но сегодня утром я взял его материал и применил к нему анализ Фурье, а затем вставил в разные модификации волнового уравнения Шредингера, чтобы посмотреть, не образуется ли стоячая волна.
– Джереми, я не очень понимаю… – говорит Гейл. Бремен видит, как она пытается пробиться через математическую путаницу его мыслей.
– Черт возьми, малыш, это сработало! Продольное исследование Голдмана с использованием магниторезонансной визуализации показывает, что человеческая мысль может быть описана как фронт стоячей волны. И не только функция памяти, с которой я игрался, а все человеческое сознание. Та часть нас, которая и составляет нашу суть, может быть почти точно выражена в виде голограммы… а если точнее, в виде суперголограммы, содержащей несколько миллионов голограмм меньшего размера.
Гейл подается вперед, ее глаза блестят.
– Кажется, понимаю… Но в таком случае, что такое разум, Джереми? А мозг?
Джереми улыбается, пытается сделать еще глоток, но его губы ловят лишь кубики льда. Он со стуком ставит бокал на стол.
– Думаю, лучший ответ состоит в том, что греки и все помешанные на религии были правы, разделяя эти два понятия. Мозг может рассматриваться как… что-то вроде электрохимического генератора волнового фронта и одновременно интерферометра. А разум… разум… это нечто более прекрасное, чем кусок серого вещества, которое мы называем мозгом. – Бремен снова начинает мыслить формулами: синусоидальные волны пляшут под изящную музыку уравнения Шредингера. Вечные, но изменчивые синусоидальные волны.
Гейл снова хмурится.
– Значит, душа действительно существует… Некая частица нас, способная пережить смерть? – Ее родители, особенно мать, были глубоко верующими людьми, и теперь в ее голосе появляются раздраженные нотки, как всегда, когда речь заходит о религиозных идеях. Гейл ужасает мысль о слащавом маленьком херувиме души, на крыльях летящем к вечному покою.
Теперь очередь Джереми хмурить брови.
– Пережить смерть? Ну, не совсем… – Он сердится оттого, что снова приходится выражать свои мысли словами. – Если работа Голдмана и мой анализ верны и человеческая личность представляет собой сложный волновой фронт вроде последовательности низкоэнергетических голограмм, интерпретирующих реальность, то личность не может пережить смерть мозга. Шаблон будет разрушен – вместе с генератором голограмм. Этот сложный волновой фронт, который и есть мы… Под сложностью, Гейл, я подразумеваю выявленный моим анализом факт, что число вариаций «волна – частица» превышает количество атомов во Вселенной… Этот волновой фронт нуждается в энергии, чтобы не исчезнуть, как и все остальное. Со смертью мозга волновой фронт может рухнуть, словно воздушный шар без горячего воздуха. Рухнуть, расколоться, рассыпаться и исчезнуть.
Гейл мрачно улыбается.
– Милая картинка, – тихо замечает она.
Джереми не слушает. Его взгляд становится отсутствующим – как всегда, когда он захвачен какой-то мыслью.
– Важно не то, что происходит с волновым фронтом после смерти мозга, – продолжает он таким тоном, каким обычно разговаривает со студентами. – Дело в том, как это открытие… Господи, это настоящее открытие… Как оно связано с тем, что ты называешь нашей способностью. С телепатией.
– И как же оно связано, Джереми? – Голос Гейл едва слышен.
– Все достаточно просто, если представить мысль человека в виде череды фронтов стоячих волн, создающих интерференционные картины, которые можно запоминать и передавать в голографических аналогах.
– Ну конечно.
– Нет, это на самом деле просто. Помнишь, мы с тобой делились впечатлениями о своих способностях, когда познакомились? И пришли к выводу, что невозможно объяснить мысленную связь тому, кто ее не испытал. Это как описывать…
– Цвета слепому от рождения человеку, – заканчивает за мужа Гейл.
– Да. Точно. Ты ведь знаешь, что мысленная связь совсем не похожа на то, что описывают во всех этих глупых научно-фантастических романах, которые ты так любишь.
Гейл улыбается. Научная фантастика – ее тайная страсть, отдых от «серьезного чтения», и она уважает этот жанр и обычно ругает Джереми за пренебрежительное к нему отношение.
– Обычно там описывают нечто вроде передачи и приема радио- или телевизионного сигнала. А разум – это своего рода приемник, – говорит она.
Ее муж кивает.
– Но мы знаем, что все не так. Это больше похоже на… – Ему вновь не хватает слов, и он пытается поделиться с женой математическими образами: синусоидальные волны медленно смешиваются, и в пространстве вероятности их амплитуды меняются.
– Вроде дежавю с чужой памятью, – говорит Гейл, отказываясь покидать неуклюжий плот языка.
– Точно. – Джереми хмурится, а потом повторяет: – Точно. Но дело в том, что еще никто не задавался вопросом… до Голдмана и его команды… как человек читает собственные мысли. В неврологических исследованиях ответ на этот вопрос пытаются получить с помощью нейротрансмиттеров или других химических веществ или рассуждают в терминах дендритов и синапсов… как если бы кто-то пытался понять принцип работы радио, разбирая отдельные микросхемы или рассматривая транзисторы, но не пытаясь собрать все воедино.
Гейл идет к холодильнику, возвращается с кувшином в руке и наполняет бокал чаем со льдом.
– А ты собрал радиоприемник?
– Голдман собрал, – улыбается Джереми. – А я включил.
– И как же мы читаем собственные мысли? – тихо спрашивает его жена.
Джереми начинает размахивать руками. Его пальцы трепещут, словно неуловимые волновые фронты, которые он описывает.
– Мозг генерирует эти суперголограммы, которые содержат полный набор пакетов… память, личность и даже волновой фронт для обработки пакетов, чтобы мы могли интерпретировать реальность… Но одновременно с генерацией этих волновых фронтов мозг работает как интерферометр, разбивая волновые фронты на фрагменты, которые нам нужны. «Читает» наш собственный разум.
Гейл в волнении сжимает и разжимает кулаки, сопротивляясь желанию грызть ногти.
– Кажется, понимаю…
Муж хватает ее за руки.
– Конечно, понимаешь. Это многое объясняет, Гейл… почему люди восстанавливаются после инсульта, используя другие области мозга, а также ужасные последствия болезни Альцгеймера и даже почему младенцам нужно много спать, а старикам не нужно. У младенца волновой фронт личности гораздо сильнее нуждается в интерпретации реальности в этом голографическом симуляторе…
Бремен умолкает. Он заметил, как при упоминании о ребенке на лице жены промелькнула легкая тень. И еще крепче сжимает ее руки.
– В любом случае, ты должна видеть, как это объясняет наши способности.
Гейл смотрит ему в глаза.
– Кажется, вижу, Джереми, но…
Он допивает чай со льдом.
– Возможно, мы – генетические мутанты, малыш, как мы и предполагали. Но даже в этом случае наши мозги мутантов делают то же самое, что и мозги всех остальных людей… Разбивают суперголограммы на доступные для понимания схемы. Просто наши мозги способны интерпретировать волновые фронты других людей, а не только свои.
Гейл быстро кивает – она поняла.
– И поэтому мы постоянно слышим чужие мысли… то, что ты называешь нейрошумом… так, Джереми? Мы все время разбиваем на составляющие мысленные волны других людей. Как ты называешь эту штуку, которая обрабатывает голограммы?
– Интерферометр.
– То есть мы родились с неисправными интерферометрами, – улыбается Гейл.
Джереми подносит к губам ее пальцы и целует их.
– Или слишком чувствительными.
Его жена подходит к окну и смотрит на амбар, пытаясь осознать услышанное. Джереми оставляет ее наедине со своими мыслями, поднимая ментальный щит, чтобы не мешать ей. Проходит несколько секунд.
– Есть еще кое-что, малыш.
Она отворачивается от окна, обнимает себя за плечи.
– Причина, по которой у Чака Гилпена оказалось это исследование. Ты помнишь, что Чак сотрудничает с группой фундаментальной физики из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли?
Гейл кивает.
– И что?
– Последние годы они охотились за элементарными частицами все меньшего и меньшего размера, изучали их свойства, чтобы добраться до реальности. Настоящей реальности. А когда преодолели глюоны и кварки, шарм и цвет, когда заглянули в самые основы реальности, знаешь, что они там увидели?
Гейл качает головой и еще крепче обнимает свои плечи. Ответ она видит раньше, чем прозвучат слова.
– Серию вероятностных уравнений, описывающих фронт стоячей волны, – тихо говорит ее муж, чувствуя, как его кожа покрывается мурашками. – Те же самые закорючки и каракули, которые находит Голдман, когда заглядывает в мозг в поисках разума.
– Но что это значит, Джереми? – в ужасе шепчет Гейл.
Бремен отставляет чай с тающими кубиками льда и идет к холодильнику за пивом. Открывает банку и жадно пьет, один раз прервавшись на отрыжку. За спиной Гейл вечерний свет раскрашивает яркими красками вишневые деревья позади амбара. Космос, – мысленно обращается Джереми к жене, – и наш разум. Такие разные… и одинаковые. Вселенная подобна фронту стоячей волны, хрупкому и невероятному, как детские сны.
Подавив отрыжку, он говорит вслух:
– И это меня до смерти пугает, малыш.
Оставь надежду, всяк сюда входящий
На третий день Бремен проснулся и вышел на свет. Позади бунгало был сооружен маленький причал, всего две доски на сваях, и именно здесь Джереми стоял и, моргая, смотрел на восход солнца. На болоте за его спиной слышался птичий гомон, а в реке перед ним к поверхности поднималась рыба.
В первый день он с радостью позволил Верджу провезти его по реке и показать рыбацкую хижину. Мысли старика давали отдых истощенному мозгу: мысли без слов, образы без слов, медленные эмоции без слов, ритмичные и успокаивающие, как тарахтенье древнего навесного мотора, который толкал их лодку по медленной реке.
Бунгало оказалось роскошнее, чем Бремен ожидал за сорок два доллара в день. Причал упирался в крыльцо, а в крошечной гостиной с окнами, затянутыми москитной сеткой, стояли пружинный диван и кресло-качалка. Маленькая кухня была оборудована портативным холодильником – здесь есть электричество! – массивной печкой и обещанной плитой, а довершал картину узкий стол с выцветшей клеенкой. В хижине имелась спальня размерами чуть больше встроенной кровати с единственным окном, выходившим на ветхий туалет. Душ и раковина располагались в открытой нише у задней двери. Но одеяла и сложенное стопкой постельное белье были чистыми, три электрические лампочки исправно горели, и Джереми рухнул на диван, испытывая нечто похожее на радость от возвращения домой… Если только можно испытывать радость одновременно с сильнейшей, на грани головокружения, тоской.
Вердж вошел и устроился в кресле. Вспомнив о правилах гостеприимства, Бремен порылся в пакетах с едой, нашел упаковку с пивом, которую положил ему Норм-старший, и протянул старику банку. Тот не стал отказываться, и Джереми наслаждался его бессловесными мыслями, пока они сидели под теплыми лучами вечернего солнца и потягивали такое же теплое пиво.
Бремен не смотрел на часы и не знал, сколько они так просидели. Потом, когда провожатый ушел и стало совсем темно, Джереми пошел на кухню и приготовил себе на ужин сэндвич с беконом, салатом и помидором, который запил еще одной банкой пива, после чего вымыл посуду, принял душ, лег в постель и впервые за четыре дня заснул – и спал без сновидений, в первый раз за многие недели.
Во второй день Бремен встал поздно, все утро ловил рыбу с причала, ничего не поймал – и чувствовал себя таким же умиротворенным, как накануне вечером. После раннего ланча он прогулялся по берегу почти до того места, где река впадала в болото, или наоборот… непонятно… и еще несколько часов просидел с удочкой на берегу. Выпустив всю пойманную рыбу, он увидел змею, лениво плывшую между торчащих из воды кипарисов, и впервые в жизни не испугался ее.
Вечером второго дня ниже по течению реки послышалось тарахтенье лодочного мотора. Вердж причалил и знаками показал Бремену, что хочет отвезти его порыбачить на болоте. Джереми замялся – он не знал, готов ли к встрече с болотом, – но потом протянул старику свою удочку и осторожно спрыгнул на нос лодки.
На болоте было темно, а с веток деревьев свисал испанский мох, и Бремен не столько удил рыбу, сколько смотрел на огромных птиц, лениво паривших над своими гнездами, слушал вечерний концерт тысяч лягушек и наблюдал за двумя аллигаторами, медленно рассекавшими расцвеченную закатом воду. Мысли Верджа пульсировали в одном ритме с мотором и болотом, и Джереми обрел покой, переключившись с хаоса своего сознания на ущербную ясность поврежденного разума старика. Каким-то непонятным образом он определил, что не очень грамотный и не получивший формального образования Вердж в молодости был своего рода поэтом. Теперь, после перенесенного удара, его поэтический дар проявлялся в изящной череде бессловесных воспоминаний, а также в стремлении отказаться от самих воспоминаний в пользу более требовательного ритма настоящего.
Не поймав ничего стоящего, они покинули темное болото – на востоке над кипарисами уже всходила полная луна – и вернулись к бунгало. Легкий ветерок сдувал комаров, и они в дружеском молчании сидели на крыльце, допивая пиво Бремена.
Теперь, на третье утро, Джереми встал и вышел на свежий воздух. Щурясь от лучей утреннего солнца, он раздумывал, не порыбачить ли немного до завтрака. Потом спрыгнул с причала и прошел по берегу метров сто на юг, к травянистой полянке, которую обнаружил вчера после полудня. От реки поднимался туман, в воздухе разносились требовательные крики птиц. Бремен ступал осторожно, опасаясь змей или аллигаторов, которые могли выскочить из камышей у воды. Солнце поднималось над деревьями, и воздух быстро прогревался. В груди мужчины распускалось чувство, очень похожее на счастье.
Большая река двух сердец – неожиданно пришла к нему мысль от Гейл.
Бремен остановился, едва удержавшись на ногах. Он замер, осторожно дыша и закрыв глаза, чтобы сосредоточиться. Это была Гейл и в то же время не Гейл: фантомное эхо, от которого бросало в дрожь, как если б эти слова прошептал настоящий голос. Головокружение усиливалось, и Джереми пришлось сесть на поросший травой холмик, чтобы не упасть. Он опустил голову между коленей и попытался медленно и глубоко дышать. Через какое-то время звон в ушах утих, сердце перестало выскакивать из груди, а приступ дежавю, граничивший с тошнотой, прошел.
Бремен поднял лицо к солнцу, попробовал улыбнуться и поднять удочку.
У него не было удочки. В это утро он взял с собой револьвер.
Джереми сидел на прогретом солнцем берегу и смотрел на оружие. Вороненая сталь при ярком свете казалась почти черной. Он нащупал рычажок, откидывающий барабан, и посмотрел на шесть латунных кружков. Затем защелкнул барабан и поднял револьвер почти к самому лицу. Боек взвелся неожиданно легко и встал на место. Бремен приставил короткий ствол к виску и закрыл глаза, чувствуя на лице теплый луч солнца и прислушиваясь к гудению насекомых.
Он не думал, что пуля, вошедшая в череп, освободит его… перенесет в другой мир. Они с Гейл не верили в жизнь после смерти. Однако он понимал, что пистолет и эта единственная пуля – средство избавления от боли. Палец нащупал спусковой крючок, и Джереми со всей ясностью осознал, что слабое нажатие положит конец бездонной пропасти горя, притаившейся под этой краткой вспышкой радости. Легкое нажатие навсегда остановит нескончаемую агрессию чужих мыслей, которые даже теперь жужжали на периферии его сознания, словно мириады мух, кружащихся над гнилым мясом.
Бремен усилил нажим, чувствуя пальцем идеальную металлическую дугу спускового крючка и, сам того не желая, превратил тактильное ощущение в математический конструкт. Он представил скрытую кинетическую энергию, содержащуюся в порохе, быстрое превращение этой энергии в движение и последующее разрушение такой сложной структуры, как изящный танец синусоидальных колебаний и фронтов стоячих волн в его черепе, которая умрет вместе со смертью мозга, генерирующего эти волны.
Именно мысль об уничтожении этой прекрасной математической конструкции, о безвозвратном разрушении уравнений волнового фронта, которые Джереми считал гораздо более красивыми, чем несовершенная и травмированная человеческая психика, которую они описывали, и заставило его опустить, а затем швырнуть револьвер в реку, за высокий камыш.
Бремен стоял и смотрел на расходящиеся по воде круги. Он не чувствовал ни радости, ни печали, ни удовлетворения, ни облегчения. Вообще ничего не чувствовал.
Чужие мысли Джереми уловил за несколько секунд до того, как повернулся и увидел незнакомца.
Мужчина стоял в старой плоскодонке метрах в десяти от Джереми и, действуя веслом как шестом, выталкивал лодку с отмели в том месте, где река впадала в болото (или наоборот). Его костюм еще меньше подходил для речной прогулки, чем одежда Бремена три дня назад: белая пиджачная пара и черная рубашка с острым воротником, лежащим на широких лацканах, словно крылья ворона. Несколько золотых цепочек спускались на грудь незнакомца, поросшую черными волосами, под цвет атласной рубашки. Мужчина был обут в дорогие туфли из мягкой кожи, ходить в которых можно было разве что по ковру. Из кармана белого пиджака торчал розовый шелковый платок, брюки поддерживал белый ремень с большой золотой пряжкой, а на левом запястье поблескивали часы «Ролекс».
Бремен открыл было рот, собираясь поздороваться, но внезапно увидел все.
Его зовут Ванни Фуччи. Он выехал из Майами в начале четвертого утра. С мертвецом в багажнике, с необычным именем – Чико Тартугян. Ванни Фуччи выбросил тело в трех метрах от места, где теперь находится плоскодонка, среди кипарисов, где болото темное и относительно глубокое.
Джереми растерянно заморгал – в том месте, где Чико Тартугяна, обмотанного пятьюдесятью фунтами стальной цепи, столкнули за борт, на воде еще расходились круги.
– Эй! – крикнул Ванни Фуччи и, едва не перевернув лодку, снял одну руку с весла и сунул ее под белый пиджак.
Бремен попятился и замер. На мгновение ему показалось, что револьвер калибра.38 в руке этого человека – это его оружие, то самое, что подарил ему шурин, которое он только что швырнул в реку. Но в том месте, куда упал револьвер, еще не улеглась рябь, хотя она постепенно стихала, сталкиваясь с течением реки и с небольшими волнами от раскачивавшейся лодки Фуччи.
– Эй! – снова крикнул Ванни и взвел курок. Звук был отчетливо слышен.
Джереми попытался поднять руки, но обнаружил, что ему удалось только поднести их к груди – жестом, означавшим не столько покорность или мольбу, сколько раздумье.
– Что, твою мать, ты тут делаешь?! – крикнул Фуччи, и плоскодонка накренилась так сильно, что револьвер, нацеленный в лицо телепата, теперь смотрел ему под ноги.
Бремен понимал, что если спасаться бегством, то теперь самое время.
– Я спрашиваю, что ты тут делаешь, долбаный придурок! – заорал мужчина в белом костюме и черной рубашке. Его курчавые волосы были такими же черными и блестящими, как эта рубашка. Лицо, покрытое искусственным загаром, побледнело, пухлые, как у купидона, губы, растянулись в подобие оскала. В мочке левого уха Ванни Фуччи Джереми заметил сверкающий бриллиант.
Лишившись на мгновение дара речи, – скорее от непонятного возбуждения, чем от страха, – Бремен покачал головой. Руки он по-прежнему держал перед грудью, так что их пальцы почти соприкасались.
– Что ты видел, придурок? Что ты видел, твою мать? – Второй вопрос Фуччи подкрепил движением револьвера, словно тыкал им в лицо Бремена.
Джереми молчал. Почему-то он был очень спокоен. Он думал о Гейл в те последние дни и ночи, когда она лежала в палате интенсивной терапии в окружении приборов, а из ее тела торчали катетеры, дыхательные трубки и линии внутривенных вливаний. Крики гангстера отогнали образы изящного танца синусоидальных волн.
– Забирайся в долбаную лодку, ублюдок! – прошипел Ванни.
Бремен снова заморгал, искренне не понимая, зачем. Мысли Фуччи представляли собой раскаленный добела поток ругательств, смешанный со страхом, и какое-то время телепат не воспринимал его слова.
– Я сказал, забирайся в долбаную лодку, ублюдок! – рявкнул Ванни Фуччи и выстрелил в воздух.
Джереми вздохнул, опустил руки и осторожно шагнул в лодку. Фуччи жестом приказал ему сесть на носу плоскодонки, а затем стал неуклюже отталкиваться от дна веслом, держа в другой руке револьвер.
В тишине – если не считать криков птиц, потревоженных выстрелом, – они плыли к противоположному берегу.
Глаза
Меня интересует смерть. Для меня это новое понятие. Идея о том, что можно просто перестать быть – самая удивительная из всех, с которыми меня познакомил Джереми.
Я почти не сомневаюсь, что первое осознание смертности человека самим Бременом было жестоким: смерть его матери, когда ему исполнилось всего четыре года. Тогда его телепатические способности проявлялись редко и случайно – просто вторжение чужих мыслей и ночные кошмары, которые, как он потом понял, тоже были чужими, – но в ночь смерти матери эти способности дали о себе знать особым образом.
Ее звали Элизабет Саскинд Бремен, и в ночь смерти ей было двадцать девять лет. Она возвращалась с «девичника», как они в последнее время называли свои встречи. Компания женщин, от шести до десяти человек, начала собираться один раз в месяц много лет назад, когда большинство из них еще были не замужем, и в тот вечер они поехали в Филадельфию, рассчитывая попасть на открытие художественного музея, а потом послушать джаз. Они проявили предусмотрительность и выбрали того, кто не будет пить и развезет всех по домам, хотя в то время такая практика была еще редкой, и Кэрри, давняя подруга Элизабет, не прикасалась к спиртному. Четыре подруги жили недалеко друг от друга, в получасе езды от дома Бременов в округе Бакс, и все они сидели в универсале Кэрри, когда на шоссе Скулхил пьяный водитель выехал на встречную полосу.
Машин было много, и универсал занимал левую полосу – поэтому с того момента, как пьяный водитель пересек разделительную линию в том месте, где ремонтировали дорожное ограждение, до момента столкновения прошло не больше двух секунд. Удар был лобовым. Мать Джереми, ее подруга Кэрри и еще одна женщина по имени Марджи Ширсон погибли на месте. Четвертую пассажирку, новую знакомую Кэрри, которая в тот вечер в первый раз поехала на девичник, выбросило из машины через лобовое стекло, и она выжила, хотя и осталась парализованной. Пьяный водитель – его имя Джереми никогда не вспоминает, хотя в последующие годы не раз видит в документах – отделался легкими травмами.
Джереми просыпается и начинает кричать, так что отец бегом бросается к нему на второй этаж. Двадцать пять минут спустя, когда приезжает полиция, мальчик все еще кричит.
Он помнит все мельчайшие подробности следующих нескольких часов: как их с отцом привезли в больницу, где никто не мог сказать, куда отправили тело Элизабет Бремен; как он стоял рядом, когда Джону Бремену показывали женские трупы в больничном морге, чтобы «идентифицировать» пропавшее «неустановленное лицо»; как им сказали, что тело матери не привозили вместе с телами остальных жертв, а отправили в морг соседнего графства. Джереми помнит долгую поездку посреди ночи под дождем, лицо отца в зеркале, освещенное индикаторами приборной панели, и песню по радио – «Апрельскую любовь» в исполнении Пэта Буна, – а потом попытки найти здание морга в одном из районов Филадельфии, похожем на заброшенную промышленную зону.
Маленький Бремен помнит, как смотрит на тело матери. На нем нет простыни, как в фильмах, которые он видел в последующие годы; есть только прозрачный пластиковый мешок, напоминающий занавеску для душа, через который просвечивает изуродованное лицо и изломанное тело Элизабет Саскинд Бремен. Сонный санитар грубым движением расстегивает мешок и откидывает пластик, обнажая грудь мертвой матери Джереми. На коже еще не засохла кровь. Джон Бремен подтягивает пластик выше – таким движением он всегда поправляет одеяло, укладывая сына спать, – и молча кивает, подтверждая идентификацию. Глаза матери приоткрыты, как будто она подсматривает за ними, играя в прятки.
Конечно, в ту ночь отец не взял с собой Джереми. Мальчика оставили у соседей, уложив на диван в гостевой спальне, пропахшей средством для чистки ковров, но, лежа на чистых простынях и глядя широко раскрытыми глазами на медленно ползущие по потолку полосы света от проезжавших машин, шины которых шелестели по мокрому асфальту, он разделял с отцом каждую секунду этого ночного кошмара. Джереми понимает это через двадцать лет, после того как женится на Гейл. На самом деле понимает Гейл – она прерывает его рассказ о печальных событиях того вечера, – и именно Гейл доступны фрагменты памяти Джереми, закрытые для него самого.
Бремен не плакал, когда ему было четыре; он плачет другой ночью, двадцать один год спустя: почти час он плачет на плече Гейл. Это плач по матери и по отцу, уже покойному, который умер от рака, не прощенный сыном. Плач по себе.
Насчет первого телепатического столкновения Гейл со смертью я не уверен. Есть воспоминания, как она в возрасте пяти лет хоронит своего кота Лео, но необычные ощущения в последние часы жизни животного, сбитого машиной, могли быть просто болью из-за отсутствия пушистого, теплого, мурлыкающего существа, а не настоящим контактом с сознанием кота.
Родители Гейл были глубоко верующими христианами, причем становились все фанатичнее по мере того, как их дочь росла, и в семье почти все разговоры о смерти велись в терминах «перехода» в царство Христово. В восемь лет, когда умерла ее бабушка, – сухая, чопорная дама, от которой странно пахло и с которой внучка редко виделась, – Гейл поднимают, чтобы та посмотрела на тело в зале для гражданской панихиды, и отец шепчет ей на ухо: «Это не настоящая бабушка… Бабушка на небесах».
В раннем возрасте, еще до смерти бабушки, Гейл пришла к выводу, что небеса – это горшок с дерьмом. Так говорил ее двоюродный дедушка Бадди: «Вся эта благочестивая болтовня – просто горшок с дерьмом. Все эти небеса, хоры ангелов… горшок с дерьмом. Мы умираем и удобряем землю, как кот Лео на заднем дворе. Единственное, что нам известно о смерти, – мы помогаем расти цветам и траве, а все остальное – горшок с дерьмом». Гейл так и не поняла, почему двоюродный дедушка Бадди называл ее Бини, но предполагает, что это как-то связано с его сестрой, которая умерла, когда они были детьми.
Гейл рано решает, что смерть – это просто. Человек умирает и помогает расти траве и цветам. Все остальное – горшок с дерьмом.
Мать Гейл слышит, как девочка делится своей философией с подругой, – они хоронят умершего хомяка, – после чего отправляет подругу домой, а потом больше часа втолковывает дочери, что написано по этому поводу в Библии, а также что Библия – Божье слово на земле, и глупо думать, что человек просто исчезает. Упрямая Гейл смотрит на мать и слушает, но отказывается повторять. Мать называет двоюродного дедушку Бадди алкоголиком.
И ты тоже, думает девятилетняя Гейл, но не произносит этого вслух. Девочка знает о слабости матери вовсе не благодаря своим способностям – она научится управлять ими через четыре года, когда достигнет половой зрелости. Просто догадалась по спрятанному под полотенцами в ванной консервному ножу, по заплетающемуся языку по вечерам, хотя обычно мать отличалась четкой дикцией, и по голосам, доносящимся с первого этажа во время вечеринок, которые родители устраивают для своих новоявленных друзей.
По иронии судьбы, первым близким человеком, умершим после того, как Гейл осознала свои телепатические способности, был двоюродный дедушка Бадди. Она села на автобус и приехала в Чикаго, в больницу, где он умирал. Говорить старик не мог – ему вставили дыхательную трубку, которая пропускает воздух в изъеденные раком легкие, минуя изъеденное раком горло, – но Гейл сидит с ним шесть часов, когда время для посещений уже давно закончилось, держит его за руку и пытается передать Бадди свои мысли через колышущийся туман боли и наркотиков. Неизвестно, слышит ли он ее безмолвные послания, но сама Гейл ошеломлена пестрой мозаикой его грез и воспоминаний. Все они пронизаны чувством печали и утраты, сосредоточенным на его сестре Бини, которая была для дяди Бадди единственным другом в этом враждебном мире.
Дядя Бадди, – снова и снова мысленно обращается к нему девушка, – если это не горшок с дерьмом… небеса и все такое… отправь мне знак. Отправь мысль. Эксперимент волнует и пугает ее. Она не спит три ночи, жалея, что отправила эту мысль умирающему другу, и каждую ночь втайне надеясь, что к ней придет его призрак. Но и на четвертую ночь после смерти Бадди ничего не происходит – ни его хриплого шепота, ни тепла мыслей, ни ощущения его присутствия «где-то». Только тишина и пустота.
Тишина и пустота. Так Гейл представляет царство смерти всю оставшуюся жизнь, в том числе в те последние недели, когда не может скрыть своих мрачных мыслей от Джереми. Он не пытается разубедить ее, но делится с ней солнечным светом и надеждой, хотя почти не видит света и совсем не чувствует надежды.
Тишина и пустота. Вот что такое смерть в представлении Гейл.
А теперь и Джереми.
Где мертвецы порастеряли кости
Ванни Фуччи вывел Бремена на берег, а потом провел его через редкий лес на обочину дороги, где стоял белый «Кадиллак». Револьвер он опустил, но держал на виду. Открыв дверцу пассажирского сиденья, жестом приказал пленнику садиться в машину – тот не протестовал и ничего не говорил. Сквозь заросли кипарисов виднелся маленький магазин, где Норм-старший пил свою вторую чашку кофе, а Вердж сидел на стуле и курил трубку.
Фуччи проскользнул на водительское сиденье и повернул ключ зажигания. «Кадиллак» взревел и понесся по асфальту, оставив после себя облачко пыли и летящий из-под колес гравий. Дорога была пустой. Лучи восходящего солнца освещали верхушки деревьев и телеграфных столбов. Справа блестела вода. Гангстер пристроил револьвер у левой ноги на сиденье из мягкой кожи.
– Попробуешь вякнуть, – сказал он, – и я отстрелю твою долбаную башку.
Бремену и не хотелось разговаривать. Пока «Кадиллак» неспешно, со скоростью пятьдесят пять миль в час, двигался на восток, он откинулся на спинку сиденья и стал рассматривать меняющийся пейзаж в окне справа. Они покинули болота и лес и выехали на открытую местность, поросшую меч-травой и карликовыми соснами. Среди полей виднелись невзрачные фермерские дома, а у дороги попадались импровизированные прилавки – пустые, без людей и товара. Ванни Фуччи что-то пробормотал и включил радио; он нажимал кнопки до тех пор, пока не нашел станцию с нужной программой рок-н-ролла.
Проблема Джереми заключалась в том, что он ненавидел мелодраму. Просто не верил в нее. Из них двоих только Гейл получала удовольствие от книг, телевизора и фильмов; Бремену же изображаемые ситуации казались неправдоподобными и даже абсурдными, действия и персонажи – ненастоящими, а сама мелодрама – банальной до чрезвычайности. Время от времени он говорил, что жизнь человеческих существ вращается вокруг мелочей – вынести мусор, накрыть на стол, посмотреть телевизор, – а не вокруг автомобильных аварий и угроз оружием. Гейл кивала, улыбалась и в сотый раз повторяла: «Джереми, у тебя воображение как у дверной ручки».
Воображение у Бремена имелось, только он не любил мелодраму и не верил в построенные на ней выдуманные миры. И поэтому не очень верил в Ванни Фуччи, несмотря на то что мысли гангстера были достаточно определенными. Беспорядочными и взбудораженными, но определенными.
Очень жаль, подумал Бремен, что мозг людей не похож на компьютер, из которого можно извлекать информацию по своему усмотрению. «Чтение» мыслей напоминает скорее попытку разобрать торопливые каракули на клочках бумаги, разбросанных по бурному морю, чем на вывод строчек информации на терминал. Люди не думают о себе четкими фрагментами памяти, чтобы облегчить задачу телепатам, которые случайно натолкнутся на их мысли, – по крайней мере, те люди, которых встречал Джереми.
В частности, Ванни Фуччи, хотя Бремен без труда узнал его имя. Фуччи думал о себе в третьем лице, в абсолютно эгоцентричной и в то же время необычно отстраненной манере, словно жалкая жизнь гангстера была фильмом, который он только смотрел. Итак, Ванни Фуччи избавился от этого жалкого ублюдка – такой была первая мысль, которую Джереми прочел на острове. От одежды и волос Чико Тартугяна на поверхность все еще поднимались пузырьки воздуха.
Бремен закрыл глаза и сосредоточился. Они двигались на восток, потом на север, а потом снова на восток. Вероятно, он должен следить за направлением, хотя ему этого не хотелось. Он не любил мелодраму.
Мысли Ванни прыгали, как блохи на раскаленной сковородке. Он волновался, хотя вовсе не потому, что избавился от тела Чико, и не из-за того, что ему, возможно, придется пристрелить незнакомца. Просто он, Ванни Фуччи, не хотел убивать сам.
Фуччи был вором. Джереми уловил достаточное количество образов и фрагментов, чтобы понять разницу. За долгую карьеру в преступном мире – Бремен видел отражение Ванни в зеркале, с длинными бакенбардами и в нейлоновом спортивном костюме, какие носили в семидесятых, – Ванни Фуччи никогда не стрелял в человека, если не считать того случая, когда Донни Карплетто, так называемый партнер, пытался надуть его после ограбления ювелира в Глендейле и Фуччи отобрал у сопляка автоматический пистолет калибра.45 и прострелил ему коленную чашечку. Из его же пистолета. Но тогда Ванни разозлился. Это было непрофессионально. А он гордился своим профессионализмом…
Бремен заморгал, с трудом подавив приступ тошноты – от попытки прочесть эти обрывки среди бурного моря мыслей своего похитителя, – и снова закрыл глаза.
Джереми узнал больше, чем хотел, о последних десяти годах жизни гангстера. Он увидел глубокое и страстное желание Фуччи «войти в круг избранных», понял, что это значит для жалкого итальянского мафиозо, и покачал головой, осознав всю грязь и ничтожество его жизни. Подростком Ванни передавал сообщения для Хессо и продавал сигареты из краденых грузовиков Большого Эрни. Первая его работа – винный магазин в южной части Ньюарка – и медленное вхождение в круг крутых, сообразительных, но плохо образованных людей. Бремен уловил удовлетворение Фуччи, что его приняли эти люди, эти глупые, жалкие, жестокие, эгоистичные и заносчивые люди, а еще он узнал, что Ванни Фуччи всегда оставался верен себе. В конечном итоге Джереми увидел, что этот человек был верен только себе. Все остальные – Хессо, Карпецци, Тутти, Шварц, Дон Леони, Сэл и даже Шерил, нынешняя подруга Фуччи, – были разменной монетой. Такой же, по мнению Фуччи, как Чико Тартугян, владелец ночного клуба в Майами и жалкий червяк, которого он видел всего один раз, за ужином в клубе Дона Леони в Бруклине. На юге Ванни оказался по просьбе Дона Леони. Он не любил Майами и не любил самолеты.
Спусковой крючок нажал не Фуччи, а зять Дона Леони, Берт Каппи, двадцатишестилетний сопляк, считавший себя следующей инкарнацией Фрэнка Синатры. Тартугян нанял Каппи в качестве певца, чтобы сделать приятное Дону Леони, и держал парня, несмотря на жалобы клиентов и возражения барменов, хотя и знал, что Каппи – шпион. Чико продолжал присваивать часть поступлений с юга, надеясь, что желание Берта сделать музыкальную карьеру пересилит верность дяде.
Не пересилило. Бремен увидел, как Фуччи ждет в переулке, а Каппи отправляется поговорить с Чико Тартугяном после окончания последнего шоу. Три выстрела из револьвера калибра.22 прозвучали буднично и глухо, не оставив после себя эха. Ванни закурил сигарету, выждал минуту и вошел в дом с занавеской для душа и цепями. Парень поставил Тартугяна на колени в душевой кабине своей личной ванной – в точности выполнив указания Дона Леони. Все следы за тридцать секунд смывались проточной водой.
– Какого хрена ты тут делаешь, а? Какого хрена ты делаешь на этом долбаном болоте в такую долбаную рань? – спросил Фуччи Бремена.
Тот посмотрел на него.
– Рыбачу, – сказал он… или подумал, что сказал.
Ванни с отвращением покачал головой и включил музыку погромче.
– Долбаный лох.
Теперь они были в городе, размерами чуть больше нескольких деревень в Эверглейдс, мимо которых проезжали раньше, и Джереми пришлось закрыть глаза, защищаясь от волны чужих мыслей. Хуже всего были стоянки трейлеров, поселки из домов на колесах и кондоминиумы для пенсионеров. Здесь мысли пожилых людей обжигали израненное сознание Бремена – ему приходилось слушать, как за соседней дверью старик отхаркивает мокроту после сна.
Ни письма, ни телефонного звонка. Шони не позвонит, пока я жива…
Всего лишь маленькая шишечка, сказала Мардж. Сказала месяц назад. Всего лишь маленькая шишечка. А теперь ее нет, умерла. Всего лишь маленькая шишечка, сказала она. С кем я буду играть в маджонг?
Четверг. Сегодня четверг. В четверг в культурном центре играют в пинокль.
Не обязательно слова, а зачастую просто образы, передававшие тревоги, печали и угрюмость старости, немощь и одиночество – все это обрушилось на Бремена, пока «Кадиллак» медленно двигался по широкому шоссе. Четверг, как узнал Джереми, был днем пинокля в большинстве трейлерных стоянок и кондоминиумов этого города, а также следующего, через который они проезжали. Но всем этим людям предстоит пережить долгие дневные часы и липкую флоридскую жару, прежде чем опустится вечерняя прохлада и они окажутся в комфорте и безопасности культурного центра. В тысячах домов на колесах и кондоминиумов мерцали экраны телевизоров и гудели кондиционеры – пенсионеры и инвалиды устраивали поудобнее свои старые кости и ждали, пока спадет дневная жара и они смогут провести еще один день в кругу друзей.
Бремен увидел в мыслях Ванни Фуччи внезапную, ничем не спровоцированную вспышку – вор разозлился на Бога. Ужасно разозлился на Бога.
В тот долбаный день, когда Нико…
Его младший брат, увидел Джереми, с такими же темными волосами и карими глазами, только красивее и мягче.
В тот долбаный день, когда Нико принимает постриг, я забираюсь в эту долбаную церковь Святой Марии и краду эту долбаную чашу для причастия. Ту самую чашу, которую я подавал отцу Доменико, когда был долбаным служкой. Ту же самую долбаную чашу. Никому она не нужна. Никто не хочет прикасаться к этой долбаной штуке. Долбаные психи, так их… Нико принимает свой долбаный постриг, а я брожу по долбаным улицам Атлантик-Сити с этой долбаной чашей в спортивной сумке. Никому не нужна эта долбаная штуковина. Образ плачущего Ванни Фуччи, бросающего чашу в затопленное приливом болото позади череды казино. Руки его протянуты к небу, кулаки сжаты, большие пальцы просунуты между средними и указательными. Фига… fica… Бремен понял. Ванни показывал Богу кукиш – самый неприличный жест, известный в то время юному вору.
Будь ты проклят, Бог. Пропади ты пропадом, грязный старикашка.
Джереми заморгал и тряхнул головой, пытаясь избавиться от нейрошума, идущего со стоянки трейлеров, мимо которой они проезжали. Не похоже, что Ванни Фуччи намерен его убить. Пока. Фуччи не хотел осложнений и уже жалел, что не оставил ошалевшего ублюдка на острове. Или не взял с собой Окурка. Окурок завалил бы этого чокнутого прямо с лодки и даже не оглянулся бы.
Бремен стал придумывать хитрый план. Используя то, что он уже знает, можно завести разговор с Ванни, сказать, что его, Джереми, тоже прислал Дон Леони, которому просто требовалось подтверждение, что дело сделано. Бремен представил, как отвечает на вопросы похитителя. Окурок? Да, конечно, он знает этого психованного ублюдка, коротышку Педро Рикана. Помнит ту ночь, когда Окурок расправился с братьями Арманци, – старшим, с пластиковым протезом вместо ноги, потерянной на Второй мировой, и тощим младшим в его блестящем синтетическом костюме. Ему даже не понадобился пистолет или нож – только свинцовая труба, которую он возил в багажнике. Окурок встретился с братьями Арманци, привез в Бронкс, зашел сзади и расколол им черепа, прямо на глазах той польской бабушки с жирными белым лицом, черным шарфом и пластиковым пакетом, из которого на мокрый тротуар посыпались долбаные апельсины…
Бремен покачал головой. Нет, он этого не сделает.
Они миновали цепочку озер, и теперь их окружали ранчо, где за пасущимися стадами шагали белые цапли, выискивая насекомых, потревоженных коровьими копытами. Внезапно Ванни Фуччи остановился у придорожной телефонной будки, поднял пистолет на уровень глаз пленника и тихо сказал:
– Только попробуй выйти из машины – клянусь богом, пристрелю на месте. Понял?
Джереми кивнул.
Разговор он не слышал, но без труда читал мысли гангстера. Люди обычно сосредотачиваются на речи, когда говорят по телефону.
Послушай, я не собираюсь приканчивать этого жалкого ублюдка прямо здесь. Это не мое дело, черт возьми…
Да, я знаю, что он меня видел, но это не мое долбаное дело. Это проблема Каппи и Леони, и я не собираюсь из-за какого-то долбаного рыбака…
Да… нет… нет, он не проблема. Просто какой-то чокнутый. Думаю, дебил или что-то вроде того. На нем долбаные штаны, слишком короткие, долбаная рубашка-сафари и долбаные модельные туфли, как будто один дебил одевал другого.
Бремен заморгал и посмотрел на свою одежду. Рабочие брюки и рубашка защитного цвета, купленные три дня назад в магазинчике Норма-старшего. Брюки действительно были короткими, а модельные туфли покрылись слоем пыли и грязи. Джереми похлопал себя по карманам, но рулон купюр – основная часть из 3865 долларов, которые он снял со сберегательного счета – остался в кармане пиджака, брошенного на стул в крошечной спальне рыбацкой хижины. Потом Бремен вспомнил, что переложил несколько двадцаток и, возможно, одну или две пятидесятки в бумажник, когда покупал продукты, но не стал проверять, сколько там денег. Он чувствовал выпуклость бумажника под ягодицей, и пока этого было достаточно.
Да, я приеду на эту долбаную встречу вовремя, но привезу дебила с собой. Пусть… Эй, не перебивай меня, твою мать!.. Пусть Сэл знает, что этот ублюдок – их забота. Понял?.. Нет, погоди. Я спрашиваю, ты меня понял? Ладно, ладно. Тогда увидимся через час или два. Да.
Ванни Фуччи со стуком опустил трубку на рычаг и пошел вдоль края шоссе, пиная гравий и стискивая кулаки. Его белый костюм запылился. Потом Фуччи повернулся и посмотрел на Бремена через лобовое стекло. Его черная шелковая рубашка и набриолиненные волосы блестели под лучами солнца.
Прикончи его сейчас. Прямо сейчас. Ни долбаных машин. Ни долбаных домов. Просто прикончи его здесь – и дело с концом.
Джереми скосил взгляд на замок зажигания, хотя и так знал, что гангстер взял ключи с собой. Можно выкатиться из машины и побежать в поле, надеясь, что он оторвется от Фуччи, а дальность стрельбы из револьвера… Надеясь, что на дороге появится машина и Ванни прекратит погоню. Бандит курил, а Бремен – нет… Пленник взялся за ручку дверцы и приготовился.
Черт, черт, черт! Ванни Фуччи принял решение. Он подошел к дверце водителя, сел, сжал пальцами рукоятку заткнутого за пояс револьвера и в упор посмотрел на Джереми.
– Сделаешь какую-нибудь глупость, скажешь кому-нибудь, куда мы едем, – и клянусь, я пристрелю тебя прямо на глазах у всех. Понял?
Бремен молча смотрел на него. Ладонь сползла с ручки двери.
Ванни повернул ключ зажигания, и «Кадиллак», взвизгнув шинами, выехал на дорогу. Проезжавший грузовик громко просигналил. Бандит левой рукой показал водителю неприличный жест.
Они проехали десять миль на север по шоссе 27, а затем поднялись по эстакаде на автомагистраль 4, направляясь на северо-восток.
В мешанине мыслей Фуччи Джереми выловил пункт назначения – и не смог сдержать улыбки.
Глаза
Вместо свадебного путешествия Джереми и Гейл отправляются в поход – на байдарке и пешком.
Никто из них раньше не ходил в туристические походы и не плавал на байдарке. Но на первый вариант – Мауи – у них нет денег. И на второй – Париж – тоже. Не хватает даже на восьмой вариант – мотель в Бостоне. Поэтому в ясный августовский день, через несколько часов после свадебного обеда в саду их любимой деревенской таверны, Джереми и Гейл прощаются с друзьями и едут на северо-запад, к горам Адирондак.
Туристические лагеря есть и поближе: по пути к горам Адирондак они проезжают Блу-Маунтинс с несколькими национальными парками и заповедными лесами, но Джереми недавно прочел статью об Адирондакских горах и хочет туда.
У их «Фольксвагена» барахлит мотор… всегда барахлил… и после ремонта машины в Бингемтоне, штат Нью-Йорк, они уже потратили лишние восемьдесят пять долларов и отстают от графика на четыре часа. Ту ночь пара провела в национальном парке на озере Гилберт, между Бингемтоном и Ютикой.
Идет дождь. Лагерь маленький и тесный – свободным осталось одно-единственное место рядом с туалетом. Джереми ставит под дождем двадцатичетырехдолларовую нейлоновую палатку и идет к грилю, чтобы посмотреть, как Гейл справляется с ужином. Она использует свое пончо вместо брезента, защищая от дождя те несколько веток, которые им удалось собрать, но «костер» все равно состоит из горящей газеты и дымящего сырого дерева.
– Нужно было поесть в Онеонте, – говорит Бремен, щурясь от дыма. Еще нет восьми, но дневной свет уже растворился в серых облаках. Похоже, дождь нисколько не мешает комарам, которые с жужжанием залетают под пончо. Джереми пытается раздуть огонь, Гейл отмахивается от комаров.
Молодожены ужинают чуть теплыми хот-догами в мокрой булке, стоя на коленях в палатке, признать поражение и укрыться в относительной роскоши салона автомобиля они отказываются.
– Я все равно не голодна, – лжет Гейл. Бремен видит, что она лжет, а она видит, что он это видит.
Он также видит, что она хочет заняться любовью.
В девять вечера они уже забираются в два соединенных спальных мешка, хотя дождь к этому времени прекратился и туристы по обе стороны от их палатки высыпают из своих домов на колесах, включают радиоприемники на полную громкость и принимаются готовить поздний ужин. Запах жарящегося на углях стейка доходит до Бременов, увлеченных ласками, и они смеются: каждый из них чувствует, что партнер отвлекается.
Джереми прижимается щекой к животу Гейл и шепчет:
– Думаешь, они с нами поделятся, если сказать им, что мы новобрачные?
Голодные новобрачные. Гейл ерошит его волосы.
Джереми целует нежную округлость ее живота. Ну, ладно… легкое чувство голода еще никому не повредило.
Гейл хихикает, а потом умолкает и делает глубокий вдох. Дождь возобновляется, слабо, но настойчиво барабанит по нейлону палатки, отгоняя насекомых, шум и запах еды. Какое-то время во всей Вселенной нет ничего, кроме тела Гейл, тела Джереми… а потом их общего тела, не принадлежащего никому.
Они и раньше занимались любовью… в ту первую ночь после вечеринки Чака Гилпена… но это все так же странно и чудесно, и в тот вечер, в палатке под дождем, Джереми по-настоящему перестает быть собой, и Гейл перестает быть собой, и их мысли соединяются и смешиваются так же, как и тела. Потом, после вечности растворения друг в друге, Джереми чувствует нарастающий оргазм Гейл и переживает его, как свой, а Гейл взлетает на вздымающейся волне его кульминации, такой непохожей на ее собственную, но тоже разделяемой ею. Они вместе достигают вершины, и на мгновение Гейл кажется, что она со всех сторон окружена телом своего любимого. Он постепенно расслабляется, а она удерживает его руками и ногами.
Наконец они откатываются друг от друга на примятых спальных мешках. Воздух в палатке влажный от их дыхания и пота. Снаружи уже совсем темно. Гейл расстегивает клапан, и они высовываются из палатки под мелкую морось, чувствуя капли дождя на лице и груди, вдыхая прохладный воздух и ловя ртом небесную влагу.
Теперь Бремены не читают мысли друг друга, не проникают друг другу в сознание – они просто стали друг другом, мгновенно разделяя каждую мысль и каждое ощущение. Хотя нет, это описание не совсем точное: отдельных его и ее просто не существует, и осознание себя приходит к ним постепенно, подобно тому, как медленно отступает утренний прилив, оставляя после себя артефакты на мокром берегу.
Охладившись и освежившись под дождем, они снова ныряют в палатку, вытирают друг друга пушистыми полотенцами и устраиваются в спальниках между слоями гусиного пуха. Гейл кладет голову на плечо Джереми, а его ладонь удобно ложится на ее поясницу, словно это место всегда было предназначено для его рук.
Они идеально дополняют друг друга.
На следующий день Джереми и Гейл завтракают в Ютике и снова едут на север, в горы. В Олд-Фордж они арендуют байдарку и исследуют цепочку озер, о которой читал Джереми. Озера застроены гораздо сильнее, чем он предполагал, и от домов на берегу доносится шипение и потрескивание нейрошума, но молодожены находят безлюдные острова и песчаные косы для трех ночевок, перемещаясь между озерами на веслах и волоком. Правда, на пятый день двухдневный ливень и переправа волоком длиной в две с половиной мили прогоняют их с Лонг-Лейк.
Гейл и Джереми находят таксофон и возвращаются в Олд-Фордж с бородатым молодым человеком из фирмы проката байдарок. Потом усаживаются в свой фыркающий «Фольксваген» и углубляются в горы, сделав семидесятимильный крюк к озеру Сарама и деревне в Кин-Вэлли. Здесь Джереми покупает путеводитель с пешеходным маршрутом, они впервые надевают рюкзаки и через лес идут к месту под названием Биг-Слайд.
Путеводитель сообщает, что продолжительность маршрута составляет всего 3,85 мили по тропе средней сложности под названием «Братья», но слово «средний» тут явно не подходит, поскольку тропа ведет их прямо на скалы, мимо водопадов, через гребни и небольшие вершины. Вскоре Джереми понимает, что «3,85 мили» – это напрямую, если измерять с самолета. Кроме того, он признает, что рюкзаки получились слишком тяжелые. Гейл предлагает выбросить мешок с древесным углем и вторую упаковку пива, но ее муж избавляется от нескольких пакетов смеси сухофруктов и орехов, настаивая на необходимости сохранить все, что нужно для цивилизованного путешествия.
На отметке 2,2 мили они проходят мимо красивой березовой рощи и взбираются на «Третьего брата», низкую вершину, едва возвышающуюся над безбрежным морем листвы. Отсюда им виден конечный пункт – гора Биг-Слайд, и Бремены улыбаются друг другу, хватая ртом воздух.
– Нам туда? – с трудом выговаривает Гейл.
Джереми кивает – дыхание у него еще не восстановилось.
– Может, просто сфотографируем и скажем, что были там? – предлагает она.
Он качает головой и со стоном надевает рюкзак. Примерно полмили пара спускается в седловину. Тропа петляет, иногда возвращаясь назад, но чаще просто спускается по скалам или крутым склонам. Прямо под вершиной Биг-Слайд последний участок тропы заканчивается, и последние три десятых мили, похоже, ведут прямо вверх.
Бремен понимает, что добрался до вершины, лишь когда обнаруживает, что не видит перед собой скал – только воздух. Он ложится на спину, прямо на рюкзак, раскинув руки и ноги. Гейл предусмотрительно снимает рюкзак, прежде чем упасть ему на живот.
Они лежат так минут пятнадцать, показывая друг другу необычные облака и парящих в небе ястребов, пока дыхание не восстанавливается и они вновь не обретают способность говорить, хотя бы шепотом. Почувствовав легкий бриз, Гейл садится, и Джереми видит, как ветер ерошит ее короткие волосы, и думает: Я этого никогда не забуду. Гейл улыбается в ответ, видя свое отражение в его мыслях.
Бремены ставят палатку у южного края площадки среди искривленных от ветра деревьев под нависающим козырьком, но подстилки из пенопласта и спальные мешки кладут на краю обрыва. Костер из древесного угля они разводят в естественном углублении в скале неподалеку от линии деревьев – решетка гриля прекрасно подходит по размеру. Гейл извлекает из маленького переносного холодильника стейки, Джереми достает две банки холодного пива и открывает их. Его жена уже положила на угли завернутые в фольгу кукурузные початки, и теперь Бремен наблюдает, как она накрывает на стол: выкладывает на две тарелки свежий редис, салат и картофельные чипсы, а потом вытаскивает из рюкзака двойной пакет, завернутый в полотенца, и осторожно достает из него два бокала и бутылку «Каберне совиньон» с виноградников Болье-Вайнъярдс. Вино она ставит охлаждаться к остальным банкам пива.
Они ужинают, когда летний день уже клонится к вечеру, – сидя на самом краю площадки и свесив ноги в пропасть. Над их головами бегут облака, и западная часть неба сияет розовыми и лиловыми красками. Уступ, на котором они сидят, тянется вдоль южного склона горы, и молодые супруги наблюдают, как сумерки постепенно превращаются в ночь. Стейков много, и они едят медленно, часто наполняя бокалы. Гейл захватила с собой два больших куска шоколадного торта – десерт.
Когда они убирают решетку для гриля и бросают бумажные тарелки в пакеты для мусора, поднимается ночной ветер. Джереми не хочет разводить костер и скидывает потухшие угли в расщелину в скале, стараясь оставить как можно меньше следов своего пребывания здесь. Надев куртки с шерстяной подкладкой, Бремены чистят зубы и удаляются в туалет, устроенный среди деревьев у северного края площадки, но когда на небе появляются звезды, они уже лежат в спальных мешках у южного склона.
Все правильно. Поначалу они не могут понять, кому первому пришла в голову эта мысль. На юг, насколько хватает взгляд, тянутся лес, горы и темнеющее небо. Ни огни автострад, ни светящиеся окна домов не тревожат лиловые сумерки долины – видны лишь несколько костров, разведенных туристами. Проходит еще несколько минут, и небо становится светлее, чем долина, – небесный купол над головами заполняется звездами. Без городских огней звезды кажутся очень яркими.
Два спальных мешка соединены, но свободного места внутри все равно мало. Стянув с себя одежду, Джереми и Гейл складывают ее аккуратными стопочками и подсовывают под ноги спальных мешков, чтобы усиливающийся ночной ветер не унес белье, а потом ныряют в спальники с головой и обнимаются – гладкие тела и теплое дыхание, – оставляя холодный ветер снаружи. Сегодня их любовь медленная и очень нежная, и они доводят друг друга до экстаза, которого никогда прежде не испытывали.
Всегда. – Джереми понимает, что теперь это мысль Гейл.
Всегда, – то ли шепчет, то ли просто думает он в ответ.
Согревшиеся и защищенные от ветра, они глубже зарываются в спальники, а звезды над их головой вспыхивают ярче, словно транслируя одобрение Вселенной.
В сумрачном царстве
Они оставили машину в ряду с надписью GRUMPY и сели в длинный прицепной вагончик, доставивший их к воротам парка. Ванни Фуччи снял свой белый пиджак и перебросил его через руку, спрятав под ним револьвер калибра.38.
– Только попробуй рыпнуться, – тихо сказал он Бремену, пока они ждали вагончик, – и я пристрелю тебя прямо на месте. Клянусь долбаным Христом, пристрелю.
Джереми посмотрел на вора, чувствуя, как решимость борется в нем с раздражением.
Ванни принял его взгляд за недоверие.
– Не веришь, что я прикончу тебя прямо здесь, на этой долбаной парковке, и буду в долбаной Джорджии еще до того, как кто-то поймет, что тебя пристрелили?
– Я тебе верю, – сказал Бремен, чувствуя возбуждение бандита. В убийстве на людях, особенно здесь, для Ванни Фуччи было что-то притягательное, хотя он предпочел бы поручить это чокнутому Берту Капи или своему приятелю, такому же чокнутому Эрни Санза. Неважно, кто это сделает, – он сам, Берт или Эрни, – но это будет чертовски круто… прикончить этого парня прямо здесь.
Приехал вагончик, и Джереми с Фуччи сели в него. Ствол револьвера, закрытый пиджаком, упирался в бок пленника. Во время короткого путешествия к воротам парка Бремен смог выудить из сознания похитителя подробности его плана.
Встречу, на которую они ехали, назначили по другой причине. Собственно, это была встреча между главным человеком Дона Леони на данной территории, Сэлом Эмполи – Берт и Эни выступали в качестве поддержки, – и какими-то чокнутыми долбаными колумбийцами… Именно так Ванни Фуччи каждый раз думал о них: чокнутыми долбаными колумбийцами… Портфель с деньгами Дона Леони должны были обменять на портфель с первоклассной дурью этих чокнутых долбаных колумбийцев, чтобы распространять среди ниггеров на севере, на территории Фуччи. Уже несколько лет они производили обмен в парке «Мир Уолта Диснея».
Сэл займется этим долбаным придурком. Не волноваться, не дергаться и не суетиться.
– Плати за себя сам, – прошептал Ванни, купив билет и ткнув Бремена под ребра.
Джереми порылся в карманах. Три дня назад он сунул в них несколько пятидесяток. Шесть штук, если быть точным. Он протянул одну купюру в окошко, объяснил, что ему нужен только входной билет на день, и подождал сдачи, которой оказалось меньше, чем он ожидал.
Вор вел его сквозь толпу, одной рукой держа под локоть, а другую пряча под пиджаком. С точки зрения Бремена, они выглядели очень подозрительно, но никто не обращал на них внимания.
Пленник почти не отреагировал, когда Ванни Фуччи привел его к монорельсовой дороге, тянувшейся мимо лагун к далекому скоплению зданий и лесу из шпилей, среди которых высилась как минимум одна искусственная гора. Вагончик монорельса остановился, и гангстер, подняв Бремена на ноги, вытолкнул его наружу, после чего они стали пробираться сквозь толпу, которая становилась все многолюднее. Нейрошум вокруг Джереми сначала усилился от шепота до крика, а затем превратился в непрерывный рев. Причем это был особенный, странный рев, отличавшийся от обычного нейрошума, как звук Ниагарского водопада отличается от звука водопада поменьше. Особенностью его была всеобщая и какая-то лихорадочная тоска, такая же всепроникающая и сильная, как запах разлагающейся плоти.
Бремен покачнулся, прижал ладони к вискам и закрыл уши в тщетной попытке блокировать волны безмолвного звука, безмолвной речи. Ванни Фуччи подтолкнул его дальше.
Я представлял это совсем не так… Стоило ждать тридцать пять лет… Совсем не то, на что я надеялся…
Столько еще нужно посмотреть! Столько мест посетить! Не хватает времени! Всегда не хватает времени! Поторопитесь… Поторопи их, Сара. Быстрее!
Ну, это для детей. Для малышей. Но проклятые дети половину времени истерят, а вторую половину впадают в оцепенение, как чертовы зомби… Скорее! Поторопись, Том, а то мы окажемся в хвосте очереди…
Бремен закрыл глаза и позволил Ванни Фуччи вести его сквозь толпу, а чужое разочарование волнами накатывало на него, словно морской прибой. Ему казалось, что все накопившееся в парке нетерпение… желание веселиться, веселиться, черт возьми!.. обрушилось на него, как тяжелые волны на узком пляже.
– Открой глаза, ублюдок, – прошептал Фуччи на ухо Джереми, еще сильнее вдавив ствол револьвера ему в бок.
Бремен открыл глаза, но все равно ничего не видел – такой сильной была боль от нейрошума… настойчивого, лихорадочного, идущего отовсюду, раздраженного (Поторопись, а то мы окажемся в конце очереди!) желания получить удовольствия любой ценой. Джереми хватал воздух открытым ртом и изо всех сил боролся с тошнотой.
Похититель подгонял его. Сэл, Берт и Эрни должны были уже встретиться с чокнутыми долбаными колумбийцами, а от Ванни требовалось доставить придурка к «Космической горе». Вот только Фуччи не был на сто процентов уверен, что знает, где находится эта «Космическая гора» – обмен обычно происходил на аттракционе «Путешествие по джунглям», и в прошлые визиты сюда он направлялся прямо в «Страну приключений». Брал у Сэла портфель и шел к монорельсу. Фуччи не знал, почему Сэл сменил долбаное место встречи на долбаную «Космическую гору», но знал, что она находится в долбаной «Стране будущего».
Ванни попытался сориентироваться. Ладно, мы на долбаной главной аллее, рядом с детством нашего дорогого мертвого Уолта. Точно… это просто предмет детских мечтаний. Долбаный предмет мечтаний. Ни одна главная улица города никогда не выглядела так, как это долбаное место. Там, где я вырос, на главной улице были долбаные фабрики, долбаные франшизы и долбаные «Меркурии» 57-го года на долбаных чурбаках, потому что их долбаные шины прокалывали долбаные ниггеры…
Ладно, мы теперь на долбаной главной аллее. Этот долбаный замок на севере. Долбаный указатель говорит, что долбаная «Страна будущего» где-то позади замка. Как попасть из «Страны мечты» в долбаную «Страну будущего»? Могли бы нарисовать долбаную схему или еще что-нибудь!
Фуччи обошел большой заˊмок из стекловолокна, заметил справа космический корабль и какое-то футуристическое дерьмо, и подтолкнул Бремена в том направлении. Минут через пять они с придурком доберутся до Сэла и парней.
Джереми остановился. Они были в «Стране будущего», в тени немного старомодного сооружения, в котором находились американские горки «Космическая гора». Бремен замер.
– Шевелись, сукин сын! – прошипел бандит и вдавил ему в ребра револьвер.
Пленник заморгал, но не сдвинулся с места. Он не собирался бросать вызов Ванни Фуччи – просто больше не мог сосредоточиться на нем. Неудержимый натиск нейрошума ошеломил его, и он перестал быть собой, словно растворился в лавине чужих мыслей.
– Шевелись! – Голос Ванни достиг ушей Бремена, после чего послышался тихий щелчок взводимого курка. Последней отчетливой мыслью Джереми было: Мне не суждено умереть здесь. Дорога ведет вниз.
Бремен отошел от гангстера. Теперь он смотрел на себя глазами женщины средних лет.
Вор чертыхнулся и снова прикрыл револьвер пиджаком.
Бремен продолжал пятиться.
– Я, блин, не шучу! – крикнул Фуччи и, похоже, поднял обе руки под пиджаком.
