Как жить в эпоху Тюдоров. Повседневная реальность в Англии ХVI века
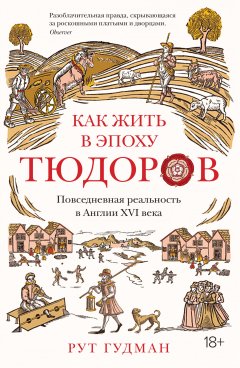
Ruth Goodman
HOW TO BE A TUDOR
Впервые опубликовано в Великобритании в 2015 году издательством Penguin Books Ltd, London
Научный редактор: В. А. Таубер, кандидат исторических наук
© Ruth Goodman, 2015
© Белимова А. А., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021
КоЛибри®
Беспрецедентное исследование и бесконечно увлекательный рассказ о том, какой была повседневная жизнь в эпоху Тюдоров. Повествование богато красочными деталями того периода и основано на тщательном анализе первоисточников. Уникальность книги состоит в том, что автор на практике попробовала многое из того, о чем пишет. Ослепительное воплощение в жизнь всех тонкостей эпохи.
Трейси Борман, историк, куратор организации «Исторические королевские дворцы»
Настоящее откровение о жизни обычных людей, живших в эпоху Тюдоров.
New York Times Book Review
Предисловие
Последние двадцать пять лет я исследовала трудности повседневной жизни эпохи Тюдоров. Конечно, мне интересны и другие исторические периоды, но по-настоящему мое сердце принадлежит середине правления Елизаветы I. С одной стороны, меня восхищает «инаковость» мышления эпохи Тюдоров, с другой — занимают его отголоски, проникшие в современную жизнь: от поверья, наделяющего рыжеволосых людей горячим нравом, до порядка приема пищи, когда сначала подаются закуски, а затем основные блюда и десерты. Возможность написать об этом времени и поделиться своей любовью к XVI веку была удовольствием, сравнимым, пожалуй, с чувством, когда решаешь ни в чем себе не отказывать, зайдя в кондитерскую.
Эпоха Тюдоров — сложное время, ознаменованное несколькими значительными поворотами в британской истории. В одной книге не уместишь рассказ обо всех прожитых тогда жизнях, так что, безусловно, это скорее набор кадров из повседневной жизни отдельных людей в определенный период. Моя книга стала итогом стремления понять быт, мысли и заботы современников эпохи Тюдоров.
Когда в 1485 году на престол вступил Генрих Тюдор, в Англии проживало меньше 2 миллионов человек, а в Уэльсе — еще около полумиллиона (точных данных по Шотландии и Ирландии нет). К моменту смерти его внучки Елизаветы I в 1603 году совокупное население Англии и Уэльса выросло вдвое, достигнув около 4 миллионов человек. Свыше 90 % из них проживали в сельской местности. Лондон в начале эпохи едва ли мог похвастаться населением более 50 тысяч человек, но к ее концу население его выросло вчетверо и достигло 200 тысяч. При этом лондонцы всегда составляли примерно половину всех городских жителей страны. Небольшое, но энергичное население столицы станет движущей силой английской культуры, а его идеи и образ жизни повлияют на последующую историю не только Британии, но и всего мира.
В этой книге я использовала термин «Британия» в качестве культурного концепта, а не политической реалии. Шотландия тогда была независимой; Уэльс на протяжении всей эпохи находился под контролем Англии, но формально две страны объединились только в 1536 году; а английская власть над Ирландией была удаленной, неполной и в целом неоднозначной. В политическом смысле лишь об Англии и Уэльсе разумнее говорить как о настоящем силовом блоке[1], а когда начинаешь изучать сохранившиеся свидетельства, возникает соблазн ограничиться одной лишь Англией, или даже Южной Англией, откуда происходит большая часть дошедших до нас сведений. Тем не менее я чувствую, что большая части Уэльса и, по крайней мере, некоторые области Ирландии и, без сомнения, Шотландия были связаны с Англией культурными связями, а образ жизни был очень схожим, так что писать только об Англии было бы неправильно.
Жизнь сельского общества, которое составляло большую часть населения, была организована в соответствии с типом землевладения. На вершине находилась аристократия. Ее составляли обладатели титулов пэров королевства. Они владели большими поместьями, в домохозяйствах которых могли проживать до 150 человек, и периодически перемещались между своими сельскими резиденциями и городским домом в Лондоне. Они вели светскую жизнь, обладали политической силой и властью. Ниже по статусу располагались джентри, чьи владения обычно были меньше и концентрировались в одном регионе. Официально джентльменами были те, кто имел право на родовой герб. Однако на практике джентри считали всех, кто жил в соответствии с общепринятыми стандартами: не занимался производительным трудом, владел землей и сдавал ее в аренду другим людям, содержал дом надлежащего размера, носил подобающую одежду и развлекался в надлежащей манере. Те, кого соседи называли джентльменами, могли похвастаться домом из шести или более комнат и несколькими слугами, занятыми домашними хлопотами. Они одевались в лучшие шерстяные сукна, отделанные шелком и мехами, на обед им подавали три-четыре мясных блюда, они обладали властью над местным сообществом и стремились занимать государственные должности.
Куда более многочисленной группой были йомены. Часто они арендовали землю у тех, кто был выше их по положению, хотя у многих были и свои наделы, которые они возделывали самостоятельно. Некоторые из них были зажиточнее джентри, но их образ жизни был неразрывно связан с земледелием. Большая часть их слуг была занята не домашним трудом или личными поручениями, а помогала на фермах пахать землю и ухаживать за скотом. Некоторые йомены занимали низшие должности вроде церковного старосты или констебля, но чаще всего они были зажиточными фермерами. У них были дома из четырех-пяти комнат, они носили добротную шерстяную одежду и питались просто, но обильно.
Ниже по статусу располагались крестьяне (husbandmen), арендовавшие и возделывавшие куда меньшие наделы. Жилища их, как правило, состояли из двух комнат, а большая часть домашних хлопот лежала на членах их семей. Эта самая многочисленная социальная группа не могла позволить себе особенной роскоши.
Ниже их находились безземельные работники, которые были вынуждены наниматься на поденную работу к своим более зажиточным соседям. На протяжении интересующей нас эпохи их число постепенно росло: крестьянам было все труднее сохранять независимые наделы, и они пополняли ряды батраков. Их положение было шатким. Обычно они жили в однокомнатных домах, а их рацион в основном состоял из хлеба.
В среде крошечного городского населения иерархия была несколько иной. На верхних ее ярусах располагались купцы, занятые в международной торговле. Они занимали посты мэров, жили в больших, хорошо обставленных городских домах с множеством прислуги и иногда были на короткой ноге с землевладельческой элитой. Уровнем ниже находились прочие купцы, нанимающие учеников и слуг и ведущие чуть менее комфортный образ жизни, схожий с тем, что вели йомены. Еще ниже стояли ремесленники, которым помогали в работе подмастерья и члены семьи. В их домах, помимо мастерской, обычно была только одна или две комнаты. И совершенно так же, как и в сельской местности, внизу этой пирамиды находились поденные работники.
Экономика эпохи Тюдоров была в общем и целом денежной, и натуральный обмен был примерно так же мало распространен, как и в наше время, но за деньги приобретались совершенно другие товары. В домохозяйствах XXI века расходы на продукты питания обычно составляют около 17 % от общего дохода, однако во время Тюдоров на еду приходилась большая часть, или около 80 %, расходов. Чтобы понять, что означали деньги для ремесленника, мечтающего о новом плаще, лучше мыслить в категориях располагаемого дохода, который остается после того, как семья накормлена, а рента уплачена. Чтобы решить, покупать ли эль, сварить его самостоятельно или довольствоваться водой, жене крестьянина надо было сопоставить расходы. Разница между ними решала исход дела. В начале нашей эпохи квалифицированный мужчина мог зарабатывать на работе 4 пенса в день, а женщина — лишь половину этой суммы. К концу эпохи плата за квалифицированный труд обычно составляла уже 6 пенсов. Эти суммы — базовый уровень выживания маленькой семьи, постоянно занятой трудом. Этого достаточно, чтобы обеспечить себя незамысловатой дешевой едой и немногим более. Цены и средства можно измерять в сравнении именно с этим прожиточным уровнем.
Таковой была структура, в которой людям нужно было выживать и искать свое место.
Элите эпохи Тюдоров посвящено немало книг и исследований. Жизнь этих влиятельных людей хорошо отражена в источниках. Меня же всегда больше интересовали более скромные слои общества. Будучи вполне обыкновенным человеком, которому нужно есть и спать, я всегда хотела знать, как люди жили день ото дня, какими средствами располагали, какими навыками им нужно было овладеть и как они себя при этом чувствовали.
Двадцать пять лет назад я не смогла отыскать книгу, которая поведала бы мне об этих вещах, и даже сейчас, когда социальная история занимает академических историков куда сильнее, чем раньше, сведений по-прежнему ничтожно мало. Я решила самостоятельно в этом разобраться: искала рецепты той эпохи и пробовала по ним готовить, училась разводить костер и свежевать кроликов, стояла на одной ноге с учебником по танцам в руках, пытаясь понять, каким должен быть следующий шаг. Чем больше я в это погружалась, тем больше сведений я находила в текстах, которые изучала. Те моменты, которые я раньше упускала, читая, как говорится, по диагонали, при ближайшем рассмотрении оказывались довольно важными, вызывали еще больше вопросов и побуждали исследовать вопрос дальше. Многие выводы о жизни в эпоху Тюдоров, повторяющиеся из раза в раз в самых авторитетных работах, оказались чистой воды фантазиями.
Возьмем для примера утверждение, что в эпоху Тюдоров пищу щедро сдабривали специями, чтобы перебить вкус плохого мяса. К счастью, сейчас никто не повторяет его как факт, однако много лет оно появлялось в учебных материалах и даже в преамбулах к работам некоторых самых уважаемых историков. Если немного подумать об этом и вспомнить случаи из собственной жизни, быстро станет понятно, что ничто не может замаскировать вкус испорченного мяса, что специи были куда дороже нового свежего куска мяса, а от гнилого мяса тошнит вне зависимости от его вкуса. Если расхожее мнение неверно и пища не была щедро сдобрена специями для маскировки вкуса, то была ли она вообще пряной? Эти размышления побудили меня вернуться к декларациям учета ввозимых товаров, чтобы понять, как много специй доставляли в страну. А по немногим сохранившимся домашним счетам я могла посмотреть, сколько специй покупалось. Я снова просмотрела цены и размеры зарплат и стала с большим недоверием относиться к книгам рецептов и часто повторяемым истинам. Эти записи явно не отражали повседневный рацион. Скорее это было питание мечты той эпохи — в этих кулинарных книгах содержались рецепты самых роскошных, вожделенных и модных блюд. Чтобы узнать, что ели люди, как готовили пищу, какой у нее был вкус, нужно было копать глубже.
Меня все больше затягивала паутина жизни, то, как все в ней связано, как взаимодействовали физический мир, идеи, верования и практика. С какой стати, например, кому-то считать, что привязанная к ступням селедка — лекарство от бессонницы? Прибегали ли к этому средству на самом деле, работало ли оно? Я поняла, что меня заинтересовал сам образ жизни той эпохи, поэтому книга представляет собой описание типичного дня человека тюдоровского времени. Она касается разных деталей, обыденных вещей, которые нам кажутся такими необычными.
Завещания и описи имущества[2] служат незаменимыми помощниками в охоте за сведениями о повседневных заботах, пусть это и не самый надежный исторический источник — они редко включают информацию о низших слоях населения и практически ничего не говорят о женщинах. Однако благодаря им можно получить представление о том, что было тогда обыденным. Они показывают отличия в образе жизни различных социальных групп в разных географических регионах. Иногда в них можно найти беглые намеки на мысли и чувства людей и информацию о семейных отношениях, например в случае с пекарем Джоном Абельсоном из Олни в Бекингемшире. В своем завещании он позаботился о своей жене и шести детях, упомянув их всех — от проживающего в Лондоне взрослого сына до «безгрешной» дочери Элизабет. Эпитет «безгрешная» указывает на ее слабоумие; одному из ее братьев оставили значительное имущество при условии, что тот предоставит ей постоянное жилье. А в судебных протоколах содержится срез жизни людей в кризисные моменты, когда в поле зрения попадают их верования, суждения и поступки. В свидетельских показаниях часто фиксировалась даже настоящая речь людей. Записи коронеров повествуют о несчастных случаях и личных конфликтах, нарушающих повседневную жизнь. Книги, памфлеты и баллады дают представление о мышлении более образованной мужской части общества, а их жалобы и нападки косвенно говорят нам о том, как их ценности и опыт отличались от ценностей и опыта других людей. Даже налоговые записи важны для наброска повседневной тюдоровской жизни: из них можно узнать о том, насколько распространены были дешевые расчески и как людям не хватало молотого перца.
Я опробовала на себе многие вещи из повседневности эпохи Тюдоров, подчас повторяла их по многу раз, пытаясь отточить свои умения и экспериментируя, когда не могла однозначно истолковать какие-либо сведения. Я не утверждаю, что мне удалось до конца понять этот период истории, но сейчас я гораздо более полно представляю себе его реалии, поскольку начала изучать их много лет назад. Это непрерывно продолжающееся путешествие, которое я с удовольствием разделю с вами.
1
По крику петуха
Первым делом поутру, когда ты проснулся и хочешь встать, подними руку и благослови себя, перекрестись и произнеси In nomine patris et filii et spiritus sancti, Amen. Во имя отца и сына и святого духа, аминь. И если прочитаешь Отче наш, Аве Мария и Символ веры и помянешь Творца, тем будет лучше.
Джон Фитцхерберт, «Книга о хозяйстве» (The Boke of Husbandry, 1533)
Незадолго до рассвета петухи начинали свой утренний хор и люди поднимались с постелей. Лишь немногие из них проживали поодаль от «будильника» на скотном дворе. Подавляющее большинство жило в сельской местности. Города обычно были небольшими. Они перемежались сельскохозяйственными угодьями, а многие горожане по-прежнему держали кур и свиней на заднем дворе. Рогатый скот и овцы паслись на городских общинных угодьях, а петух и его курочки могли склевать червячка в любой навозной куче возле гостиничной конюшни или на окраине еженедельного скотного рынка. Лишь жителей Лондона и, возможно, Нориджа и Бристоля не беспокоило утреннее пение петухов со скотного двора.
Петушки начинают пение с самого первого проблеска в небе, задолго до того, как первые лучи прорвутся сквозь горизонт. Люди, которые дожидались первых лучей света, считались сонями и рисковали вызвать беспокойство и жалобы скотины. Большинство вставало, когда небо бледнело, под звуки волнующихся птиц и животных. Поэтому летом день начинался в 4 часа утра, а глубокой зимой, когда не было смысла подниматься в кромешной ночной тьме, дневные дела откладывались до гораздо более позднего часа — 7 утра.
Рис. 1. Титульная страница одного из изданий «Книги о хозяйстве» (The Boke of Husbandry) Джона Фитцхерберта
Оконное стекло тогда было предметом роскоши, привилегией джентри и богатых купцов. Поэтому к большинству жителей первые серые предрассветные лучи проникали через ставни из промасленной ткани. Они защищали от дождя и самых сильных порывов ветра и пропускали внутрь немного света. У некоторых, однако, ставни были деревянными — они были более надежными и защищали от солнца, пропуская лишь тончайшие лучи света.
И если оконные стекла были редкостью, то шторы на окнах встречались еще реже. Занавески использовались не для окон, а для кровати. Владелец кровати с занавесками был настоящим счастливчиком. Комната в комнате — теплая, темная и уединенная; занавешенная кровать под балдахином была одним из самых востребованных и высоко ценимых предметов домашнего обихода в эпоху Тюдоров. После земельных владений и наличных денег кровать нередко оказывалась самым первым предметом, приходившим на ум составителям завещаний. В знаменитом завещании Шекспира, в котором он завещает свою вторую лучшую кровать жене Энн, иногда усматривают пренебрежение — символ разорванных отношений. Я же сомневаюсь, что так считала сама Энн или другие его домочадцы. И хотя лучшая кровать отошла его замужней дочери, он позаботился, чтобы жене было тепло и уютно в последние годы жизни.
Многие ночевали на кровати с балдахином в гостиницах, а у некоторых она может даже стоять и дома. Но в современных жилищах вряд ли можно насладиться всеми ее преимуществами. А теперь представьте комнату эпохи Тюдоров. Даже если на окнах были стекла, она все равно продувалась насквозь. При Тюдорах в домах редко бывали коридоры. Обычно, чтобы попасть в комнату, нужно было пройти через другие, так что люди сновали туда-сюда. А слуги и дети спали на других кроватях в той же комнате. Даже в больших и богатых домах лишь у немногих были личные покои. Из-за отсутствия отдельных помещений для прислуги — а это архитектурное решение пришло позднее — даже в самых больших домах подчас были крайне многолюдные спальни. Домочадцы скорее делились по полу, а не по социальному статусу, так что мальчики и слуги спали в одной комнате, а девочки и служанки — в другой. А теперь представьте, что вы укрылись внутри своей личной палатки с толстыми обычно шерстяными шторами. Они заглушают чужой храп, сохраняют за ночь тепло и прячут вас от любопытных глаз и ушей.
Кровати сооружались из разных материалов, были разных форм и размеров. Я пробовала спать на всех: на простых кучах соломы на земляном полу; на нарах с мешками соломы, на грубых циновках; на деревянных складных кроватях; на раскладных кроватях на колесах с остовом из веревок, которые днем можно было задвигать под более крупные кроватные рамы; на матрасах из сена, оческов или шерсти и на перинах. На некоторых были лишь одеяла, на других — простыни, подушки, валики и покрывала. У некоторых кроватей с балдахином навес был деревянным, у других — тканевым. Я испробовала эти кровати в разные времена года, в двадцативосьмиградусную жару в самом разгаре лета и в снежную и морозную зиму, когда температура опускалась до десяти градусов Цельсия ниже нуля. Я спала на них в одиночку и в компании. И я могу с уверенностью сказать, что понимаю, почему кровать занимала центральное место в мыслях многих людей эпохи Тюдоров.
Чем более хитроумной была кровать, тем дороже она стоила. Кровати знатных особ — с пологами на четырех столбиках, с шелковыми драпировками, множеством матрасов, тонкими льняными простынями и широкими роскошными покрывалами — могли стоить дороже, чем все хозяйство мелкого фермера. Йомены и крестьяне, жившие и работавшие на земле, обычно обходились деревянной постелью и матрасом из оческов или шерсти, а их работники и слуги спали хорошо если не на земле. Многим безземельным людям, особенно в начале этой эпохи, ложем служила обычная куча рассыпанной по полу соломы.
Спать на рассыпанной соломе на земляном полу в одежде неплохо. По крайней мере пару ночей, когда солома еще чистая, хорошо взбита и ее много. Но в долгосрочной перспективе это не лучшее решение. В домах водилось много мышей и крыс, да и солома забивалась под одежду. Скоро она начинала крошиться на мелкие кусочки и щепки, от которых чешется кожа. Труха многим причиняет неудобства, становится трудно содержать себя в чистоте. Намного лучше просто сложить солому в плотный тканый мешок и спать на нем, взбивая его каждый день. Если же вы запустите свою кровать, она скоро станет плоской и комковатой.
Слово «кровать» (bed) в тюдоровской Англии означало примерно то же самое, что современный «матрас» (mattress), так что наполненный соломой мешок был полноправной соломенной кроватью. Дополнительной доработкой была деревянная рама, которая поднимала матрас над полом. В описях и завещаниях она упоминалась как остов. Набитые сеном кровати гораздо комфортнее соломенных, поскольку сено — более мягкий и тонкий материал, но даже между различными сортами соломы есть отличия. Например, ячменная солома более удобна, чем пшеничная.
Многие люди тщательно отбирали не только основную часть соломы, но также собирали дополнительную набивку из соломы определенных растений, которые помогают лучше спать. Именно по этой причине целое семейство растений носит название «травяная набивка» (bedstraw)[3]. Лучшим из них считался подмаренник настоящий (Lady’s bedstraw, «дамская набивка»), или Galium verum. Он хорош не только тем, что на нем мягко спать. Даже сухой и старый подмаренник пахнет свежескошенным сеном, что отпугивает насекомых, особенно блох и вшей. Если даже подмаренник не мог сохранить ночной покой и отпугнуть насекомых, то на помощь приходила пахучая сухая полынь. Комфорту и гигиене способствовала также и регулярная смена постели — замена старой соломы на новую. Согласно медицинской теории того времени (в которую частично верят и сегодня), лаванда помогает спать крепче, так что горсть сушеной лаванды могли добавить в солому у изголовья кровати.
В начале эпохи у многих не было даже собственной соломенной кровати, и они просто спали на полу. Впрочем, все не так мрачно, как кажется. Во многих домах все же устилали пол камышом, поэтому потребность в мебели отпадала. Кроме того, жилой дом обычно отапливался открытым очагом в центре комнаты, который выпускал дым наружу. Такие центральные очаги хорошо прогревали внутреннее пространство. Все тепло оставалось дома, а не уходило в дымоход (дымоходы еще не были распространены повсеместно; в 1500 году они использовались почти исключительно в каменных замках и монастырях). Очаги были удобны и для готовки, поскольку были доступны со всех сторон. Однако в воздухе висел дым. И чем выше, тем его было больше. Если вы какое-то время пробудете в помещении с открытым огнем, то вскоре заметите четкий горизонт дыма. Ниже его — чистый и пригодный для дыхания воздух, а выше — наоборот. Поэтому приходилось жить под слоем дыма. Любая мебель, возвышающая вас над полом, здесь не помощник; лучше жить на полу, так что он должен быть теплым, сухим и удобным для сидения и сна.
Источники — от «Ста советов для хорошего хозяйства» Томаса Тассера (A Hundreth Good Pointes of Husbandrie, 1557) до поэм XIII века и пьес Шекспира — содержат множество упоминаний использования камыша как напольного покрытия. В 1515 году голландский гуманист Эразм Роттердамский написал в письме, что полы в английских домах «в целом смазаны белой глиной и покрыты камышом, который время от времени меняется, но это делается столь небрежно, что нижний слой остается нетронутым по двадцать лет и впитывает в себя плевки, рвоту, людскую и собачью мочу, пролитый эль, рыбные объедки и другие мерзости, которые не пристало и упоминать». Учитывая то, что это говорит человек, недовольный иностранными обычаями (дальше он раздувает бурю об отвратительном, нездоровом влажном воздухе Англии), можно признать, что он описывает что-то похожее на современные ковровые покрытия. Их верхний слой чистят регулярно, но на них все же проливают напитки, их пачкают дети и животные, и ковер становится все более мерзким. Но оценить, насколько в действительности хороши (или плохи) покрытия из камыша, мне удалось благодаря экспериментам. Впервые я испытала такое покрытие в театре «Глобус». Эпоха Тюдоров донесла до нас рассказы о том, что сцены лондонских театров покрывали камышом. Вдохновившись этим, мы за приличные деньги купили свежий камыш и рассыпали его по деревянной сцене. Но вскоре стало ясно, что от этой травы много проблем. Ее длинные стебли цеплялись за юбки актеров-мужчин, играющих женских персонажей. Тогда мы порезали ситник на более короткие кусочки. Это помогло, но актерам по-прежнему было трудно двигаться на такой поверхности. Мы гадали, был ли слой камыша слишком тонок, нужно ли было ограждение типа бордюра, которое не позволяло бы траве разлетаться, но наш бюджет больше не позволял нам экспериментировать.
Мне довелось вновь испробовать камыш во время работы над программой о строительстве замков. В моем распоряжении был однокомнатный дом с деревянным каркасом, земляным полом и очагом, а на болотах поблизости рос камыш. Я поняла, что его лучше укладывать пучками, а не просто использовать отдельные стебли, и толщина слоя травы должна быть не меньше двух дюймов[4], чтобы камыш оставался на месте и образовывал единую поверхность. Так как вокруг были стены, камыш лежал плотным слоем и не разлетался, как тогда на театральной сцене; и он ни разу не зацепился за мою юбку. Когда камыш высыхает, он начинает желтеть, а потом постепенно рассыпается и крошится на пыльные соломинки. Но если его время от времени смачивать, то он сохраняет гибкость, бледно-зеленый цвет и свежий аромат, напоминающий огуречный. Дополнительным преимуществом было то, что он не загорался, когда на него попадали искры от огня. Поскольку мы сидели и лежали на камыше, я никогда не мочила его до состояния сырости. Я лишь слегка обрызгивала его из садовой лейки каждые несколько дней.
Когда слой камыша на полу стал толщиной шесть дюймов, на полу стало по-настоящему комфортно спать. Ситник — хороший изолятор, так что я не чувствовала холода земли, а толщина слоя гарантировала упругую и мягкую постель. Все, что мне было нужно, — лишь пара одеял. Это хорошо помогает осмыслить организацию спальных мест, детальное описание которых можно найти в средневековых источниках и таковых тюдоровского времени. Когда писали, что большинство домочадцев спят на полу в большом зале, это выглядело именно так. Представив кровати или даже свернутые в рулон спальные мешки, которые нужно раскладывать и собирать каждый день, вы зададитесь вопросом, где их хранили днем. С полом из камыша с этим не было никаких проблем. В одном сундуке могут храниться одеяла для шести-семи человек, так что подготовить помещение ко сну было чрезвычайно просто.
Когда замок строился уже шесть месяцев, я осмотрела состояние камыша. Не все из нас ночевали на нем каждый день, но мы с коллегами постоянно использовали его во время съемок и после: на нем стояли и сидели, ходили и работали. На нем немало готовили и много пили. Вы, конечно, догадываетесь, как много всего на него попадало. С нами поселилась курица, которая прямо на этом полу вывела цыплят. Прогнать ее мы не решились, и от цыплят, разумеется, было много грязи. Кроме того, одна мышь постоянно покушалась на сундук с зерном. Но никаких следов этой деятельности совершенно не было заметно. Неудивительно, что поверхность оставалась чистой. Отходы просто падали между стеблями ситника и были недоступны взгляду, запаху и уму. За все время, что мы были там, мы ни разу не замечали запаха или грязи. Но когда под конец я стала его вычищать, то ожидала увидеть на дне грязную жижу. Ее там не было. Там было чисто и сладко пахло. Никаких следов насекомых и грызунов. Земля была чистой и сохранила свой обычный запах, а нижний слой камыша разрушился и превратился в суховатый, волокнистый компост. Там не было плесени, гнили, слизи или какой-нибудь грязи. Не знаю, во что бы это все превратилось через двадцать лет, но даже сам Эразм намекает, что лишь в редких домах нижний слой оставляли нетронутым так долго. Мне стало ясно, что пол из камыша можно сохранять чистым и удобным, не прилагая больших усилий.
Однако время шло, и все меньше и меньше людей спали ночью на полу. Во время волны благоустройства домов, охватившей всю страну, исчезали открытые очаги, а на горизонте повсюду вырастали дымоходы. Из-за их установки дома были разделены на большее количество комнат, и сквозняки, гуляющие по полу, стали гораздо сильнее. Дымовые трубы уносят дым вверх из дома, и тогда холодный воздух опускается на уровень пола. Каркас кровати, поднимающий вас над полом, над сквозняком, становится гораздо более желанным предметом интерьера, а поскольку дым теперь выходит через дымоход, из-за дополнительной высоты уже не возникало проблем с дыханием.
Многие взяли с собой камыш на свои приподнятые над землей кровати. Деревянная складная кровать — рама с массивным деревянным основанием — отлично сочеталась с тем же камышом, который лежал и на полу; для кровати с основанием из веревок лучше подходила циновка из камыша. Постепенно веревочные кровати вытеснили остальные разновидности, вероятно, из-за своей дешевизны. Сначала сооружалась открытая рама, а вдоль всех ее четырех сторон проделывались отверстия. Затем вдоль длины кровати через отверстия зигзагом продевалась веревка. Эта же или другая веревка натягивалась затем по ширине, проходя то сверху, то снизу рядов веревки, натянутой по длине. Получалось что-то вроде прямоугольной сетки, которая немного пружинила. Если веревки ослабевали, то кровать провисала посередине и вызывала ужасную боль в спине, так что «крепко спать» означало спать на крепко натянутых веревках. Многие сохранившиеся кровати имеют деревянный колышек, которым подтягивали веревку. На такой поверхности стебли камыша просто провалились бы в дырки. Зато плетеная циновка не только надежно лежала на месте, но и равномерно распределяла нагрузку по всей конструкции, так что веревки не врезались в тело. При желании сверху на циновку можно было положить еще стеблей камыша или соломенную постель. Напоследок упомяну, что с распространением деревянной мебели, возвышающей людей над полом, больше не было нужды стелить камыш на пол, и к концу эпохи Тюдоров эта практика была почти забыта.
Тюфяк из оческов — клоков овечьей шерсти, — который часто служил постелью йоменам и крестьянам, был значительным усовершенствованием соломенной кровати. Это был просто мешок плотной вязки, однако набит он был овечьей шерстью, а не соломой. Можно просто засунуть некоторое количество оческов в мешок, но такой матрас быстро станет бугорчатым и твердым. В отличие от соломенной подстилки, тюфяку из оческов невозможно вернуть мягкость и открытую структуру, просто хорошенько его встряхнув: шерсть быстро скатывается. Поэтому стоит потратить немного времени и соорудить добротный тюфяк. Для этого положите на стол кусок прочной, плотной пеньки или льняной ткани и начните равномерно раскладывать по нему толстым слоем хорошо расчесанные косички шерсти одного размера, волокна которых должны лежать в одном направлении. Затем добавьте второй слой, волокна которого лягут под прямым углом к первому. Чем тщательнее будет расчесана шерсть, тем лучше. Иначе кусочки веток, трава или колтуны будут образовывать твердые бугры в готовом тюфяке. Возьмите второй кусок ткани такого же размера и положите его сверху. Прошейте вдоль всех слоев двумя или тремя плотными швами с интервалом около двух дюймов, не давая шерсти разойтись. Вдоль открытого края можно было прикрепить полоску шириной три-четыре дюйма, чтобы сшить боковые стороны тюфяка. Шерстяные очески, естественно, дороже соломы, и изготовить тюфяк гораздо сложнее, чем постель из соломы, поэтому люди берегли свои шерстяные тюфяки, чтобы они прослужили дольше. Для этого нужно было, например, укладывать шерстяной тюфяк поверх соломенного. В этом случае солома принимает на себя трение о веревки или доски.
Перина была верхом комфорта. Она украшала постели знати, джентри, богатейших купцов и йоменов. Это были опять-таки набитые мешки, однако ткань, в которой лежали перья, должна была быть соткана особенно плотно, чтобы перья не выпадали. Как и солому, перья достаточно хорошо встряхнуть, поэтому нет нужды сооружать такой сложный тюфяк, как для шерсти. Перины — не только самые мягкие матрасы, но и самые теплые. Когда вы ныряете в них, они сохраняют тепло вокруг вас и под вами. Они особенно эффективны, если класть их поверх другой подстилки. Как и многие другие вещи, они отличаются по качеству. Очень важно, сколько в тюфяке перьев — чем их больше, тем лучше. Маленькие, пушистые, пуховые перья лучше, чем большие, а лучшими считались пуховые перья обыкновенной гаги. Они самые теплые и мягкие. Но так как гаги — морские птицы, на большей части материковой Британии их пух раздобыть тяжело.
При всем многообразии набивных постелей совершенно не обязательно было спать на них. Из чего бы ни был сделан такого рода матрас, от соломы до пуха, его использовали и в качестве одеяла. Вероятно, там, где у людей было несколько матрасов, спали между ними.
Поэтому идеальная кровать эпохи Тюдоров состояла из деревянного каркаса со столбами в четырех углах, массивного деревянного изголовья, толстого навеса из ткани и тяжелых занавесок вокруг. Ее основание состояло из туго натянутых веревок, на которых лежала свежая толстая циновка из камыша; поверх нее — соломенный тюфяк, набитый подмаренником вперемешку с небольшим количеством лаванды. Выше располагался тюфяк с оческами и не одна, а две перины, лучшая из которых лежала на самом верху. Это было настолько мягкое, теплое и комфортное ложе, что даже принцесса не почувствовала бы горошину, спрятанную в нижнем слое матрасов. Ансамбль дополняли простыни из тончайшего хлопка, пуховые валики и подушки в хлопковых чехлах, а также одеяла и покрывало с вышивкой.
С такой кровати, бесспорно, было сложно подняться по петушиному крику. Но многие ли были обладателями такого соблазнительного ложа? Трудно сказать наверняка. Если постельное белье, драпировки и кровати вносились в завещание или опись имущества, тогда мы знаем точно, что человек владел ими под конец жизни. Но если их не было в списке, то нельзя утверждать, что у завещателя не было кровати и постельных принадлежностей. Кровати могут, например, просто относиться к общей категории, которую иногда обозначают как «предметы моего домашнего обихода». Кроме того, лишь немногие люди оставляли завещания.
В целом же можно заметить, что такие кровати гораздо чаще упоминаются в конце эпохи Тюдоров, чем в начале периода, и что ими, вероятнее всего, владели состоятельные люди, а не те, кто был стеснен в средствах. В 1587 году Томас и Сара Тейлор, которые жили в Стратфорд-апон-Эйвоне, были обычной городской четой, довольно зажиточной, но не богатой. Они были женаты более четырнадцати лет, у них выжило пятеро детей — Флоренс, Аннис, Уильям, Джордж и Джоан, и еще четверых они потеряли. Томас зарабатывал на жизнь торговлей тканями и имел небольшую мастерскую в доме на Шип-стрит. Там он валял и резал ткани перед тем, как они отправлялись к красильщику. Это был процесс выделки, превращающий неплотную ткань в более приятную и чистую, лучше защищавшую от влаги и ветра. У Томаса и Сары была одна общая кровать с изголовьем, столбами и занавесками, одна раскладная кровать и еще три других. Поверх деревянных рам они могли положить пять тюфяков из оческов, пять покрывал, пять валиков, четыре подушки, пару одеял и две пары простыней. Этого было достаточно для семьи из семи человек. Но не у каждого домочадца был полный комплект постельных принадлежностей, и, конечно, не оставалось ничего про запас. Вероятно, Томас и Сара делили общую кровать с занавесками, с одним тюфяком из оческов и одним валиком. Они также могли расположиться на одной из пар простыней и двух подушках, а сверху положить покрывало. У троих детей могли быть личные кровати, тюфяк из оческов, валик и покрывала, но двум другим, вероятно, приходилось делить их друг с другом. Поскольку младшей, Джоан, было всего лишь чуть больше года, она, вероятно, спала в чем-то вроде колыбели или с родителями. В любом случае большинству детей приходилось обходиться без простыней.
В то же время у служанки в доме Кэтрин Солсбери, тоже родом из Стратфорда, был только тюфяк из оческов, одеяло и покрывало. В описи имущества Кэтрин по порядку перечислены комнаты в ее доме. В ее личной спальне были обычная и выдвижная кровать, в гостевой комнате тоже стояла полноценная кровать, но в комнате служанки, видимо, кровати не было. Даже в конце века многие по-прежнему спали на полу.
Утренняя молитва
Молитва сразу после пробуждения была очень личным делом. Она читалась лично, без свидетелей и желательно вслух. В эпоху Тюдоров утро всегда начиналось с молитвы, хотя ее язык и содержание претерпевали фундаментальные изменения. Христианство почти безраздельно властвовало в качестве объяснительной модели вселенной. Однако природа христианства была самой жаркой темой и средоточием масштабных конфликтов и сдвигов: от католичества к протестантизму, снова к католичеству и снова к протестантизму, и на протяжении всего периода существовало множество вариантов обеих конфессий, порой одновременно. Из-за них люди готовы были нищенствовать, отправляться в изгнание и даже погибать.
Когда в 1490 году скончался Джон Коллан, ювелир из Йорка, он оставил после себя молитвослов на латыни стоимостью всего 6 пенсов, что тогда примерно равнялось двухдневному заработку трудоспособного мужчины. Цена наводит на мысль, что это была старая книга в очень плохом состоянии или же совсем новая, только что вышедшая из-под печатного пресса Уильяма Кекстона, который отпечатал свой первый молитвослов в том же году. 6 пенсов — справедливая цена за свежий молитвенник, изданный Кекстоном или привезенный с континента. С помощью этой книги Джон Коллан мог читать основные службы суточного круга, произнося на рассвете несколько упрощенный вариант лауд. Возможно, он делал это в уединении каждое утро после пробуждения или же руководил общей молитвой в своем доме. В любом случае он читал латинские слова вслух. Поскольку слова были ему знакомы, ему, возможно, лишь изредка приходилось подсматривать в написанный текст.
К началу XVI века такие относительно недорогие молитвословы стали доступнее. В Британии новые издания печатал Винкин де Ворд, а на континенте создавались специальные издания для английского рынка, которые печатались в основном в Париже и в Нидерландах[5]. Благодаря этим новым книгам джентри и состоятельные купцы приобщались к той утренней молитве, которая раньше была прерогативой клира и аристократии. Для всех остальных утренняя молитва состояла в произнесении вызубренных наизусть молитв.
Совет Джона Фитцхерберта, приведенный в начале этой главы, был общепринятым в те времена. В этой книге, написанной прямо перед Реформацией, рекомендуется произносить вслух самое известное латинское благословение: In nomine patris et filii et spiritus sancti, Amen, дополняя его традиционным крестным знамением, а также по желанию дополнять его Отче наш, Аве Мария и Символом веры — перечнем основных христианских догматов. На то, насколько распространенным было такое начало дня, указывает контекст совета Фитцхерберта. Это не выдержка из богословской книги, не отрывок из образовательной литературы для богатых детей: этот совет был адресован домохозяйкам, а сама книга посвящена сельскому хозяйству и методам его ведения.
После разрыва Генриха VIII с Римом утренняя молитва начала меняться. Сначала незначительно, но к 1545 году появился официальный текст молитвы, из которого были вырезаны все ссылки на папу римского и Томаса Бекета и удалено слово «чистилище». Там гораздо меньше внимания уделено Деве Марии. Другой текст использовать было нельзя. В дошедших до нас старых молитвословах недопустимые упоминания часто послушно стерты или вычеркнуты. Раздавались все более настойчивые требования того, чтобы заученные молитвы читались по-английски, а не на латыни. Во время Эдуарда VI в утвержденном списке заучиваемых молитв на первый план вышла «Отче наш» на английском языке, а официальный молитвослов стал напоминать более позднюю «Книгу общих молитв» (Book of Common Prayer). При Марии I вернулась латынь и нечто похожее на молитвослов 1545 года. Однако во время Елизаветы I стало ясно, что чтение одних и тех же молитв по памяти или из молитвенника теряет центральную роль в утренней молитвенной практике. Религиозная литература стала напоминать пространные очерки или проповеди с рассуждениями на определенную тему.
Рис. 2. Титульная страница одного из изданий «Книги общих молитв» (Book of Common Prayer)
В 1577 году теоретик педагогики Хью Родс рассказывал детям в своей «Книге о воспитании» (Boke of Nurture):
- В пять часов, без промедления
- Привыкай вставать с постели:
- И Господа поблагодари за хороший отдых,
- Как откроешь глаза.
- Моли его послать тебе благословение,
- И, разумеется, как можно лучше
- расскажи о своих поступках[6].
Понятие утренней молитвы сохраняется, но уже больше нет утвержденного списка слов. Повторение соответствующих доктрине слов поощряло строгость в поведении и веровании. Протестантские же реформаторы стремились к более личному и прямому обращению к Богу. Многие из них стали расценивать заучивание молитв как преграду на пути к эмоциональному и интеллектуальному взаимодействию с христианским посланием. Они считали, что лучше заглядывать себе в душу и подбирать собственные, значимые для себя слова. Они верили, что свободная молитва была более глубоким духовным опытом.
Рис. 3. Иллюстрация из «Книги о воспитании» (Boke of Nurture) Хью Родса, издание 1867 г.
Конечно, многие хотели получить наставление о природе этой более свободной по форме неписаной молитвы. «Пригоршню благотворных (хотя и простых) трав» (A Handfull of Holesome (though Homelie) Hearbs), написанную Энн Уитхил в 1584 году, отличает от других книг только то, что автор — женщина. Она содержит перечень молитв для прочтения и обдумывания. Строго в соответствии с принятыми нормами и доктринами Церкви Англии, она начинается с утренней молитвы. Это одна из самых коротких молитв, ее можно прочитать за пять минут. Она заканчивается мольбой: «…я здесь, мой дорогой Отец, и пошли своего Святого Духа, чтобы направить меня в моих делах. Да будут благословенны славная и священная Троица, Отец, Сын и Святой Дух, сейчас и во веки веков. Аминь». Может быть, это и протестантская английская молитва в свободной форме, но в ней ясно различимо эхо католической утренней молитвы.
2
Мыть или не мыть
Прежде всего своего поэта не оставь
Без хорошей чистой рубашки на теле.
Чистая льняная ткань — моя госпожа и моя тема[7].
Джон Тейлор, «В похвалу чистому льну» (In Praise of Cleane Linen, 1624)
Когда заканчивались молитвы, наступало время готовить тело к новому дню. Не располагая отдельной ванной, люди занимались утренним туалетом в комнатах, где, как мы отмечали ранее, сложно было найти укромный уголок. Хорошо, если получалось привести в порядок волосы, кожу и зубы перед тем, как надевать дневную одежду.
В мире, где болезнь проникала в тело через открытые поры, купание в горячей мыльной воде, естественно, было глупым и опасным занятием. Только дурак подверг бы себя воздействию пагубных миазмов, с потом переносящим от человека к человеку чуму, потливую горячку и оспу. Врач Томас Молтон в своей книге «Зерцало здоровья» (This is the Myrrour or Glasse of Helth, 1545) писал так: «Также не принимайте ванны и не используйте печи; не потейте слишком сильно, поскольку это открывает поры человеческого тела и дает ядовитому воздуху проникнуть в него и отравить». Медицинские советы той эпохи были однозначными: избегать мест, где воздух сперт или где идет пар от болот, луж, дубилен и куч навоза; поддерживать вокруг себя свежий воздух и приятный запах; держать поры кожи плотно закрытыми и как можно сильнее закрывать тело. Руки и лицо нужно было регулярно ополаскивать: после пробуждения утром и перед каждым приемом пищи, но делать это следовало в чистой холодной воде, смывающей грязь, или с помощью холодной душистой воды, которую делали в домашних условиях.
Хотя болезнь в целом рассматривалась как нарушение равновесия в организме, инфекция считалась внешним явлением, возникающим в местах гниения и перемещающимся по воздуху как семена или споры. Если такие воздушные потоки проникали в организм, они могли породить в нем гниение, выводя его из естественного баланса и делая таким образом больным. Самые губительные испарения могли проникнуть в организм несколькими способами. Понятное дело, главными путями заражения были рот и нос, поэтому необходимо было бдительно следить за едой и напитками и избегать мест с неприятным запахом или застойным воздухом. Поры кожи были вторым путем заражения. Их можно было защитить с помощью разумной личной гигиены, которая делала бы кожу постоянным надежным барьером. Считалось, что кроме грязи и болезней внешнего мира, угрожающих организму, тело также порождало собственную грязь, которую нужно было убирать как можно быстрее и лучше, поскольку близость ее к коже способствовала повторному ее поглощению. Следовало избегать грязной одежды, соприкасавшейся с выделениями тела. Поэтому для здоровья важнейшее значение имела чистая одежда, в особенности тот ее слой, что соприкасался с кожей. Шерстяные, кожаные или шелковые вещи в идеале не должны были прямо соприкасаться с телом, поскольку их тяжело стирать. И мужчины, и женщины могли носить льняные рубашки, сорочки, кальсоны, чулки, гофрированные воротники, манжеты, пояса, койфы (небольшие чепцы) и шапки, чтобы полностью закрыть тело. Такое белье можно было регулярно и интенсивно стирать. Каждый раз, когда вы меняли или «сбрасывали» этот слой льна, вы удаляли накопившуюся грязь, жир и пот. Чем чаще вы будете менять свое нижнее белье, тем будете здоровее и чище. Льняное полотно особенно подходило для этой задачи, поскольку его ткань хорошо удаляет жир и пот с кожи, как губка, впитывающая пролитую жидкость. Поэтому смена нижнего белья не только устраняла возможность накопления потенциально опасных выделений, но и позволяла активнее выводить их из организма. Тем самым улучшалась естественная циркуляция материй в системе, закалялось тело, восстанавливался баланс внутри организма и укреплялось здоровье.
В пародийно-героической поэме XVII века авторства Джона Тейлора «В похвалу чистому льну» (In Praise of Cleane Linen), посвященной прачке, миссис Марте Легг, подчеркивается не польза чистого белья для здоровья, а его способность обеспечивать социально приемлемый уровень гигиены:
- Помни о трудах твоей прачки,
- Ибо только они позволяют тебе
- быть приятным и чистым…
- Благодаря ей твое белье приятно и опрятно,
- Иначе ты бы смердел, как зверь[8].
В обществе было не принято вонять, как зверь. Это было неприемлемо ни для молодых юристов — а героиня поэмы стирала воспитанникам Миддл-Темпл, входившего в Судебные инны, — ни для любого другого человека, претендующего на достойную, уважаемую жизнь. В идеале от людей пахнет «приятно». С запахом тела нужно бороться при любых обстоятельствах; чистая одежда была главным средством борьбы с вонью в арсенале большинства людей.
Лен, который обеспечивал людей чистой одеждой, использовался и для чистки тела. В своей книге «Замок здоровья» (The Castel of Helth, 1534) сэр Томас Элиот рекомендует включать в свою утреннюю рутину следующее: нужно было «растирать тело куском льняной ткани, сначала мягко и легко, а затем все сильнее и сильнее, тереть быстро и с нажимом, не только сверху вниз, но и из стороны в сторону, пока тело не опухнет и не покраснеет». Эта процедура гарантировала, что «тело будет в чистоте». Такое энергичное растирание, особенно после физических упражнений, служило тому, чтобы выводить из тела токсины через открытые поры, при этом нежелательные телесные выделения впитывались в грубую льняную ткань. «Ткань для растирания» или «ткань для тела», несмотря на свою низкую стоимость, время от времени появляется в описях имущества людей.
У большинства людей, судя по всему, было всего два-три комплекта нижнего белья. Многие оставляли в наследство свою одежду, упоминая ее в завещании, в других случаях она упоминалась в описях имущества. Обычно упоминается самая дорогая, сшитая у портного одежда, например «лучшее платье» или «мой отличный черный дублет». Но иногда завещатели оставляли и гораздо более скромные вещи. В своем завещании 1588 года Уильям Лэйн из Чадуэлла (графство Эссекс) упомянул две рубашки из льняной ткани (грубые, тяжелые), одну «голландскую» рубашку (легкую и выбеленную) и свою «брачную рубашку», которая, вероятно, была самого высокого качества и имела для него сентиментальное значение. Это был довольно богатый йомен-фермер, так что он был обеспечен одеждой лучше большинства людей. Имея запас рубашек, он мог носить одну, пока другая была в стирке, а по воскресеньям и другим особым поводам надевать свою лучшую чистую рубашку. Мы не знаем, были ли у него другие, неупомянутые рубашки, — вероятно, они были недостаточно хороши, чтоб их завещать, — но можно быть уверенным, что у него были, по крайней мере, эти четыре.
Рис. 4. Титульная страница книги «Замок здоровья» (The Castel of Helth, 1534) сэра Томаса Элиота
У аристократов и состоятельных джентльменов иногда было по несколько дюжин рубашек. Они меняли их по крайней мере раз в день, а иногда и чаще, если проводили время активно. Противоположный пример — Генри Бриджуотер, который в 1570 году был еще молодым слугой. На этом этапе жизни он мог располагать только причитающимся ему заработком, двумя сундуками, луком, набором стрел и запасом одежды. Он почти наверняка вписал в завещание весь свой гардероб, поскольку указывает даже ту одежду, которая была на нем: «кожаный дублет, что сейчас на мне, пара чулок на моих ногах». В этом списке он перечисляет три холщовые рубашки — две новые и одну старую. Хозяева, в обязанности которых входило обеспечение живущих у них слуг одеждой, часто давали тем холщовые рубашки. Такие качественные рубашки были не самыми дешевыми, при этом они хорошо стирались и выдерживали тяжелый труд. Нередко это означало, что слуги были одеты лучше, чем независимые работники. Генри повезло: он мог носить рубашку, пока другая была в стирке. Вероятнее всего, он менял ее раз в неделю; возможно, каждое воскресенье он надевал свежую рубашку и носил ее всю следующую неделю. Этот вывод подтверждают счета за услуги прачки, предъявленные Эдварду, третьему герцогу Бекингемскому, во время его пребывания в Лондоне в 1501 году. Герцог, вероятно, прибыл в город с запасом чистой одежды, но семь недель спустя в счете за услуги прачки значилось шестнадцать рубашек, шесть головных платков и пять пар льняных простыней. Однако в общем счете, предъявленном двум его слугам, было только одиннадцать рубашек за восемь недель. Герцог менял одежду гораздо чаще, чем слуги, которые переодевались раз в неделю.
Благотворительным учреждениям также было необходимо обеспечивать своих жильцов нижним бельем. Больница Св. Варфоломея в Смитфилде (Лондон) снабжала мужчин рубашками, а женщин сорочками, когда это было «необходимо при поступлении или при выписке». Это указывает на жалкое состояние или даже полное отсутствие качественного нижнего белья у самых бедных и больных людей, обращающихся к ним за помощью. Поскольку больница Св. Варфоломея была медицинским учреждением, лечащим больных, руководство больницы могло предоставлять нижнее белье поступающим пациентам из-за предполагаемого терапевтического эффекта чистого льна. Однако обеспечение пациентов нижним бельем во время выписки, должно быть, объясняется скорее тем, что чистый лен был необходим для соблюдения социальных норм. В Ипсуиче в благотворительном фонде Тули, который служил скорее богадельней и предоставлял долгосрочный уход, была собственная система снабжения одеждой. Там регулярно закупали ткань для пошива запасных мужских и женских чулок, а также изготовления рубашек и сорочек. Например, согласно одной записи 1577 года, фонд купил пятьдесят два с четвертью локтя (один локоть составляет примерно 115 сантиметров) холстины по 11 пенсов за локоть на пошив девятнадцати сорочек, четырех рубашек и трех пар простыней и заплатил за шитье 5 шиллингов и 8 пенсов. У фонда также были регулярные расходы на услуги прачки, что указывает на то, что запасов рубашек и сорочек было достаточно, чтобы жильцы учреждения могли менять белье. Холщовая рубашка, конечно, была не самым мягким и удобным предметом одежды, однако она обеспечивала соблюдение базового, приемлемого в обществе уровня чистоты.
Мы можем заключить, что льняное нижнее белье было необходимо, чтобы поддерживать чистоту и считаться приличным человеком, однако оно было доступно не всем. Любая одежда была дорогой. Хотя рубашки и чулки, как правило, стоили дешевле, чем дублеты и платья, они все же требовали значительных вложений. Как видно из счетов благотворительного фонда Тули, в конце XVI века обычная новая холщовая рубашка, которую носили бедняки, стоила около двух шиллингов (с учетом цены за два локтя холстины в 11 пенсов и стоимости пошива). Поношенная рубашка, которую еще долго можно было носить, могла стоить шиллинг и 6 пенсов, а старая, годящаяся на тряпки — всего 2 пенса. При этом хлеб — самая дешевая еда — стоил пенни за буханку, а 6 пенсов в день были обычным заработком работающего человека. Поэтому требовалось много времени, чтобы скопить 2 шиллинга из семейного бюджета на новую рубашку. Пока она годилась для носки, цена оставалась достаточно высокой, а недостатка в потенциальных покупателях достойных подержанных рубашек и сорочек не было. Можно понять сложности, с которыми сталкивался работник, чтобы одеть свою семью, если взглянуть на экономику повседневной жизни. Представьте семью из пяти человек. Отец, работающий шесть дней в неделю, приносит домой 3 шиллинга; жене удается заработать еще один прядением; и старший ребенок, которому около одиннадцати лет, зарабатывает еще 1 шиллинг. Недельный бюджет семьи составляет 60 пенсов. Только хлеб и вода на пять человек обойдутся им в 35 пенсов, если у них нет своего зерна. Если заменить воду слабоалкогольным пивом и раз в день есть горячую похлебку, то даже на оплату ренты оставалось лишь несколько драгоценных пенсов. Повседневная одежда была роскошью, для приобретения которой требовались дополнительные ресурсы — например урожай с небольшого участка земли.
Итак, даже если у вас есть необходимая одежда, справляется ли она со своей задачей? Правда ли, что люди в эпоху Тюдоров невыносимо воняли? Подвергали ли они опасности свое здоровье, стремясь, напротив, сохранить его от пагубных миазмов или зараженного воздуха?
Я дважды придерживалась такого режима. В первый раз чуть больше трех месяцев, живя обычной жизнью в современном обществе. Никто ничего не заметил! Конечно, лучше всего носить одежду из натуральных тканей поверх своего льняного белья. Я использовала хорошую льняную сорочку, на которую надевала современную юбку и верх, чтобы не выглядеть странно, и носила пару хороших льняных чулок под красивыми толстыми шерстяными колготками из непрозрачного материала (в их составе, правда, было немного эластана). Я ежедневно меняла сорочку и чулки и растирала себя льняной тканью вечером перед сном, но не принимала душ или ванную в течение всего периода. Удивительно, но я пахла вполне обычно (даже мои ноги). Кожа тоже оставалась в хорошем состоянии — на самом деле она выглядела даже лучше, чем обычно. Таким был уровень гигиены, при желании доступный богатому человеку: в современном обществе никто бы на это не обратил внимания. Хотя нам известно, что некоторые люди в полной мере следовали этому режиму, мы не можем знать, как много их было. В некоторых книгах с советами, в которых есть разделы об утренней гигиене, нет упоминания о растираниях, и все ограничивается советами молодым людям мыть руки и лицо и расчесывать волосы.
Во время съемок сериала я также соблюдала такой режим в обстановке, больше похожей на эпоху Тюдоров. Я носила все полагающиеся по сезону слои одежды и головные уборы. Я работала на ферме, поэтому мне нужна была куда более тяжелая грубая льняная сорочка и шерстяные чулки. Меняла я их также гораздо реже. Хотя по большей части я проводила время на свежем воздухе, часто тяжело трудилась и сидела возле открытого огня, я обнаружила, что для меня и моих коллег (даже тех, кто оставался за кадром и сохранил более традиционное для современной эпохи восприятие) было вполне приемлемо, если я меняла льняную сорочку раз в неделю. Шерстяные чулки я сменила всего три раза за шесть месяцев; льняные части головного убора я меняла каждую неделю вместе с сорочкой. Хотя от меня чувствовался легкий запах, большую часть времени его скрывал гораздо более сильный запах древесного дыма. Моя кожа по-прежнему оставалась в хорошем состоянии. Конечно, в ту эпоху такой режим в том, что касается частоты смен белья, образа жизни и типа материала, из которого было сделано нижнее белье, был характерен для большей части населения.
Мой друг и коллега попробовал делать все наоборот. Он мылся, но не стирал нижнее белье. Разница была очевидной и показательной. Он соблюдал всю современную рутинную гигиену, принимал душ минимум раз в день и пользовался целым рядом современных продуктов, но носил одну и ту же льняную рубашку (и верхнюю одежду) несколько месяцев и не стирал ее. Запах был невыносимым, его невозможно было не заметить. И выглядел он грязным.
Многие современные писатели предполагают, что без регулярного мытья тела горячей мыльной водой в тюдоровской Англии от людей пахло как от бездомных, давно живущих на улице. Много шуток построено на разнице между красивой одеждой снаружи и якобы грязью и зловонием внутри. Я бы отказалась от такой точки зрения. Характерная для XVI века вера в очистительную силу льна, оказалось, имела под собой определенные основания. Стирка имеет огромное значение. Запах прошлого, без сомнения, не похож на современный, но нужно иметь в виду, что для людей эпохи Тюдоров чистота, опрятность и приятный запах были важны. Благотворительные учреждения стремились к тому, чтобы их жильцы соблюдали общественные нормы, а хозяева хотели, чтобы их слуги были одеты должным образом. Конечно, среди тех, кто переживал не лучшие времена, встречались иногда «смердящие звери», но наибольшее влияние на личную гигиену оказывало отсутствие стирки, а не мытья тела водой.
Тем не менее в Англии Тюдоров были люди, которые мыли тела в воде или даже принимали ванну. Публичные бани к югу от реки Темзы в Лондоне были открыты для посещения до 1546 года, а бани Честера — до 1542 года. Примерно в то же время Джон Лиланд, который написал путеводитель по Англии, описывал три римские бани в городе Бат, которые в момент его посещения использовались ежедневно: Кросс-Бат (Крестовая баня) с теплой водой, которую посещали только люди с уродствами и кожными болезнями; Хот-Бат (Горячая баня), которая, как и Крестовая баня, находилась неподалеку от больницы и основными посетителями которой были незнатные люди; и большая Кингс-Бат (Королевская баня) в центре города, со сводчатой галереей на тридцать две ниши, в которых как мужчины, так и женщины могли находиться в уединении. Она пользовалась популярностью у джентри. Такие общественные бани выполняли множество функций: некоторые использовали их из-за их ощутимой пользы для здоровья, например для расслабления напряженных мышц; многие ценили их в качестве общественного пространства, где можно было встретиться с людьми, расслабиться, возможно, выпить бокал вина; для некоторых они были воротами в бордели; некоторые приходили, чтобы помыться. Именно общественная природа бань, где большое количество людей пребывали вместе в горячем, наполненном паром пространстве, создавала им репутацию мест, связанных с моральным и физическим разложением. Их связь с проституцией в то самое время, когда сифилис, практически неизвестный до 1490 года, бушевал по всей стране, придавала им вдвойне сомнительную репутацию. Это был городской феномен, который пользовался популярностью в основном у молодых богатых мужчин, и бани не были частью повседневной рутины большинства людей.
Мужчины и мальчики (скромность не позволяла женщинам и девочкам последовать их примеру) также могли купаться голыми в реках, ручьях, прудах и других водоемах. В источниках плавание часто упоминается как занятие для удовольствия и физической активности, но купаться можно и ради чистоты. О намерениях двух мужчин, Джона Стрета и Джона Джеррета, мы знаем из заключения коронера, сделанного после их гибели августовским днем 1592 года в пруду в Маунтфилде, в Сассексе, где они, как было сказано, купались голышом. Оба мужчины были обычными рабочими, которые зашли слишком глубоко и не умели плавать. Это далеко не единственный пример мужчин и мальчиков, попавших в беду во время купания в эпоху Тюдоров: отчеты коронеров по всей стране пестрят подобными трагедиями.
Частные бани были не столь опасны для здоровья, как публичные. Генрих VIII известен тем, что для него в Хэмптон-Корт построили новую купальню, а также паровую баню в Ричмондском дворце. Если верить источникам, в них регулярно бывала его дочь Елизавета. Чуть менее дорогостоящий вариант для желающих принимать паровую ванну, которую рекомендовали некоторые врачи, например Уильям Буллейн в трактате «Руководство для здоровья» (Government of Health, 1558), предложил сэр Хью Платт в книге с великолепным названием «Наслаждения для дам» (Delightes for Ladies, 1603). Сэр Хью был дворянином, живо интересовавшимся окружающим миром и тем, что позже назовут наукой. Он также писал о дистилляции, техниках консервирования пищи и природе соли. Сэр Хью объяснял, что для паровой ванны необходим латунный горшок с крышкой, свинцовая трубка, немного муки, яичный белок, очаг, деревянная бочка для купания «обвитая как обычно обручами», большая простыня и охапка подходящих трав. Сначала вы проделываете множество маленьких отверстий в дне своей бочки. Затем нужно сделать отверстие в крышке горшка, достаточно большое для того, чтобы через него пролез один из концов свинцовой трубки. Муку и белок нужно смешать в кашицу и использовать ее часть, чтобы закрепить трубку в крышке. Теперь можно поставить на огонь горшок с водой и свежими травами, сверху положить крышку с вставленной в нее трубкой и использовать оставшуюся часть кашицы, чтобы прикрепить их друг к другу. Свободный конец трубки вставляется в бочку для купания так, что пар с запахом трав мог проникать в нее из горшка по трубке под бочкой и вверх через множество маленьких отверстий. Затем обручи устанавливаются на место, а простыня набрасывалась сверху, чтобы создать внутри подобие палатки. Сэр Хью предупреждал, чтобы дама убедилась в том, что в комнату, где она принимает паровую ванну, не проникали сквозняки, которые могут «повредить ей, пока тело открыто и поры раскрыты для воздуха».
Рис. 5. Титульная страница самой известной из книг сэра Хью Платта — «Драгоценный дом искусства и природы» (The Jewell House of Art and Nature, 1594) издание 1653 г.
Травы были важной частью этой процедуры, поскольку в тело через открытые поры может проникнуть не только дурной, но и благотворный воздух. Паровая ванна могла использоваться в качестве способа употреблять лекарства, что превращало купание из опасной процедуры в терапевтическую. Такие ванны, похоже, были предназначены только для джентри и некоторых купцов с претензией, и даже они прибегали к ней нечасто.
Ароматы
Испарения, пары и воздух проникали в тело не только через поры кожи: полезным считалось и вдыхание воздуха с ароматом трав из паровой ванны. С каждым глубоким вдохом через нос запах проникает в тело и попадает прямо в мозг посредством двух маленьких, похожих на соски органов, расположенных в самой верхней части ноздрей; так, по крайней мере, считали тогда доктора и хирурги. В английском переводе Ланфранка Миланского, выполненном в Елизаветинскую эпоху хирургом Джоном Холлом, описывается, как с этими запахами «животворные ду́хи» переносились в «чудесную сеть», окружающую мозг, привнося ту самую искру жизни, которая превращала наши тела из кусков мяса в живые существа. Современные анатомические исследования показывают, что у человека на самом деле ничего подобного нет. Ни сосков в носу, ни чудесной сети, обрамляющей мозг. Однако схожая сетчатая структура обрамляет мозг овец, а поскольку человеческие тела препарировали все еще редко и примитивно (новаторский труд Везалия, впервые увидевший свет в конце 1530-х годов, долгое время не принимали), то хирурги ошибочно полагали, что внутренности, знакомые по скотобойням, присутствовали у всех живых организмов. В конечном счете устройство большинства наших внутренних органов очень напоминает анатомию животных. Поэтому качество воздуха имело чрезвычайное значение. Считалось, что хорошие и плохие запахи изменяют нас, нарушают наше внутреннее равновесие, вызывают болезнь или целый ряд других последствий. Считалось, например, что запах розмарина стимулирует память и непосредственно укрепляет мозг. А лаванда помогает успокоить и охладить перегретый мозг. Ароматы были очень важны.
В 1485 году только пара сотен человек по всей стране могла позволить себе наносить на кожу эфирное масло. К 1603 году пузырек такого масла, вероятно, могли приобрести уже около 10 тысяч человек, но 2–3 миллиона человек по-прежнему обходились без него.
Большинство людей получали ароматы более прямым, но менее интенсивным способом из естественных источников: букета фиалок, маленького льняного мешочка, наполненного цветами лаванды; дыма горящих трав, подмаренника в матрасе. Сэр Томас Мор высадил живую розмариновую изгородь под окном своего кабинета, чтобы доносившийся запах стимулировал его разум во время работы. Эту практику он советовал и другим ученым. Розмарин также сопровождал главные ритуалы жизни: моменты, когда память становилась ключевым элементом. На свадьбах по пути в церковь перед невестой шел человек, несший над головой веточку розмарина, украшенную позолотой (если только семья могла себе такое позволить), чтобы невеста могла запомнить свои брачные клятвы. Розмарин занимал важное место и на похоронах, где помогал людям запомнить усопшего. Высушенную веточку розмарина иногда долгое время после этого носили в качестве напоминания. Для крестин также был необходим розмарин, чтобы все присутствующие могли вспомнить обещания, данные в интересах ребенка. В домах аромат лаванды часто наполнял спальни. Тогда, как и сегодня, считали, что ее успокаивающее действие помогает уснуть. В домах победнее ее смешивали с соломой, которой набивали подушки, а у богачей связки лаванды висели на остове кровати. Те, у кого были запасы постельного белья, клали в сундуки маленькие мешочки с лавандой, чтобы простыни и наволочки со временем пропитались ее запахом. Природные инсектициды — пижму, руту и полынь — разбрасывали по полу и смешивали с соломой в тюфяках, отчего в домах стоял резкий запах. Считалось, что эти ароматы одновременно оказывают возбуждающее и очищающее воздействие на организм, изгоняя лень и безделье вместе с вредителями.
Комнаты, которые по той или иной причине стали грязными, например из-за того, что там лежал больной, очищали и дезинфицировали с помощью окуривания. Для этого надо было лишь зажечь большие зеленые пучки розмарина и майорана и ходить с ними по комнате, чтобы их дым доходил до всех частей помещения. Или можно было поставить в комнате котел на углях и подбрасывать туда время от времени пучки трав, чтобы устранить дурной загрязненный воздух и наполнить пространство благотворным ароматным дымом. Когда в 1568 году лорд — хранитель печати посетил Ипсуич, город устроил банкет (так в эпоху Тюдоров называли пир, где подавали не мясо и овощи, а сладости, пироги, сыр, орехи и фрукты, а также один-два бокала вина). Само собой, горожане хотели, чтобы все прошло идеально. Они закупили в больших количествах лучшие вина и засахаренные фрукты, а также изрядное количество благовоний. В 1558 году Роберт Дадли, конюший королевы и ее фаворит, потратил фунт 7 шиллингов и 9 пенсов на травы, которые были разбросаны в его комнате. В одном случае это была смесь пижмы и корней маргариток, которые, очевидно, использовались от насекомых; в другом случае речь шла о розах и цветах, создававших приятный запах. Лаванда вызывала у людей сонливость; поэтому для дневной одежды предпочитали использовать майоран, запах которого считался особенно «приятным» и способным приводить в «веселое» расположение духа. По тем же причинам для одежды часто использовали розы. Те, кто мог позволить себе обратиться за помощью к аптекарю, могли сделать маленькие мешочки с сушеными, измельченными корнями ириса, смешанными с сушеными листьями и лепестками душистых трав. Они гораздо дольше сохраняли свой запах.
Однако аромат источали не только травы. Для всех англичан тюдоровской эпохи, и вельмож, и простолюдинов, самым узнаваемым запахом был аромат церковного ладана. Стоил ладан дорого, поэтому в большинстве сельских приходов его жгли только дважды в год: на Пасху и на Рождество. Ладан кадили и на похоронах богатых прихожан, а также в дни святых, которые финансировались религиозными гильдиями. В основном ладан, представляющий собой древесную смолу, ввозился с Ближнего Востока. Его экзотическое происхождение, связь с библейскими историями и дороговизна способствовали тому, что его запах больше ассоциировался со святостью и священным, а не с домашним пространством. Вдыхание его дыма обращало разум к духовным материям, и не только из-за связанных с ним ассоциаций, но и из-за физического воздействия на мозг. Это был особый аромат, отделенный от запахов повседневной жизни. Он способствовал молитве и медитации.
Но для всего есть свое время и место. Запах ладана принадлежал в основном началу эпохи и испарился вместе с XVI веком. Сама физическая форма такого духовного опыта была важна для многих людей и одновременно тревожила охвативший всю Европу реформистский дух. Согласно традиционной трактовке, запах ладана мог приблизить к Богу и помочь вознести молитвы на небо. Однако он мог быть и чувственным отвлечением от молитвы, происходящей прежде всего от разума (так это понимали, например, Эразм или Лютер).
Эфирные масла дарили более концентрированный ароматный опыт самым богатым людям. В 1485 году они в основном завозились в готовом виде из Испании и Португалии, однако в начале XVI века аптекари и представители образованной элиты познакомились с искусством дистилляции. По мере того как росло внутреннее производство, цена падала. Производство дистиллированной «воды» было и остается гораздо более простым процессом, чем производство масел. Из одного и того же количества сырых ингредиентов получится примерно в пятьдесят раз больше травяной, цветочной или пряной воды, чем эфирного масла. Естественно, поэтому душистая вода была гораздо дешевле и производилась и продавалась в куда больших объемах. У Джона Камерленда, который держал лавку в Ипсуиче в 1590 году, например, общий запас эфирных масел в продаже оценивался в 5 шиллингов, а запас воды стоил фунт и 6 шиллингов. Количество масел у него не указано, но дистиллированной розовой воды у него было около двадцати литров. Такую воду можно было употреблять в пищу (особенно розовую), использовать как лекарство и ароматное средство для мытья рук и лица, брызгать на льняные воротнички, рафы (гофрированные воротники) и носовые платки — чтобы аромат был поближе к носу. Для производства такой воды нужно было потратиться на небольшое оборудование, но никаких особых навыков не требовалось.
Дистилляторы делали из олова, свинца, меди, стекла и керамики. Самыми дешевыми были керамические. Они были грубой конической формы. У тех, что из металла или стекла, наверху обычно была небольшая изогнутая трубка, по которой охлаждающий пар поступал в приемный сосуд; у керамических же внутренняя часть, в отличие от внешней, была покрыта глазурью, маленький обод вокруг основания с внешней стороны собирал конденсированный пар, а носик этого обода служил для того, чтобы жидкость стекала в емкость для сбора.
Процесс начинался с настаивания трав в воде. Поскольку розовые ароматы были тогда самыми популярными, с них мы и начнем. Кроме того, у меня больше всего опыта в изготовлении именно таких ароматов, хотя приготовить их из розмарина, лаванды и тимьяна также довольно просто. Можно использовать любую ароматную розу, но лучше всего подойдут дамасские: их запах — самый сильный. В Англии они появились только в 1520-х годах. Лепестки лучше всего собирать ранним утром, пока на них еще роса: именно тогда они источают самый сильный аромат. Лепестки раскладывают на простыне, чтобы немного просушить. Затем отщипывают белые кончики лепестков, в месте, где они соединяются с основанием. Лепестки кладут в стеклянную банку и добавляют воду, затем запечатывают банку и ставят на солнце. На следующий день собирают и готовят вторую партию лепестков, помещают их в чистую банку, сливают воду из предыдущей банки и добавляют ее к ним. Банку закрывают и ставят на солнце. Процесс нужно повторить три-четыре раза. Затем настой переливают в чашу и ставят ее над небольшим огнем, который нужно постоянно поддерживать, а сверху помещают дистиллятор или перегонный куб. Эфирные масла розы выпариваются при более низкой температуре, чем вода, поэтому, если вы достаточно искусны, чтобы поддерживать необходимый уровень жара, то конденсированная жидкость будет представлять собой чистое розовое масло. Но если вам недостает мастерства, то в приемный сосуд будет поступать и вода, и масло, так что вы получите розовую воду. Чтобы облегчить конденсацию испаряющихся масел и пара, можно регулярно окунать в холодную воду тряпку, обернутую вокруг трубки металлического или стеклянного дистиллятора или верхушки керамического дистиллятора. Без современных термометров крайне сложно получить совершенно чистое масло при первом проходе через перегонный куб; однако если порция получилась неплохая, ее можно улучшить разделением жидкостей. Перелейте смесь розового масла в высокий стеклянный сосуд и дайте ему постоять. Масло всплывет на поверхность, и тогда его можно будет аккуратно перелить в другую маленькую бутылку. Все вышеперечисленные техники описаны в руководствах для аптекарей, образованных мужчин и знатных женщин.
Розовое масло использовалось в качестве духов и было особенно популярно при дворе Генриха VIII. Поскольку символом королевской династии Тюдоров была сдвоенная — белая и красная — роза, розовый аромат был особенно уместен. Король и придворные в больших количествах закупали розовые духи для личного использования и для того, чтобы разбрызгивать их в воздухе в праздничные дни. Розовое масло было не только самым патриотическим ароматом: его также использовали как афродизиак. Считалось, что розы согревают, укрепляют и будоражат кровь, а их сладкий аромат вызывает чувство радости. И если брызги розовой воды на воротнике доставляли удовольствие, то насыщенность розового масла на коже возбуждала. Изысканные бутылочки и флаконы духов, сделанные из самых дорогих материалов и наполненные розовым маслом, были идеальными любовными дарами в аристократической среде.
К концу правления Елизаветы I появляются сложные смеси различных ингредиентов, которые начинают конкурировать с розовыми духами за место «придворного» аромата. Такие смеси, как правило, включали мускус, цибет и серую амбру. Поскольку ингредиенты ввозились из-за рубежа, цена на них была высокой, и они сохраняли свой эксклюзивный характер. В то же время розовый аромат становился все более доступным для населения. Например, один из рецептов сэра Хью Платта предписывал смешать в серебряной ложке масло нарда (травы), масло тимьяна, лимонное масло, гвоздичное масло и крупицу цибета с небольшим количеством розовой воды. И, если в итоге вам покажется, что в смеси недостаточно чувствуются нотки цибета, можно вдвое увеличить его количество.
Однако флаконы с жидкими духами встречались гораздо реже коробочек с твердыми ароматическими шариками. Такая коробочка могла быть совсем непритязательной, немногим лучше саше с лавандой. Травы и специи скатывались в шарик с помощью воска или смолы; само собой, собранные в стране травы и произведенный там же воск были гораздо дешевле импортных специй и смолы. Если вы могли позволить себе эфирные масла, их также можно было добавить в такой шарик. Получившуюся смесь обычно клали в деревянную или металлическую коробочку с отверстиями. Ее можно было подвесить на шнурок и носить на теле. Мы знаем, что ее взял с собой в море один из моряков на флагманском корабле Генриха VIII (такую коробочку нашли на обломках корабля на главной палубе). Женщины носили их на длинных шнурах, подвешенных к поясам, так что с каждым шагом коробочка стучала и ударялась о юбку. По сути, она раскачивалась как кадило с фимиамом в церкви, создавая облако аромата вокруг ее тела и ограждая от витающих вокруг дурных миазмов. Без юбки такая конструкция путалась бы в ногах, поэтому мужчины носили коробочку на гораздо более коротком шнурке. Шнур позволял и мужчинам, и женщинам подносить коробочку к лицу, если им придется столкнуться с особенно сильным запахом.
Чистка зубов
В обществе высоко ценился приятный запах изо рта, поэтому гигиена полости рта соблюдалась тщательно. Причинами зловонного дыхания считались частицы пищи, общее ухудшение здоровья, а также «черви» в деснах (ими объясняли гниение). Полоскание рта чистой водой после пробуждения было столь же важной процедурой, как умывание рук и лица. Хорошим тоном считалось использование зубочистки после еды для удаления фрагментов пищи, а почти каждое пособие по этикету предписывало не пользоваться для этого ножом или пальцами. Роберт Дадли, несомненно, использовал одноразовые зубочистки: их регулярно закупал его камердинер В 1558 году они обошлись ему в целых 10 шиллингов.
Использование множества различных порошков для чистки зубов позволяло не только освежить дыхание, но и отбелить зубы. Особенно хорошо с обеими задачами справлялась сажа. Самой лучшей считалась чистая сажа восковой свечи. Ее можно было собрать, поднеся пламя свечи к чистой полированной поверхности — зеркалу, оконному стеклу или глазурованной глиняной посуде. Сажу, которая действовала как мягкий абразив и дезодорирующее средство, наносили прямо на зубы и десны пальцем или небольшим кусочком ткани. Попробовав все методы чистки зубов эпохи Тюдоров, я остановилась именно на саже. Она удаляет налет, не повреждая зубы или десны. Мел и соль также хороши для абразивной чистки и обладают небольшим дезодорирующим эффектом, но с сажей им не сравниться.
Джон Партридж, писавший на разные темы, но в особенности много — об отбеливании, чистке и окрашивании, считал, что пепел, оставшийся после сожжения веток розмарина, особенно эффективно справляется с этими задачами. Он предлагал собирать его в небольшой кусочек льняной ткани и закручивать в маленький мешочек. Им можно было бы натирать весь рот. Тем самым абразивные свойства ткани дополнялись чистящими свойствами пепла. В таком пепле, как и в основных бытовых чистящих средствах, довольно много щелочи, поэтому после его применения нужно очень тщательно прополоскать рот, чтобы не болели десны.
Более сложные зубные порошки, рецепты которых встречаются в книгах, предназначенных для дам Елизаветинской эпохи, часто использовались не только для устранения запаха, но и в ароматических целях. Преобладали порошки на основе гвоздики, возможно, в том числе и потому, что они также облегчали боль. У них сильный запах, который сообщает всем вокруг о том, что вы использовали средство для очищения зубов, совсем как сильный «свежий» мятный запах современной зубной пасты. Другими компонентами порошков были измельченный алебастр, используемый для полировки, и ароматизаторы — цибет и мускус.
В источниках нет упоминаний зубных щеток, но встречаются тряпочки для зубов. Они были похожи на маленькие льняные носовые платки и использовались для натирания зубов и языка перед тем, как полоскать рот. Те, кого особенно заботил вид своих зубов, могли сходить к цирюльнику: тот, помимо прочего, предлагал услуги по очистке и отбеливанию зубов с помощью aqua fortis. Но, как указывает сэр Хью Платт в своей книге «Наслаждения для дам», тому, кто злоупотребляет этим методом, возможно, «придется позаимствовать у кого-то зубы, чтобы пережевывать пищу». Aqua fortis представляла собой сильный раствор щелочи или кислоты (рецепты ее изготовления разнились). Однако любая ее разновидность снимала слой эмали с зубов, что делало их белее. Она также воздействовала на десны. По своему эффекту очень осторожное применение процедуры не уступало некоторым современным техникам отбеливания, однако ошибки или повторное ее использование легко могли привести к потере зуба. Цирюльник занимался удалением зубов, стрижкой волос, бритьем, кровопусканием и мелкой хирургией: он был тем специалистом, к которому следовало обращаться за aqua fortis. У цирюльника была твердая рука, и он привык к испуганным пациентам.
Уход за волосами
В сентябре 1568 года в лондонском порту пришвартовался корабль Ричарда Тайя «Милость Божья». Он прибыл из французского Руана, переплыв Ла-Манш; на борту судна был разнообразный груз, принадлежавший шестнадцати разным купцам. В основном это были холст и бумага, но Джон Ньютон привез также 12 гроссов расчесок (гросс составляет 144 штуки, поэтому в сумме у него было 1728 штук). И не только он. На том же корабле Хамфри Браун привез 20 гроссов расчесок по цене вполпенни. Еще три гросса самшитовых расчесок были среди товаров Джона Челленера. Неподалеку в доке стояла «Мэри Энн», которая всего несколькими днями ранее привезла еще 26 гроссов расчесок по полпенни. Всего за предыдущие двенадцать месяцев в Лондон завезли около 90 тысяч расчесок. Порядка 46 тысяч из них принадлежали Ричарду Патрику: очевидно, тот занимал ведущие позиции в торговле этим товаром. Такие огромные цифры указывают на обыденность и повсеместность расчесок. Они были частью обычного режима личной гигиены. Регулярного ежегодного импорта такого масштаба было достаточно для того, чтобы у каждого в течение жизни было по две расчески, даже если бы их больше не ввозили ни в какой другой порт и не производили бы нигде на Британских островах.
Многие товары, привезенные Ричардом Патриком и другими купцами, обозначены как «пенни штука» или даже «полпенни штука», а инвентарные списки лавочников говорят о большом ассортименте расчесок по разным в принципе невысоким ценам. Некоторые гребни продавались в кожаных футлярах или маленьких деревянных коробочках. Гребни делали из самшита или коровьего рога, а также кости, в том числе даже слоновой. Большинство были двусторонними: с одной стороны их зубцы были широко расставлены, а на другой были очень тонкими и могли удалять блох и вшей. Когда были обнаружены обломки «Мэри Роуз», корабля, за крушением которого с ужасом наблюдал с берега король Генрих VIII в июле 1545 года, на борту в маленьких матросских сундуках и среди останков нашли 82 расчески. Все они, кроме одной, были из самшита и были частью личных вещей в повседневном обиходе обычных людей. Все пособия по уходу за здоровьем и по этикету сходились в том, что расчесывать волосы нужно не реже одного раза в день; важно было сделать это утром после пробуждения, но советы предписывали повторять расчесывание время от времени в течение дня.
Многие современные авторы утверждают, что жители Британии эпохи Тюдоров поголовно страдали от блох, головных и платяных вшей. Я не знаю, откуда им это известно. Действительно, гребнями вычесывали вшей; конец эпохи (тогда было создано подавляющее большинство картин повседневной жизни) оставил нам изображения женщин, проверяющих головы детей на наличие вшей и гнид; конечно, есть сатирические сочинения о грязных, зараженных людях. Но значит ли это, что ими страдало большинство населения? Это указывает на то, что проблема была достаточно серьезной, чтобы принимать меры предосторожности. Однако, без сомнения, это говорит о том, что люди стремились не иметь вшей и блох. Чтобы испытать укус блохи, не обязательно быть зараженным блохами: достаточно случайной встречи с животным. Часто говорят, что всего в двух-трех метрах от современного лондонца найдется крыса. Поэтому мы не можем сослаться на распространенность Черной смерти как на доказательство, что тела людей кишели насекомыми. Тщательное расчесывание гребнем с тонкими зубцами — очень эффективный способ удаления головных вшей; ежедневное расчесывание гарантирует, что случайно попавшая вошь не задержится и не отложит яйца. Вероятно, мы снова имеем дело с режимом личной гигиены, который работает до тех пор, пока его придерживаются.
Некоторые не хотели или не могли его придерживаться. Да, гребни были дешевы и доступны, но всегда были те, кто не мог себе позволить даже этого. Заключенных в тюрьмах иногда называют «вшивыми». Известна нам и печальная история 1608 года о Мэри Даффин из Нориджа. Согласно протоколам суда мэра города, ее хозяин, ответственный за ее здоровье, пока она была связана с ним договором службы, содержал ее «очень грязной и со множеством вшей». Уильям Буллейн в своем трактате «Руководство для здоровья» утверждал, что «простые деревенские люди — возчики, молотильщики, землекопы, рудокопы и пахари — редко находят время помыть руки, о чем свидетельствует грязь на них, и очень мало расчесывают волосы, что заметно по колтунам, гнидам, жиру, перьям, соломе и подобным вещам, которые висят на их волосах». Однако Мэри Даффин, о которой было записано, что она полна вшей, было всего около двенадцати лет, и она считалась жертвой несправедливого и неприемлемого обращения. Суд мэра освободил ее от обязанностей по отношению к такому нерадивому господину и вместо этого отдал ее в ученицы к Энн Барбер, которая, как ожидалось, будет придерживаться общепринятых норм приличия. В этой связи утверждение Уильяма Буллейна о простолюдинах отдает снобизмом и предрассудками. Обратите внимание: он считает, что эти люди не мыли руки или не расчесывали волосы. Но он не спрашивал их об этом. Тем его «простым людям», что ворочали солому, ухаживали за скотом или перевозили уголь, было прекрасно известно, что день можно начать чистым и ухоженным, но покрыться грязью уже к обеду. И когда лондонца Хамфри Ричардсона публично назвали в 1598 году «вшивым подлецом, подлецом со вшивыми штанами, негодным подлецом со вшивыми штанами», он был глубоко оскорблен. Конечно, вши и блохи были частью жизни (например, блох обнаружили среди образцов наносов, взятых с «Мэри Роуз»), но по реакции Ричардсона понятно, что с ними энергично и упорно боролись.
Мытье волос было необычной, но отнюдь не диковинной процедурой. Время от времени волосы омывали: летом или в хорошо обогретом помещении. Однако их просто ополаскивали в холодной воде, сдобренной травами. Горячая вода открывала поры на лице и коже головы, и ради сохранения здоровья ее следовало избегать. По представлениям эпохи Тюдоров, даже холодная вода была опасна, поскольку прохлада нарушала внутренний баланс и вызывала простуду.
Мишель де Нострдам, также известный как Нострадамус, работал в основном во Франции, где в течение нескольких лет занимал должность придворного врача. В дополнение к своим знаменитым мистическим пророчествам в 1552 году он опубликовал небольшую книгу рецептов. Это были предметы роскоши для аристократии и королевской семьи. Два из них — для изготовления краски для волос и бороды, при этом одна делала их «золотистыми», а другая окрашивала седые волосы в черный цвет. Для их использования в первую очередь нужно было помыть волосы «хорошим щелоком, поскольку на жирные или грязные волосы цвет не будет ложиться так хорошо». Однако использование таких жирорастворяющих жидкостей для тела или волос было проблематичным. Они могли быть очень едкими, что ломало волосы и повреждало кожу головы. Мыло, полученное из щелока (насыщенный щелочной раствор) было чуть мягче, но все же не подходило для частого использования.
3
Одевание
Святая Муза сделала божком
Амура, но нагим, без одеянья.
Его одену я своим пером,
И эту моду встретит ликованье.
Надежда — шляпа, лента — прелесть в нем,
Плащ — это хитрость, а камзол — желанье,
Печалью пояс завяжу узлом,
Спесь — наконечник, щелки глаз — терзанье…[9]
Сэр Джон Дэвис, «Дурашливые сонеты» (Gullinge Sonnets, 1584)
После того как умыты лицо и руки, надето чистое нижнее белье, расчесаны волосы и почищены зубы, пришло время одеться.
Все его платье
Мужская одежда имела большое общественное значение, куда большее, чем женская. Одеждой мужчина демонстрировал свое положение в обществе, что в Англии эпохи Тюдоров имело серьезные последствия. Законы ограничивали мужчин в праве носить некоторые ткани и цвета, разрешенные только определенным социальным слоям, так что бездумное одевание могло привести к проблемам с законом. В начале нашей эпохи в памяти людей еще был свеж статут 1483 года. Ношение «золотой парчи» и пурпурного шелка дозволялось только членам королевской семьи, а бархатную ткань могли носить только те, кто обладал достоинством не ниже рыцарского. Слуги мелких фермеров, рабочие и их жены по закону могли тратить не более двух шиллингов за ярд[10] на любую ткань для одежды. Даже если определенные фасоны платья не были запрещены законом, они свидетельствовали о профессии человека. В то время эту идентичность яростно защищали. Внешний вид мужчины на публике также говорил о его платежеспособности. В то время, когда не было формальной банковской системы и большая часть торговых операций проводилась в кредит, хорошо одетому человеку было проще получить товары и услуги. Тем, кто искал работу, нужно было рекламировать свои навыки и умения в рабочей одежде, подобающей соответствующей отрасли.
Как и нижнее белье, вся одежда по современным меркам была ужасно дорогой. Расходы на шитье одежды были огромны, особенно при обработке сырья. Взять, к примеру, овец. В эпоху Тюдоров овцы были хоть и не совсем миниатюрными, но все же куда меньше тех животных, что пасутся на современных полях. Изображения овец с пастухами, кости забитых животных, найденные во время археологических раскопок, вес забитых туш, записанный в счетах крупных хозяйств, — все это указывает на меньший вес животных. В стадах той эпохи ягнята-двойни были редкостью, а в наши дни, когда попадаются даже тройняшки, редкость — это скорее одиночные особи. Стада паслись на открытом воздухе на возвышенных пастбищах и зимовали на пахотных землях без всякого дополнительного кормления, за счет которого современные овцы откармливаются и жиреют. В результате настриг с одной овцы был и меньше, и легче. Прямо сравнивать вес руна некорректно: современное руно стрижется в одну кучу и взвешивается вместе. В записях же эпохи Тюдоров часто упоминается лишь самая качественная шерсть со спины и задних ног, которая взвешивалась перед продажей. Но все же руно XXI века весом 12 фунтов[11] и 1,5 фунта руна XVI века — это далеко не одно и то же.
В конце мая, когда становилось теплее, пастухи вели свои стада вниз к ручьям и прудам. Там они могли помыть своих питомцев и отвести их на чистые пастбища, где они бы высохли. Стрижка была массовым мероприятием, к ней привлекались все местные рабочие. Благодаря современным электрическим машинкам для стрижки профессиональные стригали из Австралии и Новой Зеландии за рабочий день стригут много сотен овец; столь же умелым и трудолюбивым людям XVI века, вооруженным парой ручных стригальных ножниц, в лучшем случае удавалось постричь тридцать. После того, как руно сострижено, его нужно рассортировать, свернуть и упаковать для продажи. Производство ткани начиналось с расчесывания шерсти: так ее очищали от травы, веток и другой грязи, распутывали узлы или спутавшиеся волосинки. Все это делалось вручную, трудом многих женщин и детей. Затем шерсть пряли с помощью простого веретена. К концу эпохи все чаще использовали прялку. Эту работу также в основном выполняли женщины и дети. Чтобы один ткач не сидел без дела, требовался труд двенадцати напряженно работающих умелых прях. Лишь немногим женщинам удавалось совершенно избежать прядения. Более того, это занятие стало синонимом незамужнего семейного положения (отсюда изменение значения слова spinster)[12]. Прядение, как и выпечка хлеба и варение пива, было одним из основных женских занятий. Оно снабжало дом шерстью и приносило в семью несколько пенсов.
Само ткачество было в основном мужской работой. Перед тем как начинать ткать, нужно было осторожно заправить нити в ткацкий станок (каждую из длинных нитей надо было продеть по всей длине будущего рулона ткани через различные части станка и аккуратно намотать на ткацкий навой). Обычно работали с куском ткани длиной 22 ярда, хотя закон предписывал незначительные различия в размерах для различных типов тканей. На изготовление одного куска ткани уходило до шести недель. После этого большинство тканей нуждались в дополнительной «отделке». Многие ткани нуждались в стирке или валянии (этот процесс был направлен на склеивание волокон), чтобы ткань стала более плотной и не пропускала ветер и дождь. Красильщики красили либо волокна — перед плетением, либо уже готовые рулоны ткани. Влажные полотна ткани растягивали, чтобы высушить и придать разрешенные законом размеры (ткань неподходящего размера могли конфисковать, а за каждое небольшое отклонение была предусмотрена система штрафов). Волокна поднимали, расчесывая поверхность ткани ворсянками, и стригли ее, чтобы она становилась гладкой и ровной.
Всем многочисленным работникам, занятым каждый своей операцией, нужно было зарабатывать на жизнь, и каждый немного прибавлял к стоимости конечного продукта. Это была сложная отрасль, для функционирования которой нужны были инструменты и оборудование, требующие значительных капиталовложений, и квалифицированные рабочие, способные заниматься этой работой. Волокна, пряжа и ткань перемещались из мастерской в мастерскую, неоднократно покупались и продавались.
Поскольку одежда была очень дорогой, нужно было хорошенько подумать, прежде чем выложить с трудом заработанные деньги. Те немногие предметы одежды, которые были доступны, выполняли множество функций. В первую очередь это защита от холода, ветра и дождя. Покупателю нужна была износостойкая одежда, которая будет служить до тех пор, пока у него не появится возможность заменить ее. Кроме того, его одежда должна была быть социально приемлемой, чтобы у него не было неприятностей из-за «непристойности» неподобающего наряда и чтобы он не стал объектом шуток и сквернословий из-за своей экстравагантности. Вместе с тем одежда должна была соответствовать тому образу, который он хотел явить миру, чтобы выглядеть респектабельно и привлекательно и демонстрировать свою групповую принадлежность. Его самооценка, образ в социуме и телесный комфорт были завязаны на нескольких драгоценных предметах гардероба.
Самым желанным предметом одежды многих мужчин была мантия. Она могла быть короткой, примерно до колена, или длинной, до лодыжек. Обычно мантии свободно ниспадали с плеч. Их носили как верхнюю одежду. В эпоху Тюдоров сосуществовало несколько разных видов мантий, но все больше предпочитали более длинные мантии с длинными и прямыми рукавами. Из-за свободного кроя это объемное одеяние было неудобным при работе руками. Кроме того, на его изготовление уходило много ткани. Мантия не была повседневной одеждой сельских рабочих или кузнецов; ее носили те, кто ведет больше сидячий образ жизни и располагает дополнительными средствами. Она была частью повседневного гардероба адвокатов, клириков, олдерменов, педагогов и большинства дворян. Считалось, что молодым мужчинам подобало носить мантии покороче, которые давали больше свободы движения; авторитетные и солидные люди предпочитали длинные мантии. Успешный и зажиточный кузнец или рабочий также мог иметь воскресную мантию.
О том, насколько желанными были мантии, можно получить представление из записей Филиппа Хенслоу. Он занимался театральным бизнесом, а также держал ломбард. Мантии составляли значительную часть заложенного имущества. Например, 13 мая 1594 года он «одолжил мистеру Бардесу 3 фунта и 10 шиллингов за мантию из шелковой ткани в рубчик, украшенную бархатом, на шерстяной подкладке», а двумя днями позже — «13 шиллингов за мужскую мантию с подкладкой из черного сукна». Такие мантии высоко ценились, их легко было продать, при этом в крайнем случае без этого предмета гардероба можно было обойтись. Первая из этих мантий, изготовленная из тяжелой шелковой ткани с бархатными полосками, нашитыми по подолу, спереди и вокруг воротника, с подкладкой из хорошей легкой шерсти, была предметом роскоши даже для зажиточного ремесленника, что подтверждает и сумма залога. Вторая мантия, которая была намного проще и дешевле, все же была довольно солидной для такого ремесленника, поскольку была сшита из сукна — одной из самых дорогих шерстяных тканей, доступных на рынке.
Когда люди приступали к составлению завещания, мантия зачастую оказывалась единственным упомянутым там предметом одежды. В конце концов, мантия подходила почти каждому, а с учетом того количества ткани, которая шла на ее изготовление, ее всегда можно было порезать и использовать для чего-то другого. Кроме того, мантия часто было предметом одежды, к которому его владелец питал наибольшую эмоциональную привязанность, поскольку она воплощала его положение и успех в этом мире. Особенно это касалось простых ремесленников, которым удалось занять пост олдермена или мэра. Официальной униформой таких должностных лиц считались мантии особого цвета, из определенной ткани и с определенной отделкой. Их было принято носить на все официальные мероприятия, и даже когда нужно было просто выйти по делам. В Эксетере мэр носил мантию и плащ из ткани scarlet (этим словом в переводе с английского — «алый» обозначали либо высококачественную шерстяную ткань, либо алый цвет, или то и другое, поскольку большая часть таких тканей красились в алый цвет). Цеховые старосты, располагавшиеся ступенькой ниже, носили фиолетовые мантии, а олдермены — багровые. Чем ярче оттенок, тем дороже обходится производство мантии, поэтому в этой иерархии различимо очень четкое визуальное представление структуры муниципальной власти. В некоторых городах мантию был обязан носить не только мэр, но и его жена. В 1580 году в Винчестере вышло постановление, что все мэры должны немедленно купить женам алые мантии. Их можно заметить и на некоторых портретах жен мэров, а также в завещаниях и описях имущества из других городов. Наша культура слегка насторожена к мужской моде. Мы ценим легкую небрежность в повседневной одежде, особенно у мужчин. Поэтому порой трудно понять, как мужчины эпохи Тюдоров наслаждались официальной одеждой и добивались права ее носить, считая ее подлинным символом успеха, который можно носить с гордостью.
Простые мантии были доступны значительной части населения, так что они были довольно распространенной, если не сказать вездесущей одеждой. Зато детали ткани, подкладки, покроя и отделки мантий означали практически бесконечное количество социальных градаций. Мантия из фриза была очень скромной по сравнению с мантией из сукна, а мантия из сукна блекла на фоне мантии из дамаста. Например, Ричард Бретт служил бейлифом в Молдоне в графстве Эссекс, то есть занимал определенное положение в органах местной власти. Однако его шерстяная мантия имела подкладку из овчины — одного из самых дешевых мехов, который, по закону и из-за его стоимости, разрешалось носить мужчинам незнатного положения. Ричард был обеспечен, у него было три отдельных дома и земельные участки, перечисленные в его завещании. Он мог позволить себе более изысканную и яркую мантию, если бы захотел, но вместо этого предпочитал скромное и сдержанное одеяние. Стивен Кэйтролл был младшим священником в приходе Лайер де ла Хей в Эссексе. В его завещании от 1567 года обе его мантии названы «длинными» — такой фасон считался атрибутом духовенства.
Под мантией мужчины носили дублеты и плундры — короткие мешковатые брюки. В самом начале правления Генриха VII они точно повторяли контуры тела. Дублеты были функциональной одеждой. Они служили дополнительным теплым слоем в верхней части тела и поддерживали плундры. Тогда было не принято выставлять дублет напоказ. В формальных ситуациях, например в церкви, на рынке или другом публичном мероприятии, их обычно не было видно. Если у мужчины не было мантии, он носил поверх дублета плащ. Дублет носили открыто только во время тяжелой работы.
Плундры, которые шли в комплекте с ранними дублетами, были длиной от талии до пальцев ног. Сверху, на линии талии, на них располагался ряд парных отверстий, которые позволяли крепко или, наоборот, свободно привязать дублет к плундрам. Такое привязывание было своего рода искусством. Два идеально связанных во всех местах предмета одежды смотрелись прекрасно — до тех пор, пока вам не придется сделать шаг; ежели связать их слишком свободно, то придется краснеть за выставленные напоказ плундры. Те, кому во время работы приходилось много копать или нагибаться, часто полностью распускали завязки (или шнурки) на спине, полностью затягивая лишь передние. Правда, в горизонтальном положении спина в таком случае оголится до ягодиц. Это хорошо видно по картинам Брейгеля Старшего с изображениями фламандского крестьянства. Правда, полы рубашек добавляют немного скромности их внешнему виду. Передние шнурки, завязанные посвободнее, помогали предотвратить натяжение во время ходьбы или бега. Поэтому большинство мужчин в основном полагались на боковые крепления для поддержки плундр, и расположенные там шнурки завязывались выше и туже, чем остальные. Эти аккуратные приспособления можно разглядеть на всех молодых аристократах, изображенных на иллюстрациях рукописей XV века. Я сама видела, как современные мужчины надевают реконструированные плундры и как сложно бывает им добиться баланса в креплении. Интересно отметить, что после того, как они открывали идеальный способ привязывания, почти никто не развязывал плундры и дублет, их стали надевать и снимать как единый костюм, похожий на комбинезон.
Полностью закрывающие ноги плундры давят на колени сильнее, чем брюки. Те могут свободно скользить вверх-вниз по лодыжке, когда люди садятся или встают на колени. Но, когда ступня и нога оказываются в одном предмете одежды, такая легкость движения достигается иным способом. Поэтому обтягивающие плундры часто были немного мешковатыми в коленях, где ткань натягивалась, чтобы приспособиться к движению. Молодой человек, желавший показать себя во всей красе, мог придать плундрам более изящный вид и одновременно продемонстрировать свои икроножные мышцы, если надевал подвязки сразу под коленом. Тем самым мешковатость ограничивалась областью колен, а плундры становились обтягивающими, гладкими и тугими в нижней части ног. На лицевой стороне вокруг переднего отверстия был привязан небольшой кусок ткани, служивший аналогом современной застежки-молнии. Это был гульфик. У большинства мужчин это был просто скромный покров. Тогда он редко раздувался или выпячивался. Плундры изнашивались гораздо быстрее, чем дублеты, плащи и платья, поскольку на них приходились самые интенсивные двигательные нагрузки. При ношении современных реконструированных плундр становится понятно, что особенно при этом страдают две области: ступни и отверстия для шнурков вокруг талии. Их ремонт достаточно прост и дешев, и для него не требуется большого количества ткани. Вероятно, поэтому у большей части фактически изношенных плундр заменялись ступни или же их носили с обрезанными ступнями. В монастырском музее в Вюртемберге, в Германии, есть пара прочных, натурального цвета льняных плундр, изготовленных приблизительно между 1495 и 1529 годами. У них отсутствуют ступни, при этом видно, что когда-то плундры покрывали всю ногу и были сильно изношены.
Большая часть цветных изображений мужчин эпохи Генриха VII содержится в иллюстрированных рукописях. Эти роскошные, похожие на драгоценности творения рисуют мир, населенный красочно разодетыми молодыми мужчинами в обтягивающих плундрах, которые стали прообразом моды «мужчин в трико». Но эти образы всегда были идеализированными. Часто они стремились изобразить священное совершенство, гармонию, а физическая красота символизировала внутреннюю чистоту и благочестие. Цвета также имели символическое значение: зеленые плундры, например, указывали на юношескую силу, а красные обозначали страсть. Другие иллюстраторы сознательно стремились изобразить ливрейные цвета и геральдику определенных королевских и аристократических домов. Некоторые из изображенных нарядов и вовсе были чистой фантазией, имеющей мало общего с настоящей одеждой, и были олицетворением экзотического, чужеземного, исторического и мифического.
Письменные источники рассказывают другую историю. Анализ завещаний первой половины XVI века показывает, что лишь немногие оставляемые в наследство плундры были ярких цветов. В этой выборке завещаний преобладают завещания наиболее состоятельных членов общества, при этом горожан, а не деревенских жителей. Наиболее часто упоминаемым цветом плундр был черный, а вторым по популярности — белый. Яркие цвета изредка встречаются в завещаниях аристократии. Разумеется, не все в завещаниях упоминали свои плундры, а те, кто это делал, обычно не упоминали цвета (исследование Марии Хэйворд показало, что цвет упоминается лишь в 44 случаях из 247). Возможно, все остальные плундры не были окрашены специально и имели кремовый, бежевый, серый или коричневый оттенки, характерные для различных пород овец или натурального цвета льна. Скорее всего, ткань также влияла на то, как выглядели плундры. В 1520 году, когда семья Лестрейндж приобрела плундры для мальчика — помощника на кухне, они купили ярд «ворсистой шерсти». В 1558 году Роберт Дадли снабдил своих поварят руссетом — домотканой шерстяной коричневой тканью. Оба этих вида тканей дешевы, достаточно прочны, имеют небольшое количество ворса и сотканы свободно, так что могут тянуться; при всем желании, из-за толщины ткани из них не может получиться гладких, глянцевых, элегантных плундр.
О том, что произошло с дублетом, плундрами, плащами и мантиями к середине XVI века, можно понять по портретам Генриха VIII, который взирает на нас, стоя в полный рост, широко расставив ноги. Большинству мужчин было не по карману огромное количество ткани, уходящее на пошив такой широкой мантии в складку. Но можно создать подобный эффект, если раскрыть свою скромную мантию, чтобы были видны надетые под ним слои. В результате дублеты и плундры стали популярнее среди самых разных социальных слоев. Закон также стал уделять больше внимания деталям мужского костюма. Генриху VII было достаточно просто повторить сумптуарные законы, которые были приняты его предшественником; его сына куда больше заботила доработка и обновление этих постановлений. Через год после восшествия на престол он выпустил первые из четырех статутов об одежде. Больше всего внимания в нем уделено верхушке общества, — тем, кто непосредственно окружал самого короля. Но эти правила повлияли почти на каждого мужчину. Подавляющему большинству людей, работающих на земле — пастухам, рабочим и мелким фермерам, — было запрещено носить любые импортные ткани. А из местных шерстяных тканей им дозволялось довольствоваться лишь самыми дешевыми. Например, разрешалось носить сукно, только если оно стоило меньше двух шиллингов за ярд, а плундры должны были быть сделаны из ткани дешевле 10 пенсов за ярд.
Постановления об одежде затрагивали ряд вопросов, которые беспокоили последующих Тюдоров. Одной из таких забот, очевидно, был платежный баланс. В надежде сократить отток денег из страны правительство дозволяло покупать импортную одежду лишь малой доле населения. Поощрение производства местного текстиля было направлено на поддержание мануфактур, а также на стимулирование рыночного спроса. Это было особенно важно для дешевых тканей, не пользующихся большим спросом за рубежом. Носители власти определенно считали себя обязанными защищать рабочие места и создавать новые. Наряду с движением национальных наличных средств, серьезное беспокойство вызывали также личные задолженности. Роскошные зарубежные ткани были предметом вожделения и толкали англичан на необоснованные финансовые риски. В преамбулах сумптуарных законов делались попытки сдержать разрушительные желания побаловать себя текстильной роскошью. Но, пожалуй, еще важнее этих опасений было то, что в статуте 1533 года именуется «низвержением блага и разумного порядка в понимании и различении людей согласно с их сословиями, выдающимися званиями и положением». Моды и монархи могли меняться, но это всегда оставалось главной заботой.
Без сомнений, для многих такие постановления не составляли большой проблемы. Большинство людей в любом случае с трудом могли позволить себе купить даже самую дешевую ткань. Но что делать, если вам, например, кто-то оставил в наследство хорошую суконную мантию? Может статься и так, что на местном рынке поношенной одежды окажутся наряды из чуть лучшей, пусть и довольно поношенной ткани, некогда принадлежавшие более состоятельным людям. Ввозившаяся из Ирландии шерсть стоила очень дешево и была вполне по карману большинству трудового люда, однако закон запрещал рабочим ее носить.
Ценовые ограничения повлияли и на цвет одежды. Ярко-красные, насыщенные черные, темно-синие и изумрудно-зеленые цвета требовали больших затрат на производство, из-за чего цена достаточно скромных тканей превышала норму, разрешенную законом. Самым дешевым вариантом были неокрашенные ткани. В средней ценовой категории можно было найти ткани, окрашенные бледно-голубым красителем, полученным из вайды, приглушенным оранжево-розово-красным, полученным из марены, и горчично-желтым — из резеды.
Более дешевые ткани, как правило, были менее «законченными» и изготавливались из более ворсистого руна, так что закон принуждал сельских рабочих выглядеть определенным образом. На то, чтобы рабочие придерживались разрешенных законом тканей, также были весьма практические причины. Фриз — толстая ткань с поднятыми ворсинками на одной стороне, сделанная из грубой шерсти и сотканная довольно свободно. Она теплая, удерживает много воздуха между волокнами и позволяет воде стекать по ней, особенно если ворс расположен вертикально вниз. Грубые, дешевые руна, которые использовались для ее изготовления, содержат большое количество песиги — длинных, толстых и жестких волос, которые позволяют овцам оставаться сухими под дождем; подшерсток овец короче, мягче, сильнее вьется и лучше удерживает тепло тела. Поэтому плащ из фриза был немного лохматым, и, поскольку его не очень хорошо красили (песига не так хорошо впитывает краску, как подшерсток), он обычно оставался натурального серого или коричневого цвета. Из фриза получались отличные плащи. Руссет можно окрасить более успешно: она немного мягче, чем фриз, и у нее больше складок, однако она больше пропускает влагу. Поэтому такая ткань лучше подходила для дублетов и плундр и хуже — для мантий и плащей. Холстина использовалась для дублетов, износостойкость которых важнее тепла. Например, тем, чья работа была связана с постоянным перетягиванием веревок, лучше было иметь холщовый дублет. Холстину редко красили. Изначально она была бежево-серого цвета и постепенно бледнела под солнцем и дождем до кремово-белого. Так что фриз, холстина и руссет преобладали в гардеробе самой большой части населения.
Моряки сильно выделялись на фоне своих покрытых шерстью сухопутных собратьев. Они не носили плащи из фриза и плундры из руссета. Моряков легко было отличить в любой толпе не только по материалу, но и по покрою их одежды. В описях имущества моряков встречается «морская мантия». По покрою она была больше похожа на халат по колено. На акварелях Джона Уайта, изобразившего моряков рядом с коренными жителями Нового Света, эта мантия представляет собой плотный, долгополый наряд с длинными рукавами, напоминающий халат. Он скрывает все, что находится под ним. Спереди такую мантию застегивали на все пуговицы или просто надевали через голову. Туго плетенный холст лучше защищал от ветра и воды, чем другие мужские костюмы. В Музее Лондона хранится предмет одежды, который вполне может быть одной из этих морских мантий, сделанной из просмоленной льняной ткани. Пропитка холста льняным маслом — еще один метод изготовления водонепроницаемой ткани для мужчин, которые сталкиваются с какими-либо превратностями погоды. В братстве мореплавателей также была популярна кожаная одежда. Обычно это были жакеты без рукавов, известные как колеты, но иногда встречались и кожаные дублеты и крайне редко кожаные плундры. Мартин Фробишер, знаменитый капитан, который руководил поисками Северо-Западного прохода в Азию, на картине 1577 года изображен в очень дорогой кожаной колете и бриджах, специально выбранных для того, чтобы подчеркнуть и увековечить его опыт мореплавания.
Но с течением времени закон менялся. К 1533 году, когда были приняты четвертые статуты Генриха VIII, правила стали гораздо более детальными. Они изменились вместе с экономическими и социальными реалиями. Ткань для плундр простолюдинов теперь могла стоить до двух шиллингов за ярд. Кроме того, можно было носить даже привозную холстину или бумазею. Это было очень кстати на фоне роста цен и того, что в Англию ввозилось огромное количество льняного полотна. Вероятно, это просто стало признанием произошедших изменений и свидетельством того, что закон отстает от жизни. Но в то же время закон усложнился. Мужчины-простолюдины были поделены на две группы: крестьян, которым разрешалось носить одежду по два шиллинга, и их слуг и учеников, которые должны были ограничиваться ценой 16 пенсов за ярд.
Новые правила также отдавали дань новой моде. Теперь плундры на уровне бедер разделились на два предмета одежды. Нижний из них, который надевали на стопу, визуально оставался практически таким же, как и нижняя часть прежних плундр: его могли называть чулками, плундрами или нижними плундрами. Верхний же был более плотным, и его называли также плундрами и бричзами. Из-за разреза на коленях уже не было потребности в том, чтобы ткань тянулась: верхнюю и нижнюю часть новомодных плундр надевали внахлест, что позволяло свободно двигаться. Поэтому бричзы делали из самых разных тканей, кроили и украшали по вкусу. Мне больше всего нравятся желтые вязаные бричзы из шелка, которые носил курфюрст Август Саксонский примерно в 1552–1555 годах. На мой взгляд, они воплощают в себе причудливость моды того времени и изящное мастерство ремесленников. Нижний слой сделан из кожи и доходит до нижней части бедер, совсем как у популярных ранее плундр полной длины: это гарантирует привычную удобную посадку и прочную основу для деликатной верхней ткани. Вязка очень тонкая: должно быть, на нее ушли недели напряженной работы. В подражание фасонам с накладными галунами, в ней оставили отверстия, разрезы, в которые вставили прозрачную желтую шелковую подкладку в форме броских буфов. Спереди — полноразмерный выпуклый гульфик. Согласно счетам, у курфюрста, как и у Генриха VIII, было несколько пар подобных плундр.
Большие выпуклые гульфики считались неприемлемыми в одежде людей, занимающих скромное положение в обществе. Они ассоциировались с властью и господством, с мужской самоуверенностью. Поэтому, наверное, неудивительно, что еще одной группой населения, которая носила заметные и вызывающие гульфики, выпяченные на всеобщее обозрение как символ агрессии и смелости, были солдаты. Молодой и ярко разодетый рубака-франт, меч которого громко бился о свисавший с пояса баклер (маленький кулачный щит), мог безнаказанно щеголять в самом эксцентричном гульфике. При этом на изображениях ремесленников и земледельцев нет заметных гульфиков. Но по крайней мере некоторые мужчины-простолюдины носили маленькие тканые гульфики из саржи. Три таких гульфика были найдены в земле на Уоршип-стрит (Лондон) среди других фрагментов одежды.
Эдуард VI так серьезно относился к одежде, что лично составил проект билля об ограничениях в одежде 1552 года. Елизавета I за свое правление выпустила несколько прокламаций, по которым можно составить представление об изменениях в моде, о доступных импортных товарах и озабоченности смешением различных социальных групп. Первые следы озабоченности «чудовищным и возмутительным великолепием» мужских плундр прослеживаются в сумптуарном статуте 1562 года, вышедшем спустя четыре года после восшествия Елизаветы на престол. Вопиющими и неподобающими к ношению где-либо за пределами королевского двора признаны и новые двойные гофрированные воротники, потому что то, что по последней моде приличествовало лорду, нелепо смотрелось на плотнике. Фраза «подражая лучшим из вас» (aping your betters, «обезьянничание») приняла визуальную форму на гравюре 1570 года. На ней изображены обезьяны, наряженные в одежду среднего класса, которые стирают и крахмалят рафы (гофрированные воротники). Притворяясь теми, кем они не являются, незнатные люди унижали самих себя, а также обесценивали то, чему подражали.
Социальная стратификация считалась естественной, а одежда только подчеркивала это расслоение. Одежда должна была визуально указывать на положение человека в обществе — чтобы показать не только уровень его доходов, но и род его занятий, будь он ремесленником или человеком свободной профессии, господином или слугой, землевладельцем или арендатором, отцом или сыном. Зная, кто этот человек, вы понимали, как с ним общаться, насколько сильно нужно выказывать ему уважение, надо ли перед ним кланяться или снимать головной убор. Вести ли с ним дела, просить ли его о помощи или нанимать ли в работники? В обществе, где большинство мужчин были вооружены, а к чести относились очень серьезно, ошибки могли быстро перерасти в насилие. Судебные протоколы изобилуют случаями перебранок и поножовщины из-за вопросов почтительности и чести. Возьмем записи коронера в сельском округе графства Сассекс всего за два месяца в 1596 году. 13 апреля Джеффри Кинг убил Томаса Хорна, ударив его посохом по голове. 9 мая Джон Альмон забил до смерти человека, который не пропустил его вперед на улице. В тот же день Ричарда Норриса ударил ножом в лицо Ричард Рамнаи, а 31 мая Уильям Фёрнер убил Ричарда Каймбера ударом в живот ножом.
Рис. 6. Обезьяны. Питер ван дер Борхт, ок. 1562 г. Сатирический смысл этой гравюры — подражание модам тех, кто выше вас по положению в обществе, но изображенные на ней практические детали, связанные со стиркой рафов, великолепны. Обратите внимание на корнеплоды, содержащие крахмал, лежащие на поверхности с правой стороны изображения, чудесную деревянную стойку для устанавливания воротников и аккуратное формирование влажных от крахмала рафов вокруг пальцев
До 1574 года все установленные законом ограничения на ношение одежды распространялись только на мужчин. В конце концов, именно положение мужчин оказало самое сильное влияние на общественную жизнь. Это мужчины владели землей, пользовались городскими свободами, заседали в судах присяжных, руководили церковной общиной, воевали за свою страну, посещали университеты. И именно мужчины в идеале, должны были быть главами домохозяйств. Поскольку каждая из этих ролей служила правильному общественному порядку, считалось, что их нужно подчеркивать очевидным для всех способом. И одежда была идеальным универсальным средством для выражения подобных идей, даже самая скромная шапка, как в следующем отрывке из баллады о конце правления Елизаветы.
- Монмутская шапка, мохнатая шапка моряка,
- И та, в которой ходит торговец,
- У хирурга, юриста и церковника,
- Та же шапка, которой коронованы девять муз.
- Шапка вводит в заблуждение, открывая все двери,
- Хорошая шапка поддерживает,
- И любая шапка, какой бы она ни была,
- Все же служит символом какого-то положения[13].
Всего лишь по одной шапке можно было узнать, врач ли вы, юрист или крестьянин, шут (он носил шапку с колокольчиками), моряк, клирик или ремесленник.
Большинство шапок вязали по кругу на четырех спицах, а затем валяли и утолщали, чтобы сделать ткань практически полностью водонепроницаемой. Закон[14] обязал всех мужчин и мальчиков старше пяти лет и по положению ниже дворянина (кроме дворянских слуг) надевать по воскресеньям «шерстяную вязаную шапку, связанную и произведенную в Англии». Но закон не уточнял ее цвет и форму. Нам очень повезло, поскольку до нас дошли несколько дюжин таких шапок, и это несмотря на все капризы времени, из-за которых не сохранилось практически никакой другой рабочей мужской одежды. Большинство таких шапок — круглые, плоские, с одним, иногда двумя полями внизу. По большей части они ассоциируются с городскими жителями — глина на берегах Темзы с успехом справилась с тем, чтобы сохранить для нас эти предметы одежды. В «Добродетельной шлюхе» Томаса Деккера (The Honest Whore, 1604) мы читаем:
- Пристали шляпы круглые плащам,
- Как шлемы панцирю, венцы царям[15].
Это подтверждают портреты, ксилографии и другие изображения: респектабельные купцы в мантиях, олдермены, чиновники и члены гильдий — все носят такие шапки, и почти все они окрашены в дорогой черный цвет. Однако дошедшие до нас шапочки изначально были самых разных цветов — не только черными, но и красными и синими, что указывает на то, что некоторые из них скорее всего принадлежали обычным ремесленникам и купцам.
Те, кто хотел подчеркнуть свой профессиональный статус, а не просто принадлежность к коммерческим и торговым кругам, часто носили плоскую вязаную шапочку с черным койфом. В личном сундуке цирюльника-хирурга на борту «Мэри Роуз» был найден именно такой койф из черного бархата, вырезанный из цельного куска ткани и скроенный с помощью десяти вытачек, каждая из которых была покрыта отрезом тесьмы. На картине Ганса Гольбейна-младшего[16] с изображением Генриха VIII и гильдии цирюльников-хирургов некоторые члены гильдии изображены именно в таких койфах. В то же время солдаты предпочитали «монмутские шапки». Их также вязали и валяли, но по форме они напоминали простую современную шапку «бини» или шапку с помпоном (только без помпона). Мохнатые шапки моряков также были вязаными, но сверху у них было лохматое покрытие из торчащих нитей, которые особенно хорошо защищали от воды. Головы же крестьян украшали маленькие круглые фетровые шляпы с полями.
Рис. 7. Джон Хейвуд. Неизвестный художник, 1556 г. Человек, щеголяющий своим нарядом: в полноразмерной мантии, надетой на плащ и бричзы, койфе и шапочке и подвязках в области колен. Он хочет показать себя молодым (об этом свидетельствуют подвязки), подающим надежды человеком свободной профессии (через облачение в мантию и койф)
Но что происходило, если мужчина — моряк или фермер — нарушал закон? Что, если он в особенно удачный год захотел похвастаться своим положением и купил, например, шелковую ленту на шляпу или пару черных плундр из грубой шерсти? Ну, по правде говоря, он вряд ли отправился бы под суд. Правда, мы знаем о нескольких таких случаях: например, Ричард Бетт, портной из Эссекса, был осужден в 1565 году за размер своих плундр; и в том же году Ричард Уолвейн, работавший слугой в Лондоне, был арестован за ношение «чудовищной и возмутительно великолепной пары плундр» — обвинение в данном случае почти дословно повторяло формулировку прокламации 1562 года. Но даже тогда люди понимали, что на практике следить за соблюдением сумптуарных законов просто невозможно. Многие были освобождены от их соблюдения: не только женщины, но и клирики, королевские служащие, слуги богачей, должностные лица в магистратах, выпускники университетов, послы, актеры и музыканты во время работы. Поэтому было достаточно сложно понять, нарушает ли кто-то закон парой своих черных плундр из тяжелого сукна или же он освобожден от его соблюдения. Многих удерживало в рамках закона социальное давление в отношении того, что считалось «приличным», но всегда находились те, кто хотел раздвинуть границы моды и выставить себя напоказ или же, воспользовавшись принятыми в обществе трактовками одежды, мошенничать, обманывать и надувать других людей.
Одежда была обычным арсеналом мошенников. В обществе, где подавляющее большинство демонстрировало свой статус и богатство посредством моды, было принято безоговорочно доверять приличному костюму. Войдите в трактир в хорошей черной мантии, и хозяин с удовольствием покажет вам отдельную залу, застелет стол лучшим хлопком и выделит оловянную посуду. Отправьте его за кувшином вина и сахаром, и вы успеете упаковать это все в мешок и вылезти в окно. В 1552 году была опубликована анонимная книга, озаглавленная «Манифест, в котором разоблачается самый подлый и отвратительный обычай игры в кости» (A Manifest Detection of the Most Vyle and Detestable Use of Diceplay). Предположительно она должна была служить предупреждением для молодых мужчин о трюках и уловках лондонского криминального братства. Книга, написанная явно в таблоидном стиле, поразила воображение публики и вызвала появление ряда подобных произведений. И хотя не стоит безоговорочно верить этим рассказам о жульнических уловках, шулерстве при игре в кости и карты, в основном они кажутся довольно правдивыми. Афера начинается с одеяния, привлекающего внимание предполагаемой жертвы. «Как-то раз, когда я прогуливался по церкви Павла… мимо меня проходил дворянин, хорошо одетый в шелк, золото и драгоценности, которого сопровождали три или четыре слуги в ярких ливреях, расшитых в разные цвета». Внимание такого персонажа впечатлило и польстило жертве. И если жертва, возможно, и поостереглась бы иной раз заговорить с незнакомцем в обычной одежде, то здесь она безоговорочно поверила тому, кто был «хорошо одет в шелка». И вскоре они уже вместе идут в таверну, где играют в кости на высокие ставки. В итоге жертву, конечно, обчищают.
Лондонский собор Святого Павла был известен тем, что в нем регулярно мелькали хорошо одетые воры. Их ремесло заключалось в том, чтобы распознать и остановить ничего не подозревающего деревенщину, отвлечь его внимание с помощью джентльменских любезностей и либо обчистить карманы, либо заманить на заранее подтасованную игру или в другое сомнительное место, где его можно было бы более основательно ограбить. На сленге той эпохи трюк с доверием назывался «приручением кролика» (cony-catching). Слово cony означало как молодого кролика, так и доверчивого идиота. В своей книге «Разоблачение уловок, применяемых ловцами простаков» (Notable Discovery of Cozenage, 1592) Роберт Грин пишет: «Ловцы кроликов, одетые как честные светские джентльмены или хорошие парни… видят простого деревенского парня, хорошо и чисто одетого, в плаще из домотканого материала или из фриза, в зависимости от сезона, и кивают в его сторону. “А вот и кролик”, — говорит один из них».
В большинстве случаев такого мошенничества использовалась одежда, подобающая людям более высокого статуса, чем та, в которую следовало бы наряжаться ее владельцу. Но одежда также могла вводить в заблуждение, если человек одевался скромнее положенного. Томас Харман, мировой судья из Кента, написал о таком случае в своей книге «Предупреждение об обыкновенных бродягах» (1565–1566): Николас Дженнингс был известен тем, что его обвиняли в ношении лохмотьев и попрошайничестве. На самом же деле он был владельцем черного фризового плаща, пары новых белых плундр, отличной фетровой шляпы и рубашки из фландрского льна, что в совокупности стоило шестнадцать шиллингов. Днем он бродил по улицам Лондона, обнаженный до талии, если не считать оборванной кожаной куртки без рукавов, к ногам его были привязаны грязные тряпки, а на голове — окровавленный койф. Он носил в руке потрепанную фетровую шляпу для милостыни и утверждал, что страдает от падучей болезни, или, как мы бы сказали, эпилепсии. Обман с переодеванием для выклянчивания милостыни вызвал возмущение и обеспечил ему дурную славу. Его приставили к позорному столбу, где он должен был попеременно стоять то в лохмотьях, то в своем приличном платье. А чтобы увековечить это событие, на исправительном доме была повешена картина с его изображением, а анонимный автор «Большой книги о “ловле кроликов”» (1592) позже опубликовал позорную историю Дженнингса, приложив ксилографию в обоих нарядах и назвав его чудовищным обманщиком.
Одежда как бизнес
В тюдоровской Англии готовая одежда была дефицитным товаром. Шляпы, чулки и перчатки можно было купить новыми, но практически вся остальная одежда шилась по требованию заказчика. Для более состоятельных покупка нового дублета начиналась с приобретения ткани и материалов для украшения. Портные редко носили с собой большой запас тканей, ограничиваясь в основном теми, которые использовались для подкладок. Помня о своем бюджете, человек шел в лавку купца или на рынок, чтобы узнать о доступных цветах, качестве тканей и их цене. Как правило, выбор был невелик. Немногие торговцы могли позволить себе большие запасы ткани; они старались не рисковать и держали лишь несколько дешевых тканей нейтральных и популярных оттенков, а также несколько небольших, но ярких отрезов шелка — чтобы оживить экспозицию. Конечно, чем больше город, тем больше выбор: наличие множества потенциальных покупателей способствовало большим оборотам и большему разнообразию товаров на разный вкус. Но даже в крупнейших городах и поселках за пределами Лондона купцы с трудом могли достать полный ассортимент тканей. Лондон занимал господствующее положение в торговле тканями. Туда стекались ткани со всего европейского континента и товары местного английского производства.
Для покупки ткани нужны были технические знания: некоторые веса и материалы кроятся лучше других; одни ткани подходят для плаща, а другие — для плундр. Чтобы не выкинуть деньги на ветер, надо подбирать испытанные и проверенные варианты или брать с собой знающего спутника. С этой драгоценной тканью в руках затем шли к портному, чтобы обсудить покрой и отделку. Мерка проводилась с помощью длинной пергаментной ленты. В отличие от современных рулеток, на ней не были нанесены отметки: это была простая лента, на которой портной делал несколько разрезов или штрихов. Это была ваша личная мерка, мерка конкретного человека. Затем портной приступал к одной из самых важных своих задач: он прикидывал, как расположить выкройку одежды по всей длине полотна, потратив как можно меньше ткани. Естественно, люди были очень скупы при покупке ткани, а любые остатки по традиции причитались портному, который мог сохранить их и продать, если это было возможно. Даже самые мелкие лоскуты отреза — их называли «капустой» или «мусором» — были ценны для него в качестве заплатки или набивки, или даже в качестве тряпки для производства бумаги.
Самые ранние дошедшие до нас выкройки портных представляют собой не сами выкройки как таковые, а начерченные планы, показывающие, как получить различные предметы одежды из кусков ткани разной длины и ширины; они не имеют ничего общего с размерами одежды. В фонде Музея Виктории и Альберта хранится черный шелковый костюм, который отражает суть отношений между портным и его заказчиком. Костюм, хранящийся в ящике в Блайт-хаус[17], быстро разрушается: за 400 лет черный краситель разрушил волокна, при малейшем толчке или движении поднимается и разлетается мелкая черная пыль. К сожалению, костюм слишком хрупкий, чтобы выставляться на экспозиции, а методы консервации, которые могли бы остановить его разрушение, до сих пор неизвестны. Мне выпала большая честь внимательно изучить наряд, чтобы разобраться в истории его создания до того, как он совсем не разрушится.
Владелец этого костюма в начале XVII века в качестве основы для своего дублета выбрал черную шелковую ткань, для рукавов — необычайно дорогой черный шелк с вкраплениями настоящих серебряных нитей, а на подкладку — небесно-голубой шелк. Костюм был скроен по последней моде: с жесткой прямой передней частью, высоким воротником, оборками вокруг талии и нашитыми плечевыми накладками. Необычным элементом стали висящие рукава помимо обычных, сделанные, вероятно, для того, чтобы продемонстрировать черную, шитую серебром парчу. Никакой практической функции у них не было: они просто были сделаны из лишней ткани, которая свисала с плеч сзади. Весь костюм покрыт черными шелковыми «нашивками». Эти нашивки, напоминающие искусно скроенные галуны, скорее всего, были изготовлены отдельно не портным, а профессиональным вышивальщиком и куплены в рулоне. Нашивки не сплетены, а скорее сконструированы соединением различных частей: на полоску холста сверху нашили полоску черного атласа, возможно, их скрепили клеем и перевернули обратной стороной от необработанных углов холста, а затем пришили на поверхность несколько черных шелковых шнурков, образующих сплошной повторяющийся рисунок. Сверху на них гладью и французскими узлами нанесен узор, образующий повторяющийся мотив виноградной лозы. Черная на черном, вышивка играет на различии текстур, на том, как свет отражается от различных шелковых поверхностей. Богатая и роскошная, она в то же время остается сдержанной.
Если рассмотреть сохранившиеся фрагменты, становится очевидно, что портной знал свое дело, имел доступ к лучшим материалам и был опытен в создании изделий высокой моды. Очевидно также, что он старался тут и там сэкономить несколько пенни, располагал командой работников и выполнял заказ в сжатые сроки. Первый этап работы был выполнен очень тщательно и бережливо. Черный шелк для дублета был обрезан так, что внизу на лицевой стороне у него было два шва, которые затем можно было тщательно скрыть нашивками. Портной постарался выжать из ткани как можно больше, а окончательное расположение нашивок было распланировано до шестнадцати на дюйм. На бричзы ушло не так уж и много черного бархата, поскольку множество фрагментов разной формы соединялись вместе из маленьких обрезков. Затем работа, кажется, распределялась между несколькими людьми, каждый из которых был занят отдельным участком, о чем можно догадаться по различным стилям стежков. Один работал над воротником, соединяя вместе два слоя картона, два слоя холста, сшитые вместе в форме дуги, а затем добавлял черный шелк и кремовую шелковую подкладку. Петлицы, полы, рукава, кружевные ленты и живот шились по отдельности, подшивались и уплотнялись различными материалами — от узелков из засушенных стеблей трав (стволов тростника) для жесткости в зоне живота до как минимум шести различных видов льняного полотна. Костюм сделан мастерски, но без лишней дотошности; ни одного лишнего шва. Если на готовом изделии шва не должно было быть видно, его не пытались сделать аккуратно. Внутри прятали множество узлов и свободных концов ниток.
Когда пришло время собирать воедино различные части костюма, это делали огромными стежками при помощи толстых прочных ниток. Затем поверх ткани наложили закупленные нашивки и пришили к ней невидимыми стежками. Возможно, у нашего портного было множество других заказов, а может быть, его торопил наш заказчик. Но из всех виденных мною элитных костюмов этот был сшит в наибольшей спешке. Только мастерство и опыт портного, точно знавшего, где и на чем можно сэкономить, спасли костюм от небрежного вида. Да, и кто-то случайно зашил три булавки в поясе бричзов — они все еще там.
Но наша история не заканчивается на том месте, когда клиент забирает свой срочный заказ. Он вскоре возвращается: бричзы ему не подошли. Вероятно, он мог и не заметить булавок, но однозначно понял, что они не подходят по длине. На каждой ноге снизу нужно было добавить по пять дюймов. Черного бархата, из которого шились оригинальные бричзы, не осталось, поэтому перешивали их с помощью фрагментов, оставшихся от другого заказа. Портному недоставало и нашивок. К счастью, у него были кусочки очень похожей ленты с немного другим узором — на самом деле с тремя разными узорами, но, поскольку все они были сделаны черным на черном и имели примерно одинаковую ширину, это было не очень заметно. Портному также пришлось поступиться аккуратным расположением нашивок: они все прекрасно сошлись уголок к уголку внизу, однако, чтобы продолжить работу, ему пришлось немного согнуть их в месте нового подола. Снял ли он неправильно мерки? В таком месте маловероятны ошибки с мерками, а в других местах не было перешивок, так что, вероятно, это сделано под влиянием моды. Мне нравится представлять себе, что наш клиент, который в спешке приобрел костюм, возможно, для нечастых визитов ко двору, надел его раз-два и вернулся к себе в деревню. Во время следующего визита он подумал: «О, все в порядке, у меня же есть тот новый черный костюм — он подойдет». Но к своей досаде скоро обнаружил, что за последние пару месяцев мода изменилась и бричзы выше колена больше не выглядят современно. Пришлось быстро возвращаться к портному: «Нет, просто перешей их с помощью того, что у тебя есть, у меня нет времени этим заниматься».
Но что, если вы не можете позволить себе заказать одежду у портного? Что делали все эти люди? Нижнее белье можно было делать дома. У рубашек простая форма, это всего лишь несколько прямоугольников, которые легко наметить и вырезать, а навыки шитья, необходимые для того, чтобы превратить их в предмет одежды, были частью общего образования женщин — и многих мужчин. Однако шить верхнюю одежду было гораздо более рискованно. Когда на ткань потрачены огромные деньги, ошибка в кройке могла стать катастрофой, а верхняя одежда, как правило, имеет форму, которую гораздо сложнее вырезать. Поэтому очень многие стесненные в средствах люди все равно несли свою ткань к портным. Расходы на пошив были во много раз меньше стоимости ткани. Альтернативой портным для многих людей был не самостоятельный пошив одежды, а покупка подержанных вещей. На всех уровнях общества рынок бывшей в употреблении одежды был огромным. Не было ничего постыдного в том, чтобы носить одежду, изначально сшитую для кого-то другого; это делала даже аристократия. Одежду оставляли в наследство, дарили, закладывали, покупали и продавали, часто ею выплачивали зарплату. Лучший воскресный дублет деревенского дворянина, со всеми его подкладками, уплотнителями, нашивками и пуговицами, мог после его смерти перейти к его брату или племяннику, который перешивал его под себя. После того как на дублете становились заметны следы носки, пуговицы и нашивки отрезали, чтобы использовать еще раз, а дублет отдавали слуге. С новыми пуговицами попроще его можно было носить еще какое-то время или продать мелкому торговцу, который ходил по домам, скупая старые вещи. Спустя недели он мог оказаться на спине крестьянина, после того как его жена хорошенько его почистила. По мере того как он все больше изнашивался, его штопали и накладывали заплатки, пока однажды не признавали слишком потрепанным и, вероятно, передавали снова, в этот раз, возможно, одному из сезонных работников на ферме. К этому моменту он мог уже десять лет как выйти из моды и сильно испачкаться, но, поскольку изначально это была хорошая вещь, дублет все еще мог обеспечить тепло и защиту от ветра и даже немного поблекшей элегантности.
Рынок подержанной одежды в Лондоне располагался вокруг Лонг-лейн в Хаундсдиче. Здесь можно было купить одежду практически любого качества, от роскошной мантии пэра королевства до самого старого оборванного фризового плаща подмастерья. Эти наряды чистились, латались, чинились и подгонялись по фигуре, к ним дошивали пуговицы и отделку, чтобы придать им более модный вид или сделать более практичными. Старая купеческая мантия становилась лучшим воскресным одеянием ремесленника, а наличие сильно изношенной и залатанной рабочей одежды указывало на то, что одежда была по карману всем, даже беднейшим слоям населения.
Около четверти всех завещаний эпохи Тюдоров упоминают одежду. Ее наследовали члены семьи, слуги и друзья. Самым близким обычно оставляли лучшие наряды, но иной раз завещалась «старая» или даже «худшая» одежда. Например, в Эссексе в 1576 году Томас Пейр оставил свой лучший плащ Джону Бентону, своему родственнику, носящему другую фамилию. Генри Нортон получил голубой ливрейный плащ и пару «лучших плундр», Томас Бочер — лучший фризовый плащ, двое других мужчин — по одному старому плащу, а Джон Хаббард — старую пару плундр. Двумя годами ранее Роберт Гейнсфорд поделил свой запас плундр между слугами: Натаниэль Элиот и Уильям Фелстед получили по паре из домотканого материала, Джон Гилберт получил лучшую белую пару, а Джон Нис — «худшую пару из домотканого материала». Но даже худшая пара домотканых плундр была приятным наследством. Не каждый, кому завещали одежду, сам ее носил. Иногда случалось, что мужчины оставляли одежду женщинам, или наоборот. Очевидно, предполагалось, что она будет перешита или продана. В мире без банков пара плундр могла запросто храниться в сундуке и дожидаться продажи или заклада.
Владельцы хорошей одежды могли выручить неплохие деньги: в конце 1590-х годов антрепренер Филипп Хенслоу одолжил мистеру Кроучу 3 фунта и 10 шиллингов под залог платья его жены. Ту же сумму он ссудил мистеру Бурдесу за шелковую мантию в рубчик, расшитую бархатом, с подкладкой из желтой шерстяной ткани, часто использовавшейся для прикроватных занавесок. Тогда эта сумма была эквивалентна 18-месячной заработной плате лондонской служанки и составляла две трети стоимости этой одежды при продаже. Даже подержанная пара худших домотканых плундр могла принести около четырех шиллингов. Кто в современном мире воротил бы нос от завещанного дара, равняющегося двухнедельной зарплате?
Женские наряды
Все начиналось с льняной сорочки. Ее шили дома из прямоугольных, а также двух боковых треугольных отрезов ткани, придающих нужную полноту в бедрах и на подоле, доходящем до середины икр. Сорочка у женщин служила нижним бельем, соприкасающимся с кожей. Стирать ее было легко. Трусов не было. По крайней мере, английские женщины их не носили. Некоторые иностранки (в особенности итальянки) носили панталоны, напоминающие мужские. Но даже на континенте они ассоциировались с куртизанками, носившими дополнительный слой белья, похожего на мужское, который служил для дополнительного возбуждения и придавал ауру порочности. Свою роль здесь сыграл и религиозный запрет, наложенный на переодевание в одежду другого пола, что в Библии названо «мерзостью»[18].
Сорочка, таким образом, обеспечивала скромность, гигиену и комфорт. Сделав первый шаг с кровати, вы в первую очередь натягивали сорочку. Имейте в виду, что лен — это очень холодный материал даже в теплый день, и соприкосновение с ним ранним морозным февральским утром — потрясение для организма. В домах аристократов и королей слуги прогревали сорочки у огня, прежде чем передать их хозяйкам, но большая часть людей могли облегчить это утреннее морозное воздействие, только взяв сорочку с собой в постель, чтобы немного прогреть ее. Затем надевались чулки. В то время как мужские чулки (плундры) были выставлены напоказ в качестве верхней одежды, женские чулки были в основном скрыты от глаз; они были короче и больше походили на носки, чем на чулки. Большая часть чулок доходила до колена. Чулки шили из льна, из сукна, и все чаще встречались чулки из шерсти, которыми пользовалось большинство, и из шелка для самых богатых женщин. Чулки из льна могли выдержать множество стирок и носились самостоятельно или под другой парой для комфорта и чистоты. Тканые или вязаные шерстяные чулки на удивление практически не нуждались в стирке. Чистая шерсть прекрасно справляется с запахом пота и бактериями кожи ног. Если вы привыкли к современным носкам с добавлением искусственных волокон и современной обуви с синтетическими подошвами, запах от ног и грибковые инфекции, вероятно, составляют часть вашей жизни. Носки из чистой шерсти и кожаная обувь обеспечивают гораздо более здоровую атмосферу, в которой запаху и грибковым заболеваниям, например стопе атлета, гораздо труднее закрепиться. Оба этих материала позволяют быстро испаряться поту, устойчивы к бактериям, которые вызывают неприятный запах, а шерсть особенно устойчива к грибкам, которые любят селиться на коже человека.
Кроме рук и лица, чаще всего регулярно мылись в воде именно ступни. Когда в 1575 году Дороти Кливли, лондонская замужняя дама с сомнительными моральными принципами, приказала своей служанке Юдифи помыть ее ступни и приготовить чистую сорочку, поскольку ей, возможно, придется переночевать с той, кто «побрезгует лечь с ней, если у нее будут грязные ступни, а сорочка несвежей», она выражала общие настроения. Ступням нужно было уделять чуть больше внимания, чем рукам и ногам, поскольку они быстро собирали грязь на улице и их нужно было помыть, прежде чем надевать чулки. Шерстяные чулки также можно стирать, хотя и не так часто, как льняные; тем не менее периодически полоскать такие маленькие изделия совсем нетрудно. Тканые чулки не так хорошо тянутся, как вязаные; их форма может быть неидеальной, из-за чего они мешком висят на лодыжке — в конце концов, чулки нечасто выставляли напоказ — или же они могли плотно облегать контур ноги, что выглядело более привлекательно, но тогда их сложнее было надевать и снимать. Если вы носите шерстяные чулки, будь они ткаными или вязаными, рано или поздно сваляются на концах, поскольку жар, влага и постоянное трение связывает волокна вместе. Моя дочь, которой не хочется штопать свои шерстяные чулки, просто подкладывает немного расчесанной шерсти в свои ботинки и ждет, пока волокна схватятся. Это очень эффективный способ, но не дожидайтесь момента, когда у вас появятся дырки: добавляйте шерсть, когда ткань начинает выглядеть более тонкой и еще остается что-то, к чему может прилепиться новая шерсть.
Любые чулки держатся на ногах за счет подвязок, завязанных под коленом. Хорошие подвязки немного тянутся, достаточно широкие и застегнуты на пряжку или связаны без узла. В качестве подвязки хорошо использовать полосу шерстяной ткани свободной вязки или плетеную косичку из шерсти; очень хороши в деле вязаные подвязки, похожие на те, что сохранились от середины XVI века и выставляются в Музее Лондона. Они вязались специальной платочной вязкой. Подвязки с пряжками до сих пор носят члены ордена Подвязки, а во время археологических раскопок и в грязи вдоль Темзы находят много маленьких застежек. Многие из них могут быть пряжками для подвязок. Чтобы закрепить свои подвязки с помощью метода, который мне показался наиболее комфортным, нужно сначала сделать из одного конца подвязки петлю размером в три дюйма и положить эту петлю вертикально с внешней стороны ноги (петлей вверх, концами вниз). Затем взять длинный конец и дважды обернуть его вокруг ноги, продевая его сквозь петлю и тем самым закрепляя ее на месте. Потом заправить длинный конец под получившееся в итоге переплетение. Такая конструкция должна удобно оставаться на месте без завязывания жесткого узла и при этом позволять вам свободно двигаться.
Таким образом, ваше тело было полностью покрыто слоем нижнего белья, которое регулярно стиралось; чулки и сорочка были барьером между кожей и внешним миром, откуда приходили грязь и болезни. Нижнее белье также защищало вашу дорогую верхнюю одежду от пота и жира, которые выделяет тело. Этот интимный, индивидуальный защитный слой был второй кожей и практически не менялся на протяжении всей тюдоровской эпохи. Да, формы рукавов входили в моду и устаревали, менялись стили вышивки, использовались разные кружева и немного изменялись вырезы, но, по сути, слой, прилегающий к телу, оставался без изменений, поскольку его практическое значение оставалось прежним.
В 1485 году, в начале нашего периода, поверх сорочки надевали длинное платье (кертл, kirtle) с рукавами, скрепленное шнуровкой. Это было плотное одеяние, повторяющее форму верхней части тела и расширяющееся книзу от талии. В идеальном мире у вас была бы мантия, которую можно носить поверх него. Она могла быть похожей по форме и материалу на ваше платье. Весь смысл был в том, чтобы носить одежду в два слоя — конечно, для того чтобы было тепло, но и еще и для того, чтобы покрасоваться. Поскольку мантии были самым верхним слоем одежды и поэтому самым заметным, их обычно шили из ткани чуть получше. Но важно было показать не ткань, из которой сделана ваша мантия, а просто то, что она вам по карману и что под ней вы носите платье. Поэтому у мантий были более низкие воротники или более короткие рукава, которые показывали нижнюю одежду. Среднего качества платье и мантия придавали больше солидности, чем просто хорошее платье. Мантии обычно надевались на официальные мероприятия, такие как поход в церковь (очень холодное место, где приходилось долго стоять неподвижно), при приеме гостей и во время походов на рынок. Естественно, холодной зимой вы надевали на себя все и без повода.
Чтобы надеть утром платье, нужно было изгибаться и трястись. Часто считается, что только те, у кого были служанки, помогающие одеваться, носили платье со шнурками на спине. Однако есть изображения работающих женщин, завязки на платьях которых расположены точно не спереди. Иногда шнуровка расположена на боку, но ничто не мешает женщине надевать или снимать платье со шнуровкой на спине самостоятельно. Фокус заключается в длинных шнурках и технике спиральной шнуровки. На тех немногочисленных фрагментах одежды и еще более редких полностью сохранившихся женских нарядах есть множество близко расположенных отверстий для шнурков. Благодаря этому платье закрепляется равномерно и комфортно. Из-за широко расставленных отверстий возникали большие складки, которые не только некрасивы, но и неудобны. Стоит также обратить внимание на расположение этих отверстий относительно друг друга. Они не параллельны разрезу, а расположены в шахматном порядке; их нужно шнуровать не крест-накрест, как ботинки, а в одну длинную непрерывную спираль. Закрепите один конец шнурка в отверстии в нижней части ряда и протяните его оттуда вверх с помощью свободного конца. Если ваш шнурок достаточно длинный, шнуровку можно сделать очень свободной и оставить открытым промежуток в четыре-пять дюймов по всей длине спины. Такая шнуровка превращает платье в довольно большую тунику, которая достаточно свободна для того, чтобы ее можно было надевать через голову одним простым движением. Надев и разгладив платье, возьмите незакрепленный конец шнурка и потяните за него. Спиральная шнуровка затянется с этого конца. Чтобы снять платье, вам снова придется покрутиться, чтобы ослабить шнуровку; возможно, вам нужно будет дотянуться до талии сзади, чтобы сделать это. Распустив шнуровку, поднимите заднюю часть платья над головой и стяните его, как будто вы снимаете шкуру с кролика.
Платье — это хорошая рабочая одежда, обычно достаточно теплая сама по себе для занятий физическим трудом; оно достаточно облегает тело, чтобы ничто не колыхалось и не мешало двигаться. Платье из хорошей, прочной, износостойкой шерсти защищает вас от жары и искр пламени, щепок и колючек из оград и живых изгородей, раздражающего воздействия сока растений, солнечных ожогов и трения при использовании инструментов, плугов и тележек. Засучив рукава и повязав сверху передник, вы можете готовить и мыть, доить коров и стирать белье. Работая в грязи и в ручье, можно подвернуть юбку, чтобы она не мешала.
Не менее важным был головной убор. Молодые девушки могли выставлять напоказ свои волосы; они были символом девичьей невинности, и поэтому в день свадьбы молодые женщины расчесывали и распускали свои волосы. Примечательно, что Елизавета I решила быть коронованной «простоволосой», что вызывало ассоциации с брачной церемонией и было декларацией веры, понятной всем ее подданным. Однако в повседневной жизни большинство девочек и молодых женщин практически всегда покрывали голову, как замужние женщины.
Сначала нужно было собрать волосы. Шпилек в современном смысле слова тогда не было; вместо них использовались шнурки или ленты. Существовало два основных способа: волосы можно было собрать в перевязанный хвост и в косу. И коса, и хвост могли быть как одиночными, так и парными. Очертания прически можно понять по форме головных уборов и рассмотреть на изображениях девушек и даже святых.
Давайте начнем с одиночного хвоста или косы. Если мы пересечем Европу и перенесемся немного вперед во времени из тюдоровской эпохи, то обнаружим пример того, как волосы собирали в один хвост на голове молодой женщины, умершей в 1617 году в Чехии. Ее гробница была открыта в 2003 году. Немного пугает то, насколько фантастически хорошо она сохранилась. Ее светлые волосы причесаны и украшены наложенной сверху по всей длине «колбаской» из хлопковой набивки. Волосы собрали в хвост с помощью длинной ленты, а набивка оказалась сверху. Два конца ленты равномерно скрутили крест-накрест по всей длине волос, чтобы соединить волосы и набивку. Получившуюся в результате толстую, длинную, закрученную косу подняли наверх и уложили кольцом на голове, а сверху надели шапку. Выглядит это роскошно. Женские волосы были не предназначены для чужих взглядов и считались главным украшением женщины. Добавление накладки создает иллюзию огромного чувственного объема волос, на который провокационно намекает головной убор. Конечно, скручивание выглядит хорошо даже в том случае, если вы используете только свои волосы, гораздо менее впечатляющие своим объемом. Одну скрученную косу можно закрепить на месте с помощью длинной булавки — например такой, как булавка для шляп. Еще крепче волосы будут держаться, если использовать две булавки под углом друг к другу. Примечательно, что многие богатые женщины в конце XVI — начале XVII века включают две серебряные булавки в дары, которые передают по наследству. Две отполированные щепки из кости или дерева также хорошо подходят для закрепления волос на голове. Скрученные косы гораздо меньше скользят и проще в обращении, чем волосы, просто собранные в пучок, и такую прическу возможно сделать даже без множества современных проволочных шпилек.
Плетеную косу проще было сделать самостоятельно. Заплетайте волосы, как обычно, но вплетите вместе с одной из прядок ленту. Перевяжите косу этой же лентой, сверните ее в кольцо и закрепите булавкой на голове таким же способом, как и хвост в предыдущем варианте.
Для прически из пары хвостов и кос нужно всего лишь разделить волосы на два пучка, а затем скручивать или плести, как обычно, оставляя при этом с каждой стороны длинный свободный конец ленты. Две косы волос можно скрестить в задней части шеи, поднять над головой, снова скрестить в верхней части головы, опустить вниз и закрутить в кольцо, прежде чем привязать их концы друг к другу с помощью ленты; ленты при этом могут свисать даже ниже длины волос. С такой прической у вас не будет пучка или кольца на голове, которые привлекали бы внимание к вашим скрытым от глаз сексуальным волосам, но этот метод гораздо более надежный и практичный для тех, кто собирается заниматься физическим трудом.
Собрав волосы, можно привязать или прицепить булавкой к голове шапочку или ободок, к которым крепится вуаль. Проще всего взять полоску подшитого льна шириной 2 дюйма, горизонтально обернуть вокруг головы и закрепить. Она должна была плотно прилегать к голове и скрывать линию волос надо лбом. Большинство женщин в качестве головного убора носили простой кусок льняной или шерстяной ткани, наброшенной на голову и удерживаемой на месте ободком. Сделать свой образ чуть более модным можно было с помощью различных способов закрепления ободка или вуали. В 1485 году многие женщины все еще носили над бровями ободок круглой формы, но через несколько лет в сельскую местность пришла мода на заостренную форму, как у гейбла, или тюдоровского чепца. Это был элемент очень дешевой моды. Сложите свою вуаль пополам и, придавив сверху каким-нибудь грузом, оставьте так на ночь, чтобы в верхней части появилась заметная складка, немного сдвиньте две булавки — и, вуаля, вы выглядите по последней моде. Получался не совсем английский гейбл, который носили при дворе, но явно что-то отдаленно похожее на него.
Рис. 8. Гейбл (тюдоровский чепец), вид спереди и сзади. Фрагмент картины Ганса Гольбейна-младшего (1497–1543), 1528 г.
К 1580-м годам появляются новые предметы одежды, мантии отходят на второй план, а головные уборы выглядят совсем по-другому. Наряды, которые носили при дворе, всем нам хорошо известны: Елизавета в своих великолепных белых гофрированных воротниках, в длинном, обтягивающем, подчеркивающем фигуру корсаже и широких юбках с фартингалами (нижними юбками на обручах или с набивкой). Этот культовый стиль появился благодаря ряду новшеств в портняжном деле. Новые предметы одежды появились вместе с новыми материалами и техниками. Небольшие льняные оборки вокруг воротников рубашек могли раздуться до настоящих больших гофрированных воротников только с появлением крахмала, который придавал им жесткость. Техника крахмаления, согласно «Анатомии злоупотреблений» Филипа Стаббса (The Anatomie of Abuses, 1583), была заимствована в 1564 году из Нидерландов. Помимо закрепленного клеем холста и пучков тростника для поддержки ткани и придания ей жесткости стал использоваться китовый ус, что позволяло рукавам и фартингалам принимать не просто более объемные, но и более сложные формы. В то же время с континента, предположительно вместе со свитой Екатерины Арагонской, было завезено бобинное кружево, благодаря чему английский арсенал пополнился еще одной техникой декорирования, а вязание, которое раньше считалось иностранной диковинкой, стало крупнейшей местной отраслью производства.
Большие гофрированные воротники (рафы) сразу приходят на ум при мысли о тюдоровском периоде, однако они были главным образом фирменным нарядом именно Елизаветинской эпохи. Так сколько людей на самом деле их носило? Из изображений и документов следует, что практически вся аристократия и наиболее влиятельные джентри носили их примерно с 1564 года, когда в стране появилась техника крахмаления. Например, когда в 1565 году умерла Елизавета, графиня Вустерская, она оставила кое-какую одежду своей дочери и племяннице, незамужней Энн Браун, в том числе «всю мою льняную одежду, сорочки, парлеты[19], рафы и рукава». Рафы, или, как их часто называют, «ленты», редко упоминаются среди имущества широких кругов населения до конца века, а затем фигурируют в основном в связи с предприимчивыми городскими жителями. Такими, например, как торговец скобяными изделиями Эдвард Хэдли, который жил и работал в Банбери и имел два гофрированных воротника, несколько серебряных пуговиц и небольшую коллекцию книг. В сельской местности рафы носили, похоже, лишь дворяне. Однако Лондон был городом рафов. В 1569 году горничной, выписавшейся из больницы Святого Варфоломея, вернули ее одежду, в том числе «три пары гофрированных воротников». Благодаря королевскому двору появилось много рабочих мест для прачек и горничных, которые чистили, крахмалили и формировали рафы для аристократии, перемещающейся между двором и своими поместьями в деревне. Джентльмены, приезжавшие в город по делам, создавали дополнительный спрос на эти услуги, так же как и постоянно проживающие в городе люди свободных профессий — доктора и юристы. Мэры, олдермены и богатые купцы считали рафы допустимой модной деталью, которая красиво оттеняет их сдержанные черные мантии и подчеркивает их состоятельность.
Рис. 9. Иллюстрация из книги «Анатомия злоупотреблений» Филипа Стаббса (The Anatomie of Abuses, 1583), издание 1882 г.
Хотя рафы, возможно, и были показателем статуса, в сущности, они были не такими уж дорогими. Для изготовления одного гофрированного воротника было достаточно половины ярда тонкого льна, то есть четвертой части того, что требовалось для пошива рубашки. Поэтому женщине, которая для работы выучилась шить и крахмалить, было достаточно легко сделать для себя один (или даже три) таких воротника. Профессиональный портной Эдмунд Пековер взял 3 шиллинга и 8 пенсов за «пошив рафа» для семьи Натаниэля Бэкона. Как брат сэра Николаса Бэкона, лорда — хранителя королевы Елизаветы, Натаниэль, должно быть, покупал лучшие и самые замысловатые воротники, так что это была самая высокая цена изделия. Поэтому тот вариант воротника, который мог позволить себе решительный молодой франт, был очень доступным элементом высокой моды, который обходился в очень скромную сумму по сравнению с 2 фунтами, 2 шиллингами и 4 пенсами, которые Натаниэль заплатил Эдмунду за простой повседневный дублет из бумазеи. Антрепренер Филипп Хенслоу и Эдвард Аллен, один из самых известных актеров Елизаветинской эпохи, занимались бизнесом, связанным с рафами. Они вложили деньги в «дом, в котором можно было крахмалить», а их партнеры, Джон Окли и Николас Дэйм, должны были поставлять различные чаны и оборудование. Главным покупателем накрахмаленных рафов должен был стать сам театр, поскольку воротники необходимы для костюмов всех богатых и важных персонажей, выступающих на сцене, но Хенслоу и Аллейн явно рассчитывали на то, что у них будет множество других клиентов, поскольку собирались брать себе три четверти прибыли в качестве платы за аренду дома для крахмаления.
За прошедшие годы я сделала около сорока или пятидесяти гофрированных воротников, крахмалила их, устанавливала их различными способами и красила в несколько разных цветов. Я делала огромные воротники, которые называли «колесами телеги», крошечные манжеты для запястий, многослойные рафы, мягкие свободные рафы и дерзкие розовые рафы. Мне кажется, эти воротники делают одежду елизаветинских времен более сложной и показывают уровень мастерства ее создателей. Изготовление любого рафа начинается с длинной полоски льна, вырезанной не по длине, а поперек полотна так, чтобы уточная нить располагалась вдоль длины полоски. Теперь более прочные нити основы могут расходиться от горловины. Вам нужно соединить вместе несколько кусков ткани, чтобы получить полоску нужной длины. На самый простой раф из достаточно плотной ткани потребуется полтора ярда материала, а на тонкие рафы может уйти до 12 ярдов. Для более сложных голландских рафов в XVII веке использовали почти 20 ярдов. После того как вы соединили детали в одну длинную полосу, всю эту ткань нужно гофрировать, чтобы сделать из нее пояс, размер которого должен быть равен обхвату шеи. Затем нужно сначала немного загнуть один из краев полосы по всей ее длине (на сохранившихся рафах эти сгибы достигают в ширину одной шестнадцатой дюйма, или одного миллиметра), а вдоль противоположной стороны проложить три параллельных ряда стежков. Они должны точно совпадать, как шнурки на гофрированной гардинной ленте, но в отличие от толстых штор, стежки, из которых состоит строчка, должны быть не больше четверти дюйма — семи миллиметров в длину.
Когда вы затянете эти три нити, полоса собирается гармошкой в крошечные складки. На этом этапе лучше потратить немного времени и выровнять складки воротника, чтобы гофрированная ткань лежала аккуратно и не скручивалась. Затем можно было пришить воротничок — простую двойную прямую полосу хлопка, достаточно длинную для того, чтобы ее можно было обернуть вокруг шеи. Лента складывается по необработанному краю так, что ряды стежков остаются спрятанными внутри. Каждую крошечную складку одним стежком пришивают к воротничку с обеих сторон ленты. Это кропотливая работа. Стежки должны быть одинаковыми, чтобы воротник не скручивался и не морщился. Затем можно пройтись стежками вдоль воротничка поверх всех гофрированных складок, чтобы прочно закрепить их на месте. Аккуратно заделайте швы с двух концов ленты и добавьте в качестве креплений петельки, завязки или крючок с петлей — и раф готов. Но, хотя шитье на этом закончено, носить раф пока нельзя. Необходимо сделать крахмал и нагреть гофрировальные палочки.
Можно было использовать любое растение, содержащее крахмал; проще всего было пустить в ход зерновые, но применялись также и различные корни (но не картошка: обычный картофель появился в Британии в самом конце века и был слишком дорогой экзотической диковинкой, чтобы его использовали для изготовления крахмала). Если вы посмотрите на великолепную гравюру обезьян, устанавливающих воротники, которую я упоминала выше, вы можете увидеть, что с правой стороны на столе под сушащейся связкой рафов лежат такие корни. Мне удалось сделать удачную смесь из пастернака, мирриса и колокольчиков дикого гиацинта. Растения нужно помыть и несколько часов кипятить, чтобы они отдали крахмал, а затем более мягкую часть мякоти нужно пропустить через сито, убрав волокна. Затем лучший крахмал снова варят и пропускают через более тонкое сито. Получившуюся субстанцию, похожую на желе, можно использовать в таком виде или разложить на тонких простынях для сушки. Сухой крахмал можно растолочь в мелкий порошок и хранить. Чтобы использовать его, нужно будет всего лишь смешать крахмал с небольшим количеством кипящей воды.
На этом этапе нужно было выбрать цвет крахмала. Самым распространенным был естественный белый, но есть упоминания о том, что также использовался желтый, розовый и голубой крахмал. Получившиеся в результате накрахмаленные рафы впитывали лишь самые бледные оттенки цветного крахмала, и поэтому на грязной или сильно отреставрированной картине цвет мог быть незаметен. Тем не менее на изображениях людей эпохи Тюдоров, дошедших до наших дней, цветные рафы встречаются. Бледно-розовый (в эпоху Тюдоров этот цвет ассоциировался с мужской юностью) гофрированный воротник изображен на портрете неизвестного мальчика, держащего книгу и цветы, написанном в 1576 году. Его дублет также розового цвета и имеет отверстия, сквозь которые видно красную подкладку. На портрете Ульбе ван Айльва, кальвиниста из Фрисландии, написанном анонимным немецким художником в 1578 году, Ульбе изображен в темно-коричневом дублете и венецианских плундрах с одинаковыми розовыми рафами вокруг запястий и шеи. Желтый крахмал был особенно популярен в первые годы XVII века, но быстро вышел из моды после политического скандала с участием Энн Тёрнер, которую вместе с графом и графиней Сомерсетскими осудили за убийство сэра Томаса Овербёри. В 1615 году Энн повесили, а о ее склонности носить желтые рафы стали много писать в популярных балладах и листовках, пересказывающих случившееся. Голубой цвет вышел из моды после того, как его начали ассоциировать с проститутками, чьи широкие рафы, по словам Роберта Грина, «славились роскошным голубым крахмалом». Елизавета I дошла даже до того, что приказала лорд-мэру Лондона сообщить лондонцам, что «Ее Величеству угодно, чтобы голубой крахмал не использовался и не носился никем из ее подданных». Однако моде на цветные рафы было очень легко следовать, поскольку цветным был крахмал, а не само изделие, которое можно было постирать. Один и тот же гофрированный воротник мог быть розовым в один день и белым на следующий.
Форма воротника также зависела от крахмаления. Оборки можно сформировать вокруг пальца, узкой палки или широкой палки, которая может быть круглой или плоской, как линейка. Чистый раф сначала окунали в крахмал так, чтобы оборки полностью им пропитались, при этом стремясь не испачкать воротничок, чтобы он не стал жестким и неприятным. Затем воротник необходимо формировать вокруг пальцев, чтобы ровно распределить крахмал и убрать его излишки. Если вы будете работать небрежно на этой стадии, раф окрасится неровно и будет выглядеть неприглядно: некоторые места будут жесткими, а другие останутся мягкими. По мере высыхания крахмала необходимо несколько раз провести пальцами между оборками рафа, чтобы лен не склеился, и растянуть оборки. После высыхания в качестве финального штриха можно отполировать лен камнем для полировки стекла. Это чрезвычайно длительный процесс: на то, чтобы обработать всю длину собранной в гармошку полосы, требуется три-четыре часа. Это кропотливый труд, для полировки нужно добираться до самого сердца складок, но результат того стоит: такой воротник выглядит куда более впечатляюще, чем неполированный раф.
Наконец вы готовы нагреть свои гофрировальные палочки и начать формировать окончательную форму. Самые первые палочки делались из отполированного дерева. На них плотно и жестко натягивали лен, чтобы закрепить форму. Но деревянные палочки быстро сменились металлическими, которые можно было нагреть в огне, как утюги. Для большего эффекта можно слегка намочить раф — например подержать его несколько мгновений над кипящим котелком. Однако пальцы по-прежнему играют ключевую роль: при каждом толчке палкой нужно плотно наматывать на нее лен и несколько секунд надавливать на нее. Во время одного крахмаления можно использовать палки разных размеров и форм. Там, где на раф нанесен заметный узор, например вышивка кружевом или прорезная вышивка, можно подчеркнуть некоторые его повторяющиеся элементы, по-особому укладывая воротник. Например, в один день можно сделать акцент на большом квадратном узоре, используя для верхней части оборок широкую палку, а в нижней части работая палкой меньшего размера, так что выделяться будет только один узор. На другой день можно уложить воротник так, что наиболее заметным станет более мелкий круглый мотив или же оба они будут чередоваться. После окончания крахмаления форму рафа можно было закрепить, собрав вместе оборки в тех местах, где они соприкасаются друг с другом. Иногда для этой цели использовались крошечные капли пчелиного воска. Небольшие кусочки воска раскатывали в руках, чтобы скатать из них шарики и согреть, а затем вбивали между слоями льна и крепко прижимали, чтобы склеить ткань; что немаловажно, воск можно было легко смыть при стирке воротника, что позволяло по-новому накрахмалить и установить раф. Чаще для скрепления использовались булавки, в особенности для больших широких оборок, которые были популярны в елизаветинской Англии (голландские рафы были меньше и уже). Булавка, вставленная радиально от внешней стороны к центру, не только удерживала конструкцию на месте, но и обеспечивала ей большую стабильность. Владельца воротника окружал легкий металлический каркас из булавок, воткнутых везде, где слои свернутого льна соприкасались друг с другом.
Вот такой огромный объем работы нужно было проделать, чтобы приготовить раф к ношению. На сооружение сложных конструкций из отполированного льна мог уйти целый день, и даже на простой, неотполированный, маленький воротник требовалось несколько часов. К счастью, они довольно хорошо держат форму. Если вы не попадете под проливной дождь, хорошо накрахмаленный воротник сможет вынести несколько недель носки. Реальным ограничивающим фактором было то, насколько грязной становилась горловина.
Ношение рафа сопряжено с небольшими неудобствами. В гофрированном воротнике способность поворачивать голову ограничена, что придает определенную элегантность движениям, поскольку требует поворота всем телом. Более того, роскошная мужская и женская одежда елизаветинских времен мешала поворачиваться в талии, так что делать это нужно было всем телом, начиная со ступней. Приходилось придерживаться манерного, продуманного стиля поведения, которым многие восхищались, считая его показателем вежливости, воспитанности и утонченности. Прием пищи доставлял больше хлопот. Раф не столько мешает есть сам по себе, сколько требует большой аккуратности: даже самое маленькое пятнышко от упавшей еды выглядит на нем отвратительно. Крошки на воротнике выглядят не очень хорошо, а пятна — еще хуже. Поэтому тому, кто носит раф, нужно быть очень аккуратным, чтобы неукоснительно соблюдать обеденный этикет эпохи Тюдоров, не спеша поднося ко рту только маленькие кусочки, с которыми удобно обращаться. Носить манжеты гораздо сложнее, чем воротник на шее. Нельзя положить руки на стол, не испортив рафы, нельзя положить их на колени или позволить им свободно висеть по сторонам. Держать предплечья на весу весь день очень утомительно. Джентльменам было чуть легче, поскольку они могли положить руку на бедро и меч, чтобы немного отдохнуть. Это была, в сущности, мужская поза, совершенно неподходящая для женщин, и поэтому, возможно, более объемные гофрированные манжеты можно было увидеть скорее на мужчинах, чем на женщинах.
Булавки и крючки, пуговицы и шнурки
Проблема нехватки одежды в сундуках и гардеробах в тюдоровскую эпоху решалась с помощью разных ухищрений. Например, имея множество отдельных маленьких предметов одежды, можно было собирать наряды различными способами. У женщин это могли быть мантии, пальто, плащи, платья, платья со шнуровкой, нижние юбки, корсажи (bodies) и накладки для них (stomachers), рукава, парлеты, шейные платки, койфы, капюшоны, чепцы, вуали, пикадили, ребато, передники, сорочки, чулки, подвязки, пояса, украшения и диадемы, жилеты, кашне, крепины, юбки для верховой езды, фартингалы, накидки, повязки на голову и бонграсы, но лишь у немногих были все эти предметы одежды.
Естественно, скромный гардероб из двух мантий и трех платьев позволяет составить несколько комбинаций, однако, если помимо этого у женщины была одна-две пары отдельных рукавов, которые можно было прикрепить шнурками больше, чем к одному из ее платьев, за небольшую сумму она получала гораздо большее разнообразие сочетаний. Передняя половинка юбки (forepart) также была одним из способов оживить поднадоевший выбор нарядов. Это был просто треугольный кусок ткани, который можно было привязывать или прикреплять на талии. Он доходил до края основной юбки под открытой частью мантии и создавал впечатление, что под внешним слоем надето совсем другое платье. У королевы Елизаветы было много таких нарядов, чтобы быстро менять одежду. Зачастую рукава и половинки юбки подходили друг к другу. В то же время вторая пара рукавов могла оживить гардероб служанки. Сужающиеся книзу накладки для корсажа могли выполнять похожие функции. Это были еще более маленькие треугольные кусочки, которые прикрепляли на передней части тела от декольте до талии, также под передней открытой частью мантии. Если женщина набирала и сбрасывала вес, что происходило регулярно из-за множества беременностей, эта часть корсажа прикрывала больший или меньший участок, а также могла визуально разнообразить наряд. Головные уборы могли быть особенно разнообразными и также собирались из нескольких более мелких и простых деталей. Прямая повязка на голову или треугольная налобная ткань скрывала линию роста волос, а койф или шапочка использовались для того, чтобы убрать все остальные волосы. Косынки (квадратные или треугольные куски льна), накидки (более загадочные для нас предметы, но, вероятно, это были куски льна разной формы) и вуали можно было прикреплять поверх различными способами, или же можно было носить поверх шапочки капюшон. Для того чтобы закрыть стык между головным убором и волосами, можно было использовать крепин (гофрированную или вышитую шелковую ленту); а на некоторых капюшонах мог быть бонграс (длинная тонкая, похожая на мешок конструкция, которая свешивалась сзади). Его можно было закидывать наверх или на одну из сторон головы. В качестве украшений использовались декорированные полоски, которые можно было приколоть к капюшону. Часто это были роскошные ювелирные изделия. Хотя украшения и крепины были дорогими, простые льняные косынки, накидки, вуали, ленты, койфы и шапочки были гораздо более доступны по цене, что позволяло даже простым женщинам иметь несколько различных вариантов, которые можно было носить в разных комбинациях, чтобы порадовать себя.
После того как наряд был выбран, его элементы нужно было прикрепить друг к другу. Женщины в основном делали это с помощью булавок, а для них им требовались деньги на карманные расходы (pin money). В 1580-е годы булавки можно было купить за ничтожную сумму в два пенса за тысячу маленьких и тонких булавок. Тысяча более толстых и длинных булавок для платьев, которыми можно было приколоть что угодно, стоила от шести пенсов до трех шиллингов. Булавки производили внутри страны, а также в огромных количествах ввозили через порт Антверпена в Лондон. На борту «Бенджамина Ли», вошедшего в док в мае 1567 года, например, их было «574 дюжины тысяч» (около 4,5 млн, и это был вовсе не экстраординарный случай. Женщине нужно было по крайней мере несколько булавок только для того, чтобы закрепить различные части своего головного убора. Аксессуары на шее, даже если это была всего лишь простая косынка, также нужно было закрепить. Более того, одежду, надеваемую на шею и плечи, иногда называли pinner, букв. «использующий булавки». Тем, кто хотел иметь более сложный убор на шее, нужно было намного больше булавок. Даже для самого просто рафа требовалось пятьдесят булавок только на то, чтобы скрепить оборки, а сам воротник также часто прикрепляли к одежде, чтобы он оставался на месте во время ношения. Отложной воротник мантии также нужно было закрепить, а некоторые мантии, у которых не было других застежек спереди, пристегивались булавками к передней части надеваемого под низ платья. Практичную пару льняных нарукавников, которую носили, чтобы защитить рукава мантии и платья, тоже можно было закрепить с помощью булавок. В конце XVI века, когда на пике моды были фартингалы, называемые «колесами», юбку собирали, создавая похожий на гофрированный воротник каркас, на котором она разворачивалась под прямым углом от горизонтали к вертикали. Все эти складки нужно было по отдельности закреплять каждый день, а те, у кого были сужающиеся книзу передние части корсажей и передние половинки лифов, использовали булавки, чтобы прикрепить их к более простой ткани, находящейся под ними. Жена рабочего могла одновременно носить четыре или пять булавок, а дама при дворе — тысячу, и при всем желании некоторые из них регулярно терялись. Рабочие, чистящие канализацию, фильтруя ил вдоль реки Темзы, регулярно находят огромное количество тюдоровских булавок: длинных и коротких, толстых и тонких.
Также женщины использовали для крепления шнурки. С их помощью собирали волосы, шнуровали платья длинными шнурками и затягивали корсеты. Эти шнурки были не скрученными веревками, а плетеной тесьмой, которая гораздо прочнее и меньше изнашивается (что необходимо, когда шнурок постоянно продевают сквозь отверстия). Плоская плетеная тесьма хорошо подходит для подвязок и шнурков для волос, но, если шнурки необходимо продевать через отверстия, предпочтительнее шнурки круглой формы. Их обычно делают с помощью техники, называемой плетением петли на пальцах. Самым желанным материалом был шелк: он красивый, блестящий, очень прочный и гладкий. Поскольку такие шнурки были маленькими и служили очень долго, они были доступны даже тем, кто имел достаточно низкое общественное положение. Это были те небольшие элементы роскоши, которые присутствовали в их жизни. Шелковые шнурки составляли значительную часть ассортимента мелких торговцев, которые работали на рынках, ярмарках или ходили по домам. В своей небольшой лавке в тихом рыночном городке Уинслоу в Бекингемшире Уильям Дэвис в 1588 году хранил девять унций[20] шелкового шнура по цене 16 пенсов за унцию, а также 13 ярдов шнурков другого качества и четыре куска остатков. Также шнурки были прекрасным подарком от ухажера.
Мужчины в качестве застежек чаще использовали шнурки с наконечниками (points). Это были короткие полоски кожи, ткани или тесьмы с металлическими наконечниками на обоих концах. Они были похожи на короткие шнурки для обуви и использовались для того, чтобы скреплять мужскую одежду. Их продевали через специальные отверстия. Прежде всего они нужны были для крепления плундр к дублету, но их также можно было использовать для того, чтобы зашнуровать переднюю часть дублета, и в ранние годы эпохи Тюдоров, чтобы прикрепить рукава. Производство этих металлических изделий было кропотливой работой, но их создавали в огромных количествах практически за бесценок. Из тонкого листа металла вырезали нужную форму, пробивали в нем два отверстия, а затем скручивали, чтобы получился наконечник шнурка цилиндрической или конической формы. Металлический наконечник прикрепляли к концу тесьмы (обычно это была тесьма, поскольку она носилась лучше) и продевали кусок проволоки сначала через одно отверстие, потом через тесьму и через другое отверстие. Проволоку обрезали, и острыми ударами молотка расплющивали концы, создавая крошечную заклепку. Если булавки продавались тысячами, то готовые шнурки с наконечниками продавались дюжинами. В 1588 году у Уильяма Дэвиса в его лавке в Уинслоу был запас из 3000 булавок и 14 дюжин шнурков с наконечниками. Четырьмя годами ранее в гораздо более крупном городе Ипсуиче у Джона Сили в лавке было 1500 булавок и 12 дюжин шнурков с наконечниками. Это были совершенно обычные, повседневные вещи, при этом абсолютно необходимые.
Пуговицы также были предметом мужского гардероба. Они использовались для того, чтобы покрасоваться: в инвентарях аристократии изобилуют золотые, серебряные и даже инкрустированные бриллиантами пуговицы. Богачи стремились впихнуть как можно больше таких пуговиц на передние части своих дублетов. На передней части черного шелкового костюма, который портной так спешил закончить, было сорок одно отверстие для пуговиц, а еще четыре отверстия находились на жестком воротнике. На каждом рукаве от предплечья до запястья было еще по семь отверстий для пуговиц. Сами пуговицы, к сожалению, не сохранились, возможно потому, что были срезаны для другого костюма. Они были слишком ценными, чтобы ими разбрасываться. На этом дублете пуговицы были расположены так часто, что касались друг друга. Должно быть, это сильно затрудняло пошив, но выглядело великолепно.
То, что пуговицы считались предметом мужского гардероба, становится очевидным, когда вы сталкиваетесь с многочисленными жалобами второй половины XVI века на то, что женщины одеваются как мужчины. Вокруг этой «проблемы» звучали голоса, полные праведного гнева. Утверждалось даже, что два пола бывает сложно отличить друг от друга. На самом деле речь шла в основном о пуговицах и шляпах. Женщины, которых обвиняли в том, что они одевались как мужчины, по-прежнему носили юбки, о чем свидетельствуют некоторые ксилографии того времени, но лиф их платьев, расшитых пуговицами, имитировал мужской дублет, а на головах вместо капюшонов или вуалей они носили фетровые шляпы — несомненно, мужской предмет одежды.
4
Завтрак
И завтракать идите,
Коли еще найдется аппетит![21]
Уильям Шекспир. Генрих VIII, III, 2 (ок. 1613)
Стоит ли завтракать? Это был дискуссионный вопрос. Сэр Томас Элиот в своем «Замке здоровья» в итоге решил так: «Я думаю, что в этом королевстве завтрак необходим». Тем самым он опровергал более древнюю рекомендацию, согласно которой здоровым взрослым мужчинам следовало ждать до обеда. Средневековые советы позволяли маленьким детям, беременным женщинам, кормящим матерям и больным наслаждаться завтраком, но из счетов домохозяйств и уставов аристократических домов становится ясно, что завтрак не был частью обычной рутины их мужского населения. Имейте в виду, что во многих домохозяйствах обедали в 10 утра, поэтому здоровым людям было нетрудно подождать до обеда. К 1530-м годам, когда сэр Томас Элиот писал свою книгу, обед стал сдвигаться на более позднее время, и чаще всего обедать стали в полдень. Аргументы сэра Томаса были основаны в большей степени на особенностях английского климата. Старая рекомендация воздержания от еды до обеда была написана людьми, живущими гораздо южнее, в Средиземноморье, и предназначена для их же соотечественников. При этом в холодном и сыром английском климате, утверждал сэр Томас, нужна другая диета: людям здесь нужно «топливо».
Двадцать лет спустя Эндрю Бурд, бывший монах, путешественник и врач, был больше обеспокоен тем, что́ вы ели за завтраком. По его мнению, бекон и жареные яйца, которыми питались работающие мужчины, не очень подходили для джентльмена. Джентльмену лучше есть яйца пашот. Это самая ранняя запись о плотном английском завтраке, и уже тогда его охарактеризовали как нездоровый и ассоциирующийся с рабочими. Однако много ли работающих людей действительно могли позволить себе есть бекон и яйца на завтрак — уже другой вопрос.
Большей части населения приходилось около часа работать перед завтраком. Джон Фитцхерберт в своей «Книге о хозяйстве» говорит женам, что перед тем, как делать завтрак для всей семьи, им нужно подмести дом, почистить стойку с посудой (буфет или сервант, где хранились тарелки) и привести все в доме в порядок, затем подоить коров и процедить молоко, покормить телят и одеть детей. В это время мужчины кормили скот, чистили коров и быков и приводили в порядок упряжки. Поскольку летом люди вставали в 4 утра, завтрак в деревне был около 6 часов. Это был семейный прием пищи, в котором участвовали все живущие в доме слуги. Поскольку завтракали не сразу после пробуждения, помимо хлеба и эля можно было быстро приготовить горячее блюдо, что-то сытное. Конечно, когда жареный бекон и яйца, копченая сельдь или каша были доступны, то были желанным дополнением к завтраку. В более поздних текстах о сельской жизни упоминаются блинчики. В кулинарных книгах эпохи Тюдоров также много рецептов различных блинов и фриттеров. Мне больше всего нравятся дольки яблока, которые окунают в смесь эля, муки и яичного теста, а затем жарят в масле.
Расписание торговцев и рабочих в городе было схожим. Первый закон о продолжительности рабочего дня был принят в 1495 году, и в его преамбуле были жалобы на то, что некоторые работники опаздывали и слишком долго завтракали после того, как пришли на работу. Новый закон предусматривал начало рабочего дня в 5 часов утра, а зимой нужно было приходить на работу, когда «занимается день». Джеймс Пилкингтон, который в первую половину правления Елизаветы занимал кафедру епископа Даремского, жаловался, что «работающий человек будет долго отдыхать утром; добрая часть дня проходит, прежде чем он придет на работу; затем он должен позавтракать в свой обычный час, хотя и не заслужил этого, или же будет недовольно ворчать и роптать». Таким образом, кажется, что обычно в 6 часов завтракали все, даже те, кто любил поваляться с утра в постели, и этот завтрак съедали не до начала работы, а в перерыве во время рабочего дня. Завтрак торговца вполне мог состоять просто из хлеба и эля, взятых из дома, но те, кто работал в городе, могли зайти в лавку с пирожками или к продавцу горячего мяса, чтобы купить что-то более сытное.
После того как люди оделись, помылись, причесались и поели, наконец наступает полноценное начало дня. Для самых молодых членов общества работа и учеба были слиты воедино.
5
Образование
Какой достойный повод для беспокойства — воспитание детей в духе добродетели и какие исключительные плоды оно приносит всем людям, независимо от их сословия и звания.
Уильям Кемп, «Образование детей» (The Education of Children, 1588)
Хотя мы считаем, что современная жизнь полна сложностей, полтысячелетия назад жизнь также вовсе не была простой. Мальчики или девочки, будь они высокого или низкого происхождения, должны были многое узнать о мире. Большей части детей, только начинающих ходить, нужно было узнать привычки домашних птиц и научиться ухаживать за ними, а также уклоняться от чана с кипящей водой, раскачивающегося на огне туда-сюда. Практически сразу после того, как они научились говорить, детям нужно было выучить наизусть несколько молитв, детских песенок, а вскоре — познакомиться с основами садоводства и фермерства. К четырем-пяти годам многие дети уже заботились о младших братьях и сестрах, вместе с матерями занимались прополкой, кормили свиней и цыплят и приносили воду.
Этикет
Детям нужно было усвоить целый ряд социальных правил и моделей поведения, и уроки были встроены в повседневные дни — своды правил и норм, которые определялись их полом и социальным статусом, присутствовали в их жизни с самого ее начала. То, как дети ходили, ели и говорили, должно было соответствовать идеологии того времени. Мальчиков поощряли быть храбрыми и общительными, «что означает смелость и силу, которые должны быть в мужчине», как выразил это сэр Томас Элиот, а девочек учили большему физическому контролю и молчаливости, «приятной трезвости, которая должна быть в женщине». Тех, чьи родители обладали определенными социальными притязаниями, учили избегать привычек «неотесанных» людей: не косить глазами, не ковырять в носу. Некоторые правила хорошего поведения объяснялись заботой о здоровье (например, детей отучали делать угрюмые лица, которые могут вызывать гнетущие, безрадостные мысли), некоторые были приняты у всех классов (например, не говорить с набитым ртом). При этом отдельные правила, такие как рекомендация держать предплечья, а не локти на столе, обозначали границу между простым сельским жителем и преуспевающей элитой.
Даже просто то, как ходит, стоит или сидит человек, могло говорить о его социальном положении, а позы разнились в зависимости от пола и возраста человека. Поза взрослого мужчины, которая, как считали в обществе, навевала мысли о силе и мужественности, могла быть совершенно неуместной для маленького мальчика, и таких подводных камней было множество. Например, гуманист Эразм считал, что стоять со скрещенными руками глупо, и поэтому примечательно то, что на миниатюре, изображающей королевского шута Уилла Сомерса рядом с Генрихом VIII, шут принимает именно такую позу. Известной позе самого короля — взгляд направлен прямо вперед, ноги расставлены, вес равномерно распределен между ними, носки направлены вперед и немного наружу, бедра выступают вперед по сравнению с плечами — лишь немногие осмеливались открыто подражать. В целом такая поза ассоциировалась с молодыми взрослыми мужчинами, полными воинственности, и, когда ее принимали маленькие мальчики, это выглядело дерзко и немного смешно. Когда сына Генриха Эдуарда изобразили в позе, повторяющей позу отца, чтобы утвердить его власть в качестве законного наследника короля, впечатление было немного сглажено углом наклона, смягчающим нелепость вида маленького мальчика в позе мужчины. Привычка стоять с руками за спиной ассоциировалась с торговцами, над ней насмехались в литературе и драме. Она была частью визуальной комедии и вызывала в памяти наигранные поучения пожилых людей из среднего класса. Привычка сутулиться ассоциировалась со стариками и рабочими.
Рис. 10. Мода 1520-х годов. Неизвестный художник, ок. 1528 г. По этому изображению можно исследовать не только самую элегантную одежду, но и самые модные позы 1520-х годов. Обратите внимание, что дама стоит, выдвинув плечи назад за линию бедер и подобрав подбородок. А джентльмен сидит в квадратной позе, расставив ноги, которые прочно опираются о землю. Оба они используют реквизит: не только из-за символического значения этих предметов, но и чтобы показать элегантные руки и жесты
В умении ходить также были свои тонкости. Как и сегодня, когда национальность человека можно угадать по его походке, тогда существовало множество способов ходьбы. Про пахарей говорили, что они не идут, а «тащатся», двигаются медленно и осторожно. Их работа заключалась в том, что они шли по полю в одну и в другую сторону, проходя по двадцать миль[22] на своих клочках земли, направляя поочередно каждую борозду по земле. В это время на их ноги налипали комья свежей земли. Поэтому неудивительно, что у них сформировалась подобная походка: осторожная, со стопой, расплющенной по земле. Маленьким мальчикам нужно было учиться ходить такой походкой, подражая своим отцам и другим мужчинам из деревни. В общинах, где большая часть мужчин занималась землепашеством, тяжелая поступь пахарей считалась нормальной мужской походкой. Горожане часто смеялись над походкой деревенских жителей; на городских улицах их можно было легко отличить от местных, которые ходили гораздо быстрее. У молодых джентльменов тоже была совершенно определенная походка, а ученики постарше более или менее успешно подражали им, выталкивая бедра вперед и выставляя напоказ кошельки, кинжалы или, если они у них были, — мечи и щиты, которые качались и издавали лязг. Такого «громыхалу» можно было услышать издалека, когда он шел по улице, делая все, чтобы все вокруг заметили его. Некоторые священнослужители, как отмечал Эразм, считали частью своей профессиональной идентичности прихрамывающую походку, которая, как тогда полагали, указывает на интенсивные внутренние раздумья. Эту привычку высмеивала даже Джейн Остин в начале XIX века. В сельской местности походка пахарей резко отличалась от походки пастухов на холмах, которые славились своими легкими и пружинящими шагами.
Большинство детей учились стоять, сидеть и ходить, наблюдая за окружающими, подражая тем, кем они восхищались, и исправляясь, услышав подтрунивания и смех, сопровождавшие ошибки. Но некоторые дети получали более формальное обучение в искусстве движения от родителей, школьных учителей и мастеров танцев, которые учили детей самым модным позам. В конце XV века, в первые годы правления Генриха VII, при дворе делали упор на длинные, извилистые линии. Верхнюю часть туловища, от нижней части грудной клетки до плеч, наклоняли немного назад, и молодым людям следовало стоять, выставив одну ногу вперед, чтобы вытянуться в одну длинную плавную линию от кончиков ноги до лба. Подбородок нужно было слегка наклонить, вытянув заднюю часть шеи, что придавало особенно элегантный вид женщинам в объемных головных уборах. Естественно, если вы переусердствуете, то будете выглядеть смешно и нелепо. Фокус состоял в том, чтобы соблюдать все пропорции, позволяющие держать позу, и плавно поддерживать ее в движении. Это нелегко, оттачивание поз требует регулярной практики с раннего детства, так что весь смысл таких упражнений в их трудности и необходимости тренировок. Идеальную позу мог принять только тот, кто практиковался в ней, пока рос, а недавно разбогатевшему купцу, который хотел ее освоить в более позднем возрасте, она была практически недоступна.
При дворе Генриха VIII моды быстро менялись как на одежду, так и на позы. Элегантный итальянский метод сидения с ногами, скрещенными в лодыжках, впал в немилость; теперь наиболее привлекательной считалась поза с обеими ступнями, распластанными на полу. В середине XVI века в моду вошли «квадратные» позы, и движение мужчины должно было ассоциироваться с твердостью, устойчивостью и силой. Модная походка теперь шла от бедра, а не от нижней части грудной клетки, а на портретах посвященные теперь предпочитали быть изображенными стоя в «квадратной» позе с немного расставленными ступнями, в смягченном варианте позы короля. Чтобы подражать новой мужской походке, которая вошла в моду, нужно было держать ноги на небольшом расстоянии друг от друга, перенести вес назад и напрячь ягодицы. Такие формы тела соотносились с более сложными плундрами из двух частей, которые вошли в моду в этот период. Можно было подчеркнуть гульфик, а плечи оставались открытыми и широкими. Исключительная маскулинность этого стиля движения делала его совершенно неуместным для женщин-модниц. Вместо этого акцент в женской походке делался на движении юбки. Если основная нагрузка во время ходьбы идет от тазобедренных костей, а не от бедра, юбка может раскачиваться, как колокол. Акцент на талии у модных мантий и платьев (в отличие от плавных прямых линий, которые были в моде в предыдущем столетии) привлекал еще больше внимания к этому новомодному способу передвижения. Ступни и ноги следовало скромно держать вместе, особенно когда сидишь с руками на коленях.
После смерти Генриха VIII в 1547 году агрессивно маскулинные позы потеряли свою популярность, и модные мужчины постепенно стали обращаться к диагональным позам. Через семь лет, когда Филипп II Испанский женился на королеве Марии, при дворе начинается короткий период моды на испанские манеры, что отмечено в письмах послов; большая жесткость торса и развернутые носки заметны и на нескольких изображениях самого Филиппа, которые дошли до наших дней. По всей Европе распространялись новые ренессансные представления о красоте, согласно которым идеалом человеческого тела считались классические скульптуры. В 1589 году французский учитель танцев Жан Табуро (который писал под псевдонимом Туано Арбо) говорил своим ученикам, что самая привлекательная поза — та, в которой одна нога расположена под углом к другой, «поскольку мы видим на древних медалях и статуях, что самыми искусными и приятными являются фигуры, опирающиеся на одну ногу». Женщинам, однако, нужно было стоять, соединив ноги вместе и расставив носки в сторону (первая балетная позиция). По мере распространения таких представлений детей все больше стали учить стоять в так называемой четвертой балетной позиции, переместив вес на заднюю ногу, поставленную наискосок, а другую ногу поставив спереди, развернув носок в сторону. Небольшой изгиб в стоящей спереди ноге добавлял элегантности и помогал опорному бедру качнуться наружу. Чтобы добавить позе еще больше равновесия и утонченности, можно естественным образом скруглить спину в диагональ, не удерживая строго фронтальную форму. Такая поза говорит о непринужденной изысканной естественности и, кажется, сама собой направляет руку к опорному бедру, где висела рукоять меча джентльмена.
Франсуа де Лоз, еще один французский учитель танцев, в начале XVII века так описывает походку, которой следовало дополнять такую позу: вы должны представлять собой прямую линию, «не сгибать колени, пальцы ног должны быть расставлены широко в стороны таким образом, что движения, без всякой робости, исходят от бедра». Такую походку используют на сцене современные танцоры классического балета, и для того, чтобы на первый взгляд без всяких усилий справляться с ней, так же как и с другими модными когда-то при дворе стилями хождения, необходимо было долго практиковаться.
Судя по портретам елизаветинских джентльменов, они не только внимательно следили за тем, как ходили и стояли, но и обращали равное внимание на то, как сидят. Итальянский учитель танцев Фабрицио Карозо в 1600 году советовал держать левую руку на ручке стула, а правую положить так, чтобы «ее запястье свободно свисало вниз» (очень знакомая поза), или же положить один локоть на кресло, держа в руках носовой платок, перчатку или цветок. Джентльмену следовало сидеть, не облокачиваясь на спинку стула, чтобы его ступни удобно стояли на полу, а не были скрещены или вытянуты.
Всем детям нужно было научиться не только ходить тем или иным образом, но и выучить жесты, выражающие уважение. Дети в возрасте четырех-пяти лет должны были знать базовые поклоны и реверансы, а старшие дети должны были уметь делать более сложные поклоны и понимать более тонкие аспекты проявления вежливости.
В «Школе добродетели» (The School of Virtue, 1534) Фрэнсис Сигер было написано:
- Снимай свою шапочку,
- Приветствуй тех, кого встречаешь;
- Давай дорогу тем,
- Кто проходит мимо[23].
Самому маленькому мальчику достаточно было просто снять шапочку, а маленькой девочке — слегка нагнуться. Таким движениям было легко научиться. Это были проявления вежливости, которые использовались чаще всего. В эпоху Тюдоров к возрасту относились очень уважительно, и маленькие дети должны были проявлять почтение практически ко всем взрослым, даже к тем, кто был значительно ниже их по социальному положению. Шестилетнего сына джентльмена, который не снял свою шапочку перед уважаемым пожилым жителем деревни и не отошел вежливо в сторону, чтобы пропустить его, отец вполне мог оттаскать за уши. Эразм Роттердамский очень подробно изложил в своем трактате «О приличии детских нравов» (Civilitie of Childehode, 1532) то, как именно следует снимать шапку. Его наставления практически слово в слово были скопированы в нескольких последующих публикациях, в том числе спустя почти шестьдесят лет в работе Фабрицио Карозо, предназначенной для взрослых итальянцев, учащихся танцам. Шляпу нужно было взять за край правой рукой и поднять над головой, а не просто стягивать с головы, взъерошивая волосы. Лучше всего делать это, взявшись за заднюю часть шляпы, а не за край или переднюю часть. Затем шляпу нужно было опустить, позаботившись о том, чтобы никто не увидел ее внутреннюю часть. Считалось, что показывать внутреннюю поверхность шляпы, на которой может быть заметен жир или перхоть, невоспитанно и грубо. Как человек XXI века, вы, вероятно, были свидетелями того, как на сцене и на экране неуклюже размахивают шляпами некоторые современные актеры, которые, к сожалению, лишены тюдоровского воспитания.
При этом хорошо воспитанный мальчик XVI века перекладывал свою шляпу из правой руки в левую и держал ее у своего левого бедра или талии, оставляя правую руку свободной, чтобы сделать ей широкий размашистый открытый жест. В поклоне он отводил одну ногу назад за другую и сгибал колени, позволяя телу немного склониться вперед. Для более полного, более формального поклона необходимо было встать на одно колено — как правило, выставив вперед правую ногу. В конце XVI века вошел в моду французский вариант поклона, при котором сгибается только одно колено. Чтобы поклониться на французский манер, нужно было скользнуть правой ногой вперед, перенести вес на заднюю ногу и согнуть заднее колено, наклонив тело вперед. Такой поклон требует, чтобы ступни были сильно развернуты в стороны, и очень хорошо сочетается с диагональными позами, в которых модно было стоять в Елизаветинскую эпоху, а старый поклон в английском стиле имел более квадратную форму и был более устойчивым, поскольку ступни были направлены вперед. Для описания двух различных типов движения использовались два популярных термина, точно отражающих их суть: более старый стиль назывался «преклонением колена», а более поздний французский обозначался как «выставление ноги», поскольку его наиболее характерной внешней особенностью была прямая нога, направленная вперед во время поклона.
Девочкам было намного проще. Их шляпы оставались надежно прикрепленными к голове, и им нужно было лишь опустить глаза и согнуть колени. Хорошо воспитанная девочка держала голову идеально прямой, опуская вниз только взгляд, а спину прямо, делая медленное, спокойное плие, как в балете, с открытыми руками, направленными немного в сторону.
Однако труднее всего и мальчикам, и девочкам было не довести до совершенства физические жесты, а выучить, когда именно и в каком объеме их нужно использовать. Как глубоко следует поклониться, как долго оставаться в поклоне, нужно ли тут же надеть шляпу на голову или держать ее в руках? Вскидывание опущенных глаз может быть расценено как флирт или как то, что вы взволнованы, а если задержать взгляд на миллисекунду дольше, это сочтут неуважительным или даже оскорбительным. Слишком подчеркнутый поклон может показаться пародией и сарказмом, слишком мимолетный — означать неуважение и презрение. Можно случайно или намеренно показать внутреннюю часть шляпы и подорвать значение жеста, который на расстоянии выглядел уважительно. Поклониться можно красиво, продемонстрировав всю степень своей элегантности и утонченности, или же в спешке неуклюже согнуться кое-как.
Физическое воспитание не ограничивалось ходьбой и поклонами: дети должны были научиться «правильно» выполнять многочисленные повседневные дела. В бесчисленном потоке книг по этикету изложены правила питания, одевания, разговора и игры. В них рекомендуются базовые вещи: не плеваться, не волочить одежду по грязи, мыть руки перед едой, не перебивать людей, соблюдать очередь, не толкаться и не портить воздух за столом. Они были предназначены для мальчиков семи-восьмилетнего возраста из высшего класса, которые вскоре займут высокое положение в своем кругу. Возьмем, например, инструкции, как следует сморкаться. Естественно, если у вас есть носовой платок, лучше всего им воспользоваться, но, если под рукой его не оказалось, можно выйти из положения при помощи собственных пальцев. Удалив слизь, следует втоптать ее в землю обувью, чтобы не оставлять грязь, в которую могут наступить другие люди. Вытирание носа о рукав сильно порицалось и считалось поведением деревенщины. Трудно сказать, все ли крестьяне считали само собой разумеющимся вытирать нос о рукав? Или же это была оскорбительная инсинуация, побуждающая семилетних мальчиков соблюдать правила? Конечно, у сельских рабочих далеко не всегда были платки, но пальцами можно воспользоваться бесплатно, и на открытом воздухе это особенно легко сделать. Многие сельские дети, так же как и их более состоятельные собратья, должны были научиться вежливому поведению, если хотели найти работу в доме у других людей и повысить свое положение в обществе.
Жизненные навыки
Самым важным навыкам — фермерству и работе по дому — в основном учились напрямую от других людей, наблюдая и повторяя за ними. Но, как замечает Адам Фокс в своей книге «Устная и письменная культура в Англии в 1500–1700 гг.» (Oral and Literate Culture in England, 1500–1700), доступными советами и простыми руководствами служили также пословицы, поговорки и местные предания. Для нашего неискушенного уха они могут прозвучать банально. Но, когда йомен-фермер Ричард Шейн, живший к югу от Лидса, около 1600–1610 годов записал некоторые из них в своей тетради, он зафиксировал форму практического обучения. Эти сведения имели отношение не только к работе и жизни тех, кто им учился, но и к конкретной местности с ее специфическим климатом и почвами. Многие из этих высказываний задавали порядок работы, чтобы ничто не было забыто и каждая задача выполнялась в самый благоприятный для этого региона момент. Например, Шейн записал календарное стихотворение, которое в одной из своих частей напоминает ему, его работникам и соседям:
- Пришел сентябрь, и с ним пора яблок,
- В сильную землю нужно сеять пшеницу и рожь,
- Теперь пора пожать ячмень, или он пропадет,
- Бобы и горох, чтобы избежать расходов и забот,
- Помни всегда о фазе Луны,
- Чтобы ничего не сделать слишком поздно
- или слишком рано[24].
В некоторых южных районах было принято откладывать подобные дела до октября, но на западе Йоркшира считали, что лучше всего собрать все зерновые и бобовые до конца сентября. Пшеницу и рожь можно было высаживать уже в начале сентября в «сильную» землю. Так назывались высокоплодородные глинистые почвы. Если же почва была бедной и песчаной, то следовало подождать до весны. В стихотворной форме такие поговорки было легче запомнить и научить им детей. В дополнение к двенадцати стихам этой поэмы, молодые люди извлекали ценные уроки из множества коротких высказываний или куплетов. «Плохая овца принесет плохого ягненка, но только одного; а вот больной баран скорее всего испортит многих». Высказывание напоминало о том, как важно приобрести высококачественного барана для стада, и побуждало пастуха не экономить на этом. А куплет «Пока трава растет, овца сохнет, а ягненок сдохнет» предупреждал об опасности того, кто отправит овцу и недавно родившегося ягненка пастись высоко в горы, где еще не выросла трава. Стишки служили мнемотехниками для пространных дискуссий и объяснений, они обобщали сведения, получаемые от родителей и соседей.
В вопросах ведения молочного хозяйства стихотворную форму обретали рецепты. Например, строчки Сомерсета «Если хочешь хороший сыр, а старого у тебя не осталось, переверни его семь раз, пока не похолодало» (то есть если хочешь, чтобы у тебя был хороший сыр, а ни один еще не созрел, семь раз переверни новые сыры перед тем, как убирать на хранение на зиму) описывают способ приготовления вкусных влажных сыров, которыми славится этот регион. Одна из ранних кулинарных книг практически полностью состоит из рифм и содержит полный список рецептов, которые должен был знать профессиональный повар. Рифмы помогали юноше научиться готовить, чтобы начать свою карьеру в аристократическом хозяйстве. Вот рецепт приготовления блюда, похожего на омлет, которое приправляли травой пижмой. Это популярное блюдо особенно ценилось в Пасху, когда после Великого поста впервые можно было есть яйца. Считалось, что эта трава очищает кровь после зимней диеты из вяленого гороха и соленой рыбы.
- Разбей яйца в миску и немного их взбей,
- Затем сделай порошок из перца и добавь к ним,
- Сорви пижму, отожми сок,
- Тщательно смешай его с яйцами
- И на сковородке поджарь
- В хорошенько растопленном масле[25].
Рецепт идентичен другим — прозаическим — версиям. В соответствии с ним повару следует разбить несколько яиц в миску и пропустить их через ткань, чтобы они смешались. Затем надо было приправить их молотым перцем, растолочь пижму в ступке и получившийся сок добавить к яйцам. Получившуюся смесь затем поджаривали на топленом сливочном масле на сковороде.
Такие рифмы помогали сохранять знания неграмотным или полуграмотным людям. Самый известный из таких обучающих рифмованных текстов — книга Томаса Тассера «Сто советов для хорошего хозяйства» (Hundreth Good Pointes of Husbandrie). Она была столь популярна, что после нескольких изданий была расширена до «Пятиста советов для хорошего хозяйства» (Five Hundreth Pointes of Good Husbandrie), а сельские жители использовали ее в качестве учебника вплоть до XVIII века. Она была хороша тем, что подходила для механического заучивания, с ней было легко работать едва грамотным людям, которые хорошо ее знали и могли заглянуть в нее, если подводила память. Она начинается с наставления о том, чтобы муж и жена действовали сообща:
- Ста советам для хорошего хозяйства
- Следовать должны хороший хозяин с хозяйкою.
- Чтобы содержался в порядке дом и хозяйство,
- Должны они любить друг друга,
- как кровные брат с сестрой[26].
Поскольку сельскохозяйственный год у Тассера начинается в сентябре, когда собран урожай зерна, следующим стихотворением идет инструкция по заготовлению зерна к следующему сезону, молотьбы его из колосьев и веяния для очистки семян от сорняков и шелухи: «Молоти зерно и переходи к веянию, поскольку плуг не может ждать». Рожь нужно сеять сухой, сразу после того, как землепашец тщательно взборонит землю между вспаханными грядами. Чуть позже приходит время озимой пшеницы. Посадив рожь и пшеницу, ему нужно следить за канавами и дренированием земли, чтобы зимний дождь не смыл посевы и почву: «Канавы держи чистыми, изгородь — покрытой колючками; заботься об отводе воды и сохраняй зерна». Изгороди нужно было ставить так, чтобы густой их слой заполнял пустоты, от новых саженцев надо было отпугивать ворон и надо было собирать желуди и другой корм для свиней.
Заучивание наизусть без использования письменного слова помогало молодым людям освоить еще ряд уроков. Например, традиция «битья границ» помогала новому поколению освоить местную географию. Юношей водили по границам их прихода, отмеченным межевыми знаками. В это время им называли поля, луга и лесные массивы, повторяли названия наделов и связанные с ними общие права, делая по пути остановки, чтобы перекусить и переварить знания. А в некоторых приходах, чтобы еще лучше усвоить урок, землю измеряли ударами палкой. Девочки заучивали списки растений, способы их выращивания и использования, базовые навыки обращения с огнем, прядение. В самой книге Томаса Тассера тоже содержится несколько таких поговорок о садоводстве. Например, в ноябре он советует хозяйкам сеять в саду бобы, но не раньше праздника святого Эдмунда (20 ноября) и во время убывающей луны: «Сади садовые бобы после святого Эдмунда-короля; луна убывает, от этого зависит дело».
Рис. 11. Титульная страница книги «Пятьсот советов для хорошего хозяйства» (Five Hundred Points of Good Husbandry) Томаса Тассера
В общем, молодым людям было чему поучиться с помощью механического заучивания как в духовных, так и в мирских вопросах, и вокруг них было много людей, готовых им в этом помочь. До Реформации Церковь требовала, чтобы ребенок как минимум мог прочесть на латыни молитвы Отче наш, Аве Мария и Символ веры, обучать которым должен был приходской священник. Протестантизм ввел вместо них катехизис, еще более пространный текст, который нужно было зазубрить наизусть.
Чтение и письмо
С течением времени чтением овладевали все более широкие слои населения и умеющих читать было больше, чем умеющих писать. В современном мире обучение этим двум навыкам происходит одновременно и составляет основу того, что мы подразумеваем под «образованием». В тюдоровской Англии все было не так. В умах людей эпохи образование касалось главным образом духовного обучения и не имело ничего общего с навыками чтения и письма. Это были два отдельных вида деятельности, которые преподавались в разное время и часто разными людьми. Те, кому посчастливилось получить хоть какое-то образование, сначала учились читать, и для многих книжное обучение на этом и заканчивалось. Для того чтобы этот навык приносил пользу, им даже не нужно было владеть в совершенстве. Даже едва грамотные люди, способные прочесть знакомый текст, могли обращаться к писаному слову за помощью в личных молитвах. Это было ценное духовное умение, которое ценилось как до, так и после Реформации. На самом деле требовалось всего несколько уроков, чтобы человек начал узнавать слова в столь коротком и хорошо известном тексте, как Отче наш, даже если это был латинский текст, который до Реформации слушался и разучивался наизусть. Овладеть небольшим репертуаром из четырех-пяти коротких молитв было под силу многим, кого в нашем мире с его повсеместным школьным образованием сочли бы функционально неграмотными. Эти люди, кроме того, не оставили нам о себе следов в письменных источниках, чтобы их можно было считать грамотными. Поскольку они не умели писать, мы не знаем, умели ли они читать, и это досадная проблема для историков.
Люди учились читать с того, что распознавали и называли буквы. Их можно было напечатать на листе бумаги и приклеить к деревянной доске с защитной прозрачной роговой пластинкой или же просто выцарапать на земле. Алфавит проговаривали, указывая при этом на отдельные буквы. На печатных листах алфавит часто располагали в форме креста, чтобы дети могли запомнить буквы по их позиции на странице. Поэтому, когда речь шла об учебе чтению, часто употребляли словосочетание «крисс-кросс» (criss cross) — популярное сокращение от Креста Христова (Christ’s cross) или же «изучать хорнбук», под которым подразумевали печатный текст, покрытый роговой пластинкой (horn).
Когда этот урок был усвоен, учили гласные, комбинации гласных и согласных, такие как ab, ad, af, ag, ba, da, fa, ga и так далее. Каждую из них произносили и заучивали отдельно, прежде чем собирать слоги в слова. Первыми словами, которые обычно пытались прочесть, была молитва Отче наш. Поскольку ее текст был знакомым, это помогало детям преодолеть огромный интеллектуальный водораздел между символом и звуком. Талантливым и мотивированным детям этого становилось достаточно, чтобы открыть путь к более полному и глубокому изучению писаного слова, и некоторые, обучившись тонкостям, становились уверенными читателями. Другие оставались в полуграмотном мире. Они умели прочитать вслух печатный текст, могли справиться с популярной балладой или десятью заповедями, написанными на церковной стене. Но рукописное письмо или длинный, сложный религиозный трактат приводили их в ступор.
Азы чтения давали дома мать, отец, старшие братья, а также слуги и соседи. Помимо заучивания наизусть молитв и катехизиса, клирики обучали своих юных прихожан азам чтения, по всей стране действовало множество небольших, неформальных и зачастую временных школ, где проходили однообразные и простые занятия. Попадал ли ребенок на уроки чтения — было делом случая. Самые бедные, разумеется, были меньше всего склонны надолго отлучать детей от труда. Но даже выходцам из этой группы иногда везло с грамотностью. Например, в переписи бедных 1597 года из города Ипсуич упоминается девятилетняя дочь Роберта Майклвуда. Он был прикован к постели, а его жена плела дратву, чтобы выручить несколько пенсов. Приход помогал еще десятью пенсами в неделю. Так что эта семья была бедной, и меньше всего ожидалось, что их дочь будет учиться, но в переписи было записано, что «она ходит в школу». Еще три мальчика из перечня бедных, согласно данным источника, тоже посещали школу, а три девочки ходили в школу вязания. Возможно, конечно, что юная мисс Майклвуд тоже ходила в школу вязания; но мы не знаем, преподавались ли вместе с вязанием основы чтения, хотя в позднейших школах, где преподавали ремесла, это не было редкостью.
В конце правления Елизаветы, похоже, происходит резкий рост школьного образования. В некоторых английских графствах, согласно документам, в одной из четырех деревень постоянно проживал школьный учитель. Например, в 258 из 398 приходов графства Эссекс в разное время в течение елизаветинского периода существовали школы. А в 1593 году жители деревни Уиллингем в Кембриджшире основали на пожертвования свою собственную школу. В предшествующие тринадцать лет в деревне работал школьный учитель, так что идея школы, очевидно, была популярна у местных жителей. Сто два человека пожертвовали на создание школы 102 фунта 7 шиллингов и 8 пенсов. Это была значительная часть населения деревни, и сумма была внушительной. Три четверти тех, кто сделал пожертвование, не подписал соответствующий документ, а поставил знак. Очевидно, это сообщество было озабочено образованием своих детей и, вероятно, питало надежды, что следующее поколение будет более ученым, чем они сами. Более того, к грамотности тянулась не только местная верхушка — семьи джентри и йоменов, — но и люди вроде Генри Бедолла, который вложил в дело 10 шиллингов и 2 пенса, хотя владел всего тремя с половиной акрами земли. Другой пример — безземельный батрак Уильям Ридли, которому каким-то образом удалось найти 8 шиллингов на пожертвование. Школа поблизости открыта тем, кто готов платить за уроки, но это, конечно, не означает, что в нее ходили все местные дети.
Только тогда, когда дети овладели навыками чтения, их начинали учить писать. Тех детей, чей труд требовался в поле или в хозяйстве, часто отрывали от изучения грамоты, и им уже никогда не представлялось возможности научиться писать. Кроме того, для обучения письму требовалось больше денег, чем на чтение. Первые буквы можно было написать на песке или грифельной доске, но затем требовались бумага, чернила и перья. На этом этапе ряды учеников из беднейших слоев населения еще больше редели.
Первую книгу, обучающую навыкам письма на английском языке, написал в 1570 году Джон де Бошен, протестант-гугенот, бежавший из Франции. Интересно, что основной текст он записал стихами, что опять же указывает на то, что он был предназначен для запоминания:
- Пиши буквы ровно сверху и снизу
- И делай между ними пробелы,
- Лучше всего, когда одна буква отличается от других.
- Когда учишься грамоте, ты окажешь себе услугу,
- Если проведешь две строчки просто для измерения,
- И тогда будешь писать ровно между ними,
- Не сверху, не снизу…[27]
В основе преподавания по-прежнему оставалось заучивание наизусть.
Ни перья, ни чернила не продавались в готовом виде, так что пишущий должен был изготовлять их самостоятельно. Поэтому изготовление писчих инструментов было частью уроков, которые нужно было освоить ребенку, и входило в утреннюю рутину как школьников, так и секретарей. Дешевые чернила получались из золы шерстяной ткани, смешанной с уксусом. Но их было трудно наносить на страницу, и они быстро выцветали. Простые чернила можно было сделать из гуммиарабика и сажи — тех же ингредиентов, из которых изготовляют черную акварельную краску. Но такие чернила забивали перо и имели свойство распадаться. Для создания несмываемых и легких в нанесении чернил нужна была более сложная смесь. Она состояла из чернильных орешков, железного купороса (сульфата меди), вина и гуммиарабика. Чернильные орешки — это образования, которые оставляют на дубах насекомые-орехотворки; в них содержатся высокие концентрации танина, который вступает в реакцию с железным купоросом. Чернильные орешки сначала давили и размачивали в вине, потом добавляли купорос, а затем мешали и цедили. Затем в получившиеся чернила для густоты добавляли гуммиарабик. Двух унций гуммиарабика хватало на пять унций измельченных чернильных орешков и три унции купороса. Если чернила получались слишком густыми, их можно было разбавить водой или в идеале вином или уксусом, но многие школьники, очевидно, использовали для этой цели собственную мочу, поскольку в некоторых учебных текстах содержится специальное указание на то, что делать этого не следует.
Перья, как правило, были гусиными. Можно было использовать и другие: в разное время упоминаются лебединые и вороньи. В качестве пера также можно было использовать сухие тонкие тростинки. Сохранилось также небольшое количество металлических перьев из латуни и даже серебра. Однако преобладали гусиные перья: они дешевые, их легко сделать и служат они дольше, чем тростниковые. Лучшие брались из крыльев. Некоторые утверждают, что правшам подходили перья из правого крыла, а левшам — из левого, но на самом деле разница очень небольшая. Большую часть пуха с перьев срезают, оставляя только ствол. Это обеспечивает лучший баланс пера, делая его более простым в использовании. Ствол пера надо очистить, удалить пленку и пух. Затем кончик заостряют с помощью перочинного ножа.
Учитель Питер Бэйл в 1590 году написал, что лучшие перочинные ножи делают в Шеффилде. Ножи и сталь в то время были специализацией этого города и считались продукцией высокого качества. Для того чтобы сделать хороший чистый разрез и не повредить перо, нужен был особенно острый нож. Ствол пера держали в левой руке между средним и безымянным пальцами так, чтобы оперенный кончик был направлен в противоположную от вас сторону. Кончик пера кладется на подушечку большого пальца и поддерживается указательным пальцем. Разрез для зачерпывания чернил делается по направлению к груди и занимает чуть меньше половины ширины пера. Затем над первым разрезом делается второй разрез меньшего размера, который имеет примерно такой же диаметр, что и само перо. Так получается ступенчатая форма. Затем наконечнику можно придать квадратную форму и сделать вертикальный разрез наверх. Для создания перьев нужны тренировки. Поскольку каждый из нас пишет под несколько разным углом и по-разному давит на перо, каждому нужен свой особенный, отличный от других, разрез. Поэтому писать чужим пером не очень удобно. Изготовление пера было индивидуальным занятием, и делать это приходилось очень часто, поскольку кончики очень быстро приходили в негодность. Для написания всего одного документа могло потребоваться нескольких подрезаний.
Выписываемые тогда буквы алфавита в основном знакомы глазу XXI века — например, буква t выглядела почти так же, однако некоторые кардинально отличались от современных. Строчная буква, которая в XXI веке выглядит как r, тогда обозначала букву c. У буквы s было три различные формы в зависимости от ее позиции в слове: одна форма использовалась только в конце слова, другая — в качестве инициала, а третья могла использоваться как первая буква в слове или же внутри слова, но не в конце. Такое правописание было известно как секретарский почерк. Самые богатые люди, претендующие на причастность к ренессансной культуре, начали использовать новомодный стиль, который зародился в Италии и стал известен как курсив. Однако подавляющее большинство почерков эпохи Тюдоров были секретарскими, и именно этому стилю в основном учились люди. Со временем курсив одержит верх. Именно этим стилем написания буквенных форм мы пользуемся сейчас, но в то время он был еще делом будущего.
Если судить по способности людей подписывать юридические документы, а не просто ставить отметку, то в 1500 году около 5 % мужчин и лишь 1 % женщин умели писать; к началу правления Елизаветы в 1558 году эти показатели возросли до 20 % мужчин и 5 % женщин. По итогам дальнейшего роста грамотности к концу XVI века умели писать уже 25 % мужчин и 10 % женщин. По-видимому, лондонцы чаще посещали школы, а у ремесленников и торговцев было больше шансов овладеть навыками письма, чем у земледельцев.
Но, даже располагая сведениями о количестве людей, умевших писать, мы по-прежнему ничего не знаем о том, сколько людей умели читать. Предположительно те, кто умел писать, могли и читать, но почти наверняка многие способные читать писать не умели. Те, кто в религиозных целях продвигал чтение Библии, не были заинтересованы в продвижении письма. А ввиду разрозненности и непродолжительности обучения навыки чтения осваивались без необходимости работы пером. Совершенно точно в то время было доступно огромное количество дешевых материалов для чтения. До Реформации в регионе было отпечатано 57 тысяч латинских букварей, доступных по цене ремесленникам, торговцам, дворянам и многим фермерам-йоменам. Эта группа людей со средним достатком также приобретала много книг о более светских вещах. К 1500 году в Англии было напечатано 54 различных наименований книг, а к 1557 году их насчитывалось более 5000, и они охватывали все более широкий круг тем. В 1520 году Джон Дорн, книготорговец из Оксфорда, города с предположительно очень высоким уровнем грамотности, меньше чем за год сумел продать 1850 текстов, в том числе труды Эразма, копии рассказов о приключениях Бэва из Антона и Гая из Уорика, и 170 баллад всего за полпенни каждая. Спустя несколько поколений, в 1585 году, Роджер Уорд из Шрусбери держал в лавке 546 различных наименований книг, и 69 из них стоили по одному пенни. Но если рост количества доступных среднему классу книг впечатляет, то бум очень дешевых печатных листов с балладами и листовок просто поражает воображение. Во второй половине XVI века в регионе было напечатано от 3 до 4 миллионов таких текстов, в то время как численность населения составляла приблизительно 3 миллиона человек. Пуританский проповедник Николас Боунд в 1595 году сокрушался, что такие образчики дешевой печати можно найти не только в богатых и зажиточных домах, «но также в мастеровых лавках и в домиках бедных земледельцев». Он опасался, что эти необразованные люди окажутся под чрезмерным влиянием печатного слова.
Ученичество
Для большей части молодых людей обучение ремеслу было еще менее доступно, чем учеба в школе. За обучение нужно было платить, и, как правило, бо́льшую часть суммы нужно было заплатить вперед. Так что неудивительно, что детям из беднейших семей была заказана дорога к ученичеству. В документах отцами учеников обычно значатся мастера-ремесленники или наиболее состоятельные представители сельского сообщества — фермеры-йомены и отдельные крестьяне. Рабочие редко могли позволить себе дать сыну профессию. У девочек практически не было возможности учиться ремеслу, хотя нам известно несколько учениц, в особенности в начале нашей эпохи. Например, Элизабет Джей, дочь купца из Бристоля, которую взяли Элизабет и Джон Коллис для обучения швейному мастерству. Ее срок службы должен был продлиться девять лет начиная с 1533 года. Чаще же всего девочек обучали «искусству поддержания дома», как это называется в документах об ученичестве в Бристоле. Эту профессию трудно отличить от домашней прислуги.
Размер платы за обучение у разных профессий варьировал, причем наибольшие суммы платили в самых прибыльных сферах. Например, чтобы стать ювелиром, требовался куда больший взнос, чем за учебу на портного. Успешные и процветающие ремесленники с состоятельными клиентами могли брать за обучение больше, чем испытывающий затруднения мелкий ремесленник. Продолжительность согласованного срока также влияла на стоимость обучения: более длительное обучение обходилось дешевле, поскольку мастер извлекал выгоду из длительного периода неоплачиваемой работы хорошо подготовленного ученика.
На самом деле все молодые люди, которые становились учениками, делились на две совершенно разные группы. Первые — преимущественно мальчики среднего или позднего подросткового возраста, родившиеся, скорее всего, в городе и в достаточно состоятельной семье. Их семьи могли позволить себе оплатить обучение, они могли рассчитывать на определенный капитал для открытия дела после учебы и обладали нужными связями, чтобы отыскать подходящего мастера. Вторые были гораздо моложе и уязвимее. Это могли быть сироты обоих полов, в возрасте от семи до двенадцати лет, и на обучение их определял приход. Это был принятый тогда в обществе способ обеспечить им опеку, надзор и трудоустройство. Таким ребенком был Уильям Максвелл. В 1584 году его взял на обучение плотник из Йорка Питер Керрер, «с которым он должен был жить и у которого учиться с этого дня на протяжении двенадцати лет… ввиду того, что названный ученик — ребенок недавно усопшего бедного горожанина», как написано в его записи об обучении. Практически все девочки, обучающиеся домашнему хозяйству, вероятнее всего, попадали в эту категорию. Дети-сироты, по сути, таким образом находили приемные семьи. Однако судьба ребенка полностью зависела от доброй воли и характера мастера и его супруги. Они могли не только получить любовь, доброту и новые возможности, но и столкнуться с жестоким обращением, пренебрежением и эксплуатацией.
С началом эпохи Тюдоров ученичество все более формализовывается. Все больше мастеров объединяются в гильдии, каждая из которых имеет свою структуру и правила, определяющие продолжительность обучения, количество молодых людей, которых можно было взять в ученики, их возраст, характер договора между ними и их новым мастером. Наиболее распространенным становится семилетний срок ученичества. Гильдия Гримсби настаивает на нем в 1498 году, Честера — в 1557-м, Йорка — в 1530 году. В 1563 году был принят новый закон — «Статут о ремесленниках», в котором семилетний срок обучения был закреплен как минимальный по всей стране, а гильдии оставляли за собой возможность увеличения срока, если они того пожелают. Некоторые так и делали. Плотники в Йорке установили восьмилетний срок, а ювелиры в Лондоне потребовали десяти лет ученичества. Двенадцатилетнее ученичество Уильяма Максвелла не было предписанием гильдии. Скорее это указывало на то, что он был моложе большинства поступающих в ученики детей. К моменту окончания его контракта ему было бы столько же лет, как и другим молодым людям, — чуть за двадцать, и он, будучи умелым и в полной мере подготовленным работником, уже несколько лет вносил бы вклад в прибыль бизнеса. Местные власти, которые оплачивали его обучение, могли выторговать меньшую цену в период его полноценной неоплачиваемой работы, а у него был дом до момента полного совершеннолетия. Фрэнсис Лонг из Бристоля был привязан к своему мастеру, Рэндольфу Саундерсу, в течение одиннадцати лет, начиная с 1533 года. Рэндольф занимался изготовлением коротких шнурков с наконечниками, которыми скреплялась мужская одежда. Это ремесло было несложным, а отец Фрэнсиса также был изготовителем наконечников для шнурков, так что мальчик, вероятно, уже достаточно хорошо знал основы. Чем же тогда нам объяснить такой контракт? Парень не был сиротой, но, вероятно, другие семейные трудности потребовали того, чтобы мальчика за деньги отдали коллеге.
Более традиционным было ученичество Ричарда Эдмонта ап Оуэна из Бридженда в Южном Уэльсе, отец которого был процветающим фермером. В 1532 году Ричард был отправлен в Бристоль, где он стал связан восьмилетним контрактом с Робертом Солбриджем, чтобы учиться ремеслу сукновала, который завершает изготовление ткани. Это был квалифицированный труд, требовавший нескольких лет практики, хороших связей с коллегами по профессии и вложения капитала. В качестве стимула для окончания полного курса и, возможно, в качестве помощи по обустройству дома в конце ученичества Ричарда Роберт Солбридж обещал по контракту предоставить ему покрывало для постели, пару простыней и пару одеял стоимостью 13 шиллингов и 4 пенса, а также заплатить взнос, чтобы Ричард стал полноценным членом гильдии и свободным горожанином. Оплата взносов за членство в гильдии и свободу была вполне обычным условием контрактов, а в значительном числе договоров упоминаются разные материальные блага. Чаще всего это набор инструментов для соответствующего ремесла, но время от времени фигурируют также постельное белье и одежда.
Как правило, мастера должны были полностью обеспечивать учеников питанием, жильем и одеждой, обучать их ремеслу, нравственности и дисциплине. Мальчики жили в доме мастера и были подчинены его власти. Часы работы были официально закреплены в «Статуте о ремесленниках»: зимой рабочий день был короче и продолжался от рассвета до заката, с часовым перерывом на обед в середине дня и еще тремя перерывами по полчаса — утром на завтрак, в середине дня и ранним вечером для «напитков». Последний иногда называли «временем питья». Отсюда берет начало, вероятно, британская традиция перерывов на чай[28]. С середины марта до середины сентября, когда день становился длиннее, работа прекращалась не позднее 8 часов вечера, что в среднем составляло примерно тринадцатичасовой рабочий день. Сложно сказать, так ли это было на самом деле. Сама работа также была разной. Пятнадцатилетний или шестнадцатилетний юноша в начале своего контракта был полезен тем, что носил воду и дрова, но в более сложной работе от него было мало проку. Многие вспоминали, что такая работа была основной их деятельностью на ранних этапах ученичества. Мастер мог обучить юношу некоторым базовым, рутинным составляющим работы, но не углублять его знания и не посвящать во все этапы ремесла. Если отношения портились и предпринимались попытки разорвать контракт, такая тупиковая работа часто называлась в качестве причины.
В незначительном количестве договоров прописана обязанность мастера вдобавок к ремесленным навыкам обеспечить обучение ученика чтению и письму. Например, в 1548 году в Бристоле портной Уильям Даннсер должен был в течение года водить своего нового ученика Роберта Уильямса в школу. Также в том же году Хью ап Пауэлл настоял на том, чтобы его сын Йевен проучился в школе в течение года, пока был на обучении у кожевника. Другие отцы не уточняли продолжительность обучения, а просто просили, чтобы их сыновья учились до тех пор, «пока не смогут писать, и читать, и считать». Иногда это обязательство ложилось на плечи друзей и семьи. Когда Томас Робертс из Пензанса в Корнуолле был в 1547 году определен в ученики к Томасу Мередиту, портному из Бристоля, в договоре было оговорено: «…упомянутый Томас Мередит должен позволять ему ходить в школу, а Дэвид Дэнс, его отчим, будет платить за это».
Одно из многочисленных преимуществ системы ученичества, о котором говорили в то время, заключалось в том, что подростки склонны лучше вести себя с чужими людьми, а не с родителями, а авторитетные лица, которые не приходятся им родителями, готовы твердо устанавливать дисциплину. Отданная на учебу молодежь усваивала не только ценные навыки, которые не могла получить дома, но и получала моральное и социальное наставничество. Эта составляющая учебы подчеркивалась требованием того, чтобы мастер был женат. В каждом договоре об ученичестве фигурирует имя жены мастера, поскольку ее забота и авторитет в доме были очень важны для мальчика и его родителей. Муж и жена вместе были связаны договором; ведь, если муж умирал, обучение можно было продолжить под руководством вдовы.
Естественно, все могло пойти не по плану. Дисциплина могла превратиться в настоящее яблоко раздора. В 1563 году Генри Мачин, лондонский купец, зафиксировал в своем дневнике один инцидент, который получил очень широкий общественный резонанс. Некто Пенред так сильно избил своего юного ученика кожаным ремнем с металлической пряжкой, что содрал с его спины кожу. Мачин увидел последствия этого события, после того как вмешались власти. Мастера поставили к позорному столбу в Чипсайде и били хлыстом, пока по его спине не потекла кровь. Лорд-мэр Лондона стоял рядом с ним с мальчиком. У того была оголена спина, так что все проходящие мимо видели, что с ним сотворил мужчина. Избиение мальчика было вполне нормальной реакцией на плохое поведение, но были допустимые пределы, которые усердствующий в «дисциплине» Пенред явно преступил.
На мастеров довольно часто жаловались из-за скудного питания и одежды. Те, в свою очередь, стонали о неподчинении, лени, аморальном поведении, мошенничестве и воровстве своих подопечных. Жизнь и работа бок о бок усиливали раздражение и могли разжечь конфликт вопреки даже самым честным намерениям ученика и мастера. Из документированных случаев ясно, что две трети ученических контрактов расторгались до того, как юноша завершал обучение и мог стать свободным горожанином и присоединиться к гильдии на правах полноправного и независимого члена. Должно быть, Вильгельм Поркар из Хорфилда подверг немалым испытаниям терпение мастеров и своих родителей: в учетных книгах Бристоля между 1549 и 1552 годами зарегистрировано пять отдельных контрактов на его обучение, каждый — с другим мастером.
Около 1550 года Томас и Дороти Рэнкок, видимо, испытывали затруднения с подбором подходящего ученика. Они были трактирщиками в Бристоле, но предлагаемое ими обучение было необычного свойства. Первый взятый ими парень, Уильям Дроури, попал к ним в марте 1548 года. Он приехал из самого Йорка и был сыном рабочего. Оба обстоятельства достаточно необычны. Объяснение, однако, кроется в списке вещей, которые он должен был получить по окончании обучения. В разделе соглашения, где обычно говорится об инструментах, указаны «виола, громкий шалмей и тихий шалмей» (шалмеи были духовыми музыкальными инструментами из тростника, похожими на гобой, но «громкий шалмей», должно быть, был более звучным, так что его было слышно и на улице в шумной толпе). Так что юноша учился на музыканта, несмотря на то что Томас и Дороти названы трактирщиками. Юный Уильям, вероятно, проделал свой путь из Йорка в компании других актеров или музыкантов. Готовность Томаса и Дороти принять незнакомца низкого происхождения объясняется тем, что он уже обладал некоторыми навыками и способностями. Но ученик не завершил семилетний срок, поскольку в марте 1550 года они снова попытались взять ученика. На этот раз им стал Джон, сын Джона Рома, состоятельного человека из Дрейкота в Уилтшире. Джон-младший, вероятно, был немного младше Уильяма, поскольку в этот раз был назначен срок в десять лет. По завершении ему должны были предоставить виолу, два шалмея и ребек (небольшой струнный инструмент, которым часто пользовались преподаватели танца). Однако его учеба была еще более скоротечной, поскольку в октябре того же года Томас и Дороти заключают договор с третьим кандидатом — Уильямом Уэллсом из Торнбери в Глостершире, сыном башмачника. Уильям Уэллс, должно быть, наконец, прошел полный цикл обучения, или же они забросили попытки искать кого-нибудь еще. Во всяком случае, других контрактов они больше не заключали.
Несмотря на все проблемы ученичества, эта система позволяла работать и учиться, а потенциально проблемные юноши и подростки обретали заботу и бдительную опеку.
Слуги
Те дети, родители которых не могли позволить себе обучение, часто в подростковые годы прислуживали в чужом доме. По оценкам, в отдельные периоды XVI века 70 % молодых людей работали слугами. От их хозяев ожидали такого же сочетания практической и моральной заботы, как и от мастеров, а от молодежи — работы и подчинения, но в этот раз мастеру не полагалось никакой платы; наоборот, слуге платили небольшую сумму, которая отражала разницу между обучением и производительным трудом. Работа прислугой тоже оформлялась в виде контракта, такого же, как и для обучения, но в отличие от последнего, который мог действовать семь лет или дольше, контракты слуг заключались на один год. Естественно, с учетом предоставления жилья и питания, зарплаты были маленькими. Младшие работники, которым обычно было около 14 лет, не получали практически ничего; молодые люди в возрасте около 20 лет были гораздо более полезны и поэтому могли получать более высокую зарплату, однако она составляла лишь четверть от того, что мог зарабатывать мастер-ремесленник. В рабочие обязанности могло входить практически все что угодно. Слуга рудокопа мог большую часть времени переносить уголь под землей, а слуга плотника — подметать опилки или таскать древесину. Большинство молодых людей работали на земле просто потому, что именно так зарабатывали себе на жизнь большинство хозяев. Девочек вовлекали скорее в работу по дому вместе с госпожой, а мальчики помогали мужчинам в доме, но разделение труда вовсе не было строгим. Юношей заставляли подметать полы и носить воду, а девушки помогали на полях.
В отличие от XIX века, в тюдоровскую эпоху опыт работы слугой был связан в большей степени с возрастом, а не с социальным классом. Такая служба была элементом обычного жизненного цикла, частью взросления. В книге «Узы, которые связывают» (The Ties That Bound) Барбара Ханавальт анализирует записи коронеров о несчастных случаях со смертельным исходом и показывает, что работа, которую выполняли молодые люди, менялась по мере их взросления. Четырнадцатилетние мальчики все еще падали с деревьев и тонули во время походов за водой, что указывает на то, что мальчики были мальчиками в любом веке и их трудовые обязанности были довольно простыми и заключались в том, чтобы приносить и подавать. Несчастные случаи, которые случались с молодыми людьми в возрасте около 20 лет, были связаны с лошадьми и тележками — гораздо более взрослыми задачами. После пяти и более лет совместной работы с мужчинами старшего возраста они приобретали полезные навыки и становились достаточно большими и сильными физически, чтобы выполнять основные земельные работы — вспашку, боронование и уборку урожая. Обязанности молодых женщин в меньшей степени зависели от физической силы, однако требовали выносливости и умений. Если в обязанности слуг мужского пола входил уход за лошадьми и овцами, то за коров, свиней и домашнюю птицу отвечали служанки. На полях трудились юноши, а во дворе и в саду — девушки.
Во время крупных мероприятий в течение года, таких как стрижка овец или сбор урожая зерновых и фуража, все — молодые, старые, мужчины и женщины — объединяли свои усилия. У различных групп были разные роли в процессе, которые отражали традиционные идеи о пристойности, силе и навыках. Взрослые мужчины косили сено, девочки и женщины бросали его и ворошили, чтобы оно сохло, мальчики вели лошадей с телегами, чтобы забрать его, и вместе с мужчинами поднимали копны сена. Но, поскольку реальная жизнь никогда не совпадает с идеально заведенным порядком, в тяжелые времена людям приходилось делать все, что было необходимо, вне зависимости от пола или возраста. В конце концов, коров все равно нужно доить, когда все женщины в домохозяйстве помогают при родах, а плуги нужно тянуть, даже когда хозяин дома болен.
Хозяин и хозяйка дома несильно отличались от своих слуг по социальному положению; многие из них в юности сами работали прислугой. Даже мелкие фермеры брали на работу подростков из других семей для помощи с ежедневной сельскохозяйственной работой. Самого физического разделения пространства в доме также не существовало: слуги, хозяева, хозяйки и их дети жили и работали вместе. В крошечном домике из двух комнат могли разместиться взрослые хозяин и хозяйка, их трое маленьких детей и мальчик или девочка-подросток, которые только начинали работать слугами. Слуги и дети спали на одной кровати и делили пространство в комнате. Со временем дети из этого дома вполне могли переехать в качестве слуг в другой, чтобы приобрести важные навыки или просто сменить обстановку. Дети более состоятельных фермеров-йоменов реже становились слугами, и если и делали это, то шли в дома побогаче, в которых могли выполнять более разнообразные и специализированные задачи. В процветающем большом хозяйстве фермера-йомена потребность в рабочей силе, естественно, была выше, и обычно существовала какая-то коммерческая специализация — такая как разведение молочного скота, мясного скота или выращивание лошадей. Поэтому жизнь и работа в таких домохозяйствах была разделена сильнее. Если там было больше людей, то, скорее всего, было больше комнат и кроватей, которые можно было поделить между ними, а слугам можно было поручать специализированные задания, а не делать из них простых мальчиков (или девочек) на побегушках. Амбициозный молодой человек или девушка могли использовать эти различия, чтобы карабкаться по социальной иерархии прислуги, поднимаясь с должности помощницы при дойке в большом доме до главной горничной в доме поменьше, прежде чем занять руководящую роль в крупном домохозяйстве.
Некоторые хозяева и хозяйки обращались со своими слугами лучше, чем другие. Известны случаи длительной верной службы и связи на протяжении всей жизни, однако в среднем слуги оставались в доме на два года, а потом переходили в следующий. Новая должность давала возможность договориться о более высокой заработной плате, взять на себя более взрослую роль, освоить другой набор навыков и, конечно, уйти от людей, с которыми вы больше не могли жить бок о бок. Работа прислугой была связана с такими же трудностями, что и ученичество, и там существовал такой же риск злоупотреблений. Драка между Мэрион Грейс и Джоан Джерден, которая произошла на кухне дома Джоан в Идене в Сассексе в 1565 году, сначала была, вероятно, типичной вспышкой между хозяйкой и горничной. Согласно записям коронера, Мэрион мыла посуду, скребла деревянные бочки и посуду. Было восемь часов утра, завтрак был закончен. Джоан была в саду и нарезала травы для горшка, а затем зашла в кухню, гневно спрашивая, кто вытоптал горох. Мэрион ответила «брюзгливо, строптиво и надменно» и сказала своей хозяйке уйти прочь. Джоан ударила ее тыльной стороной руки. Мэрион повернулась к ней и толкнула ее обратно к дверям, и обе упали. У Джоан по-прежнему в руках был нож, которым она резала травы, и во время падения он был направлен в сторону Мэрион. Несколько часов спустя служанка умерла. Многие хозяева и хозяйки подумали бы, что Джоан вполне оправданно ударила Мэрион по лицу за ее дерзость, и были бы возмущены тем, что та дала сдачи. Уважение и почтение к старшим и тем, кто выше тебя по социальному положению, было оплотом жизни эпохи Тюдоров. Подчинение власти считалось религиозным долгом, естественным для человеческого существования, и необходимым условием мира и процветания. Родители, духовенство, учителя, правительство, гильдии, хозяева и хозяйки в равной степени стремились донести эту идею молодому поколению. Но, как показывают примеры, подобные тому, что случилось с Мэрион и Джоан, одной из причин, по которой этот урок повторялся так долго и так громко, было то, что повседневная жизнь была беспорядочна и не всегда соответствовала правилам.
За владение некоторыми навыками как мужчинам, так и женщинам платили большую зарплату. Для мужчин самой прибыльной была вспашка, а для женщин — работа на молочной ферме, и амбициозным молодым людям нужно было найти хороших хозяина с хозяйкой как можно раньше, чтобы максимально преувеличить свой заработок до свадьбы. В идеальном мире молодой человек примерно к 25 годам накапливал не только горшочек с деньгами, но и целый спектр навыков, необходимых для того, чтобы начать семейную жизнь в качестве главы своего собственного дома. Средний возраст первого брака составлял 24 года для женщин и 26 лет для мужчин, и полноценная зрелость в эпоху Тюдоров начиналась только после проведения свадебной церемонии и основания собственного хозяйства.
6
Обед
…Но за вкусными блюдами, напитками и специями в это время дня проводят в четыре раза больше времени…
Джон Фитцхерберт, «Книга о хозяйстве»
Обед был главным приемом пищи всего дня, но приступали к нему по современным меркам довольно рано. Особенно консервативные аристократические семейства все еще обедали в 10 утра, но наиболее модным временем было 11 утра. Поскольку я сама спала в кроватях эпохи Тюдоров и просыпалась с рассветом, чтобы убирать навоз за скотом, ходить за дровами и носить воду, я могу подтвердить, что к тому времени организм уже готов основательно подкрепиться. Обед, будучи самым большим приемом пищи, предполагал горячие и чаще всего разнообразные блюда. Он имел важнейшее значение в жизни каждого человека.
Обед имел и символическое значение, поскольку его окружали отголоски главных служб христианской веры. В более зажиточных домах стол ставили на одном конце большой комнаты на возвышенной платформе, покрывали белой тканью и ставили на него соль, хлеб и вино. В больших хозяйствах обычный процесс накрывания на стол сопровождался поклонами и жестами уважения. Соблюдался строгий порядок. На стол накрывали целой группой. Люди надевали лучшую одежду и вешали на одно плечо длинные салфетки, обертывали их вокруг шеи или привязывали к рукам платки — все они обозначали их ранг и назначение.
В доме виконта Энтони Монтегю в Каудрей-Парке в Сассексе обеденная церемония проходила под наблюдением джентльмена-привратника. В 10 часов утра, «во время накрывания на стол», он собирал своего заместителя, йомена-привратника, йомена — хранителя столового белья и посуды, джентльменов-подавальщиков, разрезателя (форшнейдера) и скатертника. Йомен, заведовавший столовым бельем и руководивший мытьем рук, выкладывал на специально отведенное для этого место скатерти, салфетки, миски для мытья, полотенца и кувшины с водой. Затем он сопровождал йомена-привратника по пути к столу, где последний кланялся, целовал свою собственную руку и прикладывал ее к тому месту на столе, куда йомен, заведовавший столовым бельем, должен был положить сложенную скатерть. Тот клал ткань, и двое мужчин расправляли ее с помощью палочек, затем кланялись и уходили. После этого они ставили на стол соль, салфетки, тарелки или подносы, сопровождая это аналогичной церемонией. Затем йомен-привратник вставал в большой зале и кричал громким голосом, чтобы его слышали все в доме: «Джентльмены и йомены, ожидайте скатертника ради моего лорда». Когда слуги собрались, помыли руки и надели свои ливреи и полотенца, раздавалось повторное «ради моего лорда» — предупреждение поварам, что скоро им предстоит накрывать на стол. Затем в столовую строем заходили вместе джентльмен-привратник, скатертник и резальщик. В середине все еще пустой комнаты они вместе кланялись, затем приближались к столу и, подойдя, кланялись снова. Затем резальщик шел к своему столу для нарезки, а скатертник — к буфету, куда в нужный момент будут приносить еду с кухни. После этого занимал свое место йомен погреба — возле стола с напитками, известного также как стол с кубками (cup board — отсюда происходит слово «буфет» в современном английском). Только в этот момент и не раньше в комнату входили лорд с семьей и занимали свои места. Йомен, заведующий столовым бельем и посудой, постоянно кланяясь, приносил миски, кувшины и полотенца, чтобы они помыли руки, а с кухни начинали приносить еду и ставить ее на буфет. Каждое блюдо было покрыто второй перевернутой тарелкой. Под руководством джентльмена-привратника джентльмены-подавальщики, совершая соответствующие поклоны, убирали верхние тарелки и ставили блюда на стол. Некоторые из них они несли на стол к резальщику, чтобы он приготовил их и вернул, когда они будут готовы.
Только для того, чтобы подготовить зал и накрыть на стол, требовалось шестеро слуг и группа носильщиков, и, хотя процесс начинался в 10 утра, все начинали есть не раньше, чем через час. Ритуалы продолжались на протяжении всей трапезы. Уборка со стола сопровождалась столь же сложным церемониалом и почтительными жестами. И это был лишь обычный повседневный ритуал: если приходили гости, к организации трапезы привлекалось еще больше персонала, а сама церемония требовала еще больше поклонов.
Находящиеся ниже по социальной лестнице джентльмены, купцы и йомены-фермеры, обходившиеся без множества слуг и большей части поклонов, тем не менее старались подражать этой церемонии как могли. В своих залах и столовых они накрывали отдельные столы для разделки пищи, а также столы для напитков. За пределами больших аристократических домов обедали обычно в полдень, и трапеза, как правило, занимала около часа. Даже в самом скромном доме, где ели, возможно, даже без стола, хлебу придавали большое символическое значение. Это могло напоминать простую церковную службу, связь с которой еще больше подчеркивалась застольной молитвой:
Давайте есть во имя Господа и насыщать наше бренное тело такой же пищей, какую и Он ел.
И пусть Он также пожелает насытить нашу душу даром хорошей жизни, чтобы мы были столь же готовы ко всем добрым делам, как сейчас готовы к своей трапезе.
Эту застольную молитву, «которую нужно было произносить перед едой», рекомендовали использовать в 1546 году. Когда молитва была опубликована, Генрих VIII все еще находился на престоле, и, хотя разрыв с Римом был уже закреплен и английский стал официальным языком богослужения, эта молитва по-прежнему была очень традиционной и делала упор на добрые дела.
Застольная молитва, которую рекомендует кальвинист Теодор Беза в 1603 году, в конце правления Елизаветы, выражает те же чувства: благодарность Богу за пищу и просьбу Его о содействии на пути к духовной жизни:
Предвечный Бог и Отец, мы просим Тебя осенить нас Твоей милостью, Твоих бедных детей и слуг, и благословить пищу, которая Тебе угодна, своей добротой, чтобы дать нам пропитание для жизни, чтобы мы могли использовать его трезво и с благодарностью, как Ты велел. Но прежде всего даруй нам благодать желать и в особенности искать духовную пищу Твоего Духа, которой могли бы питаться наши души вечно во имя и славу Отца, Сына и Святого Духа, единого и подлинного Бога, который живет и правит миром бесконечно. Аминь.
Хлеб
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» — самая буквальная мольба для людей тюдоровской эпохи. Хлеб был основным продуктом питания. Сейчас легко недооценить ключевую роль хлеба в жизни людей. Представьте себе на минуту каждый свой прием пищи на этой неделе. Вероятно, в нем было несколько блюд из хлеба, например, самые популярные — тосты и сэндвичи. А теперь вспомните каждое блюдо из макарон или риса и мысленно замените эти углеводы на пару кусочков хлеба. Теперь сделайте то же самое для картошки в любой форме: от пюре до чипсов и картофеля фри. Воображаемая куча хлеба все больше разрастается. Теперь следующее задание: подумайте, как много продуктов из тех нехлебных частей вашего рациона могли выращиваться в тюдоровской Англии. Репа и горох, положим, росли, но никак не бананы или кукуруза. Какие из оставшихся продуктов созревают именно в это время года? В каждом случае, где обнаруживаете пробел, заменяйте его хлебом. Так вы поймете, как много хлеба на самом деле ели люди.
Хлеб на завтрак, хлеб на обед и хлеб на ужин. День за днем. И хотя его часто ели с другими продуктами, самые бедные ели только его.
Но какой именно хлеб? Существовало огромное множество разных его видов. Хлеб из чистой пшеничной, ячменной или ржаной муки, хлеб из смеси пшеницы и ячменя, ржи и ячменя, ржи, ячменя и овса, пшеницы и ржи, овса и ржи. В трудные времена хлеб пекли из ячменной и гороховой муки, даже из муки из опавших желудей. Такой хлеб ели самые бедные. Был хлеб, который готовили из просеянной белой муки, из цельной муки, а в более дешевых хлебах наряду с цельной мукой часто содержались отруби, оставшиеся от производства белой муки. Хлеб замешивали на пивных дрожжах, на закваске или пекли тонкие бездрожжевые лепешки. Разные виды хлеба обладали своими особенностями. На это влияло множество факторов: какое зерно выращивалось в этой местности, какая была погода во время его произрастания, качество почвы, наконец, ваше благосостояние и качество прошлогоднего урожая. Также имели значение ваши личные предпочтения и социальные амбиции. И хотя эти продукты можно было назвать органическими продуктами местного производства, это не всегда означало, что они были хорошего качества. Иногда мука портилась, иногда к ней добавляли примеси, а иногда хлеб из нее был плохо выпечен.
«Лучшим» сортом считался манчет: чистый белый пшеничный хлеб на свежей закваске из пивных дрожжей. Из всех сортов хлеба тюдоровской эпохи он ближе всего к тому, который едят на современном Западе. Но тем не менее они не идентичны. Хлеб был плотнее, более кремового цвета, имел жесткую хрустящую корочку. Жевать его было труднее, и он был сытнее, чем тот хлеб, которые пекут современные пекари. Главное отличие — в самой пшенице. За последние 400 лет произошли огромные генетические изменения в сортах хлебной пшеницы, которые сказались на внешнем виде, урожайности и питательных свойствах растений. Современные сорта пшеницы после полного вырастания доходят до колена, а однородные зернистые стебли плотно покрывают поле. Каждый стебель несет до пятидесяти толстых зерен, богатых глютеном, что придает хлебу ту привычную нам мягкую, легкую, упругую структуру. На изображениях сбора урожая в часословах или на картинах таких художников, как Брейгель Старший, показаны совсем другие пшеничные поля. Пшеница там доходит до талии, и ее стебли шире разбросаны по полю, а колосья — куда более светлые, раскрытые и разнообразные. Но, чтобы понять, как выглядела пшеница XVI века, художественных изображений полей эпохи Тюдоров недостаточно. Глубоко в соломенных крышах старых домов укрыты стебли, колосья и даже зерна пшеницы, защищенные от влажного британского климата и голодных животных плотными связками других стеблей.
В других частях света, когда после долгих лет службы соломенная крыша здания начинает разрушаться, ее снимают и сооружают новую. В Британии же мы просто снимаем прохудившийся верхний слой и сверху накладываем новый. Многие старинные соломенные крыши четырех футов в толщину — на протяжении столетий друг на друга накладывались новые слои и крыша утолщалась. А в самом низу лежат стебли, травы и зерна тюдоровской эпохи. Их подлинность часто подтверждают черные следы от дыма. До 1500 года бытовые здания, за исключением каменных замков, отапливались центральным очагом и не имели потолка. Дым выходил наружу, плавно поднимаясь к стропилам и просачиваясь сквозь щели в крыше, открытые окна и любые трещины и разломы. Нижний слой соломы был тяжелым от оседавшей на нем сажи. Но в течение XVI века разворачивается грандиозное «обустройство дымоходами». В одном доме за другим происходили «улучшения»: добавляли отверстие для дыма или целую дымоходную трубу, достраивали второй этаж и потолок. Дым больше не просачивался через солому, а выходил наружу через отверстие. Достаточно отыскать участок перепачканной черным дымом соломы над потолком, дата возведения которого вам известна, и у вас будет подтверждение того, что эта солома была там еще до преобразования крыши.
Как выглядела пшеница в этой соломе? Она совершенно отличается от современной. Встречаются длинные и короткие колосья, волосистые и гладкие, красные, белые и серые. Некоторые колосья похожи на спельту, эммер или тургидум. Она какая угодно, только не единообразная. Не существует одной разновидности, которую можно было бы назвать тюдоровской; напротив, смеси варьируют в зависимости от региона и от постройки. Мне повезло несколько раз лично увидеть вблизи множество таких разнообразных сортов пшеницы, обычно вместе с большим количеством полевых сорняков, паутины и пыли. Джервейс Маркхэм, писавший в начале XVII века, сообщает, что один сорт пшеницы ценился больше остальных за то, что подходил для укладки крыши. Он называет его «цельно-соломенной пшеницей». Солома этого сорта не полая, а полная мякоти, и эта пшеница дает хорошие урожаи, хотя хлеб из нее получается не самым белым и не самым вкусным. Можно было бы ожидать, что такая пшеница будет преобладать в сохранившихся задымленных соломенных крышах. Но это не так. Там встречаются все различные сорта пшеницы, подробно описанные в книгах по землепашеству у Маркхэма и у Джона Фитцхерберта. Их можно различить даже под сажей. Это коричневая «отрубная» пшеница, с крупными зернами с толстой оболочкой, темная и гладкая; белая «отрубная пшеница», более бледная, более тонкая и с более мелкими зернами; белая пшеница, остистая, с зернами, четырьмя прямоугольниками, расположившимися вокруг колоса; «соломенная» пшеница, с широкими плоскими и очень остистыми колосьями; «органная» пшеница красноватого оттенка; пшеница из Пика, самая красная из всех, с полными остями, склонная к морщинистости; «льняная» пшеница, маленькая, бледная и нежная; английская серая и темно-желтая чилтернская.
В счетах домохозяйств и маноров, в рекомендациях для фермеров и деловых отчетах того периода упоминаются различные типы пшеницы. Они приносили разную прибыль из-за разницы в цене и использовались для разных типов хлеба: серая пшеница часто использовалась для второсортного хлеба, известного как «чит» (cheat bread), «льняная» пшеница лучше всего подходила для пирогов, а от коричневой отрубной пшеницы пекари воротили нос — мука из нее получалась очень темная.
Вооружившись описаниями разнообразных сортов пшеницы того периода и образцами сохранившейся соломы, сегодня можно отыскать очень похожие типы в европейских банках генов (большую часть этой детективной работы проделал Джон Б. Леттс, ныне производящий муку, которую называет Elizabethan Blend Manchet Flour (Елизаветинская смешанная мука для манчета).
Письменные источники и сохранившаяся солома явно указывают на то, что редкие поля засевались лишь одним сортом пшеницы. Семена часто были смешанными, даже если их покупали на рынке — Маркхэм предупреждает, что, если вы покупаете то, что «напоминает переливчатую тафту», это, скорее всего, окажется смесью цельно-соломенной, коричневой отрубной, «органной» и чилтернской пшеницы. Большинство из года в год хранили свои семена, а не покупали новый запас. Такая практика, похоже, способствовала смешению разных сортов семян и большему биологическому разнообразию. Это дополнительно предохраняло от неурожаев. Один сорт пшеницы мог лучше расти при погодных условиях одного года, другой мог дать больше урожая в следующем году. Их смесь гарантировала определенную урожайность вне зависимости от погоды. Географические условия и климат по всей стране определяли, какая смесь подходила лучше всего и какая пшеница использовалась для покрытия крыш и выпечки хлеба, который ели под этими крышами.
Но не только пшеница делает манчет эпохи Тюдоров таким узнаваемым: имеют значение и дрожжи. Современные дрожжи, как свежие, так и сухие, выращиваются в тщательно контролируемых условиях для получения предсказуемого, стабильного продукта и содержат определенную смесь штаммов. Дрожжи были «самодельными». Если вы жили в благоустроенном фермерском доме, вы просто зашли бы в пивоварню рядом с пекарней и собрали пенистые дрожжи, которые пузырились наверху бака с элем во время варки, или купили бы немного дрожжей в местной пивной. Эту культуру дрожжей могли получить из предыдущей партии эля, а ту — от предшествующей ей. Источник дрожжей можно было получить у соседа, принести в дом после брака из дома семьи жены или добыть в доме ее предыдущего работодателя. Или же, если все эти источники были вам недоступны, вы могли бы самостоятельно собрать дрожжи в дикой природе. Дикие дрожжи окружают нас в живой природе повсюду, где воздух достаточно чист. Они оседают на кожуре фруктов и злаков в тех местах, где созданы хорошие условия для их роста.
В целом же в пивоварении использовали две основные группы дрожжей: те, что растут на фруктах и подходят для виноделия, и те, что растут на зернах и подходят для эля, пива и хлеба. Чтобы сделать дрожжи, просто смешайте немного муки и воды в теплую вязкую кашицу и дайте ей настояться на открытом воздухе. Через день-два она забродит, что означает, что вам удалось получить дрожжи, а если этого не произойдет, то попробуйте снова. Неудивительно, что наилучший результат достигается тогда, когда кашицу оставляют в теплый день рядом с зерновым полем незадолго до сбора урожая. Как только в вашей чаше с кашицей начнется брожение, отделите пузырящуюся, пахнущую дрожжами часть смеси и положите ее в новую миску с мукой и водой, накройте ее и поставьте в теплом месте, чтобы дрожжи разрослись. Для достижения наилучшего результата стоит выращивать дрожжи в течение нескольких недель, четыре-пять раз перемещая их в миску со свежей кашицей из муки и воды, пока не установится баланс между дикими штаммами и вы не убедитесь, что получилась хорошая и чистая смесь. Из этих дрожжей вы можете начать варить свой эль. Такая бытовавшая в эпоху Тюдоров система способствовала тому, что все культуры были особенными и сильно варьировали от дома к дому и от пекаря к пекарю. Кроме того, чаны для пивоварения были открыты для воздуха, и время от времени к смеси примешивались и другие дикие дрожжевые штаммы, за счет чего культуры развивались и эволюционировали, улучшая вкусовые качества напитка.
Теперь, когда мы определились с природой сырых ингредиентов, давайте обратимся к тюдоровским методам выпечки хлеба. Они также отличались от современных. В то время измельчение зерна было профессией. Делалось это на водяных и ветряных мельницах, где зерно измельчали между двумя камнями. К 1500 году домашний ручной помол с помощью жернова сошел на нет. Кроме того, во многих манорах это было запрещено лендлордами, которые владели местной мельницей и желали сохранить монополию на помол. Возможно, в удаленных краях и оставались упрямые очаги домашнего помола, но, по сути, помол стал профессиональным навыком и коммерческой услугой.
Если вам была доступна роскошь выбрать мельницу, на которую нести зерно, вы могли хорошо рассмотреть камень, который использовался для измельчения зерен. Для помола самой белой тонкой муки рекомендовалось использовать привозные французские «черные камни». Был широко распространен и гравелит, несмотря на стоимость транспортировки камня по стране; однако использовались и все другие виды местных камней. В целом, чем тверже был камень, тем дороже стоило придание ему формы и замена после изнашивания. Зато мука получалась чище. Мягкие камни изнашивались быстро, а каменная пыль смешивалась с мукой.
Зерно на мельницу приносили не только фермеры. Многие предпочитали покупать и измельчать зерно, а не готовую муку. Зерно хорошо хранится, поскольку каждое зернышко защищено собственным «контейнером» из шелухи-оболочки. После помола мука начинала портиться в течение нескольких недель. Поэтому зерно поступало на мельницу небольшими партиями, по несколько мешков зараз, обеспечивая стабильный доход мельнице и свежую муку для всех круглый год.
Джон Мейо был одним из таких профессиональных мельников. Он работал в Уикхеме в Оксфордшире, к северу от Сор-Брук на Блоксхем-роуд. Там он надолго арендовал весь мельничный комплекс, который впоследствии завещал своему сыну. Он включал две отдельные водяные мельницы, которые сдавались вместе с мельничным прудом, водоспуском и правами на местную акваторию. Такие приспособления, как водяное колесо и основной механизм мельницы, принадлежали лендлорду и были включены в договор аренды. Однако все движимые «инструменты и инвентарь», в том числе двух лошадей, приобретал сам Джон. Чтобы управлять таким бизнесом, нужен был не просто опытный человек, но и определенный капитал. Дело было сопряжено и со значительным коммерческим риском, о чем свидетельствует обращение Джона к сэру Ричарду Феннису за кратковременными кредитами. Он измельчал зерно для частных лиц и по крайней мере для одного пекаря — Николаса Берри, с которым вел собственный счет.
Такие люди, как Джон, часто изображались в сказках эпохи Тюдоров зажиточными и втайне нечистыми на руку. Практические аспекты мельничного дела оставляют место для махинаций. Когда люди отдавали мельнику мешки с зерном, они хотели получить все обратно в виде муки, но в процессе неизбежно случались потери. Настоящее недопонимание и, само собой, обман случались тогда, когда мельник не только измельчал зерно, но и просеивал муку. Просеивать — значит лишь отделять отруби от муки. Чем тщательнее вы просеиваете, тем белее и тоньше будет мука. Просеивание вручную — очень медленная и кропотливая работа, поскольку служащая ситом ткань очень тонкая, а сетка засоряется. Мельники могли закрепить деревянную раму, натянуть поперек нее ткань и установить ее так, что движущийся механизм мельницы механически стучит по ней, вытряхивая муку. Дома можно было привязать один конец ткани к какому-нибудь крючку, взять другой конец в руку и водить туда-сюда большой деревянной ложкой, так что мука просеивалась в лохань, подставленную снизу. Ваша рука заболит уже через несколько минут (по крайней мере моя — точно), а на просеивание муки для отменного белого пирога из дрожжевого теста уйдет час. Конечно, не обязательно отделять отруби от муки, если вы не хотите — из цельнозерновой муки получится хороший цельнозерновой хлеб, но для приготовления белого хлеба и пирогов отруби нужно удалить. Можно отделить все отруби или их часть; процент удаленного веса называется нормой извлечения отрубей. Если вы дали мельнику вроде Джона мешок зерна определенного веса, он мог вернуть вам мешок муки весом чуть меньше. А если вы просили его также просеять муку, он мог вернуть мешок муки и мешок отрубей, которые вместе весили чуть меньше, чем мешок с зерном. И здесь закрадывается подозрение. Была ли потеря оправданной или же он оставил немного муки себе? Не присвоил ли он себе сколько-то хорошей муки и не досыпал ли для нужного веса немного отрубей из другой партии?
Нет никаких записей о том, что кто-то когда-либо ставил под сомнение порядочность Джона. Конечно, жил он вполне зажиточно, но его нельзя заподозрить в чем-то кроме усердного труда и хорошего делового чутья. В 1576 году Джон женился на Колетт, и у них было двое детей, Джон и Фрэнсис. Они жили не на самой мельнице, а в соседнем городе Банбери, и Джон ездил на работу на кобыле, которую держал дома, отдельно от двух лошадей на мельнице. В их доме было три комнаты наверху, в каждой из которых стояла кровать, и три комнаты внизу, а сзади во дворе располагалась небольшая конюшня. Их дом был обставлен хорошо, хотя и не нарочито богато. У Колетт был большой запас льняного постельного белья, скатертей и оловянной посуды. Но у них не было портьер или столового серебра, а поскольку в комнате над кухней хранились две прялки для льна, велика вероятность, что она и ее дочь Фрэнсис сами спряли большинство нитей, которые пошли на эти простыни и скатерти.
Но давайте вернемся к изготовлению самого хлеба — в частности столь высоко ценимого манчета. Буханки манчета были маленькими, как правило, весили около фунта и делались из муки высочайшего качества. Для нее не годилась пшеница с обычных высокопродуктивных полей, где вперемешку сеяли коричневую отрубную, «органную», цельно-соломенную и чилтернскую пшеницу. Для нее нужна была «льняная» пшеница, которую измельчали на твердых камнях и просеивали через тонкую ткань у профессионального мельника вроде Джона Мейо. Муку выкладывали в деревянную лохань и делали в центре углубление. В него вливали теплую жидкую закваску (пенящиеся дрожжи) прямо из пивоварни, из расчета три пинты на один бушель[29] муки. Туда же добавляли горсть соли и смешивали тесто с таким количеством воды, которое казалось необходимым, чтобы замесить достаточно вялое, мягкое тесто, которое необходимо для манчета. К слову, бушель муки — это очень много, примерно мешок муки 25 кг. Этот рецепт из книги Джервейса Маркхэма «Английская домохозяйка» (The English Huswife), написанной в 1615 году, — самый детальный из ранних рецептов изготовления хлеба. Чтобы замесить такое количество теста, нужно не просто работать руками в миске. Маркхэм рекомендует использовать «мешалку» (о чем подробнее будет ниже) или, если у вас ее нет, завернуть тесто в ткань и положить его на чистой доске на полу, снять обувь и носки и работать ногами. Мне больше всего нравится использовать этот метод, хотя сначала нужно вручную довести тесто до нужной консистенции, чтобы оно не слишком сильно прилипало к ткани, и хорошо вымыть ступни. Ступни и ноги гораздо сильнее рук, и при этом вы так же хорошо можете контролировать тесто. «Мешалка», которую он предлагает в качестве альтернативы, — довольно стандартный инструмент в профессиональной пекарне. Она состоит из деревянного рычага, прикрепленного кожаным ремнем к одному концу стола. Один человек держал свободный конец рычага в руках и как можно сильнее нажимал на него, чтобы он двигался вверх и вниз, отбивая тесто, а другой человек снизу передвигал тесто то в одну, то в другую сторону. Любой современный пекарь скажет вам, что секрет приготовления хорошего хлеба заключается в замешивании. Тесто нужно мять, пока оно не станет эластичным и упругим. Получившееся в итоге тесто на манчет оставляют на час подниматься, прежде чем делать из него маленькие плоские круглые буханки. Прежде чем ставить хлеб в духовку, его резали или надрезали по всей ширине вокруг «талии», чтобы помочь ему подняться.
Однако манчет был «элитным» продуктом: о нем много говорили и мечтали, но на самом деле ели его не так часто. Кухонные счета нескольких крупных аристократических домов показывают нам, что даже очень богатые люди ели манчет по праздникам. Например, в ежедневных счетах за пять месяцев 1592 года из Ингатстоун-Холла в Эссексе, одного из домов семьи Петр, среди всех хлебов, которые здесь пеклись и подавались к столу, упоминается только «чит» и «домашний хлеб». Манчет не упомянут ни разу. В Уоллатон-Холле в Ноттингеме, доме семьи Уиллоуби, в 1547–1548 годах было съедено 10 140 фунтов отменного чита и 15 467 фунтов хлеба из муки грубого помола, но всего лишь около 2000 фунтов манчета.
Чит также делали только из пшеницы без добавления другой муки, и он считался высококачественным продуктом, о котором большая часть населения могла лишь мечтать. Чит пекли из более распространенных зерен пшеницы разных сортов. Тот чит, который описан в счетах Ингатстоун-Холла, был испечен из красной пшеницы. Мука для него, естественно, может быть темнее, а также, поскольку ее просеивают через более грубые ткани, в ней может оставаться некоторое количество отрубей. Это не цельнозерновая мука, однако и не самая чистая белая. Рецепт приготовления также отличается: нужны не свежие пивоваренные дрожжи и час на то, чтобы подняться, а опара и ферментация в течение ночи в прохладном месте. Опара делается очень просто: для нее нужен кусок теста, оставшийся от предыдущей партии хлеба, к которому добавляют немного соли и дают ему закваситься, чтобы в нем распространились дрожжи. Кусок теста крошили в теплую воду, а потом добавляли муку, чтобы получившаяся смесь была по консистенции похожа на жидкое тесто. Посыпав его еще одним слоем муки, тесто оставляли на ночь, чтобы дрожжи размножились. Наутро оставшуюся часть муки вмешивали в тесто, добавляя немного воды, чтобы сделать прочное, упругое тесто, перед тем как замешивать его руками, тестомешалкой или ступнями. Буханки чита были в два раза больше, чем манчеты, и разрезы у них делали наверху, а не посередине. Разная форма сообщала о природе каждой разновидности хлеба. Для чита также нужна была более горячая печь.
Но на юге, востоке и в центральных графствах люди ели маслин — хлеб из суржиковой муки. Его пекли из зерновой смеси, в основном — пшеницы и ржи. Соотношение ржи и пшеницы, разумеется, варьировало. Рожь всегда была дешевле пшеницы и лучше урождалась в сырые годы, поскольку она куда лучше растет на возвышенностях и районах с более суровыми для земледелия условиями. Эти два сорта зерновых часто росли вместе на одних и тех же полях. Фермеры сажали суржик, и любая смесь пшеницы и ржи, которая выросла и созрела ко времени сбора урожая, была маслином, из которого они и их клиенты делали свой хлеб. Посевы, содержащие различные виды, так же как и генетически разнородная пшеница, нужны для продовольственной безопасности и помогают фермерам подстраховаться на случай значительных сезонных колебаний. Фермеры, как правило, выращивали суржик, чтобы кормить им свои семьи.
На севере и западе страны, где более влажный климат препятствует выращиванию пшеницы, зерном и хлебом для местных жителей была смесь ячменя с овсом, которые росли вместе на одном поле. Для каждого вида зерновых нужен собственный способ приготовления. Для маслина хорошо подходил тот же способ, что и для чита: опара, оставленная на ночь, и тщательное вымешивание, однако смесь ячменя с овсом вела себя по-другому. Но письменные источники XVI века преимущественно относятся к Юго-Восточной Англии, и хотя в Ланкашире говорят о тонких сухих овсяных лепешках, известных как clap bread, в Чешире говорят о grue bread (овсяном хлебе), а на севере в целом — о jannocks (овсяных хлебцах) на опаре и о dredge bread (хлебе из овса и ячменя), до нас дошли лишь крупицы ценной информации о способе приготовления хлеба в северных областях.
Мне стали особенно удаваться плоские овсяные бездрожжевые лепешки и овсяный хлеб на опаре после того, как я начала готовить их на овсяных кашеобразных смесях, вымоченных за ночь в воде. Для приготовления таких лепешек я беру ложку каши и обваливаю ее в сухой овсяной муке, а затем начинаю раскатывать по более сухой муке, подсыпая иногда муки, если смесь становится липкой. Я нагреваю камень в печи, пока он не станет достаточно горячим, и несколько минут обжариваю на нем небольшое количество сухой муки. Затем я готовлю на ней овсяные лепешки, держу по три-четыре минуты на каждой стороне, а затем ставлю их вертикально возле огня, давая им подсохнуть. Я испробовала этот метод как на железном «камне для печи», так и на настоящем камне, разогретом в огне. С железным покрытием управляться проще, но на настоящем камне, по-моему, получается вкуснее. Дрожжевые хлебцы jannocks также получились у меня лучше всего, когда я использовала кашицу, оставленную на 12 часов, — смесь овсяной и ячменной муки и воды. Затем я добавила к ней смесь из опары и теплой воды, посыпанную сверху сухой овсяной мукой, и поставила получившееся тесто в прохладное место на целый день, чтобы дать ему подойти. Наконец все перемешала и замесила тесто как обычно, а затем обжарила на камне с двух сторон.
Хлеб, если не считать овсяных лепешек, которые готовились на камнях, пекли в основном в печах. Печь той эпохи работала подобно тепловому аккумулятору, в котором разогревается большой камень, кирпич или кусок сухой глины. Как только он достигает определенной температуры, в течение длительного времени он будет отдавать тепло. В отличие от современного теплового аккумулятора, который питается от электричества, печь питается от огня, который разожжен в самом ее сердце и разогревает печь изнутри. Как только печь достигнет нужной температуры, можно убрать огонь и положить еду на дно печи, туда, где еще несколько минут назад полыхал пожар. Масса горячего воздуха из печи обеспечит нужный для готовки жар, который будет постепенно спадать по мере того, как печь будет медленно остывать.
Тюдоровские печи обычно располагались на возвышении, так что устье находилось на уровне талии. Работать с такой печью намного проще. На уровне земли у многих дошедших до нас печей есть отверстия, уходящие под основание печи. Вы можете подумать, что именно там разжигали огонь. Это не так. Это зольник: безопасное место, куда выбрасывают горячие угли, которые достают из печи. Сами печи имеют круглое основание и куполообразную крышу. Еще одно отверстие в печи — ее дверца. Внутренние размеры и формы печи имели решающее значение для ее эффективного функционирования.
Мне посчастливилось (и это действительно было счастье) готовить в самых разных печах, как реальных дошедших до нас образцах, так и в их исторических реконструкциях. Последние имели неоценимое значение для понимания технических аспектов оригинальных печей, которые в противном случае остались бы незамеченными. Для исследовательской работы неудачная реконструкция тоже ценна, возможно, даже больше, чем безупречная работа. Когда вы впервые разжигаете огонь в центре оригинальной печи, языки пламени поднимаются колонной, пока не достигнут купольного потолка, откуда распространятся во все стороны. Если вы продолжите разжигать пламя, оно превратится в сплошную стену огня, играющего по всей поверхности купола и спускающегося обратно, ко дну печи. Теперь огонь достигает следующей стадии, когда пламя возвращает отработанные газы обратно в центр печи, где они вновь сгорают. Из печи почти не видно дыма, а огонь извлекает практически всю энергию топлива. Цвета и формы пламени меняются с повышением температуры от острых желтых языков к более чистым и голубым оттенкам, которые движутся в ленивых арабесках. Под конец огонь утихает до дна печи, где в небольшом синем пламени догорают горячие угли.
Топка трехфутовой печи занимает от 45 минут до часа. В домах были печи и поменьше, диаметром 18 дюймов: такие глинобитные печи, которые называют cloam ovens, встречаются на фермах графства Девон. На их разогрев уходит около 40 минут. А очень большие печи, которые использовались профессиональными пекарями или поварами в больших хозяйствах, разогревались около полутора часов. Но для печей всех размеров применимы одни и те же простые правила. Используйте растопку небольшого размера, например очень сухие и тонкие ветки. Они легче воспламеняются и быстрее высвобождают энергию. И разумеется, в тюдоровскую эпоху они были намного дешевле древесины, которую можно было использовать не только на топливо, но и на тысячу других вещей. Не забивайте печь растопкой сразу: разожгите небольшой огонь и подкармливайте его. Будьте осторожны: не блокируйте поступление кислорода из устья печи в центральную точку, где находится эпицентр огня. Не забудьте замочить деревянную дверцу печи в бадье с водой, чтобы, когда вы поставите ее на место, она не только не обуглилась, но и смогла испарить в атмосферу закрытой печи небольшое количество пара.
Есть несколько способов проверить температуру в печи. По традиции во многих девонских печах был небольшой «говорящий камень», который менял цвет по мере того, как печь приближалась к температуре приготовления хлеба. Но, если у вас не было нужной геологической породы, можно было бросить небольшую горсть муки на крышу печи. Если от контакта с ней появятся искры, это значит, что достигнута максимальная температура приготовления хлеба, при которой пекут большие хлеба из муки грубого помола. Но для отменного белого манчета она будет слишком горячей. Лично мне индикатором служит форма жара. Я имею в виду то, насколько большой становится область перед дверцей духовки, где воздух слишком горячий, чтобы держать там руку, и какую эта область принимает форму. Граница между достаточно теплым воздухом и «ай, как горячо» — поразительно резкая. На ранних стадиях горения поверхность над дверцей печи — горячая, но на уровне основания все еще прохладно, что позволяет легко справляться с огнем. Но, когда на расстоянии шести дюймов от основания печи становится слишком горячо, это означает, что вы приближаетесь к нужной температуре. Все печи немного отличаются друг от друга, поэтому нужно несколько раз разжигать печь, прежде чем вы сможете понять точную форму жара, но опыт помогает научиться точно определять температуру и время приготовления каждого из различных типов хлеба.
Как только печь достигла нужной температуры, нужно быстро затушить огонь в печи, отодвинуть в сторону горячую золу или высыпать в зольник под печью, быстро пройтись влажной шваброй по дну печи, чтобы смыть основную часть золы, поставить туда хлеб, поместить дверь на место и запечатать ее небольшой «колбаской» из муки с водой, чтобы сохранить тепло. Все это нужно делать очень быстро. Как только огонь погаснет, печь начнет терять тепло, так что скорость — главное в этом деле. Однако и после того, как печь запечатана, передохнуть не получится: у вас всего 40 минут на подготовку к следующему этапу выпечки. Когда из печи появится первая партия хлеба, температура в печи снизится, но совсем она не остынет. Если сначала вы пекли большие буханки обычного домашнего хлеба, то чуть охлажденная печь идеально подходит для пирогов, пирожков, маленьких булочек и тортов. А через час, когда они тоже будут готовы, ваша печь будет идеальной температуры, чтобы поставить заварной крем или подрумянить печенье. Каждую печь при разжигании, имея ингредиенты и сноровку, можно загрузить трижды разными партиями блюд.
Если же вы захотите построить собственную печь в саду, то постарайтесь соорудить плоский купол высотой не более двух футов от основания до верхушки. Так как пища готовится на уровне основания печи, дополнительная высота будет просто излишней, и вдобавок вы будете тратить лишнее топливо на ее нагрев. На изображениях средневековых деревенских печей часто можно разглядеть внешнюю форму, напоминающую цилиндр, увенчанный полусферическим куполом. Но помните, что это внешняя, а не внутренняя структура. Зазор между ними способствует теплоизоляции, особенно в верхней части, наиболее уязвимой к утечкам тепла. Чем более круглая у печи форма, тем лучше внутри ее перемещается пламя и тем равномернее нагревается печь. Самый простой способ построить такую печь — соорудить каменный или кирпичный цоколь, а затем найти или сделать корзину в форме купола с плоской верхушкой. Поставьте ее на цоколь и начните сооружать вокруг нее двухдюймовый слой глины. Будьте терпеливы: каждый слой должен высохнуть, перед тем как наносить следующий. Продолжайте до тех пор, пока у вас не получатся сухие, устойчивые и крепкие стены толщиной не менее шести дюймов. Затем разожгите в печи небольшой огонь, чтобы высушить ее и сжечь корзину. Теперь вы готовы к первой настоящей топке, так что начинайте месить тесто на хлеб.
Жители лесистых районов, вроде Уолдена в Сассексе, топили свои печи хворостом. Если на вашей земле растут деревья или живые изгороди, вы можете делать так же. Но хворост также был коммерческим продуктом, частью лесной экономики. Всякий раз, когда деревья заготавливали на древесину или подрубали на шесты, все мелкие ветки связывались в пучки одинаковой длины и объема. Те, что шли на продажу, должны были отвечать стандартам, установленным законом. Конечно, это приводило и к стандартизации печей, так как люди стремились к конструкции, которая легко и эффективно работала бы на покупном хворосте. Те же, кто жил возле болот, собирали утесник, старый вереск и другие древесные кусты для растопки печей. Такое топливо было даже лучше — благодаря природным смолам огонь разгорался быстрее и жарче. Бережливые люди держали у себя все виды древесного мусора для растопки печи; если аккуратно подкармливать огонь, можно было использовать даже солому.
Но печь была не у всех. В частности, горожане были вынуждены обходиться без нее. Сохранившиеся дома, а также археологические данные говорят о достаточно широком распространении печей в зажиточных сельских жилищах йоменов и дворян. Но в обычных домах и городских жилищах практически любых социальных страт они были редкостью. В городах хлеб для значительной массы жителей пекли в частных и муниципальных пекарнях. Детская считалочка Pat-a-cake, pat-a-cake, baker’s man («похлопай пирожок, похлопай пирожок, пекарь») восходит к этим временам. Она требует, чтобы пирог прокололи, проткнули и пометили, например, буквой D — в общей духовке это было необходимо, чтобы отличать выпечку разных заказчиков. В современной Британии пекари выполняют весь процесс — от изготовления теста до выпечки хлеба. Многие пекари эпохи Тюдоров делали так же. Но также существовала устоявшаяся традиция платить пекарю за выпечку домашнего теста, пирогов и тортов (эта традиция до сих пор бытует, например, в Южной Италии). И здесь маркировка вашего хлеба также была важным заключительным шагом перед выпечкой теста.
Какими они были на вкус, все эти разные зерна, закваски и разная выпечка из них? В целом они были хороши на вкус. У них был гораздо более выраженный вкус, чем у большинства современных хлебов, производимых в промышленных масштабах. Этот вкус был бы непривычен для тех, кто привык к нейтральному вкусу белой буханки. Даже самый легкий и белый манчет был тяжелее, пикантнее, плотнее и сытнее, чем большинство привычных нам, и даже маслин и хлеб из овса и ячменя, которыми питались простые люди, по современным меркам, были очень питательными. Такой хлеб, особенно темный, нужно было жевать долго. Его толстые и хрустящие корочки сильно контрастируют с внутренней мякотью. Такую текстуру получали главным образом в печи. На буханках оставались пятна золы и древесного угля. В больших домохозяйствах внешнюю корку часто отрезали, использовали на кухне или отдавали слугам. А чистая верхняя корочка доставалась более состоятельным членам семьи и тем, кто имел более высокое положение в обществе. Эта практика была настолько распространена, что выражение upper crust (верхняя корочка) стало использоваться для обозначения верхушки общества. Овсяный хлеб, жаннок (jannock), напоминает хлеб баннок, который едят и сейчас. Сходство названий указывает на общее происхождение: сверху и снизу, там, где такие хлеба касались камня, они коричневые и хрустящие, а по бокам — более мягкие и воздушные. Вкус маслина довольно хорошо знаком всем, кто ест традиционный ржаной хлеб на закваске, который сейчас пекут некоторые современные пекари из смеси ржи и пшеницы, а не просто чистой ржи. Все это — сытная еда, хлеб сам по себе был самостоятельным блюдом, как это, разумеется, и должно было быть в мире тюдорцев.
Мясо, рыба и похлебка
Хлеб был основой обеденной трапезы — но что насчет другой еды? Пока аристократия ела на обед невероятное количество жареного мяса и рыбы, для всех остальных самым распространенным и в то же время разнообразным блюдом была похлебка. Этим словом называли обычное рагу, сваренное в горшочке с какой-нибудь крупой или бобами. По мере смены времен года в горшке появлялись всевозможные фрукты, овощи и травы. Когда куры несли яйца, а коровы давали молоко, в похлебку добавляли яйца, молоко, сливки и сливочное масло. Свои коррективы вносила христианская традиция постов — дневного или сезонного отказа от мяса, яиц и молочных продуктов. Так что по средам, пятницам, субботам, а также в дни Великого поста и Адвента похлебку приправляли рыбой и моллюсками, а по другим дням — различными сортами мяса. Некоторые блюда были простыми и недорогими, как, например, гороховая похлебка. Сухой горошек замачивали, а затем варили в воде с небольшим количеством ветчины или бекона и пучком мяты. Другие же были дорогими, например, сложные и изысканные смеси из курицы, лимона, вина и яиц с щепоткой имбиря и мелко нарезанных фиников и каперсов. Многие традиционные блюда британской кухни — это похлебки, от шотландского каллен-скинка до валлийского коула из ягненка. Это и шотландский брот (мясной суп с перловкой и овощами), и гороховый суп с ветчиной, и кок-э-лики (шотландский куриный суп с луком), и капустный броуз, и простая солянка: список можно продолжать еще долго. Начинали обычно с добротного бульона-основы, куда добавляли мясо (при наличии) или рыбу (в постный день), затем — зерно, бобы или травы, и оставляли надолго кипеть, подбрасывая по мере приближения готовности больше трав и овощей. Приготовление похлебки было несложным и не требовало постоянного присмотра, поэтому могло идти одновременно с другими делами. Не страшно, если огонь на какое-то время потухнет, так что не нужно постоянно находиться возле горшочка и следить за похлебкой. Достаточно просто время от времени заходить на кухню. Эффективность этого метода не зависит от того, какие ингредиенты вы используете. Похлебка в результате всегда получается вкусной и сытной.
В XV веке в Англии циркулировало множество копий нескольких манускриптов с рецептами. Рассмотренный нами ранее стихотворный рецепт был из одного из них. Первая печатная кулинарная книга, оригинально названная «Книга готовки» и, к сожалению, анонимная, появилась около 1500 года и разошлась, вероятно, тиражом не более чем в 200 экземпляров. Эти рецепты, независимо от того, были ли они написаны от руки или напечатаны, составлены в прозе или стихах, явно предназначались для профессиональных поваров в самых именитых домах. Так, «Книга готовки» начинается с рецепта летней похлебки. Свиное филе и кусочек телятины вместе истолочь в ступке и добавить туда яйцо. Мясо приправляют молотой гвоздикой и перцем и добавляют для цвета шафран. Смесь превращают в маленькие фрикадельки, которые затем бросают в кипящую воду. После варки фрикадельки достают и откладывают, после чего готовят бульон. Миндаль очищают, измельчают и кладут в ткань. Через нее процеживают горячий говяжий бульон, а ткань выжимают, чтобы выдавить в бульон все миндальное масло. Из чернослива извлекают косточки и крупно режут его вместе с коринкой — мелким изюмом, а затем добавляют в бульон, который приправляют мускатным орехом и имбирем. Бульон доводят до кипения, бросают внутрь фрикадельки и дают им нагреться. В конце добавляют щепотку соли, и подают похлебку. Ингредиенты для этого блюда были непомерно дорогими: все, за исключением мяса, было привозным. Миндаль и чернослив ввозили из Франции, коринку — из Греции, гвоздику, перец, шафран, мускатный орех и имбирь привозили по сухопутному Шелковому пути с Дальнего Востока. Я подсчитала, что в 1500 году шесть порций такой похлебки обошлись бы примерно в 2 шиллинга, что составляло больше недельного заработка квалифицированного ремесленника.
Рис. 12. Повар. Неизвестный художник, 1495 г. Похлебка могла иметь любой вкус, который только можно себе вообразить, и составляла основу рациона и богатых, и бедных. Здесь изображен профессиональный мужчина-повар, рядом с которым висит подготовленный кролик (или дикий кролик). Дикие кролики выращивались на фермах, их мясо было очень дорогим; они еще не стали распространенным в дикой природе видом
Блюдо было летним из-за тех двух видов мяса, которые использовались в рецепте. И телятина, и свинина появлялись на рынке с конца весны до начала лета, в другое время года добыть их было сложнее. Большинство из нас хотя бы смутно осознает сезонность фруктов и овощей, но в эпоху Тюдоров все продукты питания имели свой сезон. Куры не несли яйца зимой (ныне используется искусственное освещение, чтобы они неслись круглый год), у коров «сухой» сезон, когда они не ожидали телят, начинался в конце сентября и длился до весны. Благодаря дополнительному кормлению и искусственному осеменению современные коровы круглый год снабжают нас молоком. Телятина в особенности была сезонным видом мяса, поскольку почти все телята рождались весной. Лучшая свинина — от молодых поросят, и появляется она поздней весной. В то же время бекон и ветчину делают из мяса более зрелых животных, и поэтому они появляются позднее. Барана выгоднее всего забить в июне сразу после ежегодной стрижки, а гусей можно было откормить к столу, пока они еще «зеленые» в начале лета, когда трава растет особенно буйно, или «откормить на жнивье» ко Дню св. Михаила после сбора урожая. Рыба в наших океанах мигрирует по своим собственным сезонным маршрутам, как по команде каждый год прибывая к нашим берегам в одно и то же время. Поэтому процветающий фермер вполне мог питаться телятиной и свиными фрикадельками, сваренными в обычном бульоне, в то время как профессиональный повар готовил такую вот «летнюю похлебку» для лорда в его замке.
В 1545 году вышла в свет «Подлинная новая книга о приготовлении еды» (A Proper Newe Book of Cookerye), которая была ориентирована на куда более широкий круг потенциальных покупателей среди преуспевающих членов общества, а не только на небольшую кучку сверхбогатых. Рецепты в ней более простые и дешевые, блюда готовятся из местных ингредиентов, а вместо специй используются травы. Именно здесь мы время от времени встречаем рецепты, по которым готовится обед в домах рабочих. Мой любимый — «Поджарь бобы» (To Frye Beanes). Бобы сначала замачивают, а затем варят до готовности. Затем в сковороду кладут большой кусок масла и две-три мелко нарезанные луковицы и добавляют к ним бобы. Все это обжаривают до коричневого цвета, затем добавляют немного соли и подают на стол. В другой книге рецептов в конце нужно добавить несколько больших горстей нарезанной петрушки, что, на мой взгляд, улучшает вкус блюда.
Тюдоровская еда на самом деле очень хороша. Это свежие и сезонные продукты, приготовленные на древесном или торфяном огне. Дым от него придает блюду приятный аромат, в отличие от угля с его отвратительным запахом. Мясо, обжаренное на открытом огне, — откровение для тех, кто ел только запеченную в духовке говядину или баранину. Всякий раз, когда я снимала процесс его приготовления, съемочная группа превращалась в хищников и поедала все за считаные минуты. Затем следовала изумленная, виноватая тишина. Все смотрели на разоренный стол и вдруг понимали, что мы еще не сняли следующую сцену, в которой мясо должны были есть. Не случайно французы называют нас «ростбифами».
Обжаривание на открытом огне производится перед огнем, а не над ним. Если мясо жарится над огнем, то в него капает жир, в результате чего пламя поднимается и опаляет наружную часть мяса. Так что кожица станет черной и обугленной, а внутри мясо останется сырым. Если же мясо обжаривается перед огнем, то жир может безопасно капать в поддон, и его можно использовать в качестве соуса для мяса и других блюд, а само мясо приготовится гораздо равномернее. Специальные железные подставки удерживали вертел на месте перед огнем, а сам огонь разводили на другой паре похожих подставок, которые держали горящие головни.
Хорошая обжарка, результат которой способен соблазнить съемочную группу, зависит не только от оборудования, но и от топлива. В идеале жарить лучше всего над смесью из трех пород древесины: бука или ясеня, которые дают основную часть жара, дуба, который будет долго гореть в самом сердце вашего огня, и орешника или березы, которые помогут ему быстро разгореться. Можно использовать и другие породы древесины, например яблони, — просто ради аромата. Избегайте смолистых сосен: они затрудняют процесс и придают не очень хороший вкус. И не берите иву: ее едкий дым портит мясо. Куски дерева должны быть одного размера и формы — три фута в длину и три дюйма в диаметре.
К моей бесконечной радости, в корпусе «Мэри Роуз», затонувшего флагмана Генриха VIII, сохранились дрова, которые в конце 1970-х годов обнаружили и подняли на поверхность морские археологи. Находка практически полностью соответствовала пожеланиям повара и правилам, регулирующим продажу дров. Было найдено более 600 бревен, включающих в себя смесь березы, дуба и бука. Причем преобладает береза, вероятно потому, что она лучше всего подходит для очага с закрытой топкой, в котором повара готовили на борту: это кирпичная конструкция, которая позволяет постоянно удерживать над огнем огромный котел. Бревна получили из молодой поросли возрастом около пятнадцати лет, так что древесина была прямослойной и без ветвей. Три фута самой нижней части ствола, где он был толще всего, были разделены вдоль длины на четыре части; следующие две части, более узкие, были разделены просто пополам, а верхние остались целыми. В результате все получившиеся бревна были примерно от трех до четырех дюймов в диаметре. Из всего многообразия замечательных находок на борту «Мэри Роуз» меня приводят в особенный восторг именно эти бревна. Это же уникальная находка — когда еще мог бы уцелеть такой обыденный товар, которым можно было воспользоваться лишь один раз?
Огонь для жарки и огонь для варки немного отличаются друг от друга. Без сомнения, в больших домах две эти операции проводились отдельно, поэтому во многих древних зданиях на кухнях по два больших очага. Чтобы разжечь огонь для варки, нужно соорудить несколько низких кучек под каждым котелком, пламя которых будет соединяться в столбик, касающийся дна котелка, и затем рассредоточиваться по нему. Жарку же начинают с того, что разжигают маленькую пирамидку огня в центре, чтобы создать горячий очаг из углей. Затем с каждой стороны кладут две подставки для огня на расстоянии около двух футов и шести дюймов друг от друга. Поперек них в форме стойки кладут самые тонкие бревна березы или орешника. Как только они начнут разгораться, к ним можно подкладывать бревна бука и ясеня и начинать перекладывать их так, чтобы они опирались на вертикальные стойки подставок. По мере того как огонь разгорается и распространяется во все стороны, нужно постараться создать тонкую стену пламени. По мере того как головни прогорают, несгоревшие концы бревен нужно заталкивать внутрь, ближе к центру огня; это будет создавать запас горячих углей под выступающими головнями и поддерживать огонь. Если вы разожгли огонь такой формы, его будет абсолютно несложно поддерживать, иногда подбрасывая в него бревна и подталкивая внутрь несгоревшие концы.
И вот, спустя десять минут, можно жарить первую порцию мяса. Жарка животных целиком — это расточительство. В обычные дни этого не делали. Для жарки лучше всего подходит кусок цилиндрической формы, через центр которого продевается вертел. Мясо должно с равномерной толщиной распределяться по всей длине вертела, в какую бы сторону его ни вращали. Если в куске мяса остается кость, распределение тепла меняется, так что нужно использовать металлические шпажки, чтобы помочь передать тепло в те области, которые находятся под костью. Подставки для вертела размещали перед подставками для головен на небольшом расстоянии и располагали их немного шире по отношению друг к другу. Вертел клали поперек. Регулировка высоты вертела может повлиять на время приготовления. Безусловно, имея очень большую подставку для головен, можно разместить перед ней сразу несколько кусков мяса друг над другом. Вертел нужно вращать очень медленно, чтобы дать мясу время прожариться. Для вращения можно соорудить механическое устройство или поручить маленькому мальчику заниматься вертелом. Но столь же хороших результатов можно добиться и просто раз в пять минут делая четверть оборота. Самое вкусное мясо получается, если попеременно поливать его соусом и обваливать в панировке. В качестве соуса можно использовать просто жир, который капает с мяса, или добавить к нему мед, вино, травы и специи. После этого можно посыпать мясо панировкой. Для основы сухой панировки подойдет мука, хлебные крошки или овсяная крупа, которые можно приправить по вкусу любыми травами и специями. Если попеременно поливать мясо соусом и посыпать панировкой, получается самая вкусная корочка, которая по мере приготовления впитывает в себя приятный вкус дыма. Для всего этого нужно гораздо больше навыков, чем для того, чтобы просто засунуть что-то в духовку, но до чего же вкусно получается!
Единственная проблема с едой в эпоху Тюдоров заключалась в том, что ее чаще всего не хватало. Богачи питались очень хорошо, но большинство людей жили скромно и часто сталкивались с нехваткой еды. Даже в больших хозяйствах лучшие продукты — жареное мясо и импортные миндаль, коринка, сахар и специи — предназначались для лорда, его ближайших родственников и гостей. Например, в кухонных счетах поместья Ингейтстон-Холл сказано, что скот забивают на полдюжины «кусков жаркого» и сорок «кусков для варки», а объемы закупаемых импортных ингредиентов намного меньше, чем вы можете себе представить, просто взглянув на кулинарные книги той эпохи. Для большинства людей самым трудным временем была поздняя весна. После того как несколько месяцев приходилось есть соленую, сушеную и копченую пищу, заготовленную осенью, а также зерно от урожая, запасы у всех в стране пустели и цены на рынке росли. Несмотря на бурный рост зелени, немногие растения уже можно было употреблять в пищу. Нередко приходилось принимать трудные решения.
Если у вас были животные, забьете ли вы их сейчас, когда они еще маленькие и худые, или подождете, пока они подрастут и разжиреют? Если в прошлом году был плохой урожай, вам, возможно, пришлось съесть часть зерна, предназначенного для посева, так что вы знали, что и в этом году урожай будет невелик. Поскольку сельская местность полностью заселена и все природные ресурсы находятся в чьей-либо собственности, то возможности для пополнения запасов в дикой природе тоже весьма ограничены. Все дикие животные и растения по закону принадлежали владельцу земли, на которой они находились, — не арендатору, а собственнику. Так что большинство мелких и даже достаточно крупных фермеров были лишены прав на рыбную ловлю в ручьях. Им также воспрещалось ловить голубей и даже кроликов на своих полях. Даже тонкие полосы леса, предназначенные для защиты полей, принадлежали разным людям, которые имели права на вырубку деревьев, древесину и растущие под деревьями травы. И поскольку владельцы этих прав нередко сами зависели от этих ресурсов, они их хорошенько охраняли. Когда погода портилась и страдал урожай, тревожилась вся страна. В XVI веке на страну несколько раз обрушился суровый голод. Особенно трудными были 1527–1529 и 1549–1551 годы, а затем практически сразу случился катастрофический неурожай в 1554–1556 годах. В 1594–1597 годах вернулся еще более продолжительный голод. В такие периоды те, кто привык есть пшеничный хлеб, ели ячменный, а простолюдинам приходилось переходить на более грубую пищу, мешать гороховую муку с отрубями и даже желудями, чтобы набить живот. Нехватку пищи ощущал каждый, но настоящая беда настигала самых бедных людей. Власти портовых городов пытались закупать зерно за рубежом и предлагать хлеб по сниженной цене, богатых призывали открыть зернохранилища и продавать излишки запасов, а с церковных кафедр увещевали давать еду бедным, но некоторые все равно голодали. Очень многие сильно недоедали, питаясь раз в день хлебом из непитательных отрубей и желудевой муки. Кости нескольких членов экипажа судна «Мэри Роуз» говорят о перенесенных в детстве болезнях, связанных с недоеданием: рахите, цинге и анемии. Поскольку корабль затонул в 1545 году, эти люди в голодные 1527–1529 годы, должно быть, были маленькими детьми и страдали от голодных мук. И эти муки, несомненно, должны были быть действительно суровыми, чтобы оставить след на костях.
7
Мужская работа
Должен сказать я о наших землепашцах и ремесленниках, что они никогда не были так искусны в своих делах, как сейчас.
Уильям Гаррисон, «Описание Англии» (The Description of England, 1587)
Пахари
К часу дня, когда обед был окончен, мужчины возвращались к работе. Для 80 % английских мужчин это означало возвращение на поля, где чаще всего им приходилось заниматься пахотой. В эпоху Тюдоров плуг служил символом всех сельскохозяйственных работ. Пахота была не только одной из самых трудоемких и изнурительных работ на земле, но и одной из самых важных в производстве пищи. Это была исключительно мужская работа, которой занимались только взрослые мужчины, а не мальчики. Мужчины по всей стране тратили на пахоту больше времени, чем на какие-либо иные занятия, и без их труда наступил бы всеобщий голод.
Когда мы в современном западном мире думаем о пахоте, мы считаем, что она сводилась к паре недель работы раз в год перед посевом. Но в тюдоровские времена земледелие работало иначе. У пахоты было сразу несколько функций, которые сегодня выполняются другими средствами.
Рис. 13. Пахарь. Неизвестный художник, ок. 1525 г. Пахота была мужской обязанностью, и ею занималось большинство мужчин. Здесь мы видим сложный двухколесный плуг, подходящий для твердых почв, который тянут два вола
Прежде всего вспашка обеспечивала дренаж. На большей части полей (почти трети всех полей в Британии) глубоко под землей прячется сеть дренажных труб, проложенных для сбора излишков воды и отвода их в канавы и ручьи. Без этих труб зимой и во время сырой погоды земля быстро превращается в мелководную лужу или болото. В такой заболоченной почве корни сельскохозяйственных культур тонут. В сухом состоянии такие земли очень плодородны, но с застоем влаги урожаи раз за разом погибают. В XVI веке не было сетей подземных труб; вместо этого фермер полагался на плуг, с помощью которого он создавал гряды и борозды для поверхностного дренажа. Он проводил на земле длинные, тонкие параллельные гребни, разделенные бороздами или рвами. В соответствии с рельефом их можно было объединить, чтобы отвести воду в ближайшие рвы и ручьи. Томас Тассер в своей книге «Сто советов для хорошего хозяйства» пишет:
- Борозди свою землю от воды,
- Дабы дождь, что придет, сбежать смог в обход.
- Канавы держи пустыми, изгородь покрой колючками;
- Они хорошо отводят воду и спасают урожай[30].
Чтобы отвести воду, пахарь начинал в центре гребня и устанавливал отвал плуга так, чтобы сбрасывать землю вправо. Дойдя до конца ряда, он разворачивался по часовой стрелке, проводил свою следующую борозду как можно ближе к первой и разворачивался обратно, снова отбрасывая землю вправо на уже созданный гребень. Так он и пахал, двигаясь по длинной тонкой спирали и каждый раз сбрасывая почву в центр, чтобы постепенно переместить ее с краев гребня в середину. Если земля была очень влажной, ему, возможно, приходилось несколько раз проходить одно и то же место, чтобы прочертить видимую границу между гребнем и бороздой, по которой сливалась бы вода.
Влажные и тяжелые почвы, как правило, оставались в таком состоянии всю зиму. Остатки этого рисунка видны по всей стране в местах, где старые пахотные земли стали пастбищами, сохранив поросшие травой борозды и насыпи, нетронутые современной техникой, изменившей рельеф пахотных полей. Если вы заметили такой участок земли с древними гребнями и бороздами, обратите внимание, насколько точно они повторяют контуры ландшафта — все затем, чтобы собирать и отводить воду. В некоторых местах можно разглядеть то, как проходил день пахаря: заметить места, где он разворачивал плуг и, вполне возможно, отдыхал и прихлебывал эль из своей фляги. Бросается в глаза одинаковая длина и ширина этих гребней. Они показывают расстояние, которое могут проделать упряжные животные (волы или лошади), прежде чем им необходимо будет остановиться и недолго передохнуть, и оптимальную для дренажа ширину. Если гребень слишком широкий, то вода так и не достигнет борозды, а если он слишком узкий, то будет мало места для сева. Такой унифицированный гребень давно был условно закреплен в качестве единицы землевладения. Любой из них в теории можно было арендовать по отдельности.
В особенно влажных краях эти гребни должны были оставаться высокими круглый год, чтобы корни растений не оказались в болоте. Однако большая часть земель летом подсыхала, и могла возникнуть противоположная проблема: на слишком высоких гребнях растения могли высохнуть. Поэтому многим фермерам, чтобы добиться хорошего дренажа, нужно было на зиму поднимать гребни (что называлось ridging up), а затем снова опускать их и делать более ровными и плоскими перед севом, чтобы они удерживали влагу в летнюю жару. Опускание гребня опять же делалось с помощью плуга: отвал устанавливался на противоположную сторону плуга, а борозды становились чуть шире. Джон Фитцхерберт в своей «Книге о хозяйстве» советовал установить плуг на расстоянии трех-четырех футов от гребня и «опустить» (то есть пропахать) внешние стороны гребня. Это можно было сделать двумя способами: позволить отвалу отбрасывать землю влево, либо оставить его в обычном положении и пахать против часовой стрелки. Затем пахарь должен был переместить плуг обратно в то место, где он начинал, переместить отвал на правую сторону (или оставить его на месте и переключиться на движение по часовой стрелке) и «поднять» центральную часть гребня вверх.
Помимо обеспечения дренажа, вспахивание было также наиболее эффективным методом борьбы с сорняками. Опять же в современном земледелии есть и другие способы справиться с ними, в основном химические, но при Тюдорах с сорняками боролись грубой силой. Землю вспахивали, чтобы выдернуть сорняки с корнями и сдержать их рост. Лучше всего для этой цели подходила глубокая и широкая вспашка, «так что пахарь должен сделать землю чистой и ровной, чтобы она не была высокой на гребне — это уничтожит все чертополохи и сорняки», — отмечает Фитцхерберт. Глубина среза должна была быть такой, чтобы при корчевке в земле не остался крепкий стержневой корень, из которого могло бы вырасти новое растение. Особенно много проблем на пахотных полях доставляют чертополохи, а также одуванчики, которые, как знает любой садовник, отрастут снова, если просто срезать верхушку. А широкие борозды должны предотвратить повторное врастание выкорчеванных сорняков. Если сделать борозды узкими и расположить их близко друг к другу, то срезанный участок засоренной сорняками почвы окажется между гребнями окружающей его вспаханной почвы и на листья сорняков будет продолжать попадать солнечный свет, а их корни окажутся в пропаханной почве. Широкая борозда гарантирует, что срезанный участок будет отброшен в сторону на ровную землю, что значительно уменьшит шансы повторного укоренения сорняков. Если сорняки разрослись слишком сильно, то вторая вспашка в обратном направлении поможет еще лучше разрыхлить землю и закопать большую часть листвы подальше от света, чтобы она увяла и умерла. Естественно, те сорняки, которые охотно росли на пахотных полях, были лучше всего приспособлены к тому, что почву переворачивают и тревожат — чертополох, конский щавель, ноготки, мак, куколь, собачья ромашка и kedsokes (какое растение скрывается за последним термином — загадка, но в текстах той эпохи он упоминается часто). Они рассыпали в почву семена, которые жаждали вспашки, чтобы взойти. Чтобы избавиться от этих сорняков, нужно было пару раз пройтись плугом по материнским растениям, чтобы уничтожить их, подождать несколько недель до прорастания семян, а затем снова вспахать поле, чтобы уничтожить новые побеги. Прилежный фермер, в особенности тот, кто собирался сеять зерновые для себя или сорта зерновых премиум-класса на продажу, повторял процедуру несколько раз, каждый раз уменьшая угрозу сорняков.
Пахота также способствовала увеличению урожайности. Повторюсь, в современном сельском хозяйстве есть целый ряд альтернатив, но в эпоху Тюдоров плуг был основой всей фермерской деятельности. Существовало два основных источника увеличения плодородности: навоз или другие органические вещества, которые можно было разбросать по полям, и вспашка пастбищ. Использовались все доступные виды органических удобрений, от навоза до гнилых морских водорослей и речного ила. После удобрения земли ее вспахивали, чтобы питательные вещества просто не смыло дождем. Можно было подкармливать землю под паром, накануне первой вспашки, или же пропахать ее как до, так и после удобрения, чтобы оно распределилось более равномерно. Фитцхерберт считал метод двойной вспашки наилучшим: однократная вспашка должна была быть глубокой, чтобы перемолоть сорняки, и поэтому навоз мог оказаться слишком глубоко и не принести посевам пользы. Если же разбрасывать навоз после первой глубокой вспашки, то второй раз можно пахать совсем неглубоко, чтобы перемешивать, а не переворачивать почву. В соответствии с практикой севооборота той эпохи, каждое поле по очереди целый год не засевали и давали ему отдохнуть под паром. Его многократно вспахивали для уничтожения сорняков; именно такую землю удобряли навозом, но не сажали на ней никаких культур.
Другим основным методом повышения плодородия почвы была вспашка пастбищ, в результате которой снова начинали использоваться «отдохнувшие» земли. За это время различные растения передали в почву атмосферный азот, а пасущиеся животные оставили свой навоз, так что старое пастбище — куда более плодородная земля, чем регулярно возделываемые поля. Во всех концах страны истощенные пахотные земли отдавали под пастбища и вспахивали те, что несколько лет зарастали травой. Как правило, процесс возвращения пастбища под посев требовал многократной вспашки плугом.
В общем, пахотный сезон начинался в начале сентября, когда вспахивалось жнивье на только что убранных полях. Затем пахарь переходил на поля под паром. Чтобы в следующем году на них взошла пшеница и рожь, семена должны были оказаться в земле до конца ноября. Затем в самые холодные и темные дни зимы он вновь поднимал гребни полей, чтобы защитить землю от холодного и влажного зимнего воздуха. С праздником Богоявления (6 января) наступало время вспашки участков, отведенных в следующем году под пар или овес. Вслед за этим начинали готовить землю для гороха и бобов — их предстояло сажать уже в марте. Следом сразу же шел овес. Март был чрезвычайно насыщенным месяцем, так как земля, которая была вскопана на зиму, теперь должна была быть опущена, чтобы принять ячмень, который сеяли в начале апреля. Теперь, когда напряжение спадало, пахарь мог переключиться на земли под паром и начать цикл многократной вспашки с перерывами, чтобы за лето погибли все сорняки. Удобряли землю в начале мая, а по-настоящему глубоко пахали и бороздили в июне, незадолго до того, как сорняки начинали давать семена, хотя некоторые предпочитали оставить это занятие до июля. Август часто был единственным свободным от пахоты месяцем, когда фермеры и пахари, рабочие, жены и слуги вместе собирали урожай, прежде чем пахари снова возьмутся за плуг в сентябре.
Плуг различался от региона к региону, в зависимости от местных традиций и практических нужд. Устройство, которое хорошо вспахивало холодные, влажные глинистые почвы, было неэффективным на легких песчаных почвах, и наоборот. Самый простой плуг — это обычный сошник, который волочится по земле, разламывая ее. С его помощью пахарь, уверенно переворачивая почву, может за день прорыть борозду шириной и глубиной размером с сошник и длиной 30 ярдов. Закрепите лезвие так, чтобы его смогли тащить по земле лошадь или вол, и та же самая борозда в 30 ярдов будет сделана через пятнадцать минут. Самыми первыми плугами были простые заостренные куски дерева, которые могли лишь оставлять на легкой почве царапины глубиной в несколько дюймов. Но к моменту воцарения Генриха VII в 1485 году плуги стали куда более сложными механизмами. Первое, что нужно для взаимодействия с землей, — это чересло. По сути, это большой и очень прочный стальной нож, который подрезал землю по мере того, как его тянули вперед. Непосредственно за ним по оставшемуся разрезу в земле шел лемех — куда более крупное и изогнутое основное лезвие, которое разрезало пласт почвы и выталкивало его вверх и наружу. На верхней части лемеха находился отвал, который в XV и XVI веках представлял собой деревянную раму, которая отталкивает и опрокидывает вспаханную землю на одну сторону. Эти три элемента составляли основные рабочие части; остальная конструкция прочно удерживала их на месте и обращала силу тяги вниз, в землю.
В некоторых районах страны, например в Хартфордшире и отдельных частях Кента, отдавали предпочтение колесным плугам: на каменистой земле плуг трясся и подпрыгивал, а без передних колес, которые обеспечивали равномерный ход, он просто зарывался в землю и застревал. Некоторые предпочитали бесколесные плуги, особенно там, где приходилось вскапывать неровную поверхность, по которой отвал двигался бы неровно из-за колес. Простой бесколесный плуг также использовали те, кто был стеснен в средствах, так как его изготовление стоит гораздо дешевле. Различные режущие клинья и зазубрины позволяли регулировать глубину среза, ширину борозды и угол, под которым отбрасывалась земля. Расстояние между вспаханными бороздами зависело от того, насколько хорошо у вас получается удерживать плуг на своем месте. Это напоминает попытки тянуть тележку со сломанным колесом в супермаркете. Я не так уж много пахала с плугом в «тюдоровском» стиле, но мой недолгий опыт помог мне понять, почему эту работу делали взрослые мужчины. Вам нужно использовать вес своего тела, чтобы удерживать непокорное прыгающее орудие, иначе вы прочертите борозды всюду, а некоторые участки земли при этом оставите совершенно нетронутыми. Это физически тяжелая и утомительная работа. Толчки и встряски травмируют руки, плечи, спину, бедра и ноги. Само собой, важную роль в этом процессе играет и погода. Не только пахарь терпит холод и влажный ветер, но и сама почва тоже замерзает или становится мягче, сыреет, сохнет или затвердевает. Сказывается и то, насколько почва липнет к ногам, трудно ли шагать вперед, насколько плуг брыкается, сколько пыли вы вдыхаете. Каждый день отличается от других и несет все новые сюрпризы. Как пишет Томас Тассер, «хорошие пахари заслуживают своего мяса».
Вспашка не была делом одного только человека и плуга. Важно было также и то, кто тащил сам плуг. Лошади или волы? В XVI веке, по мере постепенного увеличения земель и капиталовложений, постепенно переходили от волов к лошадям. Однако во многих районах страны по-прежнему отдавали предпочтение быкам. Фитцхерберт отмечал, что волов, отработавших свой срок службы, всегда можно съесть, но их нужно было пасти и кормить. А тянуть плуг — это тяжелая работа, в ходе которой сжигается много калорий. Чтобы восполнять эту растраченную энергию, волам нужна была высокая, сочная трава. Открытые пастбища не подходили для этой цели, так как другие животные, в частности, овцы, начисто объедали луга. Поэтому волу нужен собственный, достаточно большой огороженный участок, который бы обеспечил его достаточным количеством качественной травы. Лошади также нуждались в хорошем выпасе, но их можно было привязать, в отличие от более крупного и тяжелого быка. Пару лошадей можно было переводить с одного маленького участка на другой и привязывать, чтобы они паслись по краям пахотных земель — там, где были широкие изгороди, обочины дорог или участки земли, не нуждающиеся во вспашке, например как поворотные полосы. Нераспаханные участки между запашками, заросшие сорняками, тоже могли сгодиться на скорый перекус. Но зимой все было по-другому. Бык может переварить куда более грубые корма, чем лошади, и находиться на открытом воздухе в любую погоду. Поэтому волов можно было бы оставить на пастбище с дополнительным кормом — соломой и сеном. Плужных лошадей нужно держать в помещении и кормить более питательным кормом, чтобы поддерживать их работоспособность. Тассер рекомендовал использовать сначала ржаную, затем — пшеничную и, наконец, гороховую солому, чтобы сохранить сено до последнего. Смесь из овса и отрубей, будучи дополнением к сухому корму, помогает лошадям работать в самые холодные и трудные времена года. Поэтому выбор лошадей или волов — это вопрос оценки ресурсов, доступных в разное время года. Сказывались и местные обычаи. Например, если одно из животных заболевало, гораздо легче было получить помощь от соседей, если вы используете одних и тех же плужных животных, и, следовательно, одинаковые упряжь, хомут и крепления.
Забота о животных была важнейшей частью обязанностей пахаря. Ранним утром, только одевшись (примерно в 4:30 утра в июне и в 7 утра в декабре), он первым делом уделял внимание животным и в самом конце дня, перед отходом ко сну (между 17 и 22 ч., в зависимости от времени года), обязательно заходил к ним еще раз. Связь была очень тесной, по-другому и быть не могло. Человек и животное должны были прекрасно понимать друг друга, чтобы слаженно работать вместе. С философской точки зрения эти отношения были отношениями господина и подчиненного: человек был поставлен на эту землю Богом и получил власть над всеми тварями. А божественная цель лошади или быка заключалась в служении человечеству. Душа была лишь у человека. Поэтому, если животное не подчиняется, право и обязанность человека — исправлять и наказывать его. Эти идеи приводили порой к немыслимой для современного человека жестокости. Например, за три-четыре дня до забоя каплуну зашивали анус, полагая, что так он еще больше разжиреет. Быков, отправленных на бойню, сначала провоцировали и дразнили, ошибочно полагая, что их страх и гнев смягчали мясо и делали его более съедобным. Рабочими животными управляли с помощью кнута и стрекала. Лошадей «объезжали» (break), а волов «приручали» (tame). Но вместе с тем существовала и другая, более мягкая традиция терпения, заботы и предупредительности, позволяющая животным медленно узнавать своих хозяев. Хозяева пели им, чтобы успокоить, расчесывали их и гладили, ласково с ними разговаривали. Ухаживать за здоровьем животного просто-напросто разумно, потому что тогда оно будет хорошо работать. Точно так же с хорошим питанием животное будет работать дольше и усерднее. Спокойное и довольное жизнью животное, доверяющее людям, с которыми работает, гораздо более послушно и надежно, чем запуганное.
В своей «Первой книге о скоте» (First Booke of Cattell) Леонард Масколл советует приучать волов к плугу, сочетая власть с заботой и терпением. Начните, пишет он, с животного возрастом от трех до пяти лет: достаточно окрепшего, но все еще довольно молодого и имеющего гибкий нрав. Сначала сделайте ему подходящее деревянное стойло и завяжите голову, чтобы он не смог наставить на вас рога. Первые два дня вол должен провести связанным. В это время как можно чаще поглаживайте его голову и рога, дайте ему видеть и нюхать вас, разговаривайте с ним и приносите пищу и воду. Далее запрягите молодого быка в плуг с другим быком и следите, чтобы ни один из них не мог коснуться рогами соседа. Оставьте их так на два дня и продолжайте при этом по возможности гладить, при этом всегда подходите к голове, чтобы они могли вас видеть и не могли лягнуть. Затем начинайте водить их на прогулку и, по мере того как они привыкают к вашим прикосновениям, снимайте с них клещей, мух и червей и в целом старайтесь, чтобы зверю было комфортно. По словам Леонарда Масколла, со временем молодой вол приручается и подходит время, когда его можно упрячь вместе с опытным быком и впервые заставить тащить плуг. При этом его первые выходы в поле должны быть легкими и непринужденными, пока он только наращивает свою силу. Если молодой бык особенно упрям, его можно было упрячь между двумя опытными животными, которые вскоре сами с ним управятся. Масколл не был сторонником насилия в отношении животного, отказывающегося работать. Он считал, что обычно на это была причина: болезнь или слабость от голода, и тогда нужно было применять другие средства. Но, если вам действительно нужно показать свою власть, он рекомендовал запрячь упрямого зверя между двумя молодыми неопытными быками, чтобы они пару дней то и дело тянули и толкали его туда-сюда, так что упрямый вол будет только рад вернуться в спокойный режим пахоты.
Рис. 14. Титульная страница «Первой книги о скоте» (First Booke of Cattell) Леонарда Масколла, 1587 г.
Кажется, это довольно разумный практический совет. Волы, с которыми я имела дело, какое-то время жили припеваючи: не работали и поглощали большое количество пищи. Они явно страдали от избыточного веса и были не в лучшей форме. Они совершенно не горели желанием вернуться к работе. Когда они просто прогуливались вместе в одной упряжке, они выглядели довольными, но, стоило прикрепить к ним плуг и побудить их приложить усилие, они упирались и отказывались сдвинуться с места. Если так делает лошадь, то нужно пойти впереди, обеими руками держа уздечку и выгибаясь назад. Вес вашего тела тянет лошадь вперед, и, как правило, как только она сделает шаг, больше она не останавливается. С быками это не сработает: это слишком тяжелые и большие животные. Точно так же легкого удара лошади по боку (не обязательно делать это со всей силы) часто бывает достаточно, чтобы убедить ее слушаться, а бык его едва заметит. Можно использовать погонялку для скота, например кнут, и бить ею легонько или посильнее, и вполне вероятно, что лошадям и волам приходилось испытывать на себе удары различной силы. Но ревностный молодняк того же вида, который подталкивал вола к работе, был, возможно, куда более гуманным и убедительным проявлением власти человека.
Пахарь, вероятно, проводил со своими упряжными животными куда больше времени, чем с любыми другими живыми созданиями, включая даже жену. Кроме самого необходимого — пищи и воды — лошадям и волам требовался уход. Так как зимой их держали в помещении, то их стойла также нуждались в чистке. Кроме того, волов надо было хомутать, а лошадей — запрягать. Надеть на волов хомут несложно: это всего лишь деревянная рама вокруг их шей, к которой прицепляется плуг. Лошадям требовалось чуть более сложное кожаное снаряжение. У каждой лошади был кожаный воротник с подкладкой для защиты кожи лошади. На внешней стороне воротника находились хомутные клещи — две деревянные части, к которым можно было прикрепить плуг с помощью двух цепей. Затем надевались пояса на живот и спину, чтобы, как пишет Масколл, «воротник не задушил лошадь при тяге» и чтобы цепи плуга не мешали ей двигаться на повороте. Когда все на месте, каждое животное нужно прикрепить к плугу. С самыми простыми плугами для легких почв могла справиться и одна лошадь, но в большинство плугов запрягали пару. Богатые фермеры в районах с тяжелой глинистой почвой на самых тяжелых участках пахали с гораздо более крупными упряжками из восьми животных, и снаряжение, координирующее движение такой большой группы, было довольно сложным. Как снаряжение, так и животные нуждались в уходе в течение всего дня: их нужно было не только чистить от грязи и сорняков, которые забивали механизм, но также и распутывать веревки, цепи и заклепки, следить за повреждениями, порезами и содранной кожей, в целом управлять ритмом работы, чтобы животные могли продолжать весь день. А в конце дня снаряжение нужно было снять, почистить и отремонтировать, а животных — почистить, помыть и покормить.
Фермер, достаточно состоятельный, чтобы позволить себе упряжку из восьми лошадей, не всегда выполнял всю работу сам. А у многих пахарей не было своего плуга. Таким процветающим фермером был Герри Берис из Кли (Южный Хамберсайд), скончавшийся в августе 1557 года. Согласно его завещанию, у него был прилично обустроенный дом, и, хотя он был не то чтобы богат, у него было одиннадцать предметов оловянной посуды, что указывало на определенный уровень достатка. Однако его настоящее богатство заключалось в домашнем скоте. У него была пара тягловых быков, которые оценивались в 4 фунта 8 шиллингов и 4 пенса — в десять раз дороже оловянной посуды, а также повозка, снаряжение для нее, плуг и плужное снаряжение стоимостью 17 шиллингов 8 пенсов. Волы Герри вспахивали для него всего 8 акров[31] земли, а дойное стадо — 18 дойных коров — составляло основу сыродельного бизнеса. На ферме он также содержал свиней, гусей, овец и лошадей. Доход ферма получала от продажи скота и молочных продуктов, а с 8 акров давали урожай, который позволяли Герри обеспечить свою семью хлебом на весь год, а свой скот — кормом в зимние месяцы. Волы и плуг Герри гарантировали ему определенную независимость и защищали от колебаний рыночных цен.
Неподалеку от него в 1547 году жил Томас Рамзи. У него тоже были земля и скот, но куда меньше. Его молочное стадо было вполовину меньше, чем у Герри. У него было два акра под бобы, один под пшеницу и полтора — под ячмень. Но среди его имущества не оказалось ни плуга, ни волов. У него было две лошади и другая сельскохозяйственная техника, включая две бороны, некоторые запасные части для плуга, в том числе сошник, старая тележка и пара конных граблей. Но у него не было ничего, чем можно было бы переворачивать почву. Как и многие другие, Томас должен был одалживать или арендовать плуг и животных для обработки своей земли. Землю пахали почти все, но необходимые устройства и приводящие их в движение животные были не у всех. Деревня была ареной сложных переговоров, сделок и распределения ресурсов. Возможно, Герри одалживал Томасу плуг и волов в обмен на бороны. Или, возможно, Томас соглашался поработать на земле Герри. Или, может быть, это была чисто финансовая сделка между этими людьми и их соседями. Как бы то ни было, им все-таки приходилось вспахивать свои участки земли.
Художники
На первый взгляд жизнь торговцев и ремесленников сильно отличалась от жизни землепашцев, и местами это действительно так. Но сферы их занятий часто пересекались. Между 1560 и 1590 годами в графстве Эссекс восемь человек назвали себя в завещаниях художниками. Шестеро из них завещали в том числе и земельные угодья. Художники могли позволить себе заниматься своим ремеслом далеко не полный день. Это отличало их от крестьян, но все равно они имели большой опыт работы с плугом.
Такое смешение ремесел и земледелия было очень распространенным явлением, обрекавшим многих на финансовый риск. Городские записи Ипсуича оставили нам ключ к пониманию того, почему это было так важно. 1597 год был особенно тяжелым. Последние два года урожаи были низкими, и по мере приближения лета становилось ясно, что и в третий раз подряд урожай зерна будет скудным. Голод, который миновал целое поколение, снова гулял по улицам. Роберт Холл был художником по профессии. У него не было земли, поэтому ремесло было его основным занятием. Имя Роберта Холла оказалось в проведенной в том году в городе переписи бедных, что указывало на то, что он ничего не зарабатывает. Во времена экономических тягот мало кому приходило в голову покрасить свой дом, и работы для Роберта не было. Многие из тех, кто был включен в перепись малоимущих, разработали семейные стратегии для получения небольшого дохода: жены и дети вязали, пряли или стирали. Однако жена Роберта и шестеро детей ничего не зарабатывали. Видимо, бедность стала неожиданностью для семьи Холла. Они были уважаемой городской семей, жили в достатке, у них могли быть слуги и ученики. Теперь же они получали скудные 18 пенсов в неделю от прихода, а в записи на их имя сообщалось, что им должны быть предоставлены прялки и чесалки для шерсти, чтобы они могли себя прокормить.
На другом конце страны, в Честере, другой художник более успешно переживал кризис. Томас Чалонер был членом гильдии маляров, красильщиков, стекольщиков, вышивальщиков и книготорговцев. Для него ремесло также было главным занятием, но его клиенты были лучше ограждены от капризов экономики и непогоды. Он проходил обучение в гильдии и в 1584 году стал свободным горожанином и полноправным членом гильдии. В свою очередь, он взял в ученики молодого Рэндла Холма, второго сына зажиточного кузнеца. Томас специализировался на геральдической живописи, в 1591 году работал временным представителем Коллегии герольдов, а в 1598 году официально получил эту должность. За составлением и рисованием гербов к нему обращались все местные дворяне, в том числе граф Дерби, для которого он искусно расписал деревянный экран. Ему и его ученику не составляло труда прокормить себя, не прибегая к плугу. Их жизнь зависела от связей с городской и окрестной элитой. Честер был небольшим городом с населением около 6000 человек. Поэтому, чтобы быть постоянно при деле, нужна была большая и достаточно состоятельная клиентура, а это, наряду с профессиональной гибкостью и широким репертуаром, требовало хороших социальных навыков и связей. Томас и его ученик были даже не единственными художниками в Честере, в записях гильдии одновременно были указаны от шести до десяти мастеров.
Работа художника требовала знания множества технических ноу-хау и немалых физических усилий. Готовой краски на рынке не было. Так что каждый художник, будь то рисовальщик геральдических нашлемников на экранах или документах, портретист или создатель простых дизайнов интерьера для домов среднего класса, должен был сам изготавливать всю краску. А значит, ему приходилось много толочь — такую работу обычно делали в «лавке» (shop; слово тогда означало мастерскую, а не точку розничной торговли). По сути, краска — это цветное вещество, которое приклеивают к поверхности. Каждое цветное вещество ведет себя по-разному, как и разные виды клея. Одни лучше работают в одной комбинации, другие — в другой. Например, из белого мела получается хорошая белая краска, если его мелко измельчить и смешать с костным клеем. Так получается клеевая краска. Но если смешать этот же самый мел с маслом, чтобы получить масляную краску, он приобретет грязный серый цвет. Из костного клея получалась краска, которая очень хорошо подходила для ткани и высыхала за несколько часов. Но поскольку это — белковая субстанция, она не подходит для знамен и шатров, которые должны были выдерживать непогоду, плесень и гниль. Кроме того, она плохо ложилась на металлические поверхности. Основой масляной краски служило льняное масло. Такая краска высыхала очень медленно — в течение недель или месяцев, в зависимости от погоды, поэтому была бесполезна для срочных работ, но была куда более надежна в долгосрочной перспективе. Темпера тогда изготовлялась из яичного желтка — она быстро высыхала, но была сложна в использовании на больших площадях. Она особенно хорошо окрашивала в яркие чистые цвета деревянные поверхности. Краска на основе яичного белка была не так востребована. Парадоксальным образом при высыхании она становилась даже немного желтее яичного желтка. Акварель получали путем смешивания цветных веществ с аравийской камедью. Ее также использовали для покраски небольших поверхностей. А если было нужно покрасить стены целиком, то основой служила известковая побелка, которая была дешевой, но не очень подходила для точной работы.
Самыми дешевыми цветами были те, которые встречались в естественном виде в окрестностях и которые можно было самостоятельно измельчить в порошок. Это упомянутый уже мел, но во многих районах страны есть хорошие, очень яркие глины (или охры), которые можно высушить и измельчить, получив коричневато-серые, желтые и конечно же коричневые оттенки. В лесу Дин встречается очень хорошая красная охра, из которой получается широкий диапазон цветов — от темно-фиолетового до красно-оранжевого. А в Оксфордшире — особенно яркие желтые охры и коричневые умбры. Черный цвет успешно получали из сажи или тщательно измельченного древесного угля. Более сложными, но все-таки доступными для изготовления в мастерской были ярко-зеленые или сине-зеленые цвета ярь-медянки (verdigris). Можно было подвесить листы меди в герметично закрытой банке над слоем уксуса в один-два дюйма и оставить где-то в теплом месте, чтобы уксус начал испаряться. По мере того, как поднимался пар, он вступал в реакцию с медью, образуя медный ацетат. Это была цветная ярь-медянка, которую соскребали с медной поверхности, измельчали и смешивали с каким-нибудь клеем для получения небольшого количества зеленой краски. Конечно, она была ядовитой, поэтому после нужно было хорошо проветрить помещение и тщательно вымыть руки.
Куда более токсичным был опермент, хотя и его тоже можно было сделать в домашней мастерской. Это природный минерал, встречающийся в скальных породах Британии. Он содержит высокие концентрации мышьяка, но из него получается ярко-желтый оттенок, выгодно отличающийся от тусклого земляного цвета охры, получаемой при помоле глины. Минерал продавался по всей стране в небольших порциях, почти исключительно для нужд художников. Красный и белый свинец — тоже высокотоксичные вещества, но из них получаются очень яркие и чистые цвета. Если вы работали с масляной краской, то знаете, насколько ценны свинцовые белила, потому что только они при смешивании с маслом дают безупречно белый цвет. Свинец также ускоряет процесс сушки, поэтому бывает полезно добавлять толику белого свинца в другие цвета. Красный и белый свинец также можно изготовить в мастерской. Свинцовые белила — это простой ацетат свинца, и получают его так же, как и медный ацетат (verdigris), путем подвешивания полос металла над уксусными парами. Красный свинец представлял собой свинцовые белила, которые готовились при достаточно высокой температуре и с большим количеством воздуха.
Красный и белый свинец также ввозили и продавали по вполне разумным ценам, как и некоторые охры, цвета которых часто были более чистыми и менее тусклыми, чем у британских охр. Роджер Уорфилд был одним из тех купцов, который приторговывал художественными ингредиентами. В ноябре 1567 года он ввез 600 центнеров красного свинца и 200 — белого свинца, в январе 1568 года он привез четыре бочки охры, в феврале — две бочки льняного масла, а в марте — центнер меди для производства чернил. Все эти и многие другие пигменты (в сохранившихся работах обнаружено порядка сорока) мелко измельчались, а затем смешивались с влажным разбавителем. Если они были измельчены грубо, в итоге получались крупинки слабо окрашенного песка, приклеенного к определенному месту, но, если помол был достаточно мелким, можно было нанести ровный слой краски определенного цвета. Поэтому для большинства веществ справедливо то, что чем тщательнее его перемолоть, тем лучше оно отражает свет. Но это не касается синего пигмента — азурита, который бледнеет, зеленеет и в конце концов чернеет, если измельчите его слишком сильно.
Помол нужно проводить на плоской каменной плите с помощью камня с плоским основанием, известного как muller («растиратель»). Само собой, плита и шлифовальный камень не должны измельчаться вместе с пигментами и добавлять в краску неокрашенную пыль, поэтому оба инструмента должны были быть сделаны из самого твердого камня, притом гладко отполированного. Лучше всего подходят мрамор или гранит. Мой муж увлекается изучением повседневной жизни британских художников XVI века, поэтому в задней части нашего дома находится настоящая пещера волшебника, где изготавливаются пигменты и краски. Меня часто просили помогать на помольной плите. Поэтому я отдаю должное не только мышечной силе, необходимой художнику, но и различной природе пигментов. Не бывает двух одинаковых оттенков. Современные художники и маляры считают само собой разумеющимся, что желтая краска будет наноситься на холст так же, как и зеленая. Совсем другое дело — ручная работа в мастерской, без современных процессов химического синтеза. Например, богемскую землю, из которой получали светло-зеленый краситель, нужно было измельчать до совершенно иной консистенции, чем та, которая требуется для французской желтой охры. И как бы сильно вы ни старались, она куда менее плотно покрывает поверхность.
Без сомнения, многие художники требовали от своих учеников, чтобы те много занимались измельчением материалов. Это было неотъемлемой частью обучения техническим аспектам работы и конечно же освобождало мастеров от тяжелой работы. Жен, детей и слуг тоже можно было приставить к помольному камню. А иногда эту работу поручали и сторонним работникам. Джон Камберленд, аптекарь из Ипсуича, с которым мы встречались ранее в качестве поставщика парфюмерии, также изготовлял принадлежности для живописи. Его инвентарь 1590 года включает «1 маленький камень, чтобы размалывать цвета». Возможно, в лучшие времена он поставлял готовые измельченные пигменты Роберту Холлу, художнику из Ипсуича, который сильно пострадал во время кризиса 1597 года. Тем не менее кто бы ни занимался измельчением, можно быть уверенным, что летом он проводил свои дни с 5 утра до 7 вечера в окружении мелкой пыли, насыщенной частичками свинца, ртути (от киновари) и мышьяка.
Чтобы быть преуспевающим художником, нужно было не только знать, как производить все эти краски, но и как их лучше всего использовать. Проекты часто приходилось разрабатывать, отталкиваясь от технических свойств краски. Искусство тюдоровской Англии особенно интересно своим сопротивлением основным идеям европейского Возрождения. Большинство техник совпадало с теми, которые использовали итальянские и голландские мастера, но математические упражнения в перспективе и традиции реализма, которые отличали искусство XV–XVI веков по обе стороны Альп, так и не закрепились по эту сторону Ла-Манша. Некоторые побывавшие в Англии художники-иностранцы, такие как Гольбейн или Йорис Хуфнагель, рисовали Британию в европейском стиле, но британские художники работали в собственном стиле, отдавая предпочтение структуре и смыслу. Лично я люблю как европейское ренессансное, так и уникальное островное искусство. Они очень отличаются друг от друга, но мне они кажутся прекрасными и волнующими каждое в своем роде. К концу эпохи Тюдоров европейская практика и эстетика проникает в доморощенный британский стиль и начинает влиять на него, но некоторые отличия все еще сохраняются.
Возьмем, например, портрет Гавена Гудмана из Ритина, написанный неизвестным художником и датированный 1582 годом. Гудманы были торговой семьей, которая жила и работала в основном в районе Ритина в Северном Уэльсе, но располагала и некоторыми связями в Лондоне (Габриэль Гудман стал деканом Вестминстера). Лицо на портрете выполнено с большим искусством и отражает реализм континентальной техники, но оставляет и ощущение символизма. Немного неловкая поза призвана показать расположенный в центре молитвенник, кольцо с черепом (которое также изображено на более раннем портрете его отца) и респектабельный наряд. И хотя все эти атрибуты выписаны реалистично, они кажутся самостоятельными предметами, которые нужно изучать. Фон полностью символичен: монохромное полотно, на которое нанесены латинские благочестивые фразы, имя и возраст изображенного (56 лет) и череп в нише. Семейная преемственность, благочестие и коммерческий успех, а также узнаваемые индивидуальные черты изображенного приготовлены для зрителя, который должен их прочесть. Видимо, Гавен Гудман был очень доволен таким сочетанием поучительного и содержательного послания и личного сходства: в момент его смерти в 1603 году картина обозначена как висящая в гостиной его фамильного дома. Меня этот образ тоже привлекает. В нем — гордость, решительная демонстрация своей позиции и убеждений, сама сила личности, желающей не просто запечатлеть момент, но и рассказать о своей жизни, войти в историю. Все это вызывает подлинный эмоциональный отклик при взгляде на портрет.
Картина могла быть написана в Лондоне, возможно, во время деловой поездки Гудмана. Но, поскольку Гавен был купцом, он, должно быть, вел дела и в Честере, который находится менее чем в одном дне пути, так что не исключено, что эта картина была написана Томасом Чалонером, честерским художником, с которым мы встречались ранее.
Содержание изображения обсуждалось заказчиком и художником. У клиентов были твердые представления о том, что модно, желательно и уместно, а также — индивидуальные требования. Художники часто опирались на модели и идеи, которые они встречали и исполняли ранее, а также на схемы, которые использовались в среде мастеров. Например, в 1585 году Джон Смартт из Бокстеда (Эссекс) оставил половину своих «схем» будущему мужу дочери (который мог быть его учеником), а в 1572 году в Лондоне Ричард Флинт завещал свой помольный камень, кисти и схемы. В том же году Генрих Айвз из Нориджа завещал «книги о гербах и эскизы на бумаге». Такими эскизами могут быть как выполненные вручную чертежи, так и печатные изображения, завезенные из Нидерландов и из Германии, где производились особенно качественные образцы. Было даже опубликовано несколько книг с рисунками, которые служили исходным материалом для художников и ремесленников. В сохранившихся произведениях живописцев, штукатуров, резчиков по дереву и вышивальщиков видны рисунки, почерпнутые в зарубежных печатных изданиях. Но сохранившиеся работы всегда выглядят по-английски, по-валлийски или по-шотландски. Европейская эстетическая модель проходит сквозь локальную линзу и транслируется очень своеобразно: опускаются тонкие детали перспективы, добавляются области плоского рисунка, дополнительные элементы визуального повествования насыщают символизмом. Это искусство менее совершенно технически, но у него есть своя изюминка и оно производит не меньшее впечатление на зрителя.
Если вы посмотрите на сохранившиеся в Британии образцы живописи разного типа, то вскоре сможете заключить, что большинство художников расписывают стены в интерьере по схемам, которые в которых встречаются как самые простые, часто неровные геометрические узоры, так и сложные сцены с множеством объектов. Но если вы обратитесь к документам, то быстро придете к выводу, что основную часть покрасочных работ делали по ткани, которую затем вешали в домах. В любом случае внутренняя отделка была настоящим хлебом для художников. С момента победы Генриха VII под Босвортом в 1485 году и до Реформации 1530-х годов художники много работали в церкви: расписывали стены и алтарные перегородки, статуи, религиозные знамена и алтари для приходских церквей, соборов, монастырей и частных часовен. Конечно, качество работы было разным, но многое из того, что сохранилось (часто не полностью), — это великолепная и высококвалифицированная работа. Возьмем, например, великолепную фреску Страшного суда в церкви Святого Фомы в Солсбери, нарисованную в двадцатилетие до 1500 года. Она занимает всю поверхность алтарной арки, и, несмотря на довольно небрежную реставрацию Викторианской эпохи, мы все еще можем насладиться изобилием черных, белых, зеленых, красных и желтых цветов на изображении, где Христос восседает в центре на радуге, души умерших слева восстают из гроба, а справа находится спуск в фантастические врата ада в виде большого дракона или зверя, похожего на рыбу. Среди про́клятых выделяются два епископа, скупец со своими денежными мешками и нечестная на руку хозяйка пивной с пивной кружкой в руке. К сожалению, неизвестно, кто это нарисовал и сколько это стоило; сохранились данные лишь о стоимости побелки в 1593 году.
Реформация была особенно страшным временем для художников. Внезапно, почти за одну ночь, исчезла большая часть их клиентов, в основном — самые состоятельные. С протестантизмом пришло твердое убеждение, что картины на религиозные темы суть идолопоклонство. Исчезли не только заказы. Даже их старые работы испортили и побелили. Каковы бы ни были личные религиозные убеждения художников, люди, занимающиеся этим ремеслом, столкнулись с кризисом. Когда в 1553 году на престол взошла королева Мария и восстановила католичество, стала проводиться кратковременная реставрация оставшихся культовых сооружений (монастыри, правда, по большей части уже исчезли). Джон Барбер и его жена, вероятно, были очень рады тому, что в этот период он получил заказ на покраску и позолоту Лектория церкви в Лестере. Но, когда в 1558 году Мария умерла, а страна вновь официально стала протестантской, приток церковных заказов закончился. Правда, в эти бурные времена была и другая работа. С 1549 по 1558 год Лестерская ратуша периодически нанимала Джона Барбера для создания гербов и городских знамен, а прямо в разгар Реформации, в 1531 году, Эллис Карманелл в Лондоне работал над картиной пышной церемонии коронации Анны Болейн, включавшей путешествие на корабле из Гринвича в Тауэр, «оживленное… музыкантами, драконом и ужасными монстрами и дикарями, пускающими фейерверки», а улицы были украшены цветными знаменами, штандартами и флагами всех ремесленных гильдий.
Правление Елизаветы было расцветом расписных тканей для украшения интерьера. Процесс назывался окрашиванием, а не живописью; в Лондоне художники и красильщики официально считались двумя разными группами, которые пытались сохранить различие между собой, хотя и были объединены в одну гильдию. Окрашивание ткани означало раскраску материала клеевой краской, для которой пигмент смешивался с костным клеем. Художники должны были воздерживаться от использования клеевой краски, а красильщики не должны были использовать масла и красить дерево или стены. В других частях страны границы между ними были размытыми, так как большинству приходилось работать со всеми возможными принадлежностями, чтобы обеспечить себя постоянной занятостью. Крашеные ткани были дешевым и массовым товаром, доступным по цене для торговцев, йоменов, крестьян и даже некоторых поденных рабочих. Например, в 56 % инвентарных описей Ноттингемшира эпохи Елизаветы упоминаются окрашенные ткани или драпировки. Другой пример — Томас Гаррис, крестьянин, живший на окраине Банбери в Оксфордшире в 1590-х годах. Наличие крашеных тканей в его доме не было чем-то необычным для крестьянина, но, похоже, он был особенно увлечен ими. У него было две в холле и еще две — в гостиной, а две лучшие кровати в доме были также оборудованы тестерами (потолками) из окрашенной ткани. Десятилетием ранее в Ипсуиче у Джона Кенинггейла были ткани, окрашенные за 2 шиллинга и 8 пенсов, что указывает либо на высокое качество работы, либо на особенно крупные габариты ткани, и еще одна ткань в гостиной. У вдовы Маргарет Лав была только одна окрашенная ткань, у моряка Джейкоба Персона — две и так далее.
Люди чаще всего демонстрировали свои окрашенные ткани в холле, но гостиные и спальни также часто украшались таким образом. Большинство таких тканей оценивается примерно в 6 пенсов. Они встречаются по всей стране, от общин Кли (Южный Хамберсайд) и Саут-Кейв (Йоркшир) до Монмутшира (на границе с Уэльсом), Эссекса (на востоке) и Девона и Корнуолла (на юге). Несмотря на их повсеместность, до нас дошли лишь немногие экземпляры. Среди имеющихся у нас фрагментов — набор тканей 1600 года, который был раскрашен в подражание деревянной панели, а также превосходный декоративный набор в Хардвик-Холле в Дербишире, который с первого взгляда похож на набор тканых гобеленов. Настенные росписи куда лучше переживают капризы времени. По большей части они скрыты под краской или деревянной обшивкой более позднего декора. Но, поскольку они не являются движимым имуществом, настенные росписи не учитываются при составлении описей. Следует ли, таким образом, думать, что те, кто не указывал в описях крашеные ткани, вместо этого расписывали стены? Стоимость настенной росписи была столь же низкой, около пенса за квадратный ярд. Полная роспись стен и потолка большой гостиной самого высокого качества доходила до 5 шиллингов за работу и краски. Скорее всего, большинство художников много и постоянно путешествовали, переезжали из дома в дом, чтобы расписывать интерьеры, и возвращались в свои домашние мастерские, чтобы смастерить и подготовить кисти и краски.
8
Женская работа
Но хозяюшки, которые не учатся делать свой собственный сыр,
Полагаясь на других, действуют себе же в убыток.
Их молоко расплескивается по углам, их сливки настолько сильно свернулись,
Их чаны с молоком такие грязные, что сыр получится никудышный[32].
Томас Тассер, «Сто советов для хорошего хозяйства» (1557)
Если верить «Книге о хозяйстве» Джона Фитцхерберта, рабочий день женщины начинался с подметания дома, чистки стойки с посудой, дойки коров, осмотра телят и процеживания свежего утреннего молока через несколько чистых тканей, чтобы очистить его от грязи и коровьей шерсти. Затем, подняв и одев детей, женщина должна была приготовить завтрак. Позже в течение дня ей нужно было приготовить обед и ужин, испечь хлеб, сварить эль, сделать масло и сыр, дважды покормить птиц и свиней, собрать яйца, позаботиться об огороде, приготовить коноплю и лен и спрясть из них, расчесать и спрясть овечью шерсть, провеять пшеницу, постирать, заготовить сено, отвезти зерно на мельницу и обратно, продать свое масло, яйца и сыр на рынке, сделать покупки для дома, приготовить из ячменя солод и сшить нижнее белье для членов своей семьи. Она также должна была помогать мужу наполнять тележку с навозом, вести плуг и срезать зерна. Как признает сам автор: «…тебе нужно сделать так много всего, что ты не знаешь, с чего начать». В связи с этим он считал, что женщине нужно расставлять приоритеты в своих обязанностях и в первую очередь заниматься теми делами, которые, если будут забыты, принесут самые большие негативные последствия. Такова была повседневная реальность большинства женщин: жены фермеров и молодые женщины работали служанками в сельском мире. Даже горожанки выполняли большую часть этой рутинной работы.
Молочное хозяйство
- Давай, маслице, давай,
- Давай, маслице, давай,
- Питер стоит у ворот,
- Ждет пирог с маслом,
- Давай, маслице, давай[33].
Согласно Фитцхерберту, дойкой занимались ранним утром, а вот масло, напротив, лучше всего было взбивать в прохладном месте перед обедом, а сыр делать после обеда. Приготовление молочных продуктов было женской обязанностью, частью повседневной домашней жизни, и в некоторых районах страны оно могло приносить существенный доход. Например, жена Генри Бериса, была, очевидно, очень занятой женщиной. В то время как плуг и волы, упомянутые ранее, были вотчиной исключительно ее мужа, миссис Берис приходилось иметь дело с молоком 18 коров и присматривать за 9 молодыми животными, которых еще не пришло время доить, и 13 телятами, которых нужно было отлучать от матери. Одна женщина не может вручную доить 18 коров дважды в день, так что у миссис Берис, должно быть, было несколько служанок. Обычно на одну доярку приходилось по 6 коров.
Миссис Берис должна была не только присматривать за служанками, но и обучать их. Квалифицированная доярка, достаточно опытная, чтобы управлять молочным хозяйством, могла получать значительно более высокую заработную плату, чем служанка, но молодые девушки, которые хотели научиться этому ремеслу, часто соглашались на более низкое жалованье, если госпожа считалась искусной молочницей и была готова их обучать. Герри Берис вряд ли стал бы спускать так много своего сельскохозяйственного капитала на молочный скот, если бы он сомневался в компетентности жены.
Оборудование для массового производства сыра требовало достаточно крупных инвестиций. У миссис Берис был котел (lead — большой встроенный сосуд для кипячения, похожий на приспособление, которое викторианцы часто называли copper (букв. медь, паровой котел), хотя к тому времени их часто делали из железа) для кипячения воды и нагревания молока. У нее также было два сырных пресса, две длинные полки для созревания сыров, маслобойка, набор сырных ванн, в которых делали сыр, и миски для доения, в которых отделялись сливки. Все вместе это стоило 20 шиллингов — больше, чем многим мужчинам-ремесленникам приходилось вкладывать в орудия своего труда. А в августе 1557 года, когда ее муж умер посреди сыродельного сезона, в лавке на полках томилось 20 стоунов (около 120 килограммов) сыра. По меркам тюдоровской эпохи это была большая партия, поскольку в то время в большинстве молочных стад было меньше дюжины коров. Берисы, живущие в приходе Кли на южном берегу реки Хамбер, имели достаточно большое хозяйство, чтобы поставлять свои продукты в маленький, но зажиточный город Гримсби. Сыр хорошо хранится, так что это идеальный продукт для рынка в мире, где транспортировка может занимать много времени.
Рис. 15. Молочница. Неизвестный художник, 1526 г. Весеннее утро миссис Берис, должно быть, выглядело примерно вот так. Эта сельская жительница из деревни Кли в Хамберсайде заведовала молочным хозяйством. Надев фартук и заколов свою вуаль, она взбивает масло. Это большая маслобойка, но ей нужно переработать молоко 18 коров
Миссис Хакет-старшая, должно быть, тоже была очень хорошей молочницей. Ее сын Томас был абсолютно уверен в том, что все, что она делала, когда он рос в Саффолке, сильно превосходило умения женщин, которых он встречал в Южном Хэмпшире. Его «Книга о молочном деле для хороших хозяек» (His Dairie Book for Good Huswives; самый ранний текст, посвященный исключительно молочному животноводству), опубликованная в 1588 году, полна сравнений между ними. Как мужчина, пишущий об исключительно женском ремесле, он, должно быть, внимательно изучал работу своей матери. Он начинает с идеального устройства здания для молочного дела: с большими окнами вдоль северных и восточных стен, чтобы обеспечить сильной поток воздуха, и с широкими деревянными полками глубиной метр, расположенными вдоль стен на уровне груди. Это, без сомнения, хороший совет. Успех молочного хозяйства зависит от исключительной чистоты помещения и поддержания точного температурного режима. Сильный поток воздуха необходим для того, чтобы поверхности и сосуды быстро высыхали, препятствуя размножению бактерий после очистки, а наличие окон только с двух сторон здания помогает исключить влияние солнца и поддерживать равномерную температуру.
Регулировать температуру также можно с помощью нескольких простых приемов, которые Томас Хакет не упоминает. Первый из них — испарение воды. Если на вашей ферме был каменный, кафельный или кирпичный пол, можно было вылить на него ведро с водой, которая стала бы медленно испаряться в течение дня на холодном воздухе, дующем с разных сторон из окон. Летом таким образом можно понизить температуру на четыре-пять градусов. Миска с молоком, поставленная на влажный каменный пол, также способствует эффективному охлаждению. Еще один метод контроля температуры — использование нескольких различных материалов для полок. Когда вам нужно нагреть молоко и сыр во время похолодания, деревянные полки и сосуды помогут лучше сохранить тепло, а между чашками, кувшинами и мисками можно поставить большие неглубокие сосуды с горячей водой.
Пендин-коттедж в музее под открытым небом Уолда и Даунлэнда в Западном Сассексе, хотя и был построен в начале XVII века, — практически идеальный образец молочного хозяйства тюдоровской эпохи. Неглазурованный плиточный пол, правильно расположенные окна, деревянные полки и каменный плоский поднос позволяют точно следовать рецептуре сыра. Это одно из моих любимых мест работы. Здание находится на северной стороне дома, что означает, что летнее солнце даже не попадает на его внешние стены, а в общей комнате, расположенной рядом, есть дымоход, что позволяет нагреть молоко, чтобы помочь ему свернуться, и вскипятить воду, чтобы ошпарить все оборудование и таким способом очистить его.
Томас Хакет приводит идеальный, по его мнению, рецепт приготовления сыра. Он советует хозяйке соединить молоко с последней вечерней дойки со свежим утренним молоком, пока оно еще теплое от коровы. Сычужный фермент (соки из желудка теленка, который еще не был отлучен от груди), превращающий молоко в творог и сыворотку, нуждается в тепле, в идеале — в такой же температуре, как и в желудке теленка. Томас Хаккет предупреждал, что некоторые люди нагревают молоко с предыдущей дойки, чтобы сделать его теплым, и случайно делают температуру слишком высокой и портят вкус сыра. Он забыл упомянуть, что сычужный фермент нужно добавить в молоко, а чан с молоком оставить в теплом месте на час подходить, но напомнил своим читателям о том, что нужно сцедить сыворотку и разделить свернувшееся молоко на очень маленькие кусочки, прежде чем посолить его и положить в форму: «…когда творог хорошо разделен на мелкие кусочки, скрестив руки, хорошенько разомни его». Очевидно, в Южном Хэмпшире обычно оставляли размятый творог в сыворотке до тех пор, пока он не застывал и не становился твердым, и автор не одобрял этот обычай. Ему также не нравились местные формы для сыра, и он признался, что даже привез в качестве примера саффолкский вариант местному токарю по дереву, чтобы показать ему, чего он хочет, но все равно был разочарован результатом.
Творог, выложенный в форму для сыра, был готов к прессованию. Томас выступал за использование деревянного пресса, считая, что с ним сыры получаются более ровными, чем при использовании обычных каменных грузов. Две деревянные подпорки с соответствующими прорезями, занимающими большую часть их длины, закреплялись напротив друг друга. Третий кусок дерева, узкий по краям и широкий посередине, вставлялся поперек в вертикальные отверстия. Его можно было перемещать вверх и вниз с помощью железных болтов и деревянных клиньев. «С таким прессом вы можете готовить четыре или пять сыров одновременно». Это прямой деревянный предшественник железного винтового пресса, который начал использоваться повсеместно в середине XIX века. После прессования сыры просаливали в куче чистой соли, которая постепенно превращалась в рассол по мере того, как из сыра выделялась жидкость. Наконец их вытирали от теплого рассола, сушили и выкладывали на деревянные полки созревать, переворачивая каждый день на другую сторону. Если вы будете следовать этим инструкциям, не забыв добавить сычужный фермент и завернуть сыр в ткань после первого прессования, о чем также позабыл упомянуть Томас Хакет, у вас получится сыр, похожий на что-то среднее между одинарным глостерским сыром и карфилли. По крайней мере, у меня получился именно такой.
Кристабель Аллман делала сыр в Ноттингемшире для семьи Уиллоуби из Воллатон-Холла. В 1566 году под ее руководством работало три женщины: Элизабет Хейз, Элизабет Рэнфилд и Марджери Кларк. Кристабель платили 20 шиллингов за полгода работы — несомненно, очень хорошие деньги для женщины. Трем ее помощницам платили половину от ее зарплаты, но даже с учетом этого это была высокооплачиваемая работа. Эти деньги доставались женщинам нелегко: они делали около 26–28 головок сыра в неделю с июня по середину августа и немного снижали темп в сентябре, когда делали всего 16 или 18 головок. Период с июня по сентябрь был классическим временем производства сыра, который следовал за сезонным циклом роста травы. Как известно всем, у кого есть газон, трава не очень сильно растет зимой, но, когда весной погода становится теплее, она быстро выпускает свои пышные зеленые стрелы. В разгар лета трава кажется суховатой и растет довольно медленно. Травинки становятся более тонкими, серовато-зелеными. К концу сентября темпы роста заметно замедляются. Коровы эпохи Тюдоров сильно зависели от травы, и то, чем они питались, оказывало большое влияние на молоко, которое они давали. Весенняя трава давала густое, жирное молоко, идеальное для приготовления масла, но, когда приближалось лето и трава менялась, молоко становилось менее жирным и содержало гораздо больше казеина — разновидность белка. Чем выше содержание казеина, тем больше получится сыра. Поэтому, хотя производством масла и сыра можно было заниматься в течение всего сезона дойки, хорошие молочницы делали масло весной, а сыр — летом.
Для любой работы, связанной с молоком, нужна строгая гигиена. Соль, кипящая вода и тяжкий труд были основными инструментами в борьбе с нежелательными бактериями. На то, чтобы скрести, чистить и обдавать посуду горячей водой уходило столько же времени, сколько и на само производство сыра. Конечно, ни одна молочница эпохи Тюдоров не подозревала о существовании бактерий, но всем было очевидно, что без соблюдения чистоты молоко прокисает и продукция портится. Из-за жирности масла вы можете испытывать искушение использовать моющее средство, когда приходит время уборки, но, если вы используете мыло или щелок для деревянных сосудов для молока, их остатки испортят следующую партию молока. Использование этих веществ также заставляло древесину слишком сильно высыхать и раскалываться. Поэтому посуду сначала выскабливали, чтобы убрать как можно больше масла, а затем один или два раза обдавали ее кипящей водой, чтобы смыть жир и начать скрести. После того как посуду несколько раз обливали кипятком, скребли и выливали воду, она становилась чистой. Особенно сложную работу можно было облегчить с помощью интенсивной чистки горсткой грубой соли и влажной тряпки. Соль служила чистящим средством, а также стерилизовала, проникая глубоко в волокна древесины. Любые остаточные фрагменты соли, в отличие от остатков мыла, могут принести только пользу следующей партии масла или сыра. Завершали процесс промыванием кипятком. Высушить посуду нужно было как можно быстрее. От влажных сосудов для молочных продуктов вскоре начинает идти кислый запах, и в них быстро образуется плесень, так что после того, как их вытерли чистой сухой тканью, их ставили там, где дул сильный ветер, желательно на солнце. Молочница того времени по опыту знала, что солнечные лучи позволяют посуде оставаться «свежей», несмотря на то, что она не знала научного объяснения, согласно которому ультрафиолетовые лучи служат антибактериальным средством.
Мастерицы по шелку
Не все женщины жили на ферме. Точно так же, как и мужчины, некоторые женщины эпохи Тюдоров зарабатывали себе на жизнь торговлей и ремеслом.
В 1485 году Элис Клавер продала новому королю шесть унций красной шелковой ленты. Она также продавала товары его предшественнику Ричарду III, а до этого — Эдуарду IV. Элис торговала от своего имени; для вдовы это было вполне нормально. Одинокие и замужние женщины по закону находились под властью отцов и мужей и не имели права занимать государственные должности, заключать договоры или руководить бизнесом. Но, овдовев, женщина становилась независимой. Вдовы управляли самыми различными видами бизнеса: от портняжных мастерских до кузниц, часто при помощи учеников покойного мужа. Однако в Лондоне в XV и начале XVI века такие женщины, занимающиеся шелкопрядением, как Элис Клавер, могли брать учениц и вести самостоятельный бизнес, даже будучи замужем. Собственной гильдии у них не было, но договоры об ученичестве скреплялись чемберленом (казначеем) города. Эта автономия делает их и их бизнес намного более заметными в исторических источниках. Многие из этих женщин, должно быть, научились ремеслу от родителей или хозяев, у которых они работали служанками, нашли мужа в ремесленной среде, которого привлекала идея иметь квалифицированную жену, и продолжали использовать свои навыки в семейном бизнесе или самостоятельно.
Однако несмотря на все юридические упоминания от имени отцов или мужей, их навыки и повседневная работа остаются незамеченными в источниках. Легко предположить, что ремесленные навыки были вотчиной мужей, а жен и дочерей не пускали в мастерские и держали в задней части дома. Однако это не обязательно было так. Мастерицы по шелку, обычные жены и матери, выполняющие рутинные обязанности по дому, также занимались своим ремеслом, которое требовало хороших навыков ведения переговоров и деловой хватки, а также весьма специализированных технических знаний. Когда Элис умерла в 1489 году, она оставила свой бизнес ученице, Кэтрин Чемпион. Под руководством Элис Кэтрин должна была научиться «крутить», то есть прясть из сырого шелка нити, и создавать самые разные шнурки, ленты, веревки и кисточки, а также небольшие предметы одежды, в которых они использовались, такие как койфы и парлеты. Очевидно, что, помимо самого производства, многие женщины также выступали посредниками или даже сами занимались торговлей мелкими предметами роскоши: продавали шелковые ленты из французского города Тура, черный кипрский шелк, тонкий батист и булавки. Рабочие инструменты были довольно простыми: в завещании Мод Масчамп 1498 года указаны «корзины (coffyns), шкатулка (focer) и рамки (frames)» (словом coffyn могли обозначать корзины или, возможно, бедро для ткачества, а focer, возможно, был как-то связан с производством шелка-сырца), а в завещании Маргарет Рейнольдс от 1528 года упомянуты лишь «рамки». Ленты можно было делать на бедре — маленьких деревянных коробках с валиками спереди и сзади для намотки на нити основы и жесткого галева. Или же их можно было просто ввозить из Тура или Венеции и продавать.
Ленты чаще всего использовались для коротких шнурков с наконечниками, с помощью которых соединяли между собой разные предметы одежды. Для мужчин они имели функциональное значение, а женщины использовали их скорее для украшения. 2 гросса и 9 дюжин венецианских шнурков для закрепления одежды различных цветов были проданы королеве Елизавете в 1576 году. Плетеная тесьма была менее модной, чем раньше, но такая техника позволяла создавать очень замысловатые узоры. На лучшие из сохранившихся образцов нанесены, помимо повторяющихся геометрических узоров, слова и изображения. Такое плетение можно делать с помощью всего одной опорной точки — чего-то обвязанного, например, вокруг ножки стола, и нескольких небольших деревянных или костяных дощечек с четырьмя-двенадцатью отверстиями между ними. Хотя более сложные узоры проще выполнить, если протянуть нити основы между двумя булавками, которые прочно удерживают их на расстоянии друг от друга и создают простую раму. Однако фирменным изделием мастериц по шелку был шнурок из петли на пальцах, для которого не требовалось ничего, кроме одной опорной точки. При этом кусок нитки вдвое больше необходимой длины скручивается в петлю или, в случае с более сложными узорами, два куска нитки разных цветов и одинаковой длины связываются вместе в петлю, один из концов которой прикреплен к опорной точке, а другой надет на один из ваших пальцев. Для самого простого шнурка требовалось пять таких петель, а для сложного — до сорока, над которыми одновременно работали несколько человек. Петли продевали друг в друга снизу и сверху, образуя самые разные узоры, чтобы создать плоские шнуры, круглые завязки, полые шнурки, шнурки, которые сцепляются и расцепляются, толстые и тонкие шнурки и самые различные цветные узоры, поскольку нити складывались в полосы, клетки, волны, «елочки» и «гусиные лапки».
Сохранилось несколько рукописей, в которых подробно описано, как делать такие шнурки, в том числе одна в Музее Виктории и Альберта, датированная примерно 1600 годом, в которой к каждой странице с «рецептом» изготовления прилагался образец, сделанный из красных и белых шелковых нитей. Вот что сказано в одном довольно простом примере: «Чтобы сделать такую плоскую ленту, возьми три сгиба красной нити и два белой, красную положи в одну руку, а белую — в другую, а затем плети через двойные сгибы, беря верхнюю часть сгиба из левой руки, а нижнюю часть — из правой». Приложенный образец имеет небольшую длину, у него белый фон, на котором красный шелк образует узор из полых ромбов. Это не совсем пособие для начинающих, скорее памятка для опытной рукодельницы. Шесть дюжин и семь кусочков «полого шелкового шнура различных цветов», которые упоминаются в счетах гардероба королевы Елизаветы в 1576 году, были сделаны в соответствии с гораздо более сложными инструкциями. В полые шнурки можно было вставить другой шнур или проволоку или же использовать как есть, если вам был необходим особенно мягкий и гибкий шнурок.
Когда моей дочери было 8 лет, она научилась плести простую тесьму из петель на пальцах. Как многие маленькие девочки, которые увлекаются косичками и плетеными браслетами, она пристрастилась к плетению на пальцах и через год получила свой первый профессиональный заказ на 15 ярдов двухцветной плоской тесьмы для украшения дублета героя в постановке театра «Глобус». Около месяца она выделяла на это по полчаса вечерами, и все было готово в срок. С тех пор она никогда не прекращала этого занятия. В наши дни ее работа украшает телевизионные постановки, музейные экспозиции и оперных звезд нью-йоркского Метрополитена и театральных актеров. Наблюдение за ее работой — интересный опыт. Большинство из нас осваивает это ремесло во взрослом возрасте, и, как бы много мы ни практиковались и ни оттачивали техники, нам редко удается работать в том же темпе, что и наши предки. Ей удается. Ее руки летают так быстро, что, когда недавно ее наняли для участия в экранизации BBC «Волчьего зала» в качестве дублерши в тех кадрах, где персонаж плетет шнуры и руки показывают крупным планом, постановщикам пришлось просить ее сбавить темп, чтобы они могли видеть, что она делает. Но дело не только в скорости: ее руки способны на такие движения, которые не под силу никому другому, поскольку с детства ей удалось развить потрясающую гибкость и накачать мириады крошечных мышц. Те, кто в тридцать с хвостиком берется за скрипку или начинает заниматься балетом, прекрасно знают, что не могут конкурировать с теми, кто тренировал тело с детства. С ремесленными навыками все так же.
Мастерицы по шелку также плели шнурки из кос, для которых требовалось от трех до одиннадцати пучков нитей. Эти шнурки тоже могли быть плоскими или круглыми и иметь различные узоры. Я видела плетенные из льна косы из четырех пучков нитей, многие из которых украшали сохранившиеся до наших дней седла. Госпожа Воган, работавшая в 1540-х годах, поставила товары стоимостью 128 фунтов 13 шиллингов 6 пенсов в конюшню королевы Екатерины Парр, предположительно, именно для этой цели. И хотя мои шнурки из петель, которые я пыталась сплести на пальцах, получились откровенно ужасными, плетение кос мне удается неплохо, и я люблю экспериментировать, используя различные рисунки и текстуры, которые можно создать, смешивая различные скрутки, натяжение и толщину нити с различными техниками.
Мастерицы по шелку должны были владеть всеми этими навыками: на сохранившейся одежде зачастую встречаются несколько различных типов тесьмы из одних и тех же ниток с повторяющимися узорами. Благодаря этому различные техники плетения, служащие для определенных функций шнурков или тесьмы — от крепления пуговиц до закрепления краев и маскировки швов, — визуально сочетались между собой.
Как и в большей части других аспектов жизни эпохи Тюдоров, успех и продвижение в этом деле во многом зависели от семейных связей. Сырье для ремесла мастериц по шелку стоило дорого, поэтому помимо навыков требовался определенный капитал. Многие мастерицы по шелку, которых мы можем идентифицировать в исторических источниках, были замужем за торговцами, которые торговали этим видом сырья. Молодые мужчины, обучающиеся у торговцев, часто росли в одном доме с молодыми женщинами, которых учили плести шелк; два этих ремесла были тесно связаны друг с другом, и каждое из них, вероятно, способствовало успеху другого. Стивен Воган был очень заинтересован в продвижении карьеры своей жены и, приложив образцы ее работы, написал письмо Томасу Кровелю и предложил Анне Болейн нанять ее, а затем написал снова, с жалобой на то, что не получил ответа. Он был вполне уверен, что «она может служить ей лучше, чем любая другая женщина в королевстве». Однако немного позже госпоже Воган удалось убедить Анну Клевскую купить свои изделия, а затем Екатерину Парр, которая, помимо шнурков для конюшен, купила также шнурки для одежды на 186 фунтов 12 шиллингов и 5 пенсов, и гораздо более скромное количество лент и шнурков на отделку сундуков, а также для вышивальщицы, которая могла использовать их для тех изделий, которые поставляет королеве.
Вдали от двора, да и от Лондона работа мастерицы по шелку была гораздо менее возвышенной и требовала гораздо более дешевых материалов. Госпожа Шил жила в Тамуэрте в конце 1550-х — начале 1560-х годов. Мы знаем о ее работе просто потому, что ее муж был менестрелем и написал песню об их совместной жизни:
- Моя жена, без сомнения,
- пряха по шелку по профессии,
- И самое ее главное ремесло — льняная ткань,
- На ярмарках и рынках она продает свои товары:
- Рубашки, сорочки, парлеты,
- головные уборы и другие вещи,
- Шелковые нити, и канты,
- тесьму для рубашек, и шнурки[34].
Госпожа Шил в основном работала белошвейкой и шила льняную одежду одного размера. Однако она также делала шнурки для рубашек — льняные шнуры из петель на пальцах, которые часто имели наконечники и использовались для крепления воротников и манжет, — и продавала шелковую нить, то есть занималась ремеслом мастериц по шелку. Поскольку у нее не было постоянной лавки, она возила свои легкие в транспортировке товары по окрестным рынкам и ярмаркам.
Примерно в это же время, в середине правления Елизаветы, уникальное положение мастериц по шелку начинает ухудшаться. Элис Монтегю поставляла королеве множество товаров. В ее ассортименте были сетка, плетеные кружева, рукава и оборки, шитые ришелье и другими техниками. Кроме того, она получала целый ряд специальных заказов по стирке. К тому времени она начинает передавать свой бизнес мужу, Роджеру. С этих пор все меньше женщин фигурируют в источниках в качестве независимых предпринимательниц. Уильям Гаррисон в своем «Описании Англии» (Description of England, 1587) сообщает: «И до десятого или двенадцатого года правления королевы Елизаветы в Лондоне было немного шелковых лавок, и держали их лишь женщины со служанками, а не мужчины, как сейчас». Во второй половине XVI века, по мере роста благосостояния страны и прогресса в судостроении, способствовавшего торговле, рынок рос. Те, кто располагал капиталами для крупных инвестиций, получили новые возможности. В первую очередь это были мужчины. Они ввозили куда более широкий ассортимент товаров и все чаще брали на себя управление шелковыми лавками. Но женщины не исчезли из бизнеса за один день. В 1599 году в источниках упоминается Сьюзан Мор, когда она давала показания в Канцлерском суде. Она работала на госпожу Берк и делала шнурки с наконечниками по 5 шиллингов и 4 пенса за гросс. Очевидно, госпожа Берк по-прежнему была независимой мастерицей по шелку, управляющей собственным бизнесом, поскольку ее муж Рэндал записан как книготорговец.
Работа мастерицы по шелку только на первый взгляд кажется нежным и женским занятием. Как и у любой другой работы, у нее есть оборотная сторона. Недавно моя дочь получила большой международный заказ. Некоторые шелка она получила позже, чем следовало, и портным, разумеется, не терпелось получить тесьму, с которой они могли начать работать. Сначала она стерла в кровь пальцы, и ей пришлось их перевязывать. Затем золотая нить стала разрезать бинты, но заживать рукам было некогда. Так что она накладывала все новые повязки. Восемнадцатичасовой рабочий день стал нормой, руки страдали от постоянных повреждений. Заказ был выполнен вовремя, но после она несколько месяцев не могла работать с шелком. С аналогичными проблемами сталкивались ее предшественники и предшественницы — портнихи, вышивальщицы, красильщики и многие другие ремесленники, занимавшиеся обслуживанием немногих требовательных богачей. Королевский двор эпохи был столь же требовательным, как и любая современная театральная премьера.
9
Время играть
Из всех земных вещей, самая превосходная — увеселение, лучший спутник по жизни… Компания, музыка, честная игра или любые другие добродетельные упражнения помогают против тяжести ума.
Уильям Буллейн, «Руководство для здоровья» (The Government of Health, 1558)
По традиции, воскресные послеобеденные часы были временем досуга. Наиболее пуритански настроенное духовенство времен правления Елизаветы не уставало жаловаться на то, что «массы называют этот день своим днем кутежа», как сформулировал один жалобщик в 1571 году. Но на вершине списка воскресных послеобеденных развлечений находилась стрельба из лука — по крайней мере, на это надеялась политическая элита. Правительство Ричарда III еще в 1480-х годах жаловалось на то, что искусство стрельбы из лука находится в упадке и острая нехватка луков толкает к другим, незаконным занятиям. Должностные лица Генриха VII в столь же мрачных тонах тревожились об «ослаблении этого королевства», но в упадке воскресных послеобеденных тренировок винили арбалеты. Генрих VIII, преисполненный решимости положить конец разложению, потребовал через парламентский акт, чтобы все мужчины моложе 60 лет за исключением духовных лиц и судей «практиковались и учились стрелять из длинных луков». В его законе было прописано, чтобы мальчики в возрасте от 7 до 17 лет имели как минимум две стрелы и лук, предоставленный отцами или опекунами, и обучались их использованию. С 17 лет мужчина должен был сам обеспечить себя луком и четырьмя стрелами, или же его ежемесячно будут штрафовать на шиллинг до тех пор, пока он их не раздобудет. Все монархи Тюдоры считали, что практика в стрельбе из лука после посещения церкви в воскресенье была патриотическим долгом мужчины.
Формально эти меры были вызваны тем, что для ведения боевых действий требовались подготовленные лучники. Длинный лук принес англичанам победу при Азенкуре и во многих других битвах, и, хотя порох постепенно сводил на нет превосходство лучников, немногие одобряли отказ от лука. Однако для оттачивания мастерства и развития мышц, необходимых для эффективного использования лука, требуются многолетние тренировки. В идеале такое обучение должно проходить в период роста и развития скелета. Именно поэтому закон настаивал, чтобы мальчики каждую неделю тренировались со своими отцами с необходимой экипировкой. Регулярные тренировки помогали взрослым мужчинам сохранять мускулы и оттачивать технику, чтобы быть готовыми при необходимости защищать страну и участвовать в сражениях.
О готовности рядовых англичан и валлийцев тренироваться в стрельбе из лука в воскресные послеобеденные часы все еще могут поведать названия дорог и местечек во многих наших городах и деревнях, а также за их пределами. Такие названия, как Butts Close (площадка для стрельбища) или The Butts (стрельбище), обозначают место поодаль, как правило, неподалеку от церковного кладбища, где располагалось постоянное стрельбище. Это были насыпи из земли и глины, на которые ставили мишень. Мужчины приходили сюда не просто из патриотического долга или во исполнение закона страны. Воскресная стрельба из лука была частью народной культуры, спортом и досугом, которым наслаждались как таковым. Пивные с видом на стрельбище были очень выгодным бизнесом — мужчины любили собираться вместе, чтобы попрактиковаться и посостязаться.
У практики стрелять по движущимся или стационарным мишеням было много приверженцев. До нас практически не дошли материальные свидетельства, однако такая практика часто упоминается в источниках. Маленькие группы мужчин располагались вдоль поля со своими луками и стрелами. Выбиралась мишень, например ветка определенного дерева, пучок травы или воротный столб. Все стояли и стреляли по мишени, затем подбирали стрелы и смотрели, кто был ближе всего к цели, а затем выбирали новую мишень. Это поразительно похоже на партию игры в гольф. На ксилографической карте Лондона, сделанной примерно в 1559 году (ее часто называют картой Агаса), изображены поля вокруг города. Там много женщин, занимающихся стиркой, группы людей гуляют или устраивают пикники и много маленьких группок мужчин с луками, которые прохаживаются и стреляют. В протоколах судебных заседаний также часто упоминаются мужчины на улице с луками. Иногда мы узнаем о таких социальных группах из-за трагедии, вроде смерти Джерома Босвелла в 1564 году, случайно подстреленного группой стрелков на Финсбери-Филдс, и Джона Филиппса, который находился слишком близко к «двенадцати шестам-целям», в которые метил Генри Гринстед в Кирдфорде в графстве Сассекс. Иногда стрельба из лука упоминается мимоходом, чтобы объяснить, почему мужчины были не дома, когда нагрянули воры или произошла драка.
Рис. 16. Изображение стрельбы из лука в Англии из книги Джозефа Стратта (1749–1802) «Спорт и развлечения людей Англии с самого раннего периода», 1801 г.
Мне не настолько нравится использовать оружие, как, скажем, делать сыр, но я стреляла из луков в тюдоровском стиле, делала для них тетиву и стрелы и наслушалась жарких дискуссий мужчин и женщин о стрельбе из лука. Несомненно, сами луки и стрелы эстетически привлекательны. Луки делались из цельного куска дерева, тщательно подобранного из-за ровной структуры и обрезанного так, чтобы включать в себя и сердцевину, и заболонь. Сердцевина дерева старше и плотнее и расположена ближе к центру живого дерева. Она сильно сжимается. Заболонь, которая находится ближе к коре — гораздо более молодая древесина, более эластичная и упругая. Сердцевина обращена к лучнику, чтобы при натягивании тетивы основное сжатие приходилось именно на нее, а внешнюю сторону, которая находится дальше от лучника, делают из заболони — когда натягивают тетиву, она растягивается. Тщательно продуманная форма нужна для того, чтобы контролировать, как сильно и где именно лук может изгибаться во время использования и какую силу может высвободить. Тяжелый, толстый лук может бросать стрелу большего размера дальше и с большей силой, но, для того чтобы его натянуть, потребуются усилия, и его точность будет меньше. Из более легкого, тонкого лука можно стрелять с большой точностью на более короткие дистанции более тонкими, легкими стрелами. И тот и другой может быть смертоносным. В разгар боя можно поставить лучников рядами, и тогда небо заполнится дождем стрел. В таких случаях точность не требуется.
Дешевые луки делали из вяза, орешника и ясеня. Более дорогие орудия делали из английской тисовой древесины, но лучшие и самые дорогие луки получались из привозного тиса, особенно испанского, который растет прямее и имеет меньше сучков. Луки — удивительно красивые вещи. В натянутом состоянии лук, кажется, оживает в ваших руках. Любой лук немного отличается от других. Я понимаю, почему так легко пристраститься к этому виду спорта. Для управления традиционным длинным луком требуется мастерство и сила. С помощью грубой силы можно натянуть сильный тяжеловесный лук, но, не обладая мастерством и чувством контроля, вы растратите большую часть силы впустую и не попадете точно в цель. Многие маленькие, худые, гибкие пареньки побеждали в стрельбе могучих сильных мужчин, что нашло отражение в том числе в историях о Робин Гуде и маленьком Джоне. Мне, чтобы стрелять хоть сколь-нибудь точно, нужно что-то действительно легкое. Я не тренировалась с детства и никогда не обладала большой силой в верхней части тела, но я привыкла достаточно хорошо контролировать свои мышцы благодаря урокам балета в детстве и занятий ремеслами на протяжении всей моей жизни. Этот контроль, безусловно, помогает извлечь максимум пользы из откровенно маленькой силы, которую я могу приложить к луку. Мне хотелось бы стрелять лучше, и я знаю, что это еще возможно. Моя крестная мать еще в конце 1950-х годов начала стрелять из лука, когда ей было за пятьдесят (ее втянули в это сыновья), и уже через четыре года она участвовала в международных соревнованиях. Так что у меня нет оправданий.
Наиболее известным сочинением того времени о стрельбе из лука была маленькая книга Роджера Эшема «Токсофил». Написанная им в возрасте 29 лет и представленная Генриху VIII в 1545 году, книга восхваляет достоинства стрельбы из лука для военных целей, а упражнений в стрельбе — для здоровья тела и ума. Герой Филолог в книге Эшема утверждает, что если бы стрельбой из лука занимались только для подготовки мужчин к войне, то тогда они выходили бы на поля в одиночестве и выпускали бы так много стрел, как могут, из хорошего сильного лука, развивая силу и скорость. Но вместо этого, по его словам, мы видим, что мужчины в группах отправляются стрелять по мишеням, предпочитая напряженной стрельбе точность и беседу. Герой Эшема Токсофил, однако, быстро замечает, что так происходит потому, что мужчины делятся на группы и превращают стрельбу в соревнование, ради которого им не терпится достать свои луки. Без общения и игры немногие прислушались бы к наставлениям обеспокоенных правительств. Конкуренция и соперничество, разнообразные приемы стрельбы и места для стрельбы, а также дружеская компания превращали стрельбу не в выполнение долга, а в приятное занятие, и давали мужчинам желанный отдых от их повседневных обязанностей.
Если стрельба из лука была занятием, получившим твердое официальное одобрение, то какие «незаконные» игры, которых опасались сменявшие друг друга правительства, отвлекали мужчин от луков? По мнению должностных лиц Генриха VIII, это могла быть игра «slidethrift, по-другому называемая shovegroat», которая дошла до нас под названием shove-ha’penny («толкай полпенни»). Игра состоит в том, чтобы заставить маленькие монеты скользить по столу, пытаясь достичь нескольких отмеченных целей и сбить монеты других игроков, направляющихся к ним. Похоже на современный керлинг на зимних Олимпийских играх в миниатюре.
Законодатели королевы Елизаветы считали, что «травля медведей (bear baiting), бесстыжие интерлюдии» и «бесчестные сделки» отвлекают мужчин от стрельбы из лука. А Роджер Эшем считал, что всему виной шары, кегли, карты и кости. Мнения о боулинге разделились: некоторые порицали его, а другие считали здоровым упражнением (например, сэр Томас Элиот). Эта игра упоминается в описаниях как деревенских таверн, так и загородных резиденций джентльменов. В то время стало модно устраивать в саду площадку для боулинга. Очертания таких площадок все еще можно различить под более поздними насаждениями в величественных британских домах. В Трирайс в Корнуолле сохранилась не только площадка, но и оригинальный набор кеглей с толстыми животами, или булавок для боулинга, с которыми можно играть. Правда это или нет, но поговаривают, что Фрэнсис Дрейк отказался прервать игру в шары, когда наконец-то была замечена испанская армада. Популярность этой игры среди джентльменов придает этой истории правдоподобия. В Лондоне были общественные площадки для боулинга как в зданиях, так и на открытом воздухе. В 1580 году лорд-мэр обратился в Тайный совет с письмом, в котором призвал правительство принять против них меры. По его мнению, они были слишком популярны: многие работающие люди приходили туда, когда должны были работать, и проигрывали свои зарплаты и «даже домашние вещи», обрекая свои семьи на нищету. Он жаловался, что на этих площадках, ко всему прочему, подавали напитки, и часто там играли в карты, кости и «настольные» игры, что приводило к ежедневным сценам пьянства, хулиганству, воровству (карманным кражам), обману (мошенничеству на доверии) и всевозможным беспорядкам. Похоже, его письмо мало что изменило. Играть в боулинг и азартные игры не перестали.
Всевозможные азартные игры в значительной степени были частью аристократического и джентльменского поведения. Большие ставки на исход игры способствовали появлению двойных стандартов, одобряющих тех, кто мог себе их позволить, и порицающих остальных. Например, Роберт Дадли, первый граф Лестерский, оставил нам запись о своих расходах на азартные игры в домашних счетах. 13 декабря 1586 года у него в кошельке было 20 фунтов для игры в тантос (карточная игра) с сэром Уильямом Расселом. У квалифицированного ремесленника ушло бы 18 месяцев на то, чтобы заработать эту сумму. На Новый год была игра в лодам в четыре руки с сэром Уильямом, графом Мориссом и графом Эссекса, на которую было отложено еще 10 фунтов. Три дня спустя Дадли проиграл в ту же игру еще 14 шиллингов. Такая ситуация повторялась в течение всего года, и в домохозяйстве откладывалась определенная сумма на ставки, а различным пажам и другому персоналу нужно было возмещать расходы после того, как граф брал у них большие суммы на игры. Иногда упоминалась игра (как правило, карточная), на которую были истрачены деньги, а соперниками обычно были равные игроки по положению в обществе. В год на «игру» тратилось несколько сотен фунтов. Выигрыши Роберта Дадли гораздо более призрачны: вносить их в бюджет никто не стал.
Однако суммы, которые Дадли тратил на азартные игры, — гроши по сравнению с расходами Генриха VIII пятьюдесятью годами ранее. В январе 1530 года в личные расходы были записаны 450 фунтов, проигранных в домино, и еще 100 фунтов ушли на карточные игры с джентльменами из внутренних покоев короля. Два года спустя ему удалось проиграть 45 фунтов стерлингов в игре «толкай полпенни» — той самой, которая, как считали его озабоченные чиновники, была причиной упадка искусства стрельбы из лука среди его подданных. Риск, связанный с азартными играми, и способность хладнокровно и сохраняя присутствие духа встречаться с ним, значили больше, чем намеки на военную мужественность. В течение многих лет образ изысканного игрока имел определенную привлекательность в обществе.
Неудивительно, что и тем, кто имел более низкое положение в обществе, также нравилось играть в азартные игры, выставлять себя искушенными светскими людьми, погруженными с головой в мужественную виртуозную игру. В 1495 году Генрих VII издал указ, запрещающий слугам и подмастерьям играть в карты в любой день, за исключением Рождества. Уже тогда беспокойству о подражании богачам, пустой трате времени и потенциальном обнищании было противопоставлено укрепленное в культуре удовольствие от игр и одобрение их мужественного характера. Но из тщательно разработанных книг по управлению домохозяйством, регулирующих жизнь слуг в больших аристократических домах, ясно, что карты, кости и другие формы азартных игр были повседневным занятием не только хозяев, но и привратников, конюхов и слуг, населявших эти здания. Азартные игры были настолько обыденным и регулярным занятием, что некоторые слуги должны были не просто держать кости и карты под рукой, но и вести учет полученных доходов: один слуга наблюдал за играми в большом зале, а другой — в спальне или смежных с ней передних.
Рис. 17. Иллюстрация из книги Реджинальда Скота (1538?–1599) «Основные принципы выращивания хмеля» (A Perfite Platforme of a Hoppe Garden, Lodon, Henrie Denham, 1576)
«Даже если азартные игры — зло, учитывая огромное количество людей, которые в них играют, они кажутся необходимым злом», по крайней мере, так написал в 1564 году итальянец Джироламо Кардано в своей «Книге об азартных играх» (Liber de ludo aleae). Он был увлеченным игроком и апологетом всех видов карточных игр и утверждал, что большая часть игр в целом основана не на чистой удаче, а на определенной степени математически определенных результатов или на том, что Блез Паскаль веком позже назвал «вероятностями». Поэтому азартные игры были частично оправданы из-за своей связи с проявлением мастерства и интеллектуального совершенства. Реджинальд Скот был английским джентльменом с широким кругом интересов — от выращивания хмеля, о чем он написал фундаментальный труд «Основные принципы выращивания хмеля» (A Perfite Platforme of a Hoppe Garden, 1576), до невозможности магии и ведовства, что стало предметом его книги «Разоблачение колдовства» (Discoverie of Witchcraft, 1584).
В попытке опровергнуть популярные суеверия того времени Реджинальд Скот описал трюки и ловкость рук, которые можно было использовать при игре в карты. Скот начинает с объяснения того, как перемешивать карты, при этом не теряя из виду определенную карту, и дает несколько вариаций классического трюка, в котором фокусник просит кого-то выбрать любую карту, смешивает карты, а затем достает из колоды ту карту, которая была загадана. Он и сейчас составляет основу арсенала современного иллюзиониста:
Если вы тайком видели карту, сделайте вид, что не отметили никакую карту, положите ее вниз и перемешивайте карты так, как научились ранее, пока ваша карта снова не окажется внизу. Затем покажите эту карту зрителям и попросите их запомнить ее: затем перемешайте карты или дайте другому их перемешать, поскольку вы уже знаете, что это была за карта, и в любой момент можете сказать им, какую карту они видели, что, однако, будет сделано с большими церемониями и с видимой сложностью.
Рис. 18. Иллюстрация из репринтного издания 1886 г. книги Реджинальда Скота «Разоблачение колдовства» (Discoverie of Witchcraft, 1584)
Азартные игры, в которых большие суммы быстро и часто переходили из рук в руки, привлекали мошенников и жуликов. Реджинальд Скот предостерегает своих читателей: «Если вы играете с незнакомцами, остерегайтесь тех, кто кажется простаком или выглядит пьяным». Карточные шулеры, действующие в одиночку или с сообщниками, выполняли ловкие трюки, которые описывает Реджинальд, вооружившись мечеными костями, техниками отвлечения внимания и секретными сигналами, понятными только сообщникам. Огромный поток литературы начиная с 1550-х годов непрерывно предупреждает о многочисленных мошеннических приемах, которые могут быть использованы против излишне доверчивых людей. По-видимому, небольшое производство меченых костей было налажено в тюрьмах Кингс Бенч и Маршалси, но настоящим мастером этого ремесла был человек, которого называли Бёрд («птица»), который жил в Холборне и создал 14 различных типов меченых костей, подходящих для различных видов игры и способов обмана.
Любимым занятием юного Генриха VIII в послеобеденные часы был теннис. Его отец, Генрих VII, также был поклонником тенниса и построил в королевских резиденциях новые корты и нанял пару профессиональных игроков, возможно, в качестве тренеров и учителей для своих сыновей. Тот стиль тенниса, в который играли тогда, сейчас называют реал-теннис (настоящий теннис), чтобы отличить его от более распространенного лаун-тенниса, который был изобретен в Викторианскую эпоху. Теннис тюдоровского времени чем-то напоминает современную игру в сквош, поскольку в него играли на закрытом корте с мячами, которые отскакивали от стен. Венецианский посол писал, что Генрих VIII был «чрезвычайно увлечен теннисом, и не было на свете ничего прекраснее зрелища того, как он играет, а его белая кожа просвечивает через тонкую рубашку». Однако король не всегда раздевался до рубашки, так как в 1517 году в счетах за его гардероб значится черно-синий бархатный плащ, сделанный из шести ярдов ткани. Бархат плели неширокими кусками, обычно ширина отреза составляла всего 18 дюймов, так что плащ, на который ушло шесть ярдов ткани, должен был достаточно сильно облегать тело и руки и иметь более объемную юбку на бедрах. В 1520-х годах король отказался от плаща и играл в одном из двух своих малиновых атласных дублетов для тенниса. Помимо специальной одежды, у короля также были особые туфли для тенниса, шесть пар которых были закреплены в 1536 году за Королевским гардеробом — частью королевского домохозяйства, служители которого приобретали, хранили и содержали в порядке королевскую одежду. Когда драматург Уильям Шекспир написал пьесу «Генрих V» (ок. 1599), он разместил в самом начале сцену о теннисе. Французский посол преподносит молодому английскому королю в дар от имени французского дофина теннисные мячи, желая подчеркнуть этим насмешливым жестом юность короля и его прежние повадки гуляки. Это намек на то, что король, настолько увлеченный игрой, не может быть государственным деятелем и не представляет угрозы для французской монархии. Генрих реагирует агрессивно, приравнивая спортивные успехи к энергичности, силе и боевому мастерству:
- Когда ракеты подберем к мячам,
- Во Франции мы партию сыграем,
- И будет ставкою отцов корона[35].
Эта сцена определенно напомнила зрителям, особенно королеве и ее двору, не Генриха V, а Генриха VIII.
В 1530-х годах сэр Томас Элиот, который находился на несколько ступеней ниже на социальной лестнице, рекомендовал теннис как хорошее времяпровождение для молодых джентльменов, к которому можно обращаться «время от времени». Роджер Эшем, чемпион по стрельбе из лука, также одобрял теннис и считал его «не только подходящим и приличествующим, но и необходимым для светского джентльмена». Разумеется, полноценный теннисный корт был роскошью и имелся в основном в королевских дворцах и в домах верхушки аристократии, так что можно подумать, что обычным людям эта игра была недоступна. Но это не совсем так. Во французских дворах возникает игра в теннис без ракетки — гандбол, и вся французская промышленность начала заниматься изготовлением теннисных мячей и ракеток. В бухгалтерских книгах лондонского порта зафиксировано, что в город ввозили огромное количество теннисных мячей. Например, Джордж Коллимор в октябре 1567 года ввез 4000 теннисных мячей на борту «Прайм Роуз» и еще 8000 на другом корабле «Джон». Однако существовало и местное производство мячей. Королевские мячи были сделаны в Лондоне слесарной компанией. Таким образом, это была популярная игра, и людям не мешало то, что полноценных площадок было немного. Даже у королевских особ теннисные корты не стали стандартизированными. Различались их размеры и внутренняя архитектура — галереи и окна для зрителей, перемежавшиеся со стенами. Все остальные люди использовали для игры любой удобный двор или даже улицу, а систему подсчета очков адаптировали к местным условиям.
Теннисные мячи, которые попадали в страну в таких больших количествах, сильно отличались от своих современных прыгучих собратьев — в тюдоровской Англии еще не было резины. Теннисные мячи были тверже и немного тяжелее. Их делали из туго спрессованной шерсти, переплетенной тесьмой, и покрывали сверху плотным чехлом из шерсти, из-за чего они сильно вращались и отскакивали от стен. В 1461 году французскому королю Людовику XI пришлось вмешаться и помешать недобросовестным производителям теннисных мячей набивать их более дешевыми материалами — мелом, песком, золой или опилками, из-за чего они становились мучительно твердыми и тяжелыми. Шекспир в «Много шума из ничего» (Much Ado about Nothing, 1598–1599) шутит о теннисном мяче, набитом человеческими волосами: «…но цирюльника у него видели, и то, что было украшением его щек, пошло на набивку теннисных мячей»[36]. В 1920 году в Вестминстер-холле на крыше был найден кожаный мяч, набитый собачьей шерстью, что доказывает, что даже при дворе в теннис играли не только на предназначенном для этого корте. Число ввозимых в страну ракеток было несопоставимо меньше числа мячей, так что на английских улицах, вероятно, играли в старинные разновидности гандбола. Возможно, настоящие теннисные корты и были достоянием богатых, но игры с мячом в свободной форме были распространены повсеместно.
Сэр Томас Элиот в своей книге «Правитель» (Boke Named the Governour, 1531) пишет о том, что футбол — неподходящее занятие для джентльмена: «…в нем нет ничего, кроме зверской ярости и чрезвычайных проявлений насилия, которые приносят вред». Эту игру продолжают осуждать на протяжении всего столетия, особенно если в нее играют в воскресенье, и часто связывают ее с пьянством и танцами, считая таким же праздничным увеселением. Игра в футбол в «Жирный вторник» похоже, была давней традицией во многих частях страны, но ее пришлось запретить в Честере в 1540 году из-за «больших неудобств», в которых обвинили небольшую группу плохо ведущих себя хулиганов, которые портили праздник всем остальным. Правила бросались в глаза только из-за своего отсутствия. Элита тем не менее не отказалась полностью от популярных игр с мячом: у Генриха VIII была одна пара обуви «для футбола», а под альтернативным названием «кемпинг» игра получила одобрение в книге Томасса Тассера «Пятьсот советов для хорошего хозяйства» (1573) в качестве отличного способа улучшения травы:
- Чтобы лучше росли луга и пастбища,
- Позвольте игрокам заниматься там в любое время;
- Если по весне у вас низкая трава,
- Вы сделаете себе одолжение[37].
Игра в стулбол, для которой, вероятно, использовались все те же теннисные мячи, была немного похожа на английскую лапту или крикет: для нее нужны были две команды, стул, мяч и иногда бита. Считалось, что эта игра больше подходит для женщин, а теннис и другие игры с мячом имеют более маскулинный характер. Сэр Филипп Сидни так пишет о стулболе в «Диалоге между двумя пастухами» (A Dialogue between Two Shepherds, ок. 1580):
- Время найдется для всего,
- как часто говорит моя матушка,
- Когда, высоко подоткнув юбки,
- Играет с девочками в стулбол[38].
Танцы
Однако еще популярнее, чем теннис, стулбол и футбол вместе взятые, вероятно, были танцы. Многое из того, что мы знаем о народных танцах, связано с жалобами на шумные, буйные танцы в пивных и на молодежь, танцующую по воскресеньям во время богослужений — в особенности в течение вечерней молитвы, или вечерни, которая происходила в конце дня. Танцы нарушали социальные и сексуальные границы, объединяя группы людей в общественных и частных пространствах. Чтобы танцевать, не нужны деньги, и такой вид развлечений предпочитала молодежь. В июне 1606 года один владелец пивной в Йоркшире попал в неприятности из-за того, что проводил воскресные танцы, которые привлекали больше сотни молодых людей, приходивших потанцевать под музыку работавших там волынщика и барабанщика. Церковные дворы были хорошо ухоженными, открытыми общественными пространствами, и в то время еще не было принято устраивать там могилы. Эти дворы хорошо подходили для танцев и часто использовались для этой цели. Однако их близость к церкви заставляла некоторых прихожан переживать из-за осквернения священного дня отдохновения, что приводило к конфликтам, о которых мы знаем из судебных протоколов. Суть таких конфликтов часто сводилась не к самим танцам, а к тому, что молодежь танцевала во время церковных служб. Многие из тех, кто настаивал на изменениях, явно ничего не имел против танцев самих по себе или даже танцев в церковных дворах в подходящее время.
Судя по количеству жалоб писателей «благочестивой» литературы в поздний период правления Елизаветы, когда зарождалась пуританская протестантская мысль, восторженными приверженцами танцевального искусства были большие группы энергичной молодежи обоих полов. Хотя неодобрительная «благочестивая» литература в основном происходит из Лондона, танцы фигурируют в источниках повсюду в Англии и Уэльсе. Танцы на свежем воздухе были летним развлечением и часто упоминались в числе мероприятий на День Святой Троицы и «майских игр», которые проводились в мае и июне. Майские деревья, похоже, были идеальным местом проведения танцев: люди танцевали вокруг них и рядом с ними, однако нет свидетельств того, что кто-то танцевал, держась за ленты, прикрепленные к майскому дереву, — похоже, эту школьную забаву придумали викторианцы. В «Орхезографии» (Orchesographie) Туано Арбо — учебнике танцев, опубликованном во Франции в 1589 году, — содержатся описания нескольких довольно простых танцев, которые исполняли в хороводе, держась за руки. Такие танцы легко было исполнять вокруг майского дерева, и они были достаточно простыми для того, чтобы любой мог быстро освоить их и получать удовольствие, несмотря даже на тяжелую обувь, которую носили сельскохозяйственные рабочие. В качестве музыкального сопровождения танцев часто упоминаются волынки. Это были не знаменитые современные шотландские высокогорные трубы, а простые распространенные во всей Европе версии этих инструментов с одиночной басовой трубой, издающей аккомпанирующий гул, сумкой, обеспечивающей давление воздуха, и мелодической трубкой с отверстиями для пальцев, на которой можно было играть мелодию, достаточно громкую для того, чтобы ее было слышно в большой толпе на открытом воздухе. Стивен Госсон в своей «Школе злоупотребления» (Schoole of Abuse, 1579), преувеличенно возмущается музыкой и танцами: «…в Лондоне так много невостребованных волынщиков и уличных скрипачей, что скоро человек не сможет зайти в таверну без того, чтобы двое или трое из их рода не прицепились к нему, чтобы сыграть ему, пока он не ушел».
Большая часть танцев на открытом воздухе носила социальный характер, но есть также много упоминаний танца моррис, сольных джиг и соревнований по танцам: такие танцы исполнялись не ради самого процесс, а больше ради представления или в попытке произвести впечатление на противоположный пол своей энергией и мужественностью. Описание танца моррис у Филипа Стаббса в «Анатомии злоупотреблений» (Anatomie of Abuses, 1583) — всего лишь одна из многих напыщенных тирад против любого рода развлечений, однако она в красках рисует нам картину воскресного дня. После того как собрание выбрало и короновало летнего «князя беспорядков», или «короля буянов», назначалась группа его слуг. Они наряжались в самые яркие плащи, какие только могли найти:
Сделав это, они привязывают к каждой ноге по 20–40 колокольчиков, а в руки берут богатые платки, или иногда завязывают их вокруг плеч и шеи, по большей части беря их взаймы у своих прекрасных Мопси и любящих Бесси, которых целуют в темноте.
Таким образом, когда все готово, они берут свои палки с головами лошадей, драконов и других древностей и вместе со своими непристойными волынщиками и грохочущими барабанщиками начинают свой дьявольский танец. Затем эта компания язычников направляется к церкви и церковному двору: их волынки трубят, их барабаны стучат, их ноги танцуют, их колокольчики звенят, их платки колышутся над головами как у сумасшедших, их палки с головами лошадей и других монстров рыскают среди толпы.
В таких танцах участвовали молодые, подтянутые и энергичные люди, а не более зрелые господа с заметными животами, с которыми связаны современные представления о танце моррис. Этот танец был куда более дикий.
И танцевали не только мужчины. Когда Уильям Кемп, самый известный комический актер страны, взялся пройти в танце по всей стране в начале 1600-х годов в качестве своеобразной рекламной кампании, он встретил много людей, которые танцевали вместе с ним, в том числе четырнадцатилетнюю девочку, которая не отставала от его джиги (очень энергичного танца, который имеет много общего как с хайлэнд флингом, так и с ирландскими сольными танцами Риверданс) больше часа, после чего Кемп заявил, что «он мог бы бросить вызов самым сильным мужчинам в Чемсфорде» и, как ему кажется, «немногим удалось бы продержаться так долго». В Саффолке мясник пытался держать темп и позорно не справлялся с задачей, когда «сладострастная деревенская девица» рассмеялась и сказала: «…если бы я начала танцевать, то продержалась бы целую милю, даже если это стоило бы мне жизни». Когда толпа подстегнула ее сделать это, она зацепила свои юбки, привязала к ногам колокольчики и танцевала рядом с ним всю дорогу до следующего города. Обе молодые женщины явно знали, какие шаги используются в этом танце. Помимо танцев моррис (по-видимому, так современники называли любые танцы с колокольчиками, энергичными прыжками и пестрой одеждой, сольные или в группах), были и другие танцы, в которых можно было показать себя. В «Описании Лондона» (Survey of London, 1598) историк и антикварий Джон Стоу вспоминает, что видел танцевальные соревнования между молодыми женщинами на улицах Лондона во время правления Генриха VIII, где они «танцевали, соревнуясь за гирлянды, подвешенные на улице». На картине Йориса Хофнагеля «Праздник в Бермондси» (A Marriage Feast at Bermondsey, ок. 1569–1570) изображена группа из пяти танцующих молодых людей. Двое мужчин и три женщины танцуют под музыку двух скрипачей, их позы напоминают такой тип танца, где участники танцуют по очереди, чтобы продемонстрировать свои движения (как в современных брейк-дансе и хип-хопе), подражая друг другу и соревнуясь друг с другом в проявлении мастерства и выносливости. К концу XVI века пуританская враждебность по отношению к таким танцам усиливалась. Те, кто явно демонстрировал собственную набожность, всегда испытывали скрытую враждебность по отношению к танцам, но, если раньше они лишь изредка позволяли себе тихонько выразить возмущение из-за какого-то примера плохого поведения на танцах, теперь это стало более открытым и распространенным. Жители Лондона и ярые кальвинисты стали особенно крикливыми и резкими. Однако все, кроме самых радикально настроенных пуритан, по-прежнему одобряли танцы при дворе.
Послы при дворах Генриха VIII и Елизаветы I в целом были впечатлены тем, как много и как искусно тут танцуют. По словам миланского посла в 1515 году, Генрих «ежедневно занимался танцами». Елизавета тоже регулярно упражнялась, и танцы были включены в ее утреннюю рутину перед завтраком. Она продолжала танцевать как в частном порядке, так и публично, практически до конца своей жизни. В 1599 году, когда ей было около 65 лет, испанский посол писал к себе на родину, что «глава Церкви Англии и Ирландии танцевала три-четыре гальярды в своем почтенном возрасте», а в апреле 1602 года, за год до смерти, она станцевала две гальярды с герцогом Неверским. Несмотря на то что испанские послы резко комментировали танцы при английском дворе (один из них описал движения Генриха VIII как «вставание на дыбы»), они, похоже, были одиноки в своей критике. Венецианский посол счел, что Генрих «божественно держит себя», а миланский представитель сообщил, что «он творит чудеса и скачет как олень». В ранние годы партнером по танцам Генриха обычно была его сестра Мария, которая «танцевала так хорошо, как только можно было пожелать». Первая жена Генриха, испанская принцесса Екатерина Арагонская, тоже любила танцевать, но обычно танцевала в своих комнатах с дамами; в конце концов, она практически постоянно была беременна. Ее отсутствие в общественном бальном зале могло повлиять на позицию испанского посла.
Рис. 19. Карта из книги «Описание Лондона» (Survey of London, 1598) Джона Стоу
Примерно в 1500 году Джон Бэнис открыл свою записную книжку и взял в руки перо, чтобы написать о двадцати шести танцах и тринадцати музыкальных фрагментах, под которые можно танцевать, восемь из которых сочетались с определенными танцами. Ноты танцевальных мелодий перемежаются в книге с латинскими молитвами, трактатами по хиромантии и по физиогномике. Мы ничего не знаем о Джоне Бэнисе, кроме его имени и содержания его книги, которая выделяется лишь тем, что содержит такие подробные заметки о танцах. Эта книга много лет находилась среди бумаг семьи Грейсли в Дрейклоу и теперь хранится в архиве графства Дербишир. Он не был тогда членом королевского двора, но был хорошо образован и имел связи в Дербишире. Все танцы предназначены для двух-трех человек, пол никогда не уточняется — или же говорится о каждом танцоре как о «человеке» (man): первый человек, второй человек или третий человек. Предположительно, он использует слово man именно в этом значении, например, как мы используем однокоренное ему mankind, когда имеем в виду человечество, поскольку все изображенные танцоры в групповых танцах разнополые, а большинство самых громких пуританских возражений основаны на близком контакте мужчин и женщин во время танца. Он мало внимания уделяет шагам или тому, где должны находиться руки, и вместо этого сосредоточивается на форме танца — на том, какие фигуры участники должны выполнять. В этом уже чувствуется не континентальный, а сугубо английский дух.
Эсперанс для троихДОРОЖКАВсе — шесть одиночных шагов и третт, затем первый человек идет назад, пока не окажется позади, а средний делает три ретретта, и последний делает три одиночных шага, и средний — три одиночных шага, остановившись по левую руку от последнего, и последний — три ретретта, так что средний заканчивает перед последним в центре, а первый — позади, так танцуют три раза, и каждый оказывается впереди. Когда дорожка окончена, первый — три шага вперед, разворачивает лицо назад, затем последний — напротив него, а средний — напротив первого, а затем первый возвращается на место, первый и последний меняются местами, а средний поворачивается. Все одновременно — три ретретта назад, все одновременно назад, затем первый поворачивается, а последний разворачивается на своем месте, затем все вместе — три шага вперед.
Мне особенно нравятся танцевальные заметки Джона Бэниса, не в последнюю очередь из-за его творческого подхода к правописанию. Например, в описании этого танца слово «первый» он пишет четырьмя разными способами: ffyrst, ferst, fyrste и first. Чтобы понять его записи, нужно несколько раз медленно их прочесть, и только после начнет складываться хореография: четкие ритмические узоры, наделенные определенной грацией и плавностью. Приведенный выше Esperanse de tribus — испанский танец для трех человек — начинается с того, что три человека стоят в линию один за другим. Все делают вперед шесть «одиночных» шагов — синглов. Во время следующего фрагмента музыки первый человек танцует назад до конца линии, в то время как два других танцора меняются местами один, а затем — второй раз. Затем музыка повторяется, те же шаги повторяют дважды, так что каждый оказывается во главе линии. Следующим движением линия поворачивается на девяносто градусов. Первый танцует слева направо и делает разворот на три четверти, чтобы оказаться рядом со средним партнером, но лицом к лицу с ним. Последний в линии совершает аналогичное движение, так что оказывается по другую сторону от среднего партнера, лицом к нему; средний танцор, тем временем, просто разворачивается лицом к первому человеку в его новой позиции. Джон Бэнис не упоминает об этом, но если бы я оказалась в середине, то я бы, вероятно, лишь дважды развернулась на месте, в то время как двое других выполняли бы остальные действия. В эту эпоху от исполнителей музыки и танца ожидали определенную степень импровизации. И вот линия возвращается в исходное положение, первый возвращается на место, средний оказывается сзади, а последний — в середине. На следующем музыкальном фрагменте двое танцоров в конце линии меняются местами, а средний поворачивается на месте, так что позиции вновь меняются. Затем они в унисон танцуют задом наперед, поворачиваются на месте, а затем танцуют вперед, чтобы поставить в танце своего рода точку, прежде чем все начнется снова с новым танцором во главе.
Упоминаются три различных шага: «одиночный» (single), «третт» (trett) и «ретретт» (retrett) — последний похож на третт, но совершается в обратном направлении. Один английский текст может прояснить значение этих терминов, хотя это и не руководство по танцам. Сэр Томас Элиот в своей книге «Правитель» прибегает к образу танца для воспитания моральных добродетелей. Он показывает, как каждый шаг и отражает, и воспитывает определенные «благородные качества» исполнителя. Каждый танец, по словам сэра Томаса, начинался с «honour, то есть уважительного поклона, или curtesie с долгой паузой. Это было лишь одно движение, за время выполнения которого можно сделать три других, или же выдвижение стопы вперед». В записях Джона Бэниса это не упоминается, вероятно потому, что это не часть хореографии конкретного танца, а скорее общее вводное движение, настолько универсальное и хорошо известное, что его не нужно было и записывать. «Одиночные» шаги он описывает как «шаги вперед каждой ногой отдельно», а ретретт — «одно движение, возвращающее правую ногу к левой». И даже с этими описаниями нелегко понять, что именно имеется в виду. С ретреттом все довольно ясно — видимо, это просто шаг, который соединяет ноги вместе. Но вот вопрос, идет ли речь о шаге всей стопой или на носках, остается открытым. Что касается «одиночных» шагов, то имеет ли он в виду два обычных шага вперед, или же французский шаг: одна нога делает шаг вперед, а затем к ней приставляют вторую ногу? И тот и другой вариант подошли бы под эту форму танца и, без сомнения, под эту музыку. Если мы хотим танцевать так, как танцевали в тюдоровскую эпоху, нам придется использовать импровизации, интерпретации и вариации. Музыка достаточно живая, в основном в размере 6/8, в отличие от более тяжеловесного размера в 4/4 современного деревенского танца.
Есть указания на то, что такие танцы «кричали» (called) — то есть кто-то выкрикивал шаги, которые нужно было сделать. Об этом рассказывает песня 1550-х годов, записанная менестрелем Ричардом Шилом, а также анонимная баллада 1569 года. Песня Ричарда Шила — о деревенской свадьбе между Жоком и Жоной:
- Полповорота, Жона, теперь полповорота, Жок!
- Хороший танец, во имя святого Дени!
- И тот, кто испортит первый такт,
- Пусть даст свирельщику пенни.
- Ногу вперед, Робсон! Убрал ногу, Биллинг!
- И поверьте, получится хороший танец…[39]
Баллада 1569 года также рисует картину танцев на сельской свадьбе, с легкой насмешкой в адрес деревенщин, которые подражают новейшей французской моде. Кстати, «браль» — слово, обозначавшее один из видов танца:
- Добрые люди должны пойти учиться танцевать.
- Наступило свадебное торжество,
- А из Франции пришел браль —
- Первое, о чем ты услышал в этом году,
- Ибо я должен прыгать, а ты должен скакать.
- И все мы втроем должны повернуться.
- Четвертый должен отскочить, как волчок,
- И так мы условимся.
- Молю тебя, менестрель, не останавливайся,
- И всем нам будет весело[40].
Из всего этого вырисовывается очень узнаваемая и своеобразная картина английского танца с оживленным ритмом, четкими фигурами, простыми шагами и кричальщиком. В таком виде танец вполне мог пересечь Атлантику с самыми первыми поселенцами.
В 1521 году Роберт Коупленд включил в заключение своей книги по французскому языку краткое руководство по бас-данс (буквально «низким танцам») Бургундии и Франции. Всего год назад большая часть английской элиты побывала во Франции на Поле золотой парчи, где такие танцы были частью праздничных мероприятий. Коупленд также описывает одиночные шаги и ретретты (последние именуются «репризами», reprise), и его заметки по хронометражу и стилю также любопытны. Были ли они включены потому, что французские танцы отличались от английских? Коупленд пишет, что на исполнение двух одиночных шагов нужно столько же времени, как на одну репризу или один поклон, а исполняя сингл, «вы должны подниматься всем телом». Бас-данс отличались формализмом, оставляли меньше возможностей для импровизации, чем другие разновидности танцев, и исполнялись процессией из пар, следовавших друг за другом. На танцевальной площадке не было фигур или рисунков — лишь разные комбинации четырех шагов, которые чередовались во время медленного движения по залу. Поэтому описания танцев были гораздо проще. Достаточно усвоить, что R соответствует первому реверансу, или honour, s — синглу, d — даблу, двойному шагу (три шага вперед на носках с паузой на четвертом такте), b — «бранлю» (шагу в сторону от партнера, а затем обратно к нему) и r — репризе. Так что все танцы можно записать в одну строку. Такую запись можно увидеть у танца Filles à Marier («Девицы на выданье»), который разбит на четыре различные части, или музыкальные темы, и в версии Коупленда выглядит так: R.b.ss.ddd.rrr.b.ss.d.rrr.ds.ss.ddd.ss.rrr.bs.ss.ddd.ds.ss.rrr.b. Каждый бас-дэнс начинался с реверанса и заканчивался бранлем. Репризы делили танец на отдельные части, которые соответствовали музыкальным темам.
В танцевальном искусстве происходил интенсивный международный обмен: идеи, музыка, движения, стиль и хореография стремительно подхватывались и повторялись, выходя за пределы национальных и социальных границ. Без сомнения, сам бас-данс, который может казаться ярким примером величественного аристократического танца, зародился как деревенский, крестьянский танец, подхваченный придворной культурой. Он вошел в повседневный обиход и в Англии, по крайней мере, при дворе.
Генрих VIII, помимо танцевальных фигур Джона Бэниса и формального бас-данс Коупленда, также знал и другие танцы. В конце концов, миланский посол хвалит его за то, что он скачет, как «олень», а эти движения не соответствуют ни одной из этих двух разновидностей танца. Такие прыжки могли использоваться в танце под названием «турдион». Сэр Томас Элиот записывает его как «тургион» в своем списке модных танцев, наряду с бас-данс и другими танцами. Шаг в турдионе состоял из четырех прыжков и «каденции», во время которой танцор приземлялся на обе ноги. «Каденция» длилась столько же, как два прыжка. Это был ритм, который часто произносился как «один, два, три, четыре и пять». Пауз для передышки не было, поскольку пружинистые шаги шли друг за другом, и танцоры должны были прыгать высоко, идеально соблюдать временные интервалы и при этом выглядеть элегантно.
В правление Эдуарда VI и Марии I хроника английских танцев приостанавливается, но в Елизаветинскую эпоху мы снова можем найти танцевальные заметки в обычной записной книжке. Она принадлежала Элинор Гюнтер и содержала множество стихотворений и песен. Однако танцевальные заметки, возможно, принадлежали ее брату Эдварду, который в феврале 1563 года отправился в Линкольнс-Инн для изучения права. Эти заметки стали первыми в серии записей танцев, которые были созданы в последующие сто лет. Все они принадлежат перу практикантов-юристов Судебных иннов и описывают примерно одни и те же танцы. Ежегодный бал с фиксированным набором танцев был одной из обязательных процедур для будущих юристов, и каждому поколению правоведов приходилось изучать этот набор танцев. На этот раз заметки не сопровождаются нотами и не содержат описаний танцевальных шагов или стилей, но, вооружившись знаниями обо всем, что происходило в танцевальном искусстве ранее в Англии и на континенте, и добротным перечнем популярных в ту пору мелодий, вы можете представить себе, как они исполнялись. Как сообщает нам книга Элинор Гюнтер, празднества начались с паваны — медленного и величественного танца, который подходил для старших пожилых юристов в мантиях. Три последующие за ним танца принадлежали к традиции бас-данс; первый из них даже называется Turquylonye Le Basse: «Дабл вперед, реприза назад четыре раза, два сингла в сторону, дабл вперед, реприза назад, дважды».
Затем следует серия танцев Allemayne («немецких»). Они включали в себя дабл с прыжками в немецком стиле и некоторые фигуры на полу, которые мы помним из книги Джона Бэниса. Ближе к концу вечера танцевали куранту. Это был более энергичный и очень популярный танец под быструю и оживленную музыку. Его описание у Эдварда Гюнтера немного безжизненное и сложное. Хотя он не упоминает об этом, можно предположить, что танец исполняли в две линии мужчин и женщин, стоящие напротив друг друга. Впоследствии такой строй в более поздних деревенских танцах XVII и XVIII веков называли «длинными рядами, открытыми для всех желающих». Как кажется, это хорошо соответствовало разделу, в котором советуют танцевать «четыре дабла вперед и назад в сторону дам, и, когда вы все окажетесь напротив них, сделайте три треверса в сторону, и пусть каждый кавалер поклонится своей даме». Сэр Джон Дэвис в своем стихотворении «Оркестр, или Поэма о танце» (Orchestra, or a Poem of Dancing, 1594), описывает куранту как хаотичный петляющий танец, исполняемый под тройной ритм дактиля (6/8) с использованием скользящих шагов (треверсов):
- Как мне назвать эти современные треверсы,
- Что выполняет нога на тройном дактиле
- Близко к земле скользящими шагами?
- Там, где тот танцор заслужит самую большую похвалу,
- Который наилучшим образом может
- презреть любой порядок;
- Поскольку везде он бесцельно должен блуждать,
- И развернуться, и неожиданно взвиться[41].
Вечер начинался, затем, медленно и планомерно, к середине он становился более энергичным, а в конце — быстрым и яростным, когда старшие участники собрания уходили, чтобы дать молодым повеселиться. Через несколько лет после смерти королевы Елизаветы юристы наконец-то обновили свой список танцев, включив в него особенно энергичные и яркие гальярды и вольты, которые были популярны при дворе и за его пределами среди молодежи в течение двадцати или тридцати лет. Джон Рэмси, который был в Миддл-темпл около 1605–1606 года, сообщает, что после сдержанных Turkeyloney, других бас-данс и аллеманд, он с трудом может записать «полукаперы (прыжки), треверсы, круговые повороты и тому подобное, чему научиться можно только на практике». Гальярду танцевали под тот же ритм, что и турдион — раз, два, три, четыре и пять, но он был более медленным и сильным и давал возможность танцующему на каждом шагу прыгать намного выше. И прыжок должен был быть высоким, особенно у мужчин-танцоров. Чтобы составить представление об атлетичности и движениях елизаветинских придворных танцевальных площадок, исполняющихся под ритм «раз, два, три, четыре, пять», нужно взглянуть на современного танцора балета, исполняющего классические прыжковые соло с антраша, когда его ноги касаются друг друга в полупрыжке, и жете — огромные бегущие прыжки в воздухе. Французский мастер танцев Арбо особенно не одобрял выступлений, где «дамочки вынуждены прыгать так, что они то и дело обнажают свои голые колени, если только не придерживают одной рукой юбку». Он не считал это ни красивым, ни пристойным, «если только вы не танцуете с какой-нибудь рослой девкой из зала прислуги».
А вот мне нравится воображать себя рослой девкой из зала прислуги. Вы, возможно, догадались, что я большая поклонница танцев, и в особенности — тюдоровских. Те танцы, которые вы видите в кино и на телевидении по необходимости упрощены, это простые движения, которые актеры могут выучить во время репетиций. Поэтому у многих людей складывается впечатление, что все исторические танцы были спокойными и церемонными, теми танцами, которыми открывались вечера, — паванами и бас-данс, приличествующими серьезным и почтенным людям. Но следовавшие за ними веселые танцы, которые исполняли молодые и подтянутые люди, соревновавшиеся в своих движениях, редко попадают в поле зрения современных зрителей. Но знайте, что, когда ваш партнер подбрасывает вас на пять футов в воздух во время исполнения вольты — это очень весело. Танцуя гальярду, вы будете задыхаться, потеть и смеяться. И захотите практиковаться дальше, чтобы в следующий раз по-настоящему поразить всех своим мастерством.
Кровавые забавы и театр
Если у лондонца выдавался свободный день, он мог пойти на южный берег Темзы, где располагались медвежьи арены, а в конце правления Елизаветы и театры. В других городах также были площадки для травли медведей, и к ним иногда заезжали кочующие труппы актеров, но только в Лондоне существовала постоянная инфраструктура, приспособленная под эти развлечения.
Кровавые забавы в целом были популярны как в городе, так и в деревне — не только из-за самого зрелища, но и из-за возможности делать ставки. Считалось, что они даже имеют практическую ценность и пользу для здоровья, поскольку таким образом тяжелое мясо, которое трудно переварить, можно было сделать пригодным для употребления. Понимание мира природы тогда по-прежнему во многом опиралось на теории древних греков, которые считали, что плоть, как человеческая, так и животная, и даже овощи состоят из четырех телесных жидкостей: крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи, каждая из которых обеспечивала баланс тепла, холода, влаги и сухости. Считалось, что в молодых самцах животных (как и в людях) доминировала кровь, которая была горячей и влажной по своей природе, но по мере созревания плоть охлаждалась, высыхала и затвердевала. Считалось, что такая плоть содержала очень мало питательных веществ и оседала тяжелым комком в желудке. Так что только самые сильные и горячие по своей конституции способны переварить ее в хороший «соус», или сок, питающий тело. Поэтому мясо вола или петушка, забитых на склоне своей жизни, считалось неперевариваемым, пока их не привели в бешенство, чтобы яростное течение крови снова не захлестнуло их тело, смягчая и увлажняя плоть. Люди верили, что с помощью травли старого зверя они извлекают максимум пользы из ресурса, данного им Богом. Существовала даже система штрафов, которые мясники должны были платить за забой незатравленного быка.
Рис. 20. Травля медведя. Неизвестный художник, 1521 г. На привязанного медведя нападают шесть больших собак. Британская традиция травли медведей привлекала множество людей из-за связанного с ней «спортивного интереса» и азарта
Самые незатейливые кровавые зрелища часто спонсировались приходом: это были мероприятия по сбору денег. Например, петуха привязывали за ногу шестифутовой веревкой к столбу, установленному в земле. Участники выстраивались за расчерченной на земле линией и по очереди бросали камни. Тот, кому удавалось убить прыгающую, кричащую и обезумевшую птицу, получал труп петуха в качестве главного приза.
Когда в 1613 году Джервейс Маркхэм опубликовал свою книгу «Английский домохозяин», он оставил в стороне виноделие, занимавшее столь видное место в аналогичной французской книге, которая вдохновила его на собственный труд. Зато он не пожалел усилий на то, чтобы донести до читателей, что добавил главу об исключительно английском элементе сельской жизни: петушиных боях, ибо «нет удовольствия более благородного и восхитительного, и при этом без всякого надувательства и обмана». Он совершенно не притворяется, что петушиные бои нужны для подготовки птиц к столу; то, что он описывает, делается исключительно ради «спорта». Для этой цели специально выводились маленькие и свирепые петухи, с крепкими клювами и ногами, маленькими головами и большими шпорами. Когда им исполнялась два года, самых агрессивных начинали готовить к бою. У каждого был отдельный зарешеченный деревянный загон площадью два фута и высотой три фута, водяной желоб и лоток для корма — «образцы таких загонов вы можете увидеть в доме любого петушиного мастера или владельца постоялого двора». Диета петухов состояла из белого хлеба и воды, и в перерывах между кормлением птиц выводили на тренировочные бои, во время которых смертоносные шпоры тщательно заматывались, чтобы предотвратить травмы. С приближением настоящего боя пустой хлеб заменяли роскошной смесью, похожей на бриошь: пшеничную муку смешивали с овсяной мукой, яйцами и маслом, замешивали тесто и выпекали. С головы, шеи и зоба петуха состригали перья, а перья на крыльях сильно заостряли. Перед тем как птицу выводили на ринг для боя, ей заостряли клюв и шпоры ножом, а лысую голову мочили слюной. Схватки были короткими, но кровавыми, различные пары стравливали друг с другом, один бой быстро сменялся другим У Генриха VIII был специально построенный для него во дворце Уайтхолл ринг для петушиных боев, а Джон Стоу отмечал, что лондонцы могли смотреть бой за пенни, сидя на галерее арены для боев в Смитфилде, или же заплатить немного больше за место возле ринга.
Травля быков собирала больше зрителей, но стоила дороже. Хотя быков в конечном итоге продавали мясникам, для зрелищ нужно было разводить и дрессировать собак, а быков, способных вынести особенно напряженный бой, держали для повторных появлений на арене. Сэр Уильям Фоунт специально разводил и содержал боевых быков. В 1590-х годах он писал Эдварду Аллену в Лондон, что у него есть три доступных быка: один — искусный, четырехлетний бык в хорошей форме; другой потерял глаз на предыдущей травле, но все еще годился для боя; и третий по кличке Звезда Запада постарше, который недавно потерял один рог и, по его мнению, никогда уже не сможет сражаться.
На плане лондонского Банксайда 1574 года изображены расположенные по соседству две отдельные арены для травли, одна для быков и одна для медведей. В отличие от испанской корриды, где бык свободно перемещается по арене и сражается с пешими или конными вооруженными людьми, на боях быков в тюдоровской Англии привязанный бык противостоял стае крупных собак. По словам итальянского посла Алессандро Маньо, который в 1562 году был свидетелем травли быков в Лондоне, у животного, привязанного веревкой «длиной в два шага», было мало пространства для маневра. Но хотя бык не мог убежать или атаковать, он мог полноценно использовать свои рога, чтобы бодать собак, и ноги, чтобы лягать их. Для боев использовали мастифов. На месте лондонских ям для травли было найдено множество черепов, исследование которых показало, что эти животные сильно отличались от современных пород, называемых бульдогами. Это были большие и могучие собаки, высокие и крепко сложенные, а их морды не были укороченными, как у современных выставочных бульдогов. Исход таких боев был непредсказуем: и собакам и быкам грозили увечья и гибель. Животные, хорошо показавшие себя в предыдущих поединках, становились любимцами толпы, и состязания часто организовывались так, чтобы исход был предрешен: против опытного «звездного» быка ставили собак, которые из-за своего возраста, состояния здоровья или неопытности едва ли могли убить любимца толпы. Неудивительно, что большие ставки, которые делались на этих состязаниях, побуждали к различного рода мошенническим действиям с быками и собаками, чтобы склонить исход поединка в пользу одного из игроков.
Медвежья травля очень напоминала травлю быков, но ее не извиняло то, что она позволяет смягчить мясо. Экзотичность зрелища привлекала зрителей не меньше, чем само кровопролитие. Медведи были дорогими зверями, и их владельцы не хотели их потерять. Поэтому травлю, пусть и кровавую, редко доводили до того, чтобы она повлекла за собой смерть медведей, — о собаках заботились немного меньше. Это зрелище опять же состояло в том, что на связанного медведя спускали собак. В отличие от боя быков, где в центре всегда была непосредственно схватка животных, это зрелище больше походило на цирк: хозяева выводили медведей на цепи для всеобщего обозрения. Иногда медведей учили «танцевать». Гарри Ханкс, знаменитый слепой медведь, был высечен, когда попытался ударить своего мучителя и уклониться от невидимого кнута. Считалось, что это был очень «комичный» поворот. В опись медвежьего сада в Лондоне в 1590 году включили пять «больших медведей» и еще четыре других. Большими медведями становились выступающие на арене животные, которым нужно было по очереди выходить на ринг; остальными могли быть племенные самки, поскольку Джейкоб Мид, владелец, продавал медвежат другим «держателям медведей», включая сэра Уильяма Фоунта, который специально просил пару черных молодых самцов.
После обеда в медвежьи сады на окраине города стекались большие и шумные толпы людей самых разных сословий. В 1608 году в День святого Стефана (26 декабря) у ворот для прохода на арену всего собрали 4 фунта, что значит, что тогда пришло примерно тысяча человек. На следующий день, в День святого Иоанна, собралось еще больше народу — 1500 человек, а на Рождество травлю медведей посмотрели 1000 человек. Большие толпы людей всегда заставляли власти понервничать, но еще большее беспокойство создавала социальная неоднородность таких сборищ. Сами же толпы от этого еще больше возбуждались. Медвежья травля была популярна как среди благородных лордов, так и среди простых извозчиков. Сюда стекались как иностранные послы, так и чужестранные моряки из лондонского порта. В толпе искали клиентов проститутки, мошенники, карманники и продавцы готовой еды, которые толкались плечами если не с самими аристократами, то по крайней мере с окружавшими их телохранителями. Если посетителю в ожидании главного события надоедало разглядывать толпу в поисках знаменитостей, он всегда мог пойти посмотреть на животных в загонах или на подготовку собак.
Прямо по соседству с медвежьими садами на южном берегу Темзы в последние годы царствования Елизаветы расположились главные театры того времени. Постоянные театры были новым явлением: самые первые появились только в 1576 году. На протяжении всего периода правления Генриха VII, Генриха VIII, Эдуарда VI и Марии I театры были передвижными и главным образом любительскими. В годы правления Генриха VII во многих крупных городах Великобритании горожане ежегодно устраивали собственные мистерии. До нас дошло 48 пьес и процессий из Йорка, 32 — из Уэйкфилда, 24 — из Честера. Другую группу текстов обычно называют «Город N», так как их географическое происхождение неизвестно. Из Ковентри дошло только два текста из всего цикла и по одному из Нориджа, Ньюкасла-на-Тайне, Нортгемптона и Брома в Саффолке. Есть также упоминания аналогичных театральных циклов, существовавших в Абердине, Бате, Беверли, Бристоле, Кентербери, Дублине, Ипсуиче, Лестере и Вустере, хотя от них нам не осталось ни строчки. Есть все основания считать, что дошедшие до нас пьесы изначально были составлены образованными служителями церкви, а затем постепенно по частям адаптированы другими людьми, предположительно из народа, которые их исполняли. В основе сюжета каждой отдельной пьесы лежали библейские сцены, которые интерпретировались довольно вольно, с привлечением других, крестьянских по своему происхождению, персонажей. Элементы фарса и пафоса сочетались с зарисовками нравственных добродетелей и пороков. За каждое представление отвечала какая-то одна городская гильдия. Они должны были предоставить костюмы, декорации, актеров и музыкантов, а в Йорке и Честере (но не в случае с циклом «Города N») — сценические платформы и лошадей для перемещения с места на место.
У жителей этих городов сезоном мистерий был июньский праздник Тела Христова, который знаменовал присутствие Крови и Тела Христа в Евхаристии. Это было достаточно всеохватывающее событие. Небольшие гильдии могли испытывать финансовые трудности с организацией мистерий. Например, в 1523–1524 годах шапочники (изготовители вязаных шапок) в Честере обратились к лорд-мэру с просьбой об освобождении от мистерии. Они должны были поставить «пьесу об истории царя Валака и пророка Валаама», но просто не могли себе этого позволить. Они заявили, что готовы охотно работать над постановкой, если мэр сможет найти какое-нибудь денежное вспомоществование. По их словам, затруднения возникли из-за переманивания их клиентов другими торговцами. В 1577 году расходы, понесенные гильдией бочаров в Честере, составили 2 фунта 13 шиллингов и 2 пенса за постановку. Так что шапочники, которые мало зарабатывали даже в лучшие годы, вполне могли испытывать реальные трудности с тем, чтобы дополнительно находить такую большую сумму каждый год в карманах у небольшого количества членов своего цеха. Большая часть денег бочаров ушла на ремонт их повозки и украшение ее декорациями. В 1577 году на это потребовалась пара колес, деревянная доска, несколько партий гвоздей, железные заклепки, петли, два комплекта веревок, «наряды» и новое «убранство». Петли и шнуры указывают на наличие подвижных элементов декораций, которыми управляли с помощью шарниров. Большую часть работ выполняли члены гильдии, которые, будучи бочарами, имели в распоряжении целый ряд инструментов и навыков. Но они также обращались к другим жителям Честера, если нуждались в их ремесленных навыках и рабочей силе. Неназванный «мастер», предположительно, каретник, получил плату за установку и демонтаж декораций. Гильдия также заплатила кому-то за покраску костюмов. Крашеные ткани обычно использовались для знамен и представляли собой идеальный способ быстро и дешево сделать на первый взгляд сложные костюмы из простой грубой одежды наподобие табард или туник.
В расходах также упомянуты предметы для четырех репетиций: три из них обошлись достаточно дешево, в них, возможно, принимали участие только главные герои постановки, а на одну «генеральную» репетицию, состоявшуюся позже, потратили гораздо больше. Поскольку в городе с населением менее 6000 человек одновременно ставились двадцать четыре таких спектакля, скорее всего, лишь немногие оставались только зрителями. Большинство горожан были вовлечены в процесс: забивали гвозди, красили ткани, заучивали слова, поставляли напитки, писали роли, делали маски и другой реквизит, упражнялись в игре на музыкальных инструментах, ухаживали за лошадьми. Когда наступал день торжества, все собирались на месте назначенного старта: возглавлял процессию мальчик на лошади, дальше шли трубачи, а затем — передвижная повозка, нагруженная убранствами и членами гильдий в костюмах, готовыми сыграть свою роль. Те, кто смотрел выступление на улице, могли толкать соседей и указывать на сыновей, отцов и мужей или на сделанную ими шляпу или жаловаться на то, сколько работы потребовалось для ремонта этих осей. Они могли сравнивать пьесу с прошлогодней, ругать постановку конкурирующей гильдии и критиковать нелюбимых персонажей. Мы не знаем, смотрели ли они все пьесы или только некоторые, торчали весь день на одном месте или бродили по городу и смотрели разные спектакли, следовали ли за собственной гильдией, когда она передвигалась и ставила пьесу в других местах, но улицы в любом случае были шумными и переполненными.
У Честера, как и у других городов, был свой репертуар любительских спектаклей. Это были спонсируемые гражданами представления, которыми развлекали высокопоставленных гостей. Юный принц Артур, старший сын Генриха VII и старший брат Генриха VIII, посетил город в 1498–1499 годах, и его развлекали исполнением «Истории вознесения Богоматери» (The Storie of the Assumption of our Ladye) перед воротами аббатства. Частные театральные представления проходили в знатных домах, при королевском дворе и в школах. Учителя поняли, что исполнение отрывков греческих пьес идеально подходило для увлечения юных учеников греческим языком и литературой. У целых поколений образованных мужчин был за плечами любительский театральный опыт. То же самое касается и сотен, а то и тысяч городских ремесленников. Как считается, первой светской комедией на английском языке стал «Ральф Ройстер Дойстер» (Ralph Roister Doister) — произведение, составленное в 1550-х годах для представления мальчиков Николасом Юдоллом, бывшим главой Итонского колледжа, а впоследствии — Вестминстерской школы. Интерлюдии, с моральным содержанием или без него, стали регулярной частью придворной жизни, и запросы на новизну и профессионализм исполнителей все время росли. Генрих VIII начал содержать в своем доме четырех профессиональных актеров и их учеников, как раз в то время, когда под давлением реформированной церкви начинают исчезать городские мистерии.
На протяжении всего тюдоровского периода и во всех социальных классах у театров, будь они библейскими или светскими, уличными, расположенными во дворе гостиницы или в залах вельможи, были некоторые общие черты, в первую очередь — зрелищность. Люди ожидали увидеть костюмы, легко узнаваемых персонажей, музыку, эффектное представление, театральные трюки и реквизит; они также знали, что будут смотреть и слушать в толпе других людей, и ждали, что получат удовольствие.
Во времена Елизаветы дворянская знать покровительствовала профессиональным труппам. Известно более двадцати таких покровителей, от Роберта Дадли, графа Лестерского, чья труппа выступала при дворе перед королевой, а также перед публикой в Лондоне и в провинции, до лорда Бошана, чья куда меньшая труппа играла в Саутгемптоне, но, по-видимому, ни разу не появлялась в Лондоне. Особенно покровительствовали театру графы, дававшие им свои имена и защиту, среди которых — графы Оксфорд, Уорик, Вустер, Хартфорд, Пемброк и Сассекс. Но какой бы энтузиазм ни испытывала знать в отношении новых сложных трагедий и как бы сильно покровительство театральной труппе ни повышало их собственный общественный престиж, никто не хотел смотреть спектакли каждый день. Тогдашняя мода предписывала устраивать несколько подобных популярных представлений для семьи и друзей в рождественский период, и, конечно, аристократ рассчитывал, что сможет снова показать постановку, когда придут важные гости, но актерское ремесло не было повседневной необходимостью. Актеры в основном были вольными птицами, которым приходилось зарабатывать на жизнь там, где это возможно. Когда их покровитель не просил ставить пьесы и не платил за их услуги, они искали другую, менее утонченную аудиторию.
Первый постоянный театр был построен в 1576 году в Шордиче Джеймсом Бёрбеджем и четырьмя его друзьями — актерами из профессиональной труппы графа Лестерского. Ранее странствующие актеры выступали в лондонских трактирах — The Cross Keys, Bull, TheBel Savage, The Red Lion и The Bell, где собирали деньги за вход. За пределами Лондона актеры использовали множество площадок, включая рыночные площади и открытые пространства. Долгие годы гостиница The Dolphin Inn в Саутгемптоне служила временным театром для нескольких трупп. В Эксетере для этой цели использовалась рыночная площадь, а в Честере — площадь Хай-Кросс. Прослеживая маршруты путешествий отдельных трупп, трудно найти город с несколькими тысячами жителей, где время от времени не ставился бы спектакль. Но в дополнение ко всем этим гастролям труппа графа Лестерского теперь получила постоянную площадку недалеко от городской черты, в театре Шордича, который находился на комфортном для жителей столицы и двора расстоянии. Они назвали его «Театр» — The Theatre, и это предприятие оказалось настолько успешным, что всего год спустя неподалеку был построен второй театр, так называемый «Занавес» (Curtain; его остатки были обнаружены в 2012 году). Людям явно нравилось ходить на спектакли, особенно на новые. Те, кто умел писать пьесы, начинали испытывать все большее давление — работать нужно было как можно быстрее.
Среди тех, у кого был свободный день, лишний пенни и желание посмотреть пьесу, Шордич — или начиная с 1587 года Бэнксайд, где появился новый театр — «Роза» (The Rose), а затем и «Глобус» (The Globe), — оказались популярными местами. Там, в «Розе», пользовался успехом Эдвард Аллен его «Слуги лорда-адмирала», а Бёрбедж в «Глобусе» руководил «людьми лорда-камергера». Современники утверждали, что театр вмещал до 3000 человек. Если это так, то люди там находились как сельди в бочке. Археологические раскопки «Розы» показали, что оригинальная конструкция могла вместить в лучшем случае около 2000 человек, а после расширения — около 2500 человек, при условии, что все были худыми и не переживали из-за отсутствия личного пространства. Своим строительством театр «Роза» во многом обязан Филиппу Хенслоу, который фиксировал свою выручку в записной книжке. Зрители, которые стояли во дворе, платили всего пенни, и деньги эти шли актерам. Те, кто сидел в галереях, платили 2 пенса, один из которых шел Хенслоу, а другой — его деловому партнеру. Методы Хенслоу по фиксации своих доходов не так ясны, как кажется на первый взгляд. Тем не менее можно получить представление о размере аудитории, об уровне выручки и прибыльности отдельных спектаклей. Легко заметить, что популярностью пользовались новые постановки. Вечера премьер почти всегда приносят больше всего дохода. Например, «Галиасо» (Galiaso) (полностью утраченная пьеса) открылась 26 июня 1594 года и принесла Хенслоу 3 фунта 4 шиллинга за один вечер. Ее следующий показ 12 июля принес 2 фунта 6 шиллингов, а третий 23 июля — 1 фунт 1 шиллинг. Это была общая закономерность. Новая пьеса собирала полные залы, но затем популярность шла на спад, у некоторых постановок — быстрее, чем у других. На праздники собиралось больше народа, чем в будни, и, хотя актеры часто переезжали в помещение, чтобы выступать перед двором на Рождество, выручка в канун Нового года в 1599 году в «Розе» была особенно большой. «Галиасо» не выдержала проверки временем. Пьесу показали всего девять раз, последний раз 25 октября, когда Хенслоу получил всего 11 шиллингов.
Некоторые пьесы, однако, неизменно пользовались популярностью и на протяжении многих лет собирали солидную аудиторию; на некоторое время постановки прекращались, но затем их успешно возрождали. В театре «Роза» таковыми были пьесы Кристофера Марло «Мальтийский еврей» (The Jew of Malta) и «Доктор Фауст» (Doctor Faustus) и «Испанская трагедия» (The Spanish Tragedy) Томаса Кида. Если не было чумы или правительственных ограничений, в «Розе» еженедельно ставили шесть различных спектаклей, и добавляли новые постановки в репертуар раз в две недели. Самые популярные пьесы показывали с определенными интервалами. Хенслоу и его труппа актеров, «Люди лорда-адмирала», явно поощряли повторные выступления, ожидая, что одни и те же зрители будут возвращаться снова и снова. Существовало множество трагедий, но круг потенциальных клиентов был не безграничным. Население Лондона все еще составляло менее 200 тысяч человек, поэтому наличие в течение этого периода как минимум двух театров-конкурентов, каждый из которых принимал 2000 посетителей, говорит о том, что их регулярно посещала значительная часть лондонцев.
Большие толпы людей, жадных до новинок, протискивались в ярко разукрашенное помещение, открытое непогоде в центре и скрытое под крышей в расположенной вокруг галерее с сидячими местами. Звуки города снаружи затихали, когда начиналась музыка, а первые актеры выходили на сцену. Задник был зафиксирован, и декораций было немного, но костюмы были потрясающими. Наряды актеров в «Розе», стоили столько же, как и само здание. Когда в 1595 году Фрэнсис Лэнгли построил в Бэнксайде конкурирующий театр «Лебедь», он также потратил 300 фунтов стерлингов на костюмы для актеров. Елизаветинская публика была готова просто представить себе «обширные поля Франции», однако ожидала, что Генрих V будет одет как король в шелка и бархат, золотые кружева и изощренные воротники (историческая точность не была приоритетом). В своей описи имущества «Людей лорда-адмирала» в 1598 году Хенслоу перечисляет мантии, плащи, венецианские чулки и плундры из золотой ткани; плащ, жилет, пару венецианских чулок и пару плундр из серебряной ткани; а также алый плащ с двумя широкими золотыми кружевами и золотыми пуговицами. Поскольку золотые и серебряные ткани можно было сделать только из длинных тонких полос самих драгоценных металлов, сшитых с шелком, легко представить, насколько ценными были эти костюмы и какое потрясающее впечатление они производили на сцене. Лишь немногие люди, не вхожие в придворные круги, могли увидеть такие ткани и одежду где-нибудь кроме театра. Так что можно было с полным основанием пойти в театр, чтобы просто поглазеть на костюмы. По словам Томаса Платтера, швейцарского дворянина, который находился в Лондоне в 1599 году, «актеры одеты очень дорого и изысканно, потому что по местным обычаям английские лорды и рыцари завещают перед смертью практически самую лучшую свою одежду слугам, но, поскольку тем не подобает ее носить, они продают ее актерам за небольшую сумму». Конечно, театр покупал такие аристократические наряды, которые по сумптуарным законам запрещено было носить кому-либо еще. Наряду с одеждой из золота и серебра, которая полагалась только членам королевской семьи, театр «Роза» также располагал алой мантией, подбитой горностаем, — одеждой, которую должны были носить только члены палаты лордов.
Не вся одежда дожидалась смерти своего знатного владельца, прежде чем ее продавали в театр. Придворная мода быстро менялась, и в наряде, который стоил практически как большой городской дом, можно было появиться от силы несколько раз, прежде чем он устаревал. Для таких людей, как Роберт Дадли, покровитель одной из действующих трупп, передача театру такой одежды была частью финансовой помощи; возможно, таким способом вместо денег расплачивались за частные представления. Кроме того, такой публичный показ недавно ношенной им одежды мог служить рекламой — так бывший владелец одежды мог повысить свой статус. Сцена была и показом мод, и окном в изысканный мир двора и придворных. Театр тогда среди прочего выполнял ту же роль, что и голливудские гламурные фильмы 1930-х годов или современные шоу о жизни знаменитостей.
Однако мода не ограничивалась сценой. На подмостках дублеты и платья из итальянского бархата соседствовали с картонными коронами и фальшивыми бородами, но и наряды зрителей были тоже хорошо видны. Закрытое пространство театра позволяло взгляду кружиться, а открытый двор предоставлял позерам-модникам широкие возможности. Этот момент отражен во введении Бена Джонсона к печатной версии его пьесы «Новая гостиница» (The New Inn, 1631), где критиков пьесы парировали следующим образом: «Зачем же они пришли тогда? Спросишь ты меня. Я отвечу в точности так: чтобы увидеть и чтобы быть увиденным. Чтобы выставить себя на всеобщее обозрение в своей одежде в кредит: и завладеть сценой в ущерб постановке». В этой фразе привлекает внимание словосочетание Джонсона «одежда в кредит» (clothes of credit). Он мог иметь в виду «лучшую», или самую дорогую одежду, а, возможно, мог одновременно намекать и на то, что эти наряды были одолжены или взяты напрокат. Аренда нарядов для особых случаев была обычной практикой. Некоторые люди постоянно сдавали и забирали из ломбардов свои самые эффектные наряды, используя их в качестве средства вложения денег, которым можно было торговать и использовать в сделках. В счетах Филиппа Хенслоу такие операции занимают много места, поскольку он действовал через различных агентов в качестве ростовщика. Театральные наряды также регулярно проходили через его руки — их одалживали, арендовали, покупали, изменяли, создавали и продавали по мере того, как менялись потребности труппы и ее репертуар. Разнообразие, новизна и зрелищность были главными составляющими привлекательности театра; одни и те же вещи нельзя было использовать бесконечно, как бы дорого они ни стоили.
Наряду с современной модой притягательной была и экзотика. Для «Сказки о двух братьях» (The Tale of the Two Brothers), которая была поставлена в 1602 году, tyre man — мастер гардероба — создал два костюма дьявола и платье для ведьмы. Во время постановки шекспировского «Тита Андроника» (Titus Andronicus), действие которого происходит в античном мире, представился случай использовать «античные костюмы», перечисленные в описи 1602 года; это была просто-напросто елизаветинская одежда с римским привкусом, переделанная из роскошного малинового бархата и золотой ткани. Думаю, она напоминала костюмы голливудской эпопеи «Клеопатра» (Cleopatra) с Элизабет Тейлор в главной роли, где древнеегипетские элементы сочетаются с современной модой.
Нам, современным посетителям театра, трудно понять возбуждение и волнение, которое вызывала такая одежда. Видеть римского генерала в «плаще из малинового бархата, с разрезами на ткани и украшенного золотом», зная, что этот наряд стоит больше вашего дома и нескольких годовых заработков вместе взятых. Ощущать, что вы видите нечто редкое и необычное, даже сами ткани, обычно предназначенные для аристократических глаз, пока вокруг вас щедро разливаются слова. Слова, конечно, тоже имели значение: театр представлял собой нечто большее, чем визуальное представление. Елизаветинская аудитория любила новизну, но возвращалась снова и снова за высококачественными словами. Бестселлеры Хенслоу — «Мальтийский еврей», «Доктор Фауст» и «Испанская трагедия» — пьесы, собиравшие полные залы, и ныне считаются у современных исследователей «лучшими» и наиболее совершенными произведениями эпохи. А новые пьесы — «Генрих IV» и «Тит Андроник» новичка Уильяма Шекспира — также были оценены по достоинству в театре «Роза».
Сильные драматические сюжеты, отражающие весь спектр человеческих эмоций — основа всех наиболее успешных пьес Елизаветинской эпохи. Эдвард Аллен, вероятно, самый известный актер того времени, и его главный конкурент Ричард Бербедж были известны и почитаемы за свои сильные роли. Они играли глубоких персонажей, которые оказались в пучинах трагедии. Хорошо шла и комедия: даже самые жестокие и трагические пьесы Шекспира содержат комические сцены, чтобы добавить света в мрачное повествование. Действительно, если самые известные актеры специализировались на высокой трагедии, то вторыми по популярности были два комика. Это Ричард Тарлтон, чья карьера началась по крайней мере в 1560-х годах, а также Уильям Кемп (с ним мы встречались раньше, следя за его путешествием по стране с колоколами и платком). Шекспир недолго работал с Эдвардом Алленом в театре «Роза», но позже долго сотрудничал с «Глобусом», где работал как с Ричардом Бербеджем, который играл его Гамлета и Лира, так и с Уильямом Кемпом, для которого он выписал несколько комичных деревенских неуклюжих персонажей, которые остроумно притворяются дураками и часто, как будто бы случайно, додумываются до сути вещей.
Многим сейчас сложно смотреть тюдоровские комедии и находить их по-настоящему смешными. Думаю, всему виной перевод. Моя семья, друзья и я сама много лет занимались воссозданием жизни эпохи, готовили еду, шили одежду и пили пиво и поэтому без труда освоили основную лексику тюдоровского времени. Я всегда удивляюсь, когда люди воспринимают слова, которые я считаю совершенно нормальными, как загадочные и странные. Наверняка все знают разницу между peascods (гороховые стручки), peascod (модная разновидность дублета), codpieces (гульфики) и peaces of cod (кусочки трески). Когда мы с друзьями идем на представление в «Глобус», то мы смеемся по крайней мере в два раза чаще, чем остальные зрители, и не только над грубым фарсом. Шекспир на самом деле очень смешной.
Кроме того, у елизаветинской аудитории огромной популярностью пользовались новые слова. Мы знаем об этом, потому что многие из них зрители забрали с собой из театра. Шекспир придумал тысячи слов, более 1700 из которых все еще с нами. Это и moonbeams (полосы лунного света), и горовосходители (mountaineers), и даже сидя в своей спальне (bedroom) и погружаясь (submerge) в вялую (lacklustre) беседу во время посиделки (hobnob) с теми, с кем вы подружились (friended), вы бы все еще говорили на его языке. Фразы Шекспира часто можно услышать из уст людей, которые заявляют, что ненавидят его: мертвый как дверной гвоздь, то есть мертвее некуда (dead as a doornail), или во всеоружии (up in arms), внезапно (all of a sudden), предрешенный вывод (foregone conclusion). Это повседневные идиомы, которыми усеян наш язык. Создается такое впечатление, что люди приходили и слышали пьесу, а потом начинали цитировать ее, постепенно добавляя слова в свою повседневную речь и передавая их детям.
10
Ужин
Любезный сэр, прошу вас вечерком
Пожаловать в мой небогатый дом:
<…>
И все же вас, надеюсь, усладят
Мои оливки, каперсы, салат,
Баранина на блюде расписном,
Цыпленок (если купим), а потом
Пойдут лимоны, винный соус в чаше
И кролик, коль позволят средства наши[42].
Бен Джонсон, «Приглашение друга на ужин» (ок. 1605–1615)
После дневных увеселений или рабочего дня наступало время ужина. В идеале ужинать стоило в 17 часов, примерно через пять часов после обеда, когда, по рекомендациям врачей, прошло уже достаточно времени для здорового переваривания пищи, но до того, как голод мог повредить слишком долго пустовавшему желудку. В пять часов еще можно поесть при дневном свете и, что важнее, помыть посуду при естественном освещении. Однако после того, как все было съедено и помыто, еще предстояло отправить спать скотину и птицу в загоны, конюшни и курятник, поэтому в сумерках тоже приходилось немного потрудиться. Конечно, фиксированное время ужина было достаточно условным явлением. В середине января ужинать вполне могли и в 16 часов вечера, чтобы успеть закончить до прихода сумерек, а в августе, когда в полном разгаре был сбор урожая, ужин был скорее перерывом в начале вечера, а не завершением рабочего дня: люди использовали каждую минуту дневного света для работы в полях.
Были, правда, люди, которые должны были обходиться без ужина значительную часть года. Монашеские правила диктовали, когда следует принимать пищу, какие блюда и напитки разрешено употреблять тем, кто посвятил себя религиозному служению, а также определяли календарь праздников и постов, который составлял ритуальный год. Монахи и монахини обедали каждый день, но ужин подавался только между Пасхой и 13 сентября, когда дни были длинными, и даже в это время по средам и пятницам вечером им приходилось обходиться без него. Блюда, которые должны подаваться на ужин в разрешенные дни, в самом распространенном бенедиктинском уставе оговорены не были, но в Вестминстерском аббатстве, например, в начале эпохи Тюдоров на ужин подавали хлеб, эль и мясную похлебку или блюдо (если монахи ели в главной трапезной) или же до трех фунтов вареного мяса с хлебом и элем (если они ели в столовой для тех, кто был освобожден от поста). Выживание на единственном приеме пищи в день было частью бенедиктинской идеи религиозного самопожертвования и дисциплины. Но с Реформацией и упразднением монастырей идея о том, чтобы ночевать без ужина, перестала считаться признаком благочестия. Медики елизаветинского периода подчеркивали важность регулярного и умеренного питания для здоровья и, что особенно важно, для эффективного обучения и мышления. Так что добрые протестанты всегда ужинали.
Так что же считалось хорошим ужином у большинства людей? В Ланкашире это было нечто напоминающее кашу. В дополнение к выпечке овсяного хлеба — больших жанноков на закваске, которые мы упоминали выше, — работающие ланкаширцы ели овес еще и на ужин, часто в виде похлебки на воде, молоке или сыворотке. Похлебка на воде, сделанная просто из овса и воды, подавалась с солью и щепоткой трав, и, если был сезон, в нее могли добавить большой кусочек масла. Молочная похлебка — это просто овес с молоком, куда в качестве лакомства можно было добавить немного меда. Можно было приготовить похлебку из сыворотки, которая оставалась после приготовления сыра, — это было более экономно, но такое блюдо было опять же сезонным. Такие простые овсяные супы быстро и легко варятся на медленном торфяном огне, который использовали многие жители гористых районов. Это сытные, хотя и довольно незатейливые блюда.
В более мягком климате с более богатыми почвами аналогичные похлебки готовились на другом зерне. Их часто называли пшеничными[43]. Цельнозерновые варианты были ближе к ризотто, чем к каше, хотя ингредиенты очень похожи. Цельные зерна пшеницы, ржи или ячменя кладут в миску на огне и понемногу, по мере набухания зерен и впитывания жидкости, добавляют бульон. Как и в ланкаширскую овсяную похлебку, под конец готовки в нее можно бросить пучок трав, а кусочек масла, добавленный перед подачей, придаст блюду насыщенную сливочную текстуру. Прежде чем готовить молочную похлебку, целые зерна нужно на несколько часов замочить в молоке, а затем поставить кастрюлю на небольшой огонь и довести до кипения. Когда зерна проварятся и размягчатся, их уже можно есть в таком виде или добавить в блюдо для густоты сливки, масло или яйца. Частично измельченные или потрескавшиеся зерна готовятся быстрее, и получившееся в итоге блюдо по текстуре больше походит на кашу, а не на ризотто. Поэтому на то, что семья будет есть на ужин, влияет время года, тип почв и погода. Свою роль играют и местные привычки, и индивидуальные навыки и пристрастия, но в целом такая смесь размягченных проваренных зерен была дешевым и доступным источником калорий для работающих домохозяйств.
Горожане также могли позволить себе заказать ужин навынос. Тогда, как и сейчас, людям приходилось искать золотую середину между готовкой и работой, подсчитывая убытки и расходы на горючее и сравнивая их с куда большими денежными тратами на покупку готового блюда. Готовые блюда можно было купить в пекарнях, лавках с горячим мясом и пивных. В Лондоне, на южной стороне Лондонского моста, был целый ряд круглосуточных лавок с готовым мясом. Они были построены по крайней мере в XIII веке, они обслуживали путешественников, которые направлялись на столичные рынки, а также местных жителей. В большинстве городов были один-два пекаря, которые в обеденное время продавали горячие хлебы и пироги. А в деревнях, особенно тех, что расположены на главных дорогах, часто были пивные, трактиры и закусочные, где можно было приобрести самые простые блюда и напитки, в том числе и навынос. Многие ремесленники в крупных городах в значительной мере зависели от покупной еды. У них были совсем небольшие жилища, и там не всегда был камин. Идеальные представления о стабильной семье, где мужчины и их ученики работали в мастерской, а женщины и их служанки содержали дом, и в самом деле оставались идеалом. Богатый ремесленник, живущий в доме с торговой лавкой, мастерской, гостиной и комнатами, мог рассчитывать на домашние блюда, если с ним жила здоровая жена, сестра или дочь, но так везло далеко не всем. Еда навынос была спасением на тот случай, если у вас не было необходимых приспособлений для готовки, или все рабочие руки нужны были для какого-то срочного дела, или когда болезнь или смерть забрала часть семьи, или же просто всем хотелось освободить себе вечер.
Для тех горожан и селян, кто располагал достаточными средствами, а это около 5 % населения, ужин полностью повторял обед — с супом и похлебкой, вареным и жареным мясом, пирогами и заварным кремом, фруктами, сыром и орехами. Именно в таком порядке их и подавали. И именно в таком порядке их нужно было есть. Возможно, вы не обратили на это внимание, потому что это обычный порядок сервировки современной еды и легко не заметить сходства. Однако тюдоровская (и восходящая к ней современная) традиция были основаны на античной медицинской теории. На медицину сильно повлияли представления о человеческом теле греческого врача Галена. Согласно ему желудок похож на котел, который работает на естественном тепле организма. Считалось, что пища внутри этого котла «готовилась», или распадалась, превращаясь в соус или сок. Затем этот сок попадал в печень, где он «готовился» второй раз и превращался в кровь. Кровь выходила из печени в правую камеру сердца, где смешивалась с жизненными соками, откуда по венам текла для своего третьего, и последнего, «приготовления», в ходе которого она превращалась в вещество, которое могло усваиваться в организме человека. Переваривание было полным только тогда, когда эта живительная, «сваренная» кровь поглощалась различными тканями тела и превращалась в плоть, сухожилия, кости и кожу.
Пища была крайне важна для хорошего здоровья, так как она становилась кровью и в конечном счете плотью человека. Но в процессе пищеварения многое могло пойти не так. Хорошее питание было главным медицинским догматом той эпохи. Для этого требовалось знание качеств всей съедобной пищи. Такие знания веками циркулировали по всей Европе. Они восходили к исламскому философу Авиценне (Ибн Сина, ок. 980–1037) и Хильдегарде Бингенской (1098–1179), а также к переводам трудов Галена, в которых живые существа располагались на шкале баланса жидкостей в их телах. Грамотным людям уже долгое время были доступны подробные описания растений, животных и их свойств, а также того, как их правильно готовить и в каких обстоятельствах принимать в пищу. Со временем большая часть этих сведений попала в устную народную культуру. Во избежание плохого пищеварения и связанных с ним болезней необходимо было уделять пристальное внимание не только тому, что попадало в желудок, но и тому, как и когда это происходило, на основании чего и создавались общественные нормы.
По словам врачей, природный котел желудка был бесполезен без тепла тела, с помощью которого готовится пища. Пища, оказавшаяся в холодном и пустом желудке, просто лежала там и в конце концов загнивала. Но действие естественного огня в животе у человека измельчало, смягчало и меняло пищу, желательно — до того, как она успевала подгнить. Не все, однако, имели одинаковый метаболизм, сходную природу. Одни люди были более горячими, другие — холодными, некоторые от природы были более сухими, а некоторые — влажными. Каждый человек состоял из одних и тех же телесных жидкостей (гуморов) — крови, флегмы, желтой и черной желчи, — но конкретные соотношения были разными у всех людей. У мужчин в целом было больше кровяного гумора, который по природе был горячим и влажным и придавал силу и мужество. Женщины же состояли в большей степени из холодной и влажной флегмы, отчего и физически, и психически они были слабее. Пожилые люди были гораздо суше, чем молодые. В разных людях равновесие жидкостей было различным. У меня как у рыжей явный перекос в сторону желтой желчи, отсюда — холерический гумор, горячий и сухой по природе, отчего у меня, как мне говорят и по сей день, горячий нрав. Люди с темным, землистым цветом лица, согласно представлениям той эпохи, склонны к самокопанию и печали, в них преобладает черная желчь — холодный, сухой, меланхолический гумор. Образ жизни тоже способен менять баланс жидкостей в организме. Те, кто занимался тяжелым трудом, накапливали телесный огонь, приумножая естественное тепло, отчего мужчины становились более мужественными, так как это повышало уровень крови в их организме. Пахари, с их непростой жизнью на открытом воздухе, имели в нутре сильный, горячий огонь. У тех же, кто спокойно пребывал в размышлении над своими книгами, баланс менялся в пользу холодных гуморов: у мужчин — меланхоличных, у женщин — флегматичных (хотя казалось очевидным и то, что слишком большое количество умственной работы могло довести женщину до перегрева мозга и безумия). Их естественный жар был холодным и медленным.
Все эти вещи оказывали глубокое влияние на пищеварение. Те, у кого в животе горел горячий огонь, могли легко переварить, или «приготовить» много крепкой и тяжелой пищи, в то время как легкие продукты сгорят у них внутри в одно мгновение. Те же, у кого огонь сгорал медленно и холодно, не могли справиться с насыщенной и тяжелой пищей; она загнивала прежде, чем переваривалась. Поэтому таким людям требовались легкие продукты, переваривание которых не составляет труда. Считалось, что огонь, который готовил пищу в животе, находился под основанием желудка. Поэтому разумно было класть на дно желудка продукты, требующие самой длинной готовки на самом горячем огне. Та же пища, которая требовала меньше тепла и времени, должна лежать наверху, где ее можно приготовить мягче. Эти идеи лежали в основе порядка подачи блюд. Супы и похлебки надо было съедать в первую очередь во время любого приема пищи. Они часто содержали говядину, овсянку и горох, которые требовали длительного «приготовления», а также были влажными, что препятствовало их оседанию на дне желудка, где тепло было наиболее сильным. Если бы вы начали с печенья, оно бы просто сгорело и не измельчилось. Сок нельзя приготовить исключительно из сухих ингредиентов. Супы и похлебки были идеальной средой для «приготовления» пищи, которую употребляли вслед за ними. Согласно этим теориям, хлеб должен сопровождать этот суп или похлебку. Хлеб был очень питательным, но твердым продуктом, который нуждался в хорошем жаре, но он также способствовал «склеиванию» похлебки и тем самым ее распаду и превращению в сок. После того как вы съели хлеб и похлебку, вы чувствуете комфорт, правильно наполнив свой желудок, и готовы приступать к следующему блюду.
Во время Великого поста или в еженедельные дни поста — среду, пятницу и субботу — в качестве следующего блюда подавали рыбу. Медики признавали за этим христианский и патриотический долг и нехотя мирились с потреблением в эти дни рыбы, хотя и ворчали, что это не столь здоровая пища, как мясо. В конце концов, эти медицинские идеи были старше христианства и появились еще в древнегреческом мире. Считалось, что рыба состояла из чистой флегмы и чрезмерное ее потребление грозило сделать мужчин женоподобными. При этом морская рыба была предпочтительнее пресноводной, так как соль несколько смягчала крайнюю водянистость рыбьей плоти. Животное же мясо состояло не из флегмы, а из чистой крови, и таким образом было ближе к человеческой плоти. Это значило, что мясо, попав в организм, будет использовано для приготовления крови отменного качества и потребует это минимальных усилий и изменений. Питательнее всего то, что уже похоже на плоть. Из этого также следует, что слабые и нуждающиеся в дополнительных силах люди, например беременные женщины или собирающиеся на бой мужчины, должны избегать постов и есть как можно больше мяса. Греки считали свинину самым питательным мясом, но английские врачи утверждали, что, если бы древние авторы побывали в Англии, увидели здешний климат и попробовали местную говядину, они бы оценили ее выше свинины. По их мнению, говядина способствовала появлению в организме самой чистой крови, и если она была тяжела для греков, то только из-за жаркого греческого климата, требовавшего менее интенсивного внутреннего огня.
Если вам повезло иметь на своем обеденном столе несколько мясных блюд, то отварное мясо следовало есть перед жареным. Опять же это было связано с разной температурой, а значит, и с разным временем переваривания блюд. Жареное мясо подвергалось более интенсивному нагреву и поэтому должно было легче перевариваться. Отварное мясо требовало больше времени на «готовку». Так что ростбиф всегда был основным блюдом, а не закуской. После рыбы или мяса можно употреблять более легкие и нежные продукты. Если вы все еще голодны, неплохо извлечь максимум пользы на данном этапе обеда. Поедая все больше и больше тяжелых продуктов, которые трудно переваривать, вы перегружаете свой желудок, и, хотя он переработает то, что окажется на дне, тяжелые продукты наверху останутся непереваренными. В это время также лучше всего пить вино или эль. Когда поверх похлебки у вас куча твердой пищи, хорошо бы снова увлажнить содержимое. Если вы будете пить сразу после похлебки, есть риск затопить желудок и охладить его настолько сильно, что обработка смеси опасным образом замедлится, но, когда вы добавили в свой желудок хороший слой вареного или жареного мяса, напиток придется в самый раз. Эль был самым охлаждающим алкогольным напитком, поэтому идеально подходил рабочим с горячими желудками. Но, если вы собирались побаловать себя после мяса салатами, было бы разумно принять вина, так как вино — согревающая жидкость, а салаты могут вас чрезмерно охладить.
Вино также следовало пить из разумной предосторожности и при поедании фруктов. Салаты и фрукты по своей природе считались очень водянистыми и содержащими мало веществ, которые оздоравливают кровь в организме. Корнеплоды были питательными, но в целом все растительные продукты, кроме гороха и бобов, считались не очень питательными. Можно запросто набить ими брюхо и мало что от этого получить. Конечно, фрукты очень вкусные, и многие ели их ради удовольствия, но в интересах здоровья ими не нужно было злоупотреблять, чтобы их водянистая природа чересчур не разжижала кровь и не создавала внутренних паров, гниения и, как следствие, болезни. Например, часто говорили, что «груши без вина — это яд». Совсем другое дело — груша, сваренная в вине. Вино с его естественным теплом и сухостью в процессе готовки удаляло из груши воду, так что блюдо из сваренных в вине груш считалось совершенно здоровым.
В самом конце подавался сыр. Переваривался он дольше, но его преимущество заключалось в том, что он закрывал желудок и закупоривал другую еду, особенно более водянистые фрукты, которые в противном случае могли бы подняться на поверхность и отравить мозг своими парами. Современные итальянцы до сих пор заявляют, что кофе обладает аналогичными преимуществами.
Подведем итог. Здоровый ужин начинался с супа. За ним следовали сначала вареное, затем — жареное мясо, а следом большой бокал вина. Затем приступали к овощам, пирожкам, фриттерам, тартам и заварному крему с фруктами и орехами и, наконец, сыру и еще одному бокалу вина, которые завершали трапезу. Так что вы, вероятно, не в курсе, что годами следовали тюдоровской диете, в реальности восходящей к древнегреческой.
Поскольку богатство и образование, как правило, шли рука об руку, те члены общества, которые могли себе позволить выбирать продукты питания, также были лучше осведомлены о медицинских представлениях о здоровой пище. Кроме того, если вы богаты и образованны и имеете представление о здоровом питании, вам необходимо иметь превосходные застольные манеры.
Садясь сегодня за стол, мы ожидаем, что у каждого будет своя тарелка или миска, куда будет подаваться еда, и что каждый будет есть только из нее. Совсем не так было при Тюдорах. В XVI веке питание было куда более коллективным и на столе было гораздо меньше приборов и посуды. Каждый приходил со своим ножом и ложкой, за исключением самых богатых домов, где для гостей были заготовлены ложки и иногда ножи. Усевшись за стол в богатом доме в 1485 году, перед собой вы бы однаружили trencher — четырехдюймовую квадратную доску из сухого хлеба, а также льняную салфетку или же surnap — длинную ткань на вашей стороне стола, которая служила всем сидевшим рядом. Пищу, которую подавали на стол, аккуратно разрезали на кусочки и подавали в виде месс — messes — порций на четыре или шесть человек, которые размещали по всей длине стола. Группа из трех-пяти человек, с которыми вы делили эти блюда, считались вашими друзьями по трапезе. Таким образом на стол подавали каждое блюдо.
Так что вокруг вас было несколько блюд, с которых удобно брать еду, которую вы делили с небольшой компанией. Учитывая такую сервировку стола, те из нас, кто научен современным манерам, не преминули бы сначала набрать себе еды на свою хлебную доску, а потом есть с нее. Но тогда поступали по-другому. Доски использовались лишь тогда, когда необходимо было отрезать кусочек. В идеале же небольшую порцию еды отправляли прямо с сервировочной посуды в рот. Детей, в соответствии с представлениями о манерах того времени, учили брать пищу только из ближайшего блюда, а не охотиться по всему столу за хорошими кусочками. Разумеется, важно было держать рот и ложку в чистоте: рот вытирали салфеткой, ложку — о кусок хлеба. Когда вы хотели выпить, вы просили кружку. Она была общей, поэтому по правилам хорошего тона следовало вытереть губы, прежде чем пить. Когда чашку подавали, вы делали щедрый глоток и были так любезны передать ее обратно, а не оставить у себя, чтобы прихлебывать во время еды.
Спустя сто лет кое-что изменилось. К 1585 году в основном вместо досок из хлеба стали использовать деревянные, а очень богатые люди начинали обзаводиться небольшими личными тарелками из олова и серебра (но не керамическими: сохранившиеся в музеях керамические тарелки служили для подачи пищи на стол). Большие общие салфетки вышли из моды, и отдельные салфетки стали более распространенным явлением. Некоторые люди стали использовать индивидуальные сосуды для питья, но повсеместно это не было еще распространено. Однако общий порядок приема пищи в основе своей оставался неизменным: люди по-прежнему ели из общей посуды, на которой подавали блюда, пользуясь своими ложками и ножами. Во время некоторых банкетов стали появляться маленькие вилки для цукатов, но на стол их еще не клали (кстати, банкет в ту эпоху, как мы уже упоминали ранее, это не большой обед — его называли словом «пиршество», а отдельный прием пищи в определенном месте, который состоял из сладкого, орехов, фруктов и сыра, и его ели на ходу, одновременно любуясь видом и перемещаясь вокруг). Лишь в 70-е годы XVII века лондонские купцы, которые всегда находились в авангарде моды, стали включать наборы ножей и вилок в свои описи.
Коллективный характер приема пищи дополнительно подчеркивался вежливым предложением еды вашим сотрапезникам. Если вы выудили особенно хороший кусочек или же блюдо оказалось расположено так, что все куски оказались на вашей стороне, то вы должны были предложить его товарищам, протянув им ложку со вкусным кусочком.
В большом доме то, что вы ели, определялось вашим местом за столом. У каждого было свое место. На каждом общем блюде были хлеб, похлебка и, как правило, блюдо из вареного мяса. Представьте большой зал в аристократическом доме, где каждый день садятся обедать сто человек, в основном мужчины. Если считать, что каждое большое блюдо на четверых, получается, что из кухни приносили двадцать пять тарелок с похлебкой и блюд с вареной говядиной. Однако может случиться так, что окажется только пятнадцать блюд из тушеного ягненка, десять блюд из жареной свинины и по два блюда из курицы, заварного крема, телятины и куропатки. На столе у лорда и его семьи, которые обедали в соседней гостиной, окажется небольшая часть порций всех перечисленных блюд. Главные управляющие домом ели вареную говядину, жареную свинину и тушеную баранину, слуги-йомены — говядину и баранину, грумы — только говядину, а также похлебку и хлеб (их ели и остальные). Знание своего места имело очень практическое значение.
Как отмечал Эразм в начале эпохи Тюдоров, каждый должен был мыть руки перед едой, воздерживаться от рыгания и разговоров с полным ртом. Но образованные сотрапезники также должны были поддерживать вежливую беседу, что для необщительных людей было сложно.
Моя любимая книга диетических рекомендаций — «Диетический сухой обед» (Diets Drie Dinner) Генри Баттса, датируемая 1599 годом. В ней содержатся двухстраничные описания каждого съедобного растения, рыбы или мяса. На левой странице он приводит обычные медицинские советы, которые встречаются и в десятках других текстов. Они удобно поделены на разделы: как следует выбирать продукты, в чем их польза, и как они могут навредить, если их будут употреблять неподходящие люди в неподходящее время, как смягчить вред, какова степень жара и влажности продукта в соответствии с гуморальной теорией, наконец, сезонность продуктов. Возьмем, например, клубнику. В разделе под заголовком «Выбор» Баттс рекомендует, чтобы клубника была красной, спелой, гладкой, ароматной и была выращена в саду. Звучит вполне разумно. С медицинской точки зрения полезна ее способность «смягчать кипящее тепло и остроту у крови и желчи; охлаждать печень; утолять жажду: провоцировать мочеиспускание и вызывать аппетит». Он отмечает также, что она «приятна для нёба». В разделе «Вред» он отмечает, что клубнику не следует есть людям с параличом, больными сухожилиями или слабым желудком, а растущая в лесу земляника имеет слишком резкий вкус. Чтобы исправить недостатки клубники, он рекомендует промыть ее в вине и есть с большим количеством сахара — таким кулинарным советом я и сама охотно воспользуюсь. Он предписывает есть клубнику людям с меланхоличным гумором, утверждая, что она в первую очередь холодная и сухая. Все это — общие места, но на второй странице г-н Баттс рассказывает нам «историю для застольной беседы», где содержится ряд интересных фактов, подходящих для разговора за ужином:
Она была совершенно неизвестна античным лекарям, и на самом деле она больше по части поэтов, чем врачей. Ее назвали «фрага»: насколько я знаю, другого имени у нее нет. Английское название [strawberries] восходит к тому, как она расположена на грядках: не разбросана кучками, но (как будто бы) рассыпана [strawed] на некотором расстоянии друг от друга. Конрад Геснер сообщает, что знал женщину, которая вылечилась от прыщей на лице, всего лишь увлажняя его клубничной водой: и при этом она была очень просто и грубо дистиллирована между двух тарелок, а не в перегонном кубе.
О бедняга! Бедный мистер Баттс. Можно только представить, как он пытается держать лицо за неловкой и несколько педантичной трапезой. Похожие истории он рассказывает о каждом продукте. «Колючий артишок отличается от обычного артишока наличием колючек!»
С едой подавались напитки. Англичане предпочитали эль, а к концу периода также пиво — их пили как за ужином, так и вечером. Очевидно, что грязная вода — источник болезней, и даже там, где была чистая вода из источников и ручьев, она не считалась идеальным для здоровья напитком. Врачи считали, что чистая вода хороша для тех, кто привык к ней или никогда не пил ничего другого — так думал врач Томас Коган про корнуолльцев, — но тем, кто привык пить эль или пиво, вода покажется слишком жидкой, вызывающей излишнее охлаждение и затопление внутреннего огня. Впрочем, эль и пиво обладали некоторыми отопительными свойствами — причем пиво даже больше, чем эль, — которые противостояли самой водянистой природе напитков и делали их более гуморально сбалансированными. Кроме того, они были питательны. Прислушивались ли люди к мнению врачей или нет, большинство предпочитали воде эль и пиво.
Варение эля было обыденной частью жизни любого домашнего хозяйства. Наряду с выпечкой, дойкой коров и стиркой каждая женщина обязана была уметь это делать. Эль, сделанный из осоложенных зерен и воды, хранится очень недолго и прокисает уже через неделю или две, так что его нужно было делать регулярно маленькими порциями, которых хватило бы семье до следующей варки. Если вся семья пила эль, то эти «маленькие порции» состояли примерно из двенадцати-двадцати галлонов[44] в неделю. Поэтому варение эля было важным делом в любом домашнем хозяйстве.
Сначала нужно было осолодить зерно. Некоторые специализировались на солоде и снабжали им своих соседей, другие же заготавливали его сами. Солод — это зерно, которое только начало прорастать, но еще не дало побега. Процесс начинали тогда, когда зерно превращало большую часть запасов крахмала в сахара, чтобы обеспечить весенний рост растения. Эти сахара будут кормить дрожжи, которые производят алкоголь. Пару дней зерно вымачивают в чистой холодной воде, пока оно не разбухнет и не раскроется. Затем воду сливают, а зерно кладут на чистую поверхность в помещении. Лучше всего подойдет деревянный дощатый пол, где зерна надо разложить в толстую и ровную кучу. Внутри кучи начинает вырабатываться тепло. Кучу надо регулярно переворачивать, чтобы зерно не залеживалось на поверхности, вдали от тепла в центре, и не высыхало. Следующие несколько дней кучу постепенно раскладывали более тонким слоем, чтобы контролировать температуру и сохранять достаточное количество тепла для поддержания процесса, но не позволять ему становиться слишком сильным и испортить зерна. Зерно должно иметь температуру выше пятнадцати градусов Цельсия, но не выше двадцати пяти. Куча должна всегда иметь равномерную толщину, чтобы все развивалось одновременно, поскольку у вас нет возможности отделить готовое зерно от сырого. Каждый день требуется четыре-пять раз ворошить солод лопатой, чтобы перевернуть, перемешать и распределить зерно. Продолжительность превращения зерна в солод зависит от погодных условий. В холодное время кучи приходится держать глубже, чем обычно, а в жаркую погоду их нужно распределять более тонким слоем. Сказывается и дождь, который меняет уровень влажности в месте соложения.
Чем дольше и медленнее процесс соложения, тем более полным будет превращение крахмала в сахар. Уильям Гаррисон в своем «Описании Англии» (Description of England) говорил, что, по его мнению, он занимает не менее двадцати одного дня. В конце концов каждое зерно выкинет маленький бледный отросток. Теперь нужно остановить дальнейшее развитие отростков, чтобы они не смогли использовать драгоценные сахара. Для этого солод раскладывают по слегка нагретой поверхности, чтобы высушить его. На данном этапе важно избегать дыма, чтобы не испортить вкус эля. Лучше всего подходила солома, хотя утесник и вереск также давали хорошее чистое пламя. Если вам приходилось использовать дерево, то лучше всего было удалить кору и измельчить древесину на мелкие палочки, чтобы она горела как можно чище. Если использовать торф или, хуже всего, уголь, вкус у эля будет очень неприятным. Хотя медленный и мягкий нагрев лучше, чем быстрый и яростный, особенно вначале, когда легко разрушить ферменты, по мере снижения уровня влаги можно без всякого риска разжечь огонь сильнее. Лучший солод был твердым и чистого желтого цвета; когда вы вскрываете его, по словам Гаррисона, он «будет писать, как мел».
Я лишь однажды попыталась сделать большую партию солода, но все прошло неплохо. Сначала мне пришлось почистить зерно — все четыре мешка. Ячмень надо было тщательно просеять, чтобы удалить семена сорняков и лишнюю шелуху. Это требует больших усилий, но сделать это стоит тщательно, так как некоторые сорняки вредны для здоровья. Затем я разложила зерно слоем примерно в дюйм в высоту на деревянном полу и полила его. У меня просто не оказалось достаточно большого сосуда, чтобы замочить столько зерна за один раз. Через час я вернулась, и мой коллега (мы тогда вместе работали над телевизионной программой) помог мне перемешать солод, затем разложить его и полить еще раз. Потребовалось еще два сеанса, прежде чем все зерно достаточно набухло. Затем мы сделали из него кучу высотой в восемь дюймов, чтобы согреть массу. Семь дней спустя я начала немного волноваться, когда центр начал прорастать, а по краям не было заметно каких-то изменений — нам пришлось уехать на день, чтобы снять материал о ловле угря, и куча зерна осталась без внимания. Аварийное восстановительное перемешивание более или менее решило проблему, и через четырнадцать дней после первоначального полива солод был готов к началу сушки. В очень крупных хозяйствах и предприятиях для этой цели есть специальные печи — низкие кирпичные или каменные основания, опирающиеся на арки, под которыми можно было бы зажечь огонь. У меня, как и у многих людей в то время, не было этого приспособления, поэтому я сушила солод на основании моей печи. Небольшие партии можно также делать на камне для выпечки или даже на сковороде над огнем. Это был медленный процесс, но, как и многие другие домашние процессы в домашнем хозяйстве Тюдоров, для его выполнения нужно было поработать всего несколько минут, оставить все на некоторое время, вернуться на несколько минут и опять поработать и так далее. В конце концов, вы можете так организовать рутинную работу из множества мелких дел, что будете выполнять одно из них, ожидая, пока начнется следующий этап у другого. Партия вышла немного слабой, вероятно, из-за того, что в середине процесса мы ненадолго забросили солод, но все равно получилось очень вкусно.
Для приготовления солода и варки пива чаще всего использовали ячмень, но в Корнуолле и на севере Англии это был овес. Иногда использовали рожь и смесь ячменя с овсом. Пшеницу использовали еще реже. Процесс варения начинался с измельчения солода в муку грубого помола. Затем кипятили воду и поливали горячей водой солод, помещенный на дно большой деревянной бадьи. Из одного бушеля солода можно сделать 10 галлонов обычного домашнего эля. Для того чтобы приготовить крепкое «мартовское» пиво (по традиции его варили в этот месяц, но сейчас это название стало просто синонимом для крепкого пива), рецепт которого содержится в книге Джервейса Маркхэма «Английская домохозяйка», нужно повысить долю солода по сравнению с водой, чтобы на один бушель солода приходилось 8 галлонов напитка.
Постепенно добавляя кипящую воду в солод, опытная хозяйка может добиться того, чтобы вода всегда находилась ниже точки кипения и таким образом извлечь максимальное количество сахара из солода. Теперь ему нужно было настаиваться около полутора часов. Большие партии хорошо держали тепло и не нуждались в особом уходе на данном этапе, но небольшая «семейная» партия эля зимой слишком быстро остывала, поэтому нужно было укрыть бадью крышкой и обернуть соломой. Пока готовилось это «месиво», можно было нагреть вторую партию воды. Готовую жидкость (называемую суслом) отфильтровывали и снова нагревали до кипения, удаляя солод. Затем в использованный солод добавляли порцию воды и позволяли им смешаться. Первую партию сусла, которая разогревается в котелке, котле или кастрюле, можно приправить разнообразными растениями. Названия некоторых из них, например бальзамической пижмы (Tanacetum balsamita), указывают на их традиционное использование. Разные люди предпочитали самые различные растения, часто — следуя региональным традициям. Ракитник, утесник и вереск были популярны везде, где встречались вересковые пустоши, сушеные ягоды лавра нравились некоторым лондонцам. Другим сезонным хитом на большей части территории страны были цветы бузины.
Второй нагрев стабилизировал сусло, нейтрализовывал ферменты и стерилизовал жидкость. За счет длительного кипения часть воды выпаривалась, и смесь становилась крепче. После варки сусло переливали в открытую бадью для охлаждения. Опытный пивовар старался охладить сусло как можно скорее, чтобы предотвратить возможность попадания в него новых инфекций. Из чана, где сусло охлаждалось, оно медленно стекало в бродильный чан, где его ждал «бальзам». Так называли дрожжи, порцию живой жидкости от предыдущей варки. Ее собирали с вершины чана, где находились быстродействующие дрожжи, которые хорошо растут в пределах обычного температурного диапазона британских пивоварен. Пивоварни типа «пильзнер», которые доминируют среди современных торговых марок, используют дрожжи со дна чана, брожение которых происходит медленнее при более низких температурах и часто требует определенного охлаждения. Эта разница очень сказывается на вкусе и чистоте пива. Она показывает большой разрыв между современным опытом потребления эля и пива и тюдоровским. Когда пивовар убеждался, что ферментация идет полным ходом, он снимал часть сусла и использовал как бальзам для следующей варки, а остальное сусло сливалось в чистые, хорошо промытые бочки, оставляя затычку открытой. В первый день ферментация была самой быстрой, поэтому на этом этапе пиво не закупоривали. Двадцать четыре часа спустя вставляли главную затычку, оставив открытым лишь маленькое отверстие, которое запечатывали через два дня. С этого момента эль можно было пить.
Учитывая объемы жидкости, необходимой среднему семейству, пивоварение было тяжелой работой и требовало либо больших вложений в емкости, либо сноровки и изобретательности. Миссис Берис — знакомой нам молочнице из прихода Кли — повезло: у нее дома был встроенный котел. Он был незаменим для кипячения воды, необходимой ей для поддержания в безупречной чистоте ее молочного бизнеса. Но она могла также использовать его для варки эля. Большой котел имел емкость от двадцати до тридцати галлонов, так что одной варки было достаточно для целой семьи. Но если бы — что более чем вероятно — ей потребовалось бы снабжать напитками всех своих доярок, а также рабочих и слуг мужа, занятых в поле, что часто было условием трудового договора — тогда ей нужно было вскипятить две партии воды и найти достаточно бочек, чтобы держать в них напитки, пока они бродят, а потом и готовый эль, а также пару открытых деревянных сосудов для размешивания и охлаждения сусла.
От сельского прихода Кли осталось особенно богатое документальное наследие. Между 1536 и 1603 годами (конец правления Елизаветы) 93 человека составили официальные описи имущества. По закону только взрослые мужчины и одинокие или овдовевшие взрослые женщины могли составлять завещания, к которым прилагались перечни имущества. Те, кому практически нечего было оставить, редко составляли завещания, поэтому эти 93 инвентарные описи относятся в основном к наиболее крупным хозяйствам прихода. Таким образом, из описей мы ничего не узнаем об образе жизни большинства прихожан, но все-таки можем составить представление о варении эля и его питье в сельском Хамберсайде. 33 описи домашнего имущества включают оборудование для варки эля, а еще в 14 оно прячется за словосочетаниями вроде «все домашние вещи».
Например, у Джона Оудмана был встроенный котел для кипячения, котел для смешивания (mash vat) и котел для брожения (gyle vat, так называли чан, в котором сусло охлаждалось и куда подмешивали «бальзам»), а также несколько других небольших емкостей. А у Томаса Йейтса был встроенный котел, пара ручных мельниц для помола солода и «другие емкости для брожения» (bruynge). Джон Оудман находился в таком же финансовом положении, что и семья Берисов: у него была пара волов, две кобылы, шесть дойных коров и еще полдюжины голов крупного рогатого скота, а также шестьдесят овец и несколько свиней и кур. В его хозяйстве делали молочные продукты и варили пиво: вероятно, там были еще работники, и это хозяйство было ориентировано на животноводство. Отработанный солод в конце варки становился отличным кормом для животных, что было полезным бонусом для таких людей, как Джон Оудман. Хозяйство Томаса Йейтса было в большей степени ориентировано на земледелие: об этом говорит похожий список домашнего скота и десять матрасов, перечисленных в списке его предметов домашнего обихода. Это указывает на то, что он нанимал куда больше рабочей силы, будь то в качестве домашней прислуги или поденщиков, и все они нуждались в эле.
В хозяйствах калибром поменьше — с меньшим поголовьем скота и меньшей площадью земли для пахоты — многим людям приходилось готовить пиво в кастрюлях, сковородках и котелках, которые также использовались для приготовления пищи. Был способ управиться с емкостями меньшего размера: надо было поместить весь солод в сосуд для смешивания, вскипятить как можно больше воды и налить ее внутрь, получив очень плотную первую партию сусла. После второго кипячения сусло получится средним по плотности, а в третий раз — слабым. Перед тем как добавлять бальзам, все три вида сусла можно будет смешать в котле для брожения.
Дженнотт Раннеор была еще одной соседкой миссис Берис. Она была вдовой. К моменту смерти в 1546 году у нее было пять коров и мебель и утварь из маленького однокомнатного или, возможно, двухкомнатного дома. Среди предметов ее домашнего обихода — большая сковорода, котел для брожения, две доски, четыре сосуда для эля и «другие емкости для варения эля». Список наводит на размышления. У Дженотт не было встроенного котла, но список оборудования для эля был все-таки внушительным, и, хотя эти сосуды для эля могли быть емкостями для хранения, скорее всего это были больше кувшины для его сервировки. Многие вдовы начинали варить эль, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Чтобы обустроить паб, многого не надо. Скамейки снаружи для клиентов было бы достаточно. Когда ночной дозор в пьесе Шекспира «Много шума из ничего» говорит о том, что они «до двух посидят на скамейке», то имеется в виду именно такое заведение: скамейка у внешней стены небольшого домика, где из окна подавали горшки с элем. Покупатели по большей части даже не нуждались в скамейке: многие «дома эля» функционировали скорее как точки продажи навынос, где другие местные семьи могли покупать эль, вместо того чтобы варить его самостоятельно. Поскольку в описях имущества тридцати трех наших прихожан было оборудование для варки эля, еще насчет четырнадцати нельзя знать наверняка, а у сорока шести его не было. Варщиками эля были в основном достаточно зажиточные фермеры, владевшие, помимо чанов и котлов, плугами и оборудованием для молочного или прядильного бизнеса. Вероятнее всего, у них были наемные рабочие, а значит, им нужно было снабжать больше людей, но при этом они имели доступ к большему количеству рабочей силы для производства пива.
Семейство Роберта Хаулдсворта было лучше других снабжено оборудованием для варения. У него была специальная печь для приготовления солода из ячменя в собственном доме или сарае. Рядом с печью стоял большой резервуар для замачивания ячменя и набор «чистых тканей», которые стелились на поверхность печи и под солод во время процесса сушки. Четыре с половиной квартера[45] готового солода хранилось в помещении рядом с лучшей комнатой — девять больших мешков. На кухне находилась ручная мельница для помола солода и сундук для его хранения перед варкой. Встроенный котел также стоял на кухне рядом с котлом для смешивания и тремя другими емкостями, что позволяло зараз обрабатывать несколько больших партий. Но процесс не заканчивался на кухне. В кладовой находился чан для брожения, в который добавлялся дрожжевой бальзам, и там начиналась ферментация, а рядом были два маленьких бочонка с «подставками», готовые к приему эля из контейнера. Это, несомненно, оборудование для коммерческого производства — и в гораздо больших масштабах, чем то, что могла бы себе позволить Дженнотт Раннеор. Там и тут по стране сельские сообщества следовали схожим схемам: самые зажиточные варили эль дома, люди победнее покупали его. Существовали и две отдельные группы коммерческих поставщиков: процветающие, крупные, хорошо оснащенные производства, которые, как правило, возглавлял предприниматель-мужчина; и малоимущие, мелкие, ситуативные производители, зачастую — женщины. В городских условиях коммерческое производство было важнее домашнего. Лишь у немногих были специальные помещения и приспособления для домашней варки эля, и большинство поэтому полагалось на пабы, где закупались запасы эля для повседневного употребления.
До сих пор мы в основном говорили о традиционном британском напитке — эле. Но в эпоху Тюдоров эль постепенно вытесняется пивом. Пиво — эль, приправленный хмелем. В современной Британии «элем» часто называют пиво со вкусом хмеля и никто не производит на продажу настоящий эль. Поэтому велика вероятность того, что какое бы название ни было написано на вашей бутылке, вы никогда не пробовали настоящий тюдоровский эль. Он был удивительно сладким и густым по сравнению с современными сортами, но не очень алкогольным. Существует огромное разнообразие сортов. Они зависят от типа и качества зерна, эффективности соложения, количества и типа дыма, окружавшего солод в печи, качества воды, пропорций солода и воды во время варки, времени кипения, вкусовых качеств используемых трав, типа дрожжей, а также силы и скорости фермента, не говоря уже об аромате от емкостей для варки и бочек. Окружающая среда и оборудование, с которым работали варщики эля, не позволяли добиться полной идентичности порций даже в одном домохозяйстве, не говоря уже о разных частях страны. У людей были свои пристрастия и местные рейтинги продукции. Во время моих собственных экспериментов результат получался очень разнообразным. У меня были партии, которые едва бродили, случайно получался солодовый уксус (как обычный, но на основе эля, а не вина), получилось сварить партии очень вкусного напитка, каждая из которых не была похожа на предыдущие. Такая огромная вариация отчасти объясняется тем, что у меня не было постоянной среды для варки: я варила эль в различных музеях, домах, сараях и дворах, но это также отражает тюдоровские реалии. Плохая варка или просто плохие партии эля случались. Неудачи Марджери Кемп зафиксированы в ее религиозных трудах XV века, еще до начала нашего периода. Она пишет, как пыталась варить эль на продажу и он отказывался бродить и скисал в процессе приготовления, пока в конце концов не решила, что Бог не хочет, чтобы она занималась варением эля. Такие проблемы, с учетом важнейшей роли эля в повседневной жизни, послужили причиной ранних попыток защиты прав потребителей и контроля качества. Начиная с XIV века каждый, кто хотел продавать эль или пиво, должен был пройти проверку и получить одобрение местного чиновника, известного как дегустатор эля (aletaster, или aleconner). Это было низшее должностное лицо, его выбирали на уровне прихода из числа взрослых домохозяев мужского пола. Если он считал, что эль или пиво слишком слабые или имеют иные недостатки, он был уполномочен устанавливать более низкую цену.
Впервые в Великобритании пиво закрепилось в Лондоне, где его производили в основном иммигранты из Нидерландов. Даже в 1574 году более половины пивоварен столицы принадлежали и управлялись теми, кто в официальных записях относился к категории «чужаков». Пиво производилось в Лондоне по крайней мере с 1390 года и господствовало среди товаров, которые грузили на суда, заходившие и выходившие из самого важного порта страны. Пиво также стало главным продуктом экспорта в Нидерланды, где вскоре завоевало репутацию качественного продукта.
Своей победе пиво было обязано консервирующему эффекту хмеля. Эль, независимо от его силы или вкуса трав, хранится недолго, в лучшем случае пару недель, и гораздо меньше — в жаркую погоду. Пиво же успешно хранится в течение многих месяцев. С коммерческой точки зрения это, несомненно, важное преимущество, открывающее путь к крупномасштабному производству, хранению и поставке на новые рынки. Варщик эля мог поставлять напиток только в ближайший район, в то время как пивовар — сразу в несколько пивных на расстоянии в день пути на телеге. Пиво переживет длительное морское путешествие, и домохозяйства могут закупать его оптом. По мере роста городов и распространения дальних морских путешествий спрос на пиво рос.
Самый ранний рецепт пива на английском языке находится среди беспорядочной груды сведений в книге, написанной в 1503 году Ричардом Арнольдом. Среди списков лондонских приходских церквей, образцов писем для деловых людей и перечней таможенных пошлин в порту Лондона — простая пятистрочная инструкция «Как варить пиво». Для производства 60 баррелей пива требуется 10 квартеров солода (предположительно ячменного), 2 квартера пшеницы, 2 квартера овса и 40 фунтов хмеля. Это очень много: 36 галлонов в каждой бочке, такого количества достаточно для нескольких переполненных пивных или длительного морского путешествия с полным экипажем.
Со временем лондонцы приобрели вкус к пиву с хмелем в ущерб элю. Уильям Гаррисон высмеивает эль как «напиток больных стариков». Рецепт пива его жены в 1570-х годах имеет ряд сходств с рецептом Ричарда Арнольда, написанного семьдесят лет назад. Она начинала с 8 бушелей солода, которые измельчала сама на ручной мельнице, чтобы избежать мельничной пошлины. К этому она добавляла половину бушеля измельченной пшеницы и половину бушеля измельченного овса. Затем она нагревала 80 галлонов воды и наливала ее в сусло двумя партиями из-за ограничений, накладываемых размером встроенного котла. В общей сложности при варке сусла она добавляла три с половиной килограмма хмеля. Она мешала свой «бальзам» с половиной унции корня ириса, чтобы высветлить напиток, и с восьмой частью унции ягод лаврового дерева для аромата, а затем добавляла его в охлажденное сусло. Общие пропорции и основные ингредиенты рецептов миссис Гаррисон и Ричарда Арнольда были неизменными на протяжении многих лет. Пиву потребовалось гораздо больше времени, чтобы завоевать популярность в других частях страны, где два напитка шли рука об руку в течение многих лет. В основном эль варился в домашних условиях и производился в небольших количествах, в то время как пиво варили в основном крупные коммерческие предприятия, способные осуществлять капитальные инвестиции в более крупные емкости и партии сырья, и были расположены преимущественно в городах. Более крупные предприятия могли доминировать на больших территориях за счет более конкурентоспособных цен, поощряя пивоварни и таверны покупать пиво, а не варить собственное. В результате возник разительный гендерный разрыв не только между теми, кто варит эль и пиво, но и теми, кто их пьет: эль остался женским напитком, и пили его дома, а пиво, завоевавшее мужскую аудиторию, пили вдали от дома.
Если на обеденном столе стоял большой кувшин эля, то питье могло продолжаться и вечером. Торговцы славились тем, что устраивали ужины, продолжавшиеся до полуночи — и это в мире, где большинство людей уже были на ногах в 4 часа утра. Уильям Гаррисон описывает ремесленников и их жен, стоявших несколько ниже по социальной лестнице, — каждый приносил блюда, чтобы разделить расходы во время посещения друг друга. Вечерние ужины с кувшинами эля были частью социальной жизни респектабельных домохозяев.
Те, у кого дома было меньше места, удобств и угощений, стремились проводить вечера в пабах. В 1577 году в результате общенациональной переписи было зарегистрировано 24 тысячи питейных заведений: примерно 1 на 142 жителей. Трактиры предоставляли ночлег для путешественников, конюшни для лошадей, еду и, разумеется, напитки. Таверна же была явлением скорее городского быта. Она обслуживала клиентов среднего класса, предлагая им еду и вино, а также эль и пиво. Общая столовая (ordinary) была более скромным местом с едой и напитками. Пивные в основном были поставщиками напитков. В начале эпохи Тюдоров они, как правило, варили свой эль и продавали его кувшинами навынос. Со временем пивные перешли к формату, который мы бы сейчас назвали пабом — крытым помещением для питья, эль и пиво для которого могли вариться на территории пивоварни, но часто закупались оптом у крупных коммерческих производителей. В 1495 году парламентский акт предоставил мировым судьям контроль над торговлей элем. Они могли закрыть любую пивную, которая, по их мнению, не соответствовала требованиям, была неуправляемой или могла подорвать местную мораль. А с 1552 года лица, продающие эль или пиво, должны были иметь лицензию.
По мере того как пивные все больше становились общественным пространством, власти относились к ним все более настороженно. Даже самый пуританский и ненавидящий веселье автор памфлетов признавал, что существование пабов необходимо для тех, кто не имеет собственных приспособлений для варки. Однако царившие там обычаи «опрокидывания» (пьянствования), азартные игры или большие бурные собрания вызывали у таких людей сильную встревоженность. В Бейсингстоке в 1516 году местные власти указали, что после 19 часов вечера никто из владельцев пивной не должен был обслуживать подмастерьев, а после 21 часа вечера — слуг. Это было реакцией на опасения, что молодые трудоспособные люди могут растрачивать все свои деньги, возможно, в плохой компании. В 1563 году Лестер попытался взять под контроль употребление алкоголя в общественных местах, приняв постановление, запрещающее любому горожанину или горожанке сидеть и пить более часа. В 1574 году город попытался ужесточить контроль, запретив розничным продавцам эля или пива варить их, а пивоварам — продавать пиво в розницу. Кроме того, отныне все пивовары в обязательном порядке должны были принадлежать к гильдии. Таким образом, можно было регулировать крепость пива, а закрывать нарушающие порядки пивные было бы гораздо проще (так, по крайней мере, считали).
Удобства в пивных были минимальными, во многих из них — просто скамейка напротив внешней стены. Если внутри была комната, то мебель все равно состояла лишь из скамейки и стульев и, возможно, стола. В отличие от трактиров, это были не специально построенные помещения, а скорее жилые дома, приспособленные для продажи эля или пива. Большинство тех, кто содержал пивные, не были процветающими хозяевами, поэтому оборудованные под них дома сами по себе были довольно незатейливыми. Земляные полы были повсеместными. Баров, конечно, не было: напиток приносили прямо из бочки в кувшинах или котелках хозяева пивной, члены их семьи или слуги. Кое-где подавались и питьевые сосуды, но многие клиенты приходили со своими. Добротный веселый огонь оживлял атмосферу и притягивал людей из их собственных, возможно необогреваемых домов.
«Или вы принимаете дом моей госпожи за пивную, что визжите ваши портновские песни»[46], — обращается Мальвольо к сэрам Тоби, Эндрю и Фесте в пьесе Шекспира «Двенадцатая ночь». Трое распутников пели популярные песни: «Трое веселых мужчин», «Жил в Вавилоне человек» и «Двенадцатого декабря». Так вели себя в пивной. Танцы в пивной, как мы видели, были послеобеденным развлечением, когда еще было светло, но вечером брали верх музыка и пение. Музыкантам иногда платили хозяева, а иногда — вскладчину — и клиенты. Пение, которое было бесплатным, было более распространено. Во второй половине XVI века, по мере повышения уровня грамотности и развития полиграфии, появилась целая индустрия письма, печати и продажи листовок с балладами для заучивания и пения. Это была разновидность литературы, над которой часто потешались более образованные члены общества. Как пишет Уильям Уэбб в своем «Рассуждении об английской поэзии» (Discourse of English Poetrie, 1586):
Ведь многие могут составить трактирную песню из пяти-шести стихов, напевая на какую-то мелодию из «Северной Джигги», или «Робин Гуда», или «Ла Лаббер» и т. д. <…> скоро у нас будут целые орды поэтов: каждый, кто может срифмовать книгу, пусть и просто потому, что хочет, но с похвалой Медным носам или Бутылочке эля, добьется положенной поэту лиры: чьи горшечные [pottical] (я хотел сказать, поэтические) головы, я бы хотел, чтобы на торжественной церемонии были украшены не венком, но великолепным зеленым ячменем, в знак их доброй любви к нашему английскому солоду.
Написание песен в честь пива и эля, которые будут петь те, кто его пьет, имело коммерческий смысл, даже если это не приносило лавров поэта. К концу эпохи составлялись и распространялись тысячи и тысячи листовок с балладами, и многие из них, похоже, оказывались на стенах пивных, чтобы клиенты могли наслаждаться ими и петь.
Питье и пение тесно переплетались в сознании людей эпохи Тюдоров. В своей «Анатомии абсурда» (Anatomy of Absurdity, 1589) Томас Нэш, поэт с твердой позицией, назвал такие баллады «нашими новыми песнями и сонетами, которые каждый красноносый Фидлер держит у себя под рукой и каждый невежественный рыцарь Эля будет тяжело дышать над горшком, как только его мозг размягчится от жара». Дошедшие до нас песни разнообразны — от триумфальных торжеств по поводу английских военных побед, таких как взятие Кадиса графом Эссекским в 1596 году, до новостей о местных бедствиях, таких как пожар в Саффолке в 1580-х годах, уничтоживший половину города. Были среди них и комические песни о браке, и моральные напоминания о неизбежности смерти. Все они отличаются хорошей сильной рифмой и метром, и во многих из них используются уже давно и хорошо известные мелодии. Чувства передаются в них широкими мазками, чтобы привлечь массовую, возможно разгоряченную алкоголем аудиторию. Возьмем патриотическую, хотя и не совсем политически корректную, триумфальную песню о взятии Кадиса:
- Долгое время гордые испанцы
- продвигались вперед, чтобы завоевать нас,
- Угрожая нашей стране огнем и мечом,
- Готовя свои самые роскошные корабли,
- Со всем, что Испания могла себе позволить.
- Даб, даб, даб, даб, даб, даб,
- так говорили наши барабаны,
- Тан тара, тан тара, англичанине идут…[47]
Отплывает граф во главе небольшого флота, чтобы захватить испанцев в порту и сжечь их запасы:
- Теперь молвил благородный граф:
- «Смелее, мои солдаты, сражайтесь
- и будьте доблестны, и получите добычу…»[48]
Захвату добычи уделено несколько стихов, перемежающихся комментариями о том, как сбежали горожане:
- Тогда входя в дома самых богатых людей,
- Мы каждый день искали золото и сокровища.
- Даб, даб, даб, даб, даб, даб, даб,
- так говорили наши барабаны,
- Тан тара, тан тара, англичанине идут[49].
Хор особенно хорош для того, чтобы петь в большой толпе с горшком эля в одной руке. Другие песни больше подходят для одного певца и группы очарованных слушателей, например, о злоключениях мужчины с ревнивой женой:
- Когда я был холостяком,
- я жил счастливой жизнью;
- Но теперь я женат
- И беспокоим женой,
- Я не могу делать то, что делал,
- Потому что я живу в страхе;
- Если я поеду в Ислингтон,
- Моя жена узнает[50].
Он тоскует по тем дням, когда носил желтые плундры и флиртовал со всеми девушками. Через сто строк он приходит к выводу, что «устал от своей жизни».
Клиентами пивных были преимущественно, но не исключительно, мужчины, как правило, выходцы из бедных слоев общества. Но к ним присоединялись и некоторые более зажиточные люди. Историк Аманда Флэтер изучила посетителей пивных, зафиксированных в протоколах судебных заседаний в Эссексе. Выяснилось, что треть их посетителей составляли женщины, а две трети — мужчины. Из них до половины были крестьянами, слугами и рабочими — людьми в нижней части социальной пирамиды, примерно треть составляли более благополучные люди — ремесленники и йомены, причем иногда попадались даже люди свободных профессий и джентри. Женщины, как правило, ходили в пивные в семейной группе, с мужьями и друзьями, если приходили не затем, чтобы просто набрать кувшин эля для дома. Мужчины ходили и парами, и с семьей, и поодиночке, чтобы встретиться с друзьями. Люди ходили в пивные для развлечения после долгого дня на рынке, или чтобы отпраздновать семейные торжества или заключить деловые контракты, или просто чтобы приятно провести вечер. Пивные идеально подходили как мужчинам, так и женщинам, чтобы спокойно выпить вечером и пообщаться с друзьями, соседями и семьей, и считались вполне приличным местом для шумной песни и даже танца. Молодые парочки могли встречаться там в компании с другими, но женщинам не полагалось посещать их в одиночку.
Однако пивные очень беспокоили властей и ревнителей благочестия: пьянство выходило из-под контроля, люди играли в азартные игры и предавались сексуальной распущенности, разговоры перерастали в мятежи, вспыхивали драки, а шум беспокоил окружающих. Открытое пьянство было злом, которое осуждали все слои общества и даже многие восторженные покровители пивных. Ведь, если «хороших парней» хвалили в песнях и литературе за их способность много пить и вести себя прилично, тех, кто терял контроль над собой — терял сознание, не мог дойти до дома, тех, кого рвало или кто перепачкался, — называли пьяными забулдыгами и «ненастоящими мужчинами». Пьянство съедало семейные деньги, комфорт и надежду. Пьяница была ленивым работником и часто не мог содержать семью. Он не только причинял страдания своим домочадцам, но и возлагал дополнительное финансовое бремя на собратьев по приходу, которые должны были собирать средства для бедных. Те, кто оказывался в семьях пьяниц — как правило, это люди из беднейших слоев общества, вероятнее всего неграмотные, — редко могут напрямую поведать нам о своем бедственном положении. Но те, кто имел власть и должен был разбираться в этом хаосе, не оставляют сомнений в том, что чрезмерное пьянство грозило голодом, продажей или залогом немногочисленной одежды, вспышками семейного насилия и общественным порицанием. Тем не менее эль и пивные оставались важной и популярной частью трудовой жизни людей тюдоровской эпохи.
11
И в постель
И этот аппетит или похоть Бог дал человечеству с самого начала, как сказано в книге Бытия.
Так что никто, ни мужчина, ни женщина, не чисты от них, хотя в некоторых они горят больше, чем в других, в зависимости от возраста и сложения…
Томас Коган, «Пристанище здоровья» (The Haven of Health, 1577)
Когда дверь конюшни была заперта, куры устроились в своих курятниках и наступила темнота, мужчины и женщины шли в постель и произносили свои молитвы: «О вечный свет, чья яркость никогда не угасает; благослови меня, твоего грешного и грешного слугу…» День начинался и заканчивался христианской молитвой — зазубренной скороговоркой для одних и глубоким внутренним путешествием — для других. Самыми распространенными были молитвы о безопасности ночью и о прощении дневных грехов: «И вот теперь я преклоняю колени своего сердца перед Тобой, самым милосердным и небесным отцом, умоляя Тебя, Иисуса Христа, простить мне все мои грехи, небрежность и невежество». И многие из опубликованных молитв также говорили о вручении себя Богу: «Ибо я предаю тело и душу свою, в эту ночь и во веки веков, в руки Его святости». Эти слова вполне сознательно перекликаются с текстом завещаний и последней волей покойных, а также службами за их упокой. Считалось, что ночь — хорошее время дня для размышлений о собственной смертности; небольшое забвение во сне связывалось с большим — в смерти, и надеждой воскреснуть снова — в новый день или для радостей небесных. Вечерняя молитва была хорошим временем для того, чтобы привести свои духовные дела в порядок, попросить прощения, отложить споры и дурные чувства и расчистить все для нового начала. Она была примерно как ежедневное сведение счетов перед большим аудитом в конце года.
Вечерняя молитва также была очень личным делом, ее читали в одиночку, даже находясь в одной комнате с другими людьми, которые произносили свои собственные молитвы. Сохранилось множество изображений людей, уже одетых в ночную одежду (рубашку или халат и льняной ночной колпак), стоящих на коленях рядом с кроватью. Родители могли помогать своим маленьким детям молиться, но лучше всего было как можно скорее научить их вести их собственные духовные беседы с Богом.
Секс
В эпоху Тюдоров отношение к сексу было столь же противоречивым и сложным, как и ныне. Одни считали, что секс крайне необходим для здоровья, в то время как другие отстаивали моральную добродетель воздержания. Женщины считались сексуально ненасытными и неуемными, но многие думали, что мужчины куда больше склонны к блуду. Целомудрие считалось путем к чистой жизни, но сам по себе секс, как тогда думали, способен отгонять грязные помыслы и мечты.
В основе всего этого лежала противоречивая позиция христианства: с одной стороны — восходящая к иудейской традиции в Библии первоначальная защита брака, с другой — склонность последовавших за ней ранних церковных авторитетов к сексуальному воздержанию, восходящая к древнегреческим и восточным духовным влияниям. Читая Библию, человек сталкивается с обеими точками зрения. Так, Христос посещал свадьбы, а его учение рассматривает секс и брак как нечто само собой разумеющееся. Павел, будучи образованным жителем Римской империи, находившимся под влиянием некоторых греческих школ, выступал за безбрачие и учил, что если безбрачные заботятся о Господе, то женатые заботятся о мирских вещах, что разрушает их духовную жизнь. В дополнение к этим письменным религиозным установкам у человека в начале эпохи Тюдоров перед глазами был пример 500-летнего наследия коллективного безбрачия в женских и мужских монастырях, рассеянных по сельской местности. Монашеские идеалы стали плодом восточной мистики, восходящей к индуистской традиции, в соответствии с которой святые люди жили отдельно от общества. Впоследствии эти идеи завоевали большую популярность по всей Европе. В монашеской культуре безбрачие считалось духовным орудием, которое приближало людей к Богу, устраняло все соблазны плотской и мирской жизни и направляло всю энергию на созерцание и поклонение Богу. Но в XVI веке Мартин Лютер, не обнаружив этих идей в самой Библии, отрекся от них и выступил в защиту брака для благочестивых людей, в том числе и для духовенства. Он утверждал, что брак — это правильный путь к святой жизни. Сексуальные отношения в браке и рождение детей — благочестивое дело; воспитание детей в семье — христианский долг. Таким образом, секс оказался в центре больших религиозных дебатов той эпохи. Католическая церковь поощряла безбрачие, а браку всегда отводила второстепенное место. В новой протестантской вере брак и супружеский секс были частью библейски чистой жизни взрослых людей.
Однако британская Реформация не выстроила четкий переход от католического восхваления безбрачия к протестантскому браку, между ними сохранялась напряженность. Пособия по протестантскому браку продолжали считать девственность и целомудрие богоугодными состояниями. Так, в 1568 году Эдмунд Тилни начал свой трактат такими словами: «Достоинство брачного состояния, если оставить в стороне девственность как чистейшее состояние, является и святым, и самым необходимым». В то время как религиозные тексты писали о сексе и так и эдак, более влиятельные древнегреческие тексты только усложняли картину, утверждая, что регулярный секс необходим для мужского здоровья, но предупреждая о тяжелых последствиях для тех, кто злоупотреблял им. Хороший секс, по их словам, способствовал хорошему пищеварению и аппетиту, тело благодаря ему становилось легким и проворным, он открывал поры и удалял флегму. При надлежащем сексе разум становился острее, уходили печаль, безумие и меланхолия. Однако плохой секс ужасно ослаблял и тело, и разум, высасывал силу и низводил человека до уровня животного. Между тем женщины, как существа, в которых господствует холодный, влажный, флегматический гумор, были одержимы сексом и неконтролируемым стремлением к горячей сущности мужчины. Каким бы похотливым ни был мужчина, у него хватало ума контролировать свои аппетиты, но женщины были слабыми.
Такие идеи не только были предметом дискуссий, но и в той или иной форме влияли на сексуальное поведение и образ мыслей всего населения. Большинство мужчин и женщин женились и выходили замуж. Даже в конце XV века, когда католический идеал безбрачия оставался нерушимым, число тех, кто ему следовал — духовенства, ученых и членов религиозных орденов, — было довольно небольшим и составляло тысячи из 2,5-миллионного населения. В реальности брак часто считался важнейшим условием полноценной взрослой жизни и общественного статуса. Неженатый мужчина 50 лет от роду так же считался пятым колесом и вызывал смущение, как и незамужняя женщина того же возраста. Они не могли возглавлять домохозяйства. С чисто практической точки зрения одинокий мужчина или одинокая женщина испытывали банальную нехватку рабочей силы для выполнения мужских и женских обязанностей. Мужчины нуждались в женщинах, чтобы они готовили, варили эль, доили коров, стирали, ухаживали за птицей и огородом, независимо от того, был ли в семье ребенок. Женщины нуждались в мужчинах, чтобы они пахали и работали на полях, ухаживали за овцами и занимались ремеслом. Одинокий мужчина не мог стать подмастерьем или претендовать на местную управленческую должность. Не состоящие в браке лица считались ненадежными; у них было не так много обязанностей или связей, они жили на половинчатых правах в качестве временных членов чужих семей. Отсутствие у них сексуального опыта, хотя и вызывало уважение, тем не менее часто было поводом для насмешек.
Секс играл ключевую роль в браке. Без консумации брачный союз мог быть расторгнут; в успешном же браке секс связывал пару, сглаживал споры и укреплял любовь и терпение друг к другу. «Мудрец не может быть доволен девственностью своей супруги, — писал Эдмунд Тилни, — но в настоящее время мало что нужно сделать, чтобы он мог украсть и ее личную волю, и аппетит, так чтобы два тела сделались одним единственным сердцем». Брак, по словам Тилни и многих других авторов, мог быть трудным, и ему приходилось переживать множество бурь. Для сохранения здоровья, благополучия и счастья не только партнеров, но и их детей, слуг и родни, необходимо, чтобы брак был крепким. Радость от происходившего на брачной постели помогала сформировать глубокое чувство любви и уважения, которое способствовало преодолению трудностей. С появлением разногласий физическая близость, как считалось, приводила к примирению. Например, в анонимных «Сказках и быстрых ответах, очень веселых и легких для чтения» (Tales and Quick Answers, Very Mery, and Pleasant to Rede, 1567) говорится о вдове, которая хотела иметь мужа «не ради приятных игр», а скорее в качестве делового партнера для защиты в мире мужчин, но, когда ее подруга нашла ей подходящего, но бессильного в постели кандидата, она отвергла его: «Все же я хочу, чтобы мой муж был таким, с которым мы могли бы сойтись, когда будем ссориться».
В обществе в целом секс в браке считался позитивным опытом. Это был частный акт, но он имел и общественное значение, поскольку приносил пользу всему обществу, способствовал семейной гармонии и стабильности. В основе этой идеи лежало представление о том, что оба партнера будут получать удовольствие. В эпоху Тюдоров люди не воображали, что в постели по ночам один партнер будет играть активную роль, а другой просто ляжет и будет «думать об Англии». Секс был приятным занятием, которого с нетерпением ждали молодые и еще не вступившие в брак и на которое имели право рассчитывать и мужчины, и женщины. Молодым парам было рекомендовано не менять партнеров в супружеской жизни. Как рекомендует «Искусство любви» (The Art of Love, 1598): «Выбирай и не слишком юного, и не утомленного годами человека: ибо для любви лучше подходит тот возраст, когда человек находится в расцвете сил: то, что уже покинуло старика, делает его неспособным к сладким утехам, которых требует любовь, или неподходящим для них». Удовлетворение сексуальных потребностей вашего супруга — это семейный долг. Опасности, связанные с невыполнением сексуальных обязанностей, были предметом народного фарса. Немного женоненавистнический анонимный текст под названием «Женский обман» (The Deceyte of Women, 1557) представляет собой выполненный в народной традиции сборник историй о лжи и коварстве женщин, часто заводящих любовников за спиной мужа. Однако, несмотря на постоянный мотив, изображающий женщин морально распущенными, к обманутым ими мужчинам проявляют так же мало сочувствия. Как заявлено в одном заключении: «И если бы мой лорд сотворил бы это дома, то женщина никогда бы не пала до такого». Так что жена, не имея партнера на брачном ложе, найдет на его место другого. Другая история рассказывает, как «двое влюбленных собираются спать вместе и с любовью ласкать и целовать друг друга так сильно, что оба потеют ради достижения своей прекрасной цели»: яркого взаимного удовольствия от незаконной связи. Многие истории в этом и подобных сборниках посвящены пожилым мужчинам и молодым женам. Возможно, это эвфемизм для сексуально бессильных мужей. Мужчина, чья жена заводила любовника, становился «рогоносцем», посмешищем, слабаком и неудачником. Отсутствие сексуальной активности в супружеской постели считалось одним из главных факторов, которые доводили жен до измен. В таких рассказах обыгрываются древнегреческие представления о сексуальном аппетите холодных, влажных, флегматичных женщин, желающих получить горячее мужское семя.
С медицинской точки зрения секс рассматривался в терминах четырех телесных жидкостей. Считалось, что мужское семя возникало в организме в результате естественного процесса пищеварения. При третьем этапе процесса часть крови, не нужная для поддержания физического здоровья и функций организма, в яичках превращалась в сперму. Не существовало единого мнения о женской сексуальности. Некоторые считали, что в организме женщины кровь поступала в утробу матери для ребенка, которого она может зачать, а если зачатия не происходило, кровь естественным образом ежемесячно вытекала из организма. Другие полагали, что, хотя часть крови выполняла эту функцию, несколько драгоценных капель попадали в яичники и образовывали «женскую сперму». Сексуальный аппетит связывался с едой и особенно — с красным мясом, сахаром и вином, которые считались самыми питательными продуктами. Те, чей баланс телесных жидкостей был наиболее близок к сангвиническому, или кровяному, вероятно, имели наибольший сексуальный аппетит. Это убеждение особенно связывали с молодыми мужчинами, с теми, у кого были каштановые волосы и румяное лицо. Времена года также могли влиять на сексуальное желание. В холодные месяцы люди одеваются тепло, и тело естественным образом закрывает поры кожи, удерживая тепло, что, в свою очередь, приводит к лучшему, более полному процессу пищеварения. Улучшенное пищеварение приводит к увеличению объема крови, что дает яичкам больше топлива для работы и повода для выхода спермы. Желающим потушить огонь похоти советовали питаться умеренно, избегать красного мяса, не надевать на себя слишком много одежды, не укрываться покрывалом, а, наоборот, позволять прохладе вызывать легкую дрожь. Полезной считалась и тяжелая физическая работа, которая забирает кровь из яичек, чтобы подпитывать мышцы. На помощь целомудрию всегда приходила и молитва.
Во взглядах на анатомию врачи принадлежали к двум непримиримым лагерям. Одни считали, что женское чрево — это просто поле, в которое попадало мужское семя, оно только питало растущего ребенка, но не создавало его. Были и те, кто полагал, что зачатие требует смешения мужского и женского начал. Все медики сходились на том, что мужские половые органы состоят из полового члена и яичек. Преобразованию крови в сперму в яичках способствовало «трение», и, когда они заполнялись, а мужские мысли в обществе женщины обращались к похоти, его член раздувался от внутреннего ветра («ветрообразующие» продукты, такие как бобы, часто были предметом непристойных шуток). Нормальным размером пениса считались восемь или девять дюймов. Считалось, что крайняя плоть, описанная как «двойная» и «подвижная» в «Сокровищнице англичанина» (The Englishman’s Treasurie, 1587) Томаса Викария, помогала собрать семя, чтобы «тестикулы его выбросили; что доставляло большое удовольствие в процессе». Считалось, что удовольствие имело основополагающее значение для способности мужчины к деторождению, а крайняя плоть усиливала это удовольствие, обеспечивая быстрое и обильное семяизвержение. Обрезание для людей тюдоровской эпохи было ересью.
То, как предположительно работала сексуальная анатомия, сказывалось и на сексуальном поведении. Возможно, наиболее важной для многих людей была идея, что правое и левое яичко давали разное семя. Считалось, что правое яичко получало кровь непосредственно из сердца, так что это с большей вероятностью оказывалось «мужским семенем», в то время как левое яичко, при более слабом кровоснабжении, скорее всего, давало «женское семя». Поэтому пара, желающая зачать мальчика, может повысить шансы на успех, если во время полового акта левое яичко будет перевязано лентой, что предотвратит проникновение «женского семени».
Неразбериха, окружающая женскую анатомию, наводила некоторых на мысль о пассивной роли женщины в половой жизни: они считали, что наслаждение женщины во время акта просто готовило почву в ее утробе к попаданию мужского семени; а те, кто признавал необходимость женского семени для зачатия, полагали, что одного ее удовольствия было достаточно для стимулирования выхода этого семени. Те, кто считал, что у женщины есть семя, полагали, что женские гениталии повторяли форму мужских, просто находились внутри тела, а не снаружи. Если мужское семя называли горячим, белым и густым, то женское описывали как более жидкое, холодное и слабое.
В отношении брака церковь делала особый акцент на роли секса в деторождении. Благочестивых и нравственных людей поощряли использовать сексуальные практики, способствующие зачатию, и если зачатие требовало женского оргазма, то пара, которая уделяла время и внимание удовольствию обоих, выполняла Божью работу. На сексуальные позы также влияли медицинские теории. Подобно представлению о том, что правое яичко, получающее более чистую кровь, производит мужскую сперму, правая часть матки считалась более восприимчивой к мужскому семени. Так что сохранение надлежащей позы во время полового акта, когда семя естественным образом попадало на нужную сторону матки, считалось еще одним определяющим фактором для пола потенциального ребенка. А если бы пара вступила в половую связь стоя, то семя, несомненно, просто попало бы на основание матки и стекло после завершения. Само собой, секс стоя считался, таким образом, морально предосудительным занятием, но был популярен среди тех, кто вступал в незаконную связь, ибо считалось, что такая поза предотвратит нежелательную беременность. Кроме того, у господства медицинской ортодоксии было еще одно крайне негативное последствие: если женщина беременела, то считалось, что секс, приведший к зачатию, произошел по обоюдному согласию и был приятным для женщины; обвинение в изнасиловании тогда предъявить было невозможно.
Были широко распространены слова и выражения, относящиеся к сексуальной жизни, хотя были и те, кто не мог их произносить из-за своей высокой чувствительности и стыдливости. Кристофер Лэнгтон в своем руководстве 1545 года по анатомии человека заявил, что не собирается упоминать половые органы, поскольку не хочет разжигать умы «распутной молодежи». Другие печатавшиеся авторы подбирали слова с осторожностью и использовали ряд эвфемизмов, но из некоторых сплетен становится ясно, что язык улиц был куда менее сдержанным, а стихи, распространявшиеся в частных рукописях среди мужчин при дворе, часто были открыто и подчеркнуто сексуальными. Например, Томас Нэш в рукописи, которая долгое время, до 1598 года, ходила по рукам образованных джентльменов, пишет:
- Мои пальцы мягко скользят вверх по пологу
- И делают меня счастливым,
- когда я скольжу по ступенькам
- Сначала обнажить ей ноги,
- затем продвинуться к коленям.
- И подняться к ее любезному бедру.
- (будь проклято это белье, когда я так близок)
- Сорочка, быстро вверх,
- чтобы я мог увидеть свою радость.
- <…>
- Я целую, я шлепаю, я чувствую,
- я пожираю его глазами,
- Но он лежит мертвым, не думая
- ни о хорошем, ни о плохом.
- Несчастная я, молвила она, и он не встанет?
- Подойди, позволь мне потереть его рукой.
- <…>
- Она не останавливается,
- пока не поднимает его из его обморока.
- И тогда он вытягивается в ее сторону,
- словно деревянный,
- И направляется в ее щель, и хорошо ее пронзает;
- Он тёрся, и вонзался, и пронзал ее до костей,
- Проникая в нее так глубоко, как в землю за камнями.
- <…>
- С охами и охами она, испытывая зуд, двигает бедрами,
- И туда и сюда, с легкостью кидается и скачет.
- Она дергает ногами и вытягивает пятки…[51]
И хотя речь идет о встрече с проституткой, это — история обоюдного удовольствия, описанная очень подробно и ярко.
Менее литературными, хотя и столь же откровенными, были слова Энн Саймс 1586 года, когда она встала в церкви и обвинила священника мистера Лисби.
[Он] постыдно совершил со мной плотское совокупление по-разному и неоднократно, а именно дважды в одном доме повара в Трилсе на Пай-корнер, и там он дал денег служанке, чтобы она держала дверь, пока он занимал меня, а другой раз — у знака черного льва, напротив епископских ворот, и много других раз, ибо он получал удовольствие от пользования мной, и, занимая меня, вел себя скорее бесстыдно, чем обходительно.
И хотя Энн Саймс открыто и публично описывает свою сексуальную жизнь — куда более публично, чем Томас Нэш, — она использует куда менее позитивно окрашенную лексику. Все данные ею описания их половой жизни подразумевают особенную активность мужчины и пассивное участие женщины. Он «занимает», «использует» и «получает удовольствие» от нее. Какова бы ни была правда о развитии их отношений, это конкретное публичное разбирательство о сексе говорит об общественном давлении на женщин, которые вынуждены представлять свой незаконный секс как неравноправную деятельность. Поскольку эта серия сексуальных контактов была незаконной, а деторождение не было их основной целью, то взаимное сексуальное удовольствие утрачивало моральную легитимность. Здесь мы видим, как люди говорят о постыдном сексе, а история построена на слабости женщины, не способной устоять перед мужским желанием.
Представление о том, что именно женщины провоцируют незаконный секс, имело худшие последствия для женщин, чем для мужчин. Наказания, которые выносили суды, в значительной степени были направлены на женщин, а общественное порицание их поступков было более длительным и суровым. Так что в рассказе Энн можно увидеть желание защититься на общественном слушании. Ибо если в обществе в целом считалось, что оба пола получают удовольствие от секса, то также бытовало убеждение в том, что сексуальные нарушения, совершаемые женщинами, гораздо серьезнее, чем аналогичное поведение мужчин. Двойные стандарты были прочны как никогда. Мужчина, описывая свой проступок, мог хвастаться своей доблестью и сексуальным аппетитом; женщина же пыталась отыскать смягчающие обстоятельства и завуалировать элементы личного выбора в своих поступках.
По улицам гуляли различные сексуальные оскорбления. Они приводили тех, кто их произносил, в суды, из-за того, как много вреда они причиняли частной и общественной жизни. Например, «шлюха» (whore) и «блудница» (harlot) означали женщин-проституток; «клячами» (jade), «потаскухами» (strumpet) и «распутницами» (queane) обычно называли женщин, которые занимались сексом вне брака, но не обязательно за деньги; «рогоносцем» (cuckold) звали мужа неверной жены; «сводником» (bawd) называли сутенера, организующего платные сексуальные связи; «подлецом» (knave) называли безнравственного человека. Во всех этих оскорблениях в разгар конфликта и стычки использовался сексуализированный язык. В менее агрессивных спорах о сексе насмехались над теми, кто нюхает женское нижнее белье (smellsmocks), и использовали слова типа «проститутки» (trulls) и «любовницы» (Jills), которые были менее оскорбительными обозначениями проституток. Описание секса как «постельного спорта» и «обработки полей Венеры» и фраза «приятные игры» (nice play), которую мы встречали ранее, представляют собой положительный взгляд на секс, который встречается с энтузиазмом как с мужской, так и с женской стороны.
О сексе говорили самыми разными способами и в разных ситуациях. В шутках и народных балладах использовался целый ряд сленговых словечек и эвфемизмов, таких как «секретные части», «пирог», «угол», «дело», «цветок», «слива», «дыра» или «пруд» (для вагины), а также «стрела», «инструмент», «кран», «шип» или «рог» (для пениса). Многие из них продолжают бытовать и по сей день. Жриц любви можно называть не только «шлюхами», «блудницами», «проститутками» и «любовницами», но и гусынями, скумбриями и девками, а выражение «сжать кулак» означало мастурбировать, а не только ударить кого-то. Такие разговоры велись даже в довольно респектабельном и уважительном контексте. Например, «Баллада о радости» 1554 года, написанная по случаю объявления о беременности королевы Марии, включает фразу «И этот благородный цветок, который посажен, чтобы разбрасывать семя».
Но не всем было по душе широкое бытование откровенных или двусмысленных формулировок. В 1570 году Томас Брайс написал балладу, осуждающую подобную лексику, использовав тот же самый носитель — дешевый и популярный печатный балладный листок, — на котором печаталась и вызывавшая у него неодобрение литература: «Что значат рифмы, которые в таких количествах попали в каждую лавку? С распутной мелодией и грязным смыслом». Распутные мелодии с грязным смыслом действительно в изобилии встречались в дешевой печати той эпохи. Возьмем, например, балладу «Как пивовар намеревается сделать бондаря рогоносцем». Пивовар и жена бондаря застигнуты врасплох, когда бондарь рано возвращается домой. Жена прячет любовника под перевернутой бочкой и пытается скрыть шум и помешать мужу заглянуть под нее, утверждая, что туда угодила свинья. После нескольких стихов о различных типах свиней и о том, что с ними делать, которые представляют собой каламбуры о том, что свиньи сексуально ненасытные животные, которые валяются в грязи, пивовар наконец разоблачен и договаривается с бондарем о компенсации: «Пивовар должен заплатить за использование моей бочки». Баллада построена на косвенных намеках, а потому ею можно наслаждаться и в разнополой компании.
Гораздо более открыта по своему замыслу чрезвычайно популярная баллада «Эль Уоткинса» (Watkins Ale), которая упоминается во многих произведениях литературы. В значительной мере неизменная популярность баллады заключается в раскрытии истинной природы «эля Уоткинса», который через девять месяцев приводит девушку к материнству. В балладе «Прокалывание корзины» (Pinning the Basket) муж заставляет властную жену заниматься сексом, а последующие стихи обещают такой же исход для других неохочих жен. «Корзина» — это еще один эвфемизм для вагины, а смысл «введения булавки» едва ли нуждается в объяснении. Мелодия, на которую была положена баллада, была одной из главных воинских тем и подчеркивала агрессивную сексуальную победу мужа над женой.
Общественное одобрение взаимно приятного секса в браке, а также устойчивая традиция песен, шуток, рассказов и стихотворений о сексе не приводили, однако, к необузданной сексуальной активности. Доля незаконнорожденных в течение всего этого периода и по всей стране оставалась низкой. Обвинения в проституции и блуде, которые стольких довели до суда по обвинению в клевете, были действенными оскорблениями, поскольку соответствующее поведение так сильно порицалось. Лица, осужденные церковными судами за прелюбодеяние и другие сексуальные проступки, были вынуждены проходить через унизительные публичные ритуалы, неделю за неделей преклоняя колени перед всей общиной во время церковных служб в нижнем белье и с горящей свечой в руках. И это в дополнение к частым телесным наказаниям.
Незаконный секс оскорблял общественный идеал тюдоровской эпохи двумя способами: в религиозном и практическом плане. Тем, кто преступил через тот и другой одновременно, грозило самое серьезное наказание. Все внебрачные сексуальные отношения осуждались Церковью. Даже мысли и мечты клеймились как «нечистые», с ними надо было бороться. Например, «Проповеди против блуда» (Homilies against Whoredom, 1560) Томаса Бэкона призывали людей к молитве и постам, чтобы очистить разум от богопротивных мыслей. Они обращаются к многочисленным библейским примерам наказаний за сексуальные слабости, а также к частым похвалам целомудрию и чистоте, содержащимся в Писании. Бэкон также говорит, что недостаточно защищаться от сексуальных проступков в частном порядке. Поскольку за моральные просчеты Бог наказывал целые сообщества, то обязанность христиан — защищать нравственность своих семей и соседей. В соответствии с представлениями Церкви все сексуальные проступки считались злом. Не существовало шкалы пороков, где один проступок был лучше или хуже другого. Вместо этого порочность морали оценивалась по частоте проступков. Единожды согрешивший и покаявшийся человек оказывался в другой категории, нежели тот, кто грешил неоднократно. Однако стоит преступить границу целомудрия (супружеский секс считался целомудренным), то одна пагубная практика или поведение с неизбежностью порождали другую. Очевидно, что, когда женщину, которая завела любовника, называли шлюхой, это делалось исходя из подобных представлений. Если она однажды вышла за пределы целомудрия, то, несомненно, возжелает секса со всеми и различных финансовых выгод. Мужчина, который завел любовницу, не устоит и перед тем, чтобы иметь любовников-мужчин.
С практической точки зрения речь шла о распространении венерических заболеваний, а также, что куда важнее для властей, о незаконнорожденных детях. Забота о них возлагалась на плечи общин. В обществе эпохи Тюдоров, где ресурсы были сосредоточены в руках мужчин, женщина почти не имела шансов воспитать ребенка без финансовой поддержки мужчины или, в его отсутствие, прихода. Ставки приходского налогообложения заметно варьировали в зависимости от числа нуждающихся в помощи бедняков в приходе. Поэтому налогоплательщики очень старались предотвратить появление незаконнорожденных детей. Таким образом, и церковь, и соседи стремились донести до ответственных общинных лидеров, что сексуальные проступки в общине — многоуровневая и серьезная проблема. Хорошо управляемое сообщество должно было просвещать своих членов о моральной стороне сексуального поведения, следить за порядком и наказывать тех, кто не соблюдает нормы целомудрия. Общественный надзор за половой жизнью человека был нормой.
Проституция считалась городским явлением. В сельской местности, разумеется, были женщины, которые в силу личного выбора или отчаяния были готовы оказывать сексуальные услуги в обмен на деньги или вещи, но им было сложно прокормиться этим ремеслом из-за редкости клиентов и множества бдительных соседей. Так что в британских деревнях редко совершали сексуальные правонарушения, редко изменяли и редко поспешно женили служанок. В Лондоне же было большое и подвижное население, и в город постоянно стекались молодые неженатые люди, уехавшие далеко от своих семей. Здесь было легче пропасть из виду и очутиться в одиночестве и без друзей. Джудит Тейлор, например, как и многие другие, приехала в Лондон из Эссекса в поисках возможностей. В 1575 году она была хромой, безработной и бездомной, спала под прилавком на рынке в Шордиче. Своим надзирателям в Брайдвелле она сказала, что сошлась с Томасом Смитом от отчаяния. Среди текучего лондонского населения также было проще замести следы и хоть немного скрыть свой позор. Сводник Элис Партридж сказал ей поменять имя, иначе, по его словам, «она опорочит себя». В Лондоне также можно было найти самых богатых клиентов. В 1598 году Элис и другую девушку, Барбару Эллен, отправили к мистеру Бруку, который заплатил им 30 шиллингов за встречу. Сутенер получил половину, но Барбара все равно заработала больше, чем некоторые служанки зарабатывали за год (хотя они, помимо наличных, также получали питание и крышу над головой). Г-н Брук был богатым и влиятельным человеком, братом лорда Кобэма, и внимание таких клиентов могло быть большой удачей. Элис, которую уволили со службы в высшей степени уважаемой леди Маргарет Хоби за плохую работу, активно искала себе сводника, и ее сопровождала мать. Поэтому такой образ жизни, даже если она вряд ли мечтала о такой судьбе, все же был далек от отчаянного шага Джудит Тейлор.
Власти периодически принимали меры по пресечению проституции. Согласно «Хронике» (A Chronicle, 1503) Ричарда Арнольда, в 1474 году лорд-мэр предпринял «усердные и крутые меры против слуг Венеры и приговорил их к тому, чтобы их рядили, и впереди них шли их менестрели». В Лондоне были собственные публичные ритуалы позора по борьбе с проституцией. Они включали ношение отличительной одежды (подробнее об этом будет ниже) и шествие по улицам, сопровождаемое речами о моральном падении виновных, которые были частью официальной реакции на моральные нарушения в течение всего периода правления Тюдоров. Видимо, во время карательного рейда 1474 года были пойманы не менее 60 человек, многие из которых были изгнаны из города по окончании позорного ритуала. Более подробно описывается наказание пяти женщин в 1529 году:
Названные лица должны быть переведены из [тюрьмы] Контор в Ньюгейт с музыкой, то есть со сковородами и чашами, звенящими перед ними, и должны быть одеты в полосатые капюшоны, а в руках держать белые розги в знак того, что они — сводники, шлюхи и потаскухи; и так они должны быть проведены до Стандерда в Чип, и там надо огласить это объявление, а оттуда провести от Чипа до Корнхилла и там их побить камнями под позорным столбом во время объявления, а оттуда — к Алгейту, где навсегда изгнать их вон из города.
Накинув на головы полосатые капюшоны, они должны были обойти город вместе с людьми, которые шли перед ними и стучали в кастрюли, чтобы привлечь внимание к процессии. На каждой остановке маршрута они должны были стоять у позорного столба, где горожанам предлагалось бросать в них разные вещи, часто — камни, пока зачитывался список совершенных ими преступлений. В конце концов, окровавленные, со звенящими в ушах оскорблениями, они, теперь уже бездомные, изгонялись из города. К тому времени, когда Джудит Тейлор судили за проституцию в 1575 году, полосатые капюшоны исчезли, а позорный столб заменила порка, но шествие виновных, привязанных к задней части телеги, по улицам все еще продолжалось.
Так поступали не со всеми видами проституции. В первой половине эпохи Тюдоров в Саутуарке существовали лицензированные публичные дома, которые находились под юрисдикцией епископа Винчестерского. Они были неподконтрольны лондонским властям, а аренда и лицензионные платежи шли в казну епархии. В конце концов в 1546 году они были закрыты на волне беспокойства из-за распространения венерических заболеваний, в особенности сифилиса, и еще одной вспышки чумы. Позже состоятельные и влиятельные клиенты стали давать определенную защиту своим любимым публичным домам. Лицензированные заведения обслуживали в основном клиентов из более обеспеченных слоев общества: юристов, придворных и некоторых священнослужителей. Работавшие там женщины, как правило, были хорошо одеты и могли подражать светским манерам элиты. Рассказ, записанный в 1598 году в протоколе суда Брайдвелла, описывает публичный дом, которым управляет госпожа Хиббенс, которая «всегда держала наготове в своем доме различные женские наряды: шелковые мантии различных цветов, мантии из шелка, смешанного с камвольной тканью и из других материалов, нижние юбки из прочной ткани, имитирующей кожу, с двумя или тремя ярдами бархата, а также голландские сорочки». Когда клиенты хотели заняться сексом с «дамой», она посылала за одной из своих девушек и переодевала ее в соответствующий случаю наряд.
Рассказ Элизабет Киркеман о своих буднях в борделе «Гилберт Ист» в 1570-х годах содержит аналогичную историю о шелковых платьях и бархатных чулках, хранившихся в помещениях для «джентльменов и состоятельных людей». Этот бордель принимал обычных людей, когда богатых гостей не ожидали («когда некого больше было обслужить, приходило много подмастерьев», по словам Киркеман). Показательно, что ее арестовали не тогда, когда она работала в этом заведении, куда нечасто заглядывали состоятельные клиенты, а позже, когда работала в гораздо более скромном учреждении, клиенты которого состояли из «разной прислуги, темнокожих и других лиц» и поэтому не могли защитить ее от властей. Еще в более уязвимом положении были те, кто работал на улицах, где к списку преступлений, которые они совершали в глазах закона, добавлялось бродяжничество.
Поскольку все внебрачные сексуальные отношения сводились в одну категорию — «разврат», то влечение к собственному полу не привлекало особого внимания. Понятия гомосексуальности не было, было только деление на целомудренных и нечистых. Из проповедей той эпохи ясно, что грехи Содома и Гоморры часто толковались как общая сексуальная распущенность, вобравшая кровосмешение, изнасилование, скотоложество, гомосексуальность, гетеросексуальный анальный секс и прелюбодеяние. Например, «Проповеди против блуда» Томаса Бэкона описывают грехи этих двух городов как «блуд и нечистоту», а баллада 1570 года «Страшное и ужасное разрушение Содома и Гоморры» подчеркивает сексуальные грехи всего населения: «Он осудил их непристойные жизни, молодого и старого, мужчину и женщину». Только Лот и его семья оказались достойны спасения, потому что Лот — единственный праведник. Но в балладе даже его дочери пытаются искусить его сексуальным грехом:
- Низменные распутные девы, которые так жаждут
- Приятных игр Венеры,
- Что если так могут удовлетворить свое желание
- И разжечь пламя юности,
- То хотят возлечь с отцом,
- Чтобы утешить порочную плоть…[52]
Здесь содомия принимает форму инцеста. В «Четвертой сатире» (Satire 4, 1597) Джон Донн описывает развратного придворного, «который любит шлюх… мальчиков и… коз» — еще один пример такого обобщенного представления о нечистом поведении.
Незаконные гетеросексуальные отношения, помимо того, что с ними связаны моральные и медицинские вопросы, влекут за собой и практические проблемы, такие как беременность и дети, оставшиеся без содержания. Поэтому официальные власти главным образом обращали внимание на поведение незамужних женщин. Поведение замужних женщин для властей было менее интересно, поскольку о ребенке замужней, кем бы он ни был зачат, должен был позаботиться ее муж, и приход был освобожден от финансового бремени его содержания. Однополые связи, которые влекут гораздо меньшую опасность появления незаконных детей и распада брака, могли казаться многим еще меньшим социальным злом. Секс между двумя женщинами, по-видимому, попадал в эту категорию, и ему очень мало внимания уделялось как в народных, так и в ученых сочинениях, и в поле зрения правосудия он не попадал. Однако такой практический взгляд был уравновешен выражением всеобщего отвращения и омерзения, которые всплывали всякий раз, когда обсуждалось гомосексуальное поведение мужчин. Мужская гомосексуальность представлялась угрозой естественному укладу жизни общества и ассоциировалась с широким спектром опасной и антиобщественной деятельности. Считалось, что она может навлечь гнев Божий на весь народ, как это и случилось с библейскими городами Содомом и Гоморрой.
Секс между двумя мужчинами стал не просто аморальным, но и незаконным, когда Генрих VIII стал главой Церкви Англии и Уэльса и начал видеть в законе способ выражения своего морального долга — привести страну в более благочестивое состояние. Наказанием за такие связи стала смертная казнь. Тем не менее определение содомии было двусмысленным. Не было никакого конкретного ее описания. Людям было трудно понять, являлся ли содомией имевший место конкретный акт. Впрочем, неопределенный характер этого греха привел к преувеличению его тяжести в диатрибах и проповедях, где он стал ассоциироваться с ересью, папизмом [католицизмом] и даже с оборотнями. Такие крайности было трудно совместить с реальными действиями совершенно обычных людей. Те, кто проявлял гомосексуальные наклонности, а также их друзья, коллеги и соседи, могли просто не уловить связи между тем, что осуждается, и тем, что было частью повседневной жизни. Возможно и то, что, поскольку последствия обвинения были столь серьезны, многие, кто мог высказаться по этому поводу, держали рот на замке.
Судебные процессы были крайне редкими, и трудно отыскать даже обвинения в гомосексуальности. Единственный случай такого обвинения в эпоху Тюдоров произошел в Кембриджском университете с Робертом Хаттоном, членом Тринити-колледжа, в 1589 году. Даже после Реформации ученые должны были оставаться холостяками и жить только в мужских учреждениях. Так что здесь больше чем где бы то ни было можно ожидать упоминаний эпизодов гомосексуальных отношений. Уолтер Ласселлс, один из студентов Хаттона, утверждал, что Хаттон «совершил самые противоестественные грехи и злоупотребления в отношении тел Мартина Тернера, Генри Уортона и его самого». Роберт Хаттон подал встречный иск о диффамации и выиграл значительную компенсацию от всех трех студентов. Это заявление последовало за предыдущим утверждением Уолтера Ласселлса о том, что Роберта Хаттона видели «занятого этим» с его служанкой, Энн Хаус. Какой бы ни была правда о половых отношениях главных героев, очевидно нежелание властей серьезно относиться к обвинениям в гомосексуальных связях, как и убеждение Уолтера Лассельса, что одна из разновидностей сексуального нарушения не исключает другой. В 1541 году главу Итонского колледжа Николаса Юдолла обвинили в сексе с бывшим учеником во время расследования кражи серебра. Он на короткое время был отстранен и помещен в тюрьму за кражу, но никаких обвинений сексуального характера не последовало, и Юдолл вернулся к преподаванию. Г-н Кук, также руководивший школой, заработал себе проблемы в 1594 году, как «человек, известный гнусным поведением среди своих учеников». Он не явился, когда дело рассматривал церковный суд, и процесс был просто прекращен. Между тем и Джон Донн, и Джон Марстон упоминают в своих произведениях мужскую проституцию в Лондоне. В «Первой сатире» (Satire 1) Донн пишет:
- В чрезмерном зудящем вожделении, желании и любви
- Созерцать обнаженность, несущую наслаждение наготу
- Твоей пышнотелой шлюхи или мальчика-проститута[53].
В «Биче мерзостей» (Scourge of Villanie, 1598) Джон Марстон осуждал «мужские садки», то есть бордели. Но суды опять-таки молчат об этом. Мужчин судили и наказывали за порочную жизнь, бродяжничество, сутенерство и содержание борделей, но не за гомосексуальные связи. Даже дела о клевете содержат мало подобных обвинений, а сленг, богатый на описания секса в целом, содержит мало специфических терминов или фраз для однополых актов. Гомосексуальное поведение мужчин, и в особенности женщин, едва заметно в исторических записях.
Грань между хорошим (в браке) и плохим (вне брака) сексом представляется очень четкой, но на практике оставались непроясненные области. Как мы уже говорили, гетеросексуальный анальный секс иногда оказывался в одном ряду с содомией и некоторые распространяли это суждение и на анальный секс в браке. Оральный секс тоже вызывал непростые чувства. Строгое определение секса в браке как законного и целомудренного действа требует, чтобы этот акт был ориентирован на деторождение. Оральный и анальный секс не соответствовали этому критерию. Более того, анальный секс многим напоминал секс с животными: это был «дикий» (bestial) секс, и слово «скотоложество» (bestiality) имело также это значение наряду с сексом между человеком и животным.
Однако, хотя пары могли волноваться или не волноваться о таких вещах наедине друг с другом, неопределенность в ответе на вопрос «Женаты ли мы?» вызывала гораздо большее беспокойство в обществе. Это не всегда было очевидно. Даже сегодня мы считаем брак полноценным при выполнении двух условий: религиозной церемонии, в ходе которой представитель духовенства объявляет о заключении брака, или юридической процедуры, в ходе которой брак зарегистрирован при свидетелях. Брак оставлял гораздо больше места для сомнений и вопросов. В ранний период своей истории Церковь в основном игнорировала брачные союзы и лишь в конце Средневековья стала настаивать на том, что брак — прерогатива Церкви. И хотя в эпоху Тюдоров большинство людей приходили в церковь для совершения религиозного обряда, у нее еще не было монополии. Брак считался законным и обязательным, если каждый партнер произнес слова «Я беру тебя в супруги». Присутствие при этом свидетелей было полезным, но с правовой точки зрения не обязательным, и союз нужно было скрепить консумацией, чтобы он не был аннулирован. Если произносились слова «Я возьму тебя в супруги» в будущем времени, то это было обручение, а не брак. Обручение может рассматриваться как условный или, если случился половой акт, как обязательный договор. Для этого не нужно было идти в церковь или привлекать священнослужителей и не нужны были письменные документы. Таким образом, заключение брака могло быть сопряжено со значительной путаницей, исками и встречными исками.
Случай с Алисой Чизман в 1570 году показывает эту двусмысленность и напряженность в действии. Похоже, Алиса и мистер Чизман дали друг другу приватные клятвы и вступили в половую связь до того, как рассказали о своем союзе широкой общественности и попытались заключить официальный брак в церкви. Ее друзья и соседи, кажется, были в ужасе от мысли об этом союзе. Ричард Кост, свидетель по делу, сообщил:
Многие первейшие жители прихода советовали ей оставить его, поскольку Чизмана не любили в приходе. Чего они бы не стали делать, если бы не расположение к этой женщине из-за ее хорошего поведения до этого момента… говоря, что, хотя она и впала в плотский грех, познав Чизмана до брака, несмотря на то, что она сделала, как он думает, в отместку за то, что ее друзья убеждали ее оставить его, она даже сказала, что должна быть с ним, и в отношении этого также сказала, что примирилась с Богом и миром, выйдя за своего супруга.
В данном случае очевидны два противоположных мнения о том, в чем состоял брак. Алиса считает, что она уже замужем, но приходская община настаивает на том, что брак не состоялся, пока не провели публичную церемонию. Одна группа людей полагает, что она и Чизман согрешили, занявшись сексом, в то время как сама пара считает, что они осуществили консумацию законного союза, как видно из косвенной речи Алисы о «женитьбе на ее муже».
Большинству браков на всех уровнях общества предшествовала фаза ухаживания с подарками и обменом практическими и финансовыми деталями между супругами, их родителями и более широким кругом друзей и членов семьи. Молодые мужчины дарили подарки активнее, хотя молодые женщины в некоторой степени отвечали на это. Самым распространенным подарком была небольшая сумма денег. В судебных делах их называют «символами» любви, а не финансовой помощью. Так же часто дарили перчатки, которые вручались на свадьбах, похоронах и во время ухаживания; по-видимому, они считались символом памяти и привязанности. Таким образом, это были хорошие личные подарки, подходящие для начальной стадии отношений, которые были еще неопределенными и формальными. Подаренное кольцо было более интимным жестом. Кольца, как и перчатки, в качестве подарка имеют множество функций, но если пару перчаток можно было подарить широкому кругу друзей, то кольцо предназначалось только для самых близких, будь то памятное кольцо, завещанное особо близкому другу или близкому члену семьи, или символы любви. Дарение и принятие таких подарков часто приводились в качестве доказательства намерений в ходе оспариваемых брачных переговоров. Отказ от такого подарка или его возврат был убедительным свидетельством того, что чувства или обстоятельства не благоприятствуют браку.
Рис. 21. Пара неплохих перчаток. Неизвестный художник, 1560-е гг. Это дешевый нравоучительный листок в виде пары перчаток (популярного подарка), который можно прикрепить или приклеить на стену. Такие ксилографии продавались по пенни за штуку, поэтому были доступны даже рабочим, которые готовы были обойтись без нескольких пинт пива
Практические соображения, касающиеся создания дома и финансирования хозяйства, распространялись на все потенциальные союзы. Для их обсуждения часто привлекался широкий круг заинтересованных лиц: родителей, хозяев, друзей и других родственников. Им необходимо было прийти к соглашению; иногда такие соглашения могли касаться только самих будущих супругов, но большинство людей нуждалось в поддержке близких. На определенных этапах процесса брачных переговоров обещания давали в приватной обстановке, а затем публично повторяли их перед свидетелями. В идеале кульминацией была публичная церемония в церкви, а консумация брака следовала вскоре после нее. Однако по интервалам между церковными церемониями и рождением первого ребенка становится ясно, что многие люди считали секс допустимым на более ранних стадиях процесса брачных переговоров. Обычное право в Йоркшире, как представляется, было особенно благоприятно для пар, вступающих в половые отношения после объявления о помолвке. Многие общины могли предоставлять жениху и невесте значительную свободу действий, когда было дано твердое обязательство вступить в брак и заключен договор. Около трети невест в Йоркшире были беременны в день церковной церемонии. Такой обычай практически приравнивал обещание женитьбы к самому браку. Несоблюдение обещаний могло обернуться катастрофой, и люди, которые пытались разорвать их, могли подвергнуться сильному общественному давлению.
Завещания зажиточных людей из Монмутшира в Уэльсе отличаются от подобных завещаний из английских графств своей терпимостью к определенным типам внебрачных гетеросексуальных отношений. Например, в огромной коллекции завещаний, сохранившихся в графстве Эссекс, редко можно найти упоминания о доле, оставленной незаконнорожденному ребенку. Записи о крещении свидетельствуют, что небольшое количество таких детей постоянно рождалось на свет, однако отцы игнорировали этих детей из-за самой природы их появления на свет. Общественный позор, окружавший рождение ребенка вне брака, оказывал дополнительное давление на составителей завещаний, вынуждая их скрывать существование своих незаконнорожденных детей, отворачиваться от них и притворяться, что таких ошибок молодости они никогда не совершали. Однако в завещании Уоткина Томаса из Чепстоу в Монмутшире, который умер в 1576 году, такая традиция не соблюдается: «Джону Уоткину, моему внебрачному сыну (base son) от Алисы Филпотт, два моих земельных участка в Готрейё. Анне Джонс, моей жене, 10 фунтов. Уильяму Уоткину, моему внебрачному сыну от Катерины Сандерс, 10 фунтов» (слово ‘base’, внебрачный, используется для обозначения незаконнорожденных детей). Остальная часть его имущества разделена между служанками, племянницей, братом и племянником. Сексуальная жизнь Уоткина Томаса явно не ограничивалась брачным ложем, и он совершенно не стеснялся открыто это признать. Оба мальчика, рожденных им вне брака, носили его имя. Семья Томаса Джонса из Ньюпорта была такой же смешанной: Томас Морган, его старший сын, по-видимому, был рожден в браке, но Эми, Эразм и Томас указаны в качестве внебрачных детей. После смерти отца в 1577 году Эми уже была замужем и имела пятерых собственных детей, а сыновья отца были еще несовершеннолетними, так что эти дети, по-видимому, появились от разных связей с многолетней разницей в возрасте. Отец делит наследство между сыновьями и детьми Эми. В 1594 году у Джона Мориса из Кевен Ллита было по крайней мере пять незаконнорожденных дочерей — Элизабет, Элис, Эленор, Кэтрин и Энн, и всех их он оставил под опекой своей жены, Гвенлиан Джэнкин. Формулировка его завещания немного неясна, но, возможно, у него была и шестая дочь, Мария, вышедшая замуж за Джона Бина. Джон Морис относился к своим дочерям с таким уважением, что именно Элизабет, своей «второй признанной дочери (reputed daughter), он завещает остальную часть своего имущества и возлагает на нее ответственность за выплату своих долгов и исполнение завещания. Сэр Чарльз Сомерсет выдал свою внебрачную дочь Кристиану замуж за своего крестника Чарльза Вогана и в 1598 году оставил им дом и сад, а также значительную сумму наличными для их четырех детей, помимо еще большего наследства, оставленного законным детям.
Все они были состоятельными людьми, уверенными в своем положении, но то же самое можно сказать и о завещателях из Эссекса. То, что мы видим в этих завещаниях, — следы различного отношения к браку, сексу и семье. Примерно в одном из десяти завещаний из Монмутшира времен правления Елизаветы обеспечены интересы названных незаконнорожденными детей. Валлийские традиции оказывают влияние на личное поведение членов этой элитной группы. Валлийские законы, касающиеся брака и наследования, отличались от английских в прошлом, и, хотя к этому моменту династия Тюдоров установила здесь английское право, более старые воззрения сохраняли свое значение. Любовница в Уэльсе не считалась женой, но тем не менее ее положение было лучше, чем положение любовницы в Англии. Представители местной элиты могли поддерживать длительные отношения с женщинами более низкого социального статуса, которых обычно селили в отдельных домах, и при этом жениться на женщине более высокого положения, которая руководила главной семейной резиденцией. Церковь не одобряла такую практику, и со временем в обществе возобладают более «современные» взгляды, однако существовало неохотное молчаливое одобрение той или иной формы конкубината. Детей, рожденных в таком союзе, обычно признавали и финансово поддерживали их отцы. Возможно, именно переход от валлийского наследного права к английскому в 1536 году спровоцировал многих в Монмутшире составить собственное завещание на бумаге. Уэльский правовой кодекс допускает, что наследником может стать любой признанный отцом ребенок; английская система дает право на наследство только законным детям. Эти завещания документируют попытки мужчин придерживаться старых норм поведения, выполнять обещания, данные ими или подразумеваемые при вступлении в связь с такими женщинами, как Алиса Филипотт и Катерина Сандерс, которым они не могли или не хотели предлагать брачный союз.
В какой бы кровати вы ни оказались, наконец-то пришло время спать — самой здоровой считалась поза на правом боку!
Благодарности
Я исследовала мир Тюдоров не в одиночку, а в компании друзей, коллег и семьи, перед которыми я в неоплатном долгу. Прежде всего моим спутником был муж, который познакомил меня с «живой историей» и с тех пор вместе со мной погружался в нее все глубже. А также моя дочь, которая составляла нам компанию с тех пор, как ей исполнилось пять недель, до того момента, пока не расправила крылья и не обрела свои собственные исторические интересы. Я также хотела бы поблагодарить Энди Манро, Шону Резерфорд и Джоан Гарлик за то, что они познакомили меня с едой и танцами тюдоровского времени. На протяжении многих лет доктор Элеонора Лоу, Джеки Уоррен, Карл Робинсон, Натали Стюарт и Джон Эмметт очень помогали мне в интеллектуальных занятиях и экспериментах. Они были источником многих мыслей, идей и вдохновения, которые стоят за этой книгой. Хью Бимиш, Пол Харгривз, Кэт Адамс, Сигрид Голмвуд, Пол Биннс, Кэти Флауэр-Бонд, Ханна Миллер, Сара Джунипер и Дженнифер Уорралл указали мне новые интересные направления, за что я им очень признательна.
Я хотела бы также выразить благодарность коллегам по телевизионной индустрии, которые разделяли, а иногда и претерпевали вместе со мной опыт тюдоровской жизни, в особенности — Питеру Гинну, Стюарту Эллиоту, Тиму Ходжу, Джорджине Стюарт, Джулии Кларк, Тому Пилбиму, Саре Лейкер, Фелиции Голд, Тому Пинфолду и Уиллу Фьюксу.
Я также чрезвычайно обязана Дженни Тирамани, Марку Райлансу и всем костюмерам, реквизиторам и другим сотрудникам и актерам театра «Глобус», которые разделяли мой интерес к изучению практических реалий елизаветинского театра и мимоходом смогли научить меня любить театр и Шекспира.
Я также благодарю сотрудников Музея Виктории и Альберта и Музея Лондона за доступ к коллекциям текстиля и обсуждение связанных с ними вопросов. Служащие архивов графств Бекингемшир, Эссекс, Чешир и Девон великодушно уделяли мне время и делились знаниями. Несколько музеев также позволили мне использовать их здания, площадки и коллекции, чтобы экспериментировать и практиковаться в различных аспектах тюдоровской жизни, а их сотрудники высказывали свои собственные мысли и интерпретации. Я признательна Музею под открытым небом Уолда и Даунлэнда в Западном Сассексе, Музею валлийской народной жизни в Сент-Фагансе в Южном Уэльсе, Хаддон-Холлу в Дербишире, Фонду Мэри Роуз в Портсмуте, Музею под открытым небом в Чилтерне в Бекингемшире, Национальному фонду, «Английскому наследию» и Загородному парку Раффорд в Ноттингемшире.
Я весьма обязана моим замечательным редакторам из издательства Penguin, без которых в этой книге было бы гораздо больше ошибок, чем сейчас (все они, разумеется, мои собственные и не имеют к ним отношения).
Наконец, я хотела бы поблагодарить множество исторических реконструкторов, музейных работников, волонтеров и студентов, которые работали вместе со мной. Их энтузиазм, готовность запачкать руки и открытость ума сделали последние двадцать пять лет столь веселыми.
Библиография
Adams Simon (ed.). Household Accounts and Disbursement Books of Robert Dudley, Earl of Leicester. London, Cambridge University Press, 1995.
Alcager Juan de. Libro de Geometria Practica y Tracia. Madrid, 1589.
Alcock N.W. Warwickshire Grazier and London Skinner 1532–1555: The Account Book of Peter Temple and Thomas Heritage. London, Oxford University Press, 1981.
Ambler R.W., Watkinson B. & L. (eds.). Farmers and Fishermen: The Probate Inventories of the Ancient Parish of Clee, South Humberside 1536–1742. Hull, University of Hull, 1987.
Ann F. Sutton. Two Dozen and More Silkwomen of Fifteenth-century London // The Ricardian. Vol. 16. 2006.
Anon. A Boke of Cokerye. London, 1500.
______. A Boke of Prayers called ye Ordynary Fashyon of good Lyvyng. London, 1546.
______. The Deceyte of Women. London, 1557.
______. Groundeworke of Conny-catching. London, 1592.
______. Here Begynneth a Lytell Boke Called Good Maners. London, 1498.
______. Liber Cure Cocorum. Sloane Manuscript, 1586; edited by Richard Morris, 1862.
______. A Manifest Detection of the Most Vyle and Detestable Use of Diceplay. London, 1552.
______. A Merry Jest of John Jonson and Jakaman his wife, Whose Jealousie was Justly the Cause of all their Strife. London, 1586.
______. The Most Renowned Venture of our Brave and Valiant Earl of Essex in the Downe Fall of Cales. London, 1596.
______. A Proper Newe Booke of Cokerye. London, 1557.
______. Tales and Quick Answers, Very Mery, and Pleasant to Rede. London, 1567.
Arbeau Thoinot. Orchesography. Langres, 1589.
Arnold Janet. The «pair of straight bodies» and «a pair of drawers» dating from 1603 which Clothe the Effigy of Queen Elizabeth I in Westminster Abbey // Costume. Vol. 41. Wakefield, Maney Publishing, 2007.
_____. Patterns of Fashion: The Cut and Construction of Clothes for Men and Women c.1560–1620. London, Macmillan, 1985.
_____. Patterns of Fashion: The Cut and Construction of Linen Shirts, Smocks, Neckwear, Headwear and Accessories for Men and Women c.1540–1660. London, Macmillan, 2008.
_____. Queen Elizabeth’s Wardrobe Unlock’d. Leeds, Maney Publishing, 1988.
Arnold Richard. A Chronicle. London, 1503.
Ascham Roger. Toxophilus. London, 1545.
Aydelotte Frank. Elizabethan Rogues and Vagabonds. London, Frank Cass & Co, 1967.
Bales Peter. The Writing Schoolemaster. London, 1590.
Bath Michael. Renaissance Decorative Painting in Scotland. Edinburgh, National Museums of Scotland, 2003.
Beauchesne John de. A Booke Containing Diverse Sorts of Hands. London, 1570.
Becon Thomas. Homilies: Against Whoredom. London, 1560.
Berger Ronald M. The Most Necessary Luxuries: The Mercers’ Company of Coventry 1550–1680. Philidelphia, Pennsylvania State University Press, 1993.
Beza Theodore. Household Prayers. London, 1603.
Biringuccio Vannoccio. Pirotechnia. Venice, 1540.
Boorde Andrewe. A Compendyous Regiment of Healthe. London, 1540.
Braithwaite Richard. Some Rules and Orders for the Government of the House of an Earl. 1603.
Bray Alan. Homosexuality in Renaissance England. London, Gay Men’s Press, 1982.
Brayshay Mark. Land Travel and Communications in Tudor and Stuart England: Achieving a Joined-up Realm. Liverpool, Liverpool University press, 2014.
Brunscheig Hieronymous. Vertuous Boke of Distyllation. London, 1527.
Buck Anne. The Clothes of Thomasine Petre 1555–1559 // Costume. Vol. 24. Leeds, Maney Publishing, 1990.
Bullein William. The Government of Health. London, 1558.
Burch C.E.C. Minstrels and Players in Southampton 1428–1635. Southampton, City of Southampton, 1969.
Buttes Henry. Diets Drie Dinner. London, 1599.
Capp Bernard. When Gossips Meet: Women, Family and Neighbourhood in Early Modern England. Oxford, Oxford University Press, 2003.
Cardano Girolamo. Liber de Ludo Aleae. 1564; first published Lyons, 1663.
Caroso Fabritio. Nobiltà di Dame. Venice, 1600.
Chandler John (ed.). John Leland’s Itinerary: Travels in Tudor England. Stroud, Sutton Publishing, 1993.
Clopper Lawrence M. (ed.). Records of Early English Drama: Chester. Manchester, Manchester University Press, 1979.
Cogan Thomas. The Haven of Health. London, 1584.
Collinson Patrick. The Elizabethan Puritan Movement. Oxford, Clarendon Press, 1967.
Cooper Tarnya. Citizen Portrait: Portrait Painting and the Urban Elite of Tudor and Jacobean England and Wales. New Haven and London, Yale University Press, 2012.
Coote Edmunde. The English Schoolmaster. London, 1596.
Copeland Robert. The Manner of Dauncynge Bace Daunces. London, 1521.
_____. The Seven Sorrows that Women have when their Husbandes be Deade. London, 1526.
Davies Kathryne. Artisan Art: Vernacular Wall Painting in the Welsh Marches 1550–1650. Little Logaston, Logaston Press, 2008.
Dawson Mark. Plenti and Grase: Food and Drink in a Sixteenth-century Household. Totnes, Prospect Books, 2009.
Dawson Thomas. The Good Housewife’s Jewel. London, 1596.
Dickerman Susan. Painted Prints: The Revelation of Color. Philadelphia, Pennsylvania State University Press, 2002.
Dietz Brian (ed.). The Port and Trade of Early Elizabethan London Documents. London, London Record Society, 1972.
Duffy Eamon. Marking the Hours. New Haven and London, Yale University Press, 2006.
_____. The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England 1400–1580. New Haven and London, Yale University Press, 1992.
Dugen Holly. The Ephemeral History of Perfume. Baltimore, John Hopkins University Press, 2011.
Durston Christopher, Eales Jacqueline (eds.). The Culture of English Puritanism 1560–1700. London, Macmillan, 1996.
Eccles Christine. The Rose Theatre. London, Walker Books, 1990.
Edwards Peter. The Horse Trade of Tudor and Stuart England. Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
Elyot Sir Thomas. The Banket of Sapience. London, 1534.
_____. The Boke Named the Governour. London, 1531.
_____. The Castel of Health. London, 1534.
Emmison F.G. (ed.). Essex Wills: The Archdeaconry Courts 1577–1584. Chelmsford, Essex Record Office, 1987.
_____. Essex Wills: The Archdeaconry Courts 1583–1592. Chelmsford, Essex Record Office, 1989.
_____. Essex Wills: The Archdeaconry Courts 1591–1597. Chelmsford, Essex Record Office, 1991.
_____. Essex Wills: The Archdeaconry Courts 1597–1603. Chelmsford, Essex Record Office, 1990.
_____. Essex Wills: The Commissary Court 1558–1569. Chelmsford, Essex Record Office, 1993.
_____. Essex Wills: The Commissary Court 1569–1578. Chelmsford, Essex Record Office, 1994.
_____. Essex Wills: The Commissary Court 1578–1588. Chelmsford, Essex Record Office, 1995.
Englefield W.A.D. The History of the Painter-Stainers Company of London. London, Hazell, Watson & Viney Ltd, 1923.
Erasmus Desiderius. The Civilitie of Childehode. London, 1530.
Fissell Mary E. Vernacular Bodies: The Politics of Reproduction in Early Modern England. Oxford, Oxford University Press, 2004.
Fitzherbert John. The Boke of Husbandry. London, 1533.
Foakes R.A. (ed.). Henslowe’s Diary. Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
Fox Adam. Oral and Literate Culture in England 1500–1700. Oxford, Oxford University Press, 2000.
Gardiner Julie, Allen Michael J. Before the Mast: Life and Death Aboard the Mary Rose. Portsmouth, Mary Rose Trust, 2005.
Gent Lucy, Llewellyn Nigel (eds.). Renaissance Bodies: The Human Figure in English Culture c. 1540–1660. London, Reaktion Books, 1990.
Gesner Konrad. The Newe Jewell of Health. 1576.
_____. The Treasury of Euonymous. 1559.
Gibson Gail McMurray. The Theater of Devotion: East Anglian Drama and Society in the Late Middle Ages. London, University of Chicago Press, 1989.
Gibson J.S.W. (ed.). Banbury Wills and Inventories: Part One 1591–1620. Banbury, Banbury Historical Society, 1985.
Gosson Stephen. Schoole of Abuse. London, 1579.
Gowing Laura. Common Bodies: Women, Touch and Power in Seventeenth-century England. New Haven and London, Yale University Press, 2003.
_____. Domestic Dangers: Women Words and Sex in Early Modern London. Oxford, Clarendon Press, 1996.
Greene Robert. A Notable Discovery of Cozenage. London, 1592.
Griffiths Paul, Fox Adam, Hindle Steve (eds.). The Experience of Authority in Early Modern England. London, Macmillan, 1996.
Hacket Thomas. A Dairie Booke for Good Huswives. London, 1588.
Hailwood Mark. Alehouses and Good Fellowship in Early Modern England. Woodbridge, Boydell Press, 2014.
Hamling Tara. Decorating the Godly Household: Religious Art in Post-Reformation Britain. New Haven and London, Yale University Press, 2010.
Hanawalt Barbara A. The Ties that Bound: Peasant Families in Medieval England. Oxford, Oxford University Press, 1986.
Harman Thomas. Caveat for Common Cursitors. London, 1567.
Harrison William. The Description of England. London, 1587.
Harvey Barbara. Living and Dying in England 1100–1540. Oxford, Clarendon Press, 1993.
Hayward Maria. Rich Apparel: Clothing and the Law in Henry VIII’s England. Farnham, Ashgate, 2009.
_____. Dress at the Court of King Henry VIII. Leeds, Maney Publishing, 2007.
Heal Felicity, Holmes Clive. The Gentry in England and Wales 1500–1700. London, Macmillan Press, 1994.
Hecatonphila Alberti Leon Battista. The Arte of Love. London, 1598.
Heresbach Conrad. Foure Books of Husbandry. London, 1577.
Howard Helen. Pigments of English Medieval Wall Painting. London, Archetype Publications, 2003.
Hubbard Eleanor. City Women: Money, Sex and the Social Order in Early Modern London. Oxford, Oxford University Press, 2012.
Huggett Jane. Rural Costume in Elizabethan Essex: A Study Based on the Evidence of Wills // Costume. Vol. 33. Leeds, Maney Publishing, 1999.
Hunnisett R.F. (ed.). Sussex Coroners’ Inquests 1552–1603. London, Public Records Office, 1996.
Hutton Ronald. The Rise and Fall of Merry England: The Ritual Year 1400–1700. Oxford, Oxford University Press, 1996.
Isaac Veronica. Presuming Too Far «above his very base and low degree»?: Thomas Cromwell’s Use of Textiles in his Schemes for Social and Political Success (1527–1540) // Costume. Vol. 45. Wakefield, Maney Publishing, 2011.
Jones Ann Rosalind, Stallybrass Peter. Renaissance Clothing and the Materials of Memory. Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
Jones J. Gwynfor. Early Modern Wales c.1525–1640. London, Palgrave Macmillan, 1994.
Jones Jeanne (ed.). Family Life in Shakespeare’s England: Stratford-upon-Avon, 1570–1630. Stroud, Sutton Publishing, 1996.
Jones Judith (ed.). Monmouthshire Wills: Proved in the Prerogative Court of Canterbury 1560–1601. Cardiff, South Wales Record Society, 1997.
Jones Malcolm. The Print in Early Modern England: An Historical Oversight. New Haven and London, Yale University Press, 2010.
Kempe William. The Education of Children in Learning. London, 1583.
Kent Ann, Kent Paul, Cherwell Thy Wyne. Dolmetsch Historical Dance Society, 2013.
Kerridge Eric. Trade and Banking in Early Modern England. Manchester, Manchester University Press, 1988.
Lanfranco. A Moste Excellent and Learned Woorke of Chirurgerie. London, 1565.
Langton Christopher. An Introduction to Physicke. London, 1545.
Lauze F. de. Apologie de la Danse. 1623.
Levey Santina. References to Dress in the Earliest Account Book of Bess of Hardwick // Costume. Vol. 34. Leeds, Maney Publishing, 2000.
Machyn Henry. Diary of Henry Machyn: Citizen of London, 1550–1563 / edited by John Gough Nichols. New York and London, AMS Press, 1968.
Maltby Judith. Prayer Book and People in Elizabethan and Early Stuart England. Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
Man Thomas. A Glasse for Gamesters. London, 1581.
Markham Gervase. The English Husbandman. London, 1613.
_____. The English Huswife. London, 1615.
Marsh Christopher. Popular Religion in Sixteenth-century England. London, Macmillan, 1998.
Marston John. The Scurge of Villanie. London, 1598.
Mascall Leonard. The First Booke of Cattell. London, 1591.
McGowan Margaret M. Dance in the Renaissance. New Haven and London, Yale University Press, 2008.
Montague Anthony Viscount. A Booke of orders and Rules. 1595.
Moore John S. (ed.). The Goods and Chattels of our Forefathers: Frampton Cotterell and District Probate Inventories, 1539–1804. London and Chichester, Phillimore & Co., 1976.
Moore Norman. The History of St Bartholomew’s Hospital. London, 1918.
Moulton Thomas. This is the Myrrour or Glasse of Helth. London, 1545.
Mulcaster Richard. The First Part of the Elementarie. London, 1582.
Muldrew Craig. Food, Energy and the Creation of Industriousness: Work and Material Culture in Agrarian England 1500–1780. Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
Nashe Thomas. The Anatomy of Absurdity. London, 1589.
Nevile Jennifer. Dance Steps and Music in the Gresley Manuscript // Historical Dance. Vol. 3, no. 6. Dolmetsch Historical Dance Society, 1999.
O’Hara Diana. Courtship and Constraint: Rethinking the Making of Marriage in Tudor England. Manchester, Manchester University Press, 2000.
Overton Mark. Agricultural Revolution in England: The Transformation of the Agrarian Economy 1500–1850. Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
Oxley James E. The Fletchers and Longbowstringmakers of London. London, Worshipful Company of Fletchers, 1968.
Partridge John. The Treasurie or Closet of Hidden Secrets. London, 1573.
Pelling Margaret. The Common Lot: Sickness, Medical Occupations and the Urban Poor in Early Modern England. London, Longman, 1998.
Pietsche Johannes. The Burial Clothes of Margaretha Franziska de Lobkowitz 1617 // Costume. Vol. 42. Wakefield, Maney Publishing, 2008.
Plat Sir Hugh. Delightes for Ladies. London, 1603.
_____. The Jewel House of Art and Nature. London, 1595.
Pollock Linda A. Forgotten Children: Parent — Child Relations from 1500 to 1900. Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
Rangstrom Lena. Modeljon Manlight Mode. Stockholm, Liverustkammaren Bokforlaget Atlantis, 2003.
Reed Michael (ed.). The Ipswich Probate Inventories 1583–1631. Woodbridge, Boydell Press, 1981.
Rhodes Hugh. The Boke of Nurture. London, 1577.
Rosewell Roger. Medieval Wall Paintings. Woodbridge, Boydell Press, 2008.
Scot Reginald. The Discoverie of Witchcraft. London, 1584.
_____. A Perfite Platforme of a Hoppe Garden. London, 1576.
Seager F. The School of Virtue. London, 1534.
Sharpe J.A. Crime in Early Modern England 1500–1750. New York and London, Longman Press, 1984.
Shepard Alexandra. Meanings of Manhood in Early Modern England. Oxford, Oxford University Press, 2003.
Shepard Alexandra, Withington Phil (eds.). Communities in Early Modern England. Manchester, Manchester University Press, 2000.
Shuger Debora Kuller. Habits of Thought in the English Renaissance. Oakland, University of California Press, 1990.
Slack Paul. The Impact of the Plague in Tudor and Stuart England. Oxford, Clarendon Press, 1985.
Slavin Philip. Bread and Ale for the Brethren: The Provisioning of Norwich Cathedral Priory 1260–1536. Hatfield, University of Hertfordshire Press, 2012.
Spufford Margaret. Contrasting Communities: English Villagers in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Cambridge, Cambridge University Press, 1974.
_____. Small Books and Pleasant Histories: Popular Fiction and Its Readership in Seventeenth-century England. Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
_____. The Great Reclothing of Rural England: Petty Chapmen and their Wares in the Seventeenth Century. London, Hambledon Press, 1984.
Stern Elizabeth. Peckover and Gallyard, Two Sixteenth-century Norfolk Tailors // Costume. Vol. 15. London, The Costume Society, 1981.
Stow John. A Survey of London. London, 1598.
Stubbes Philip. The Anatomie of Abuses. London, 1583.
Tasso Torquato. The Householders Philosophie. London, 1588.
Taylor John. In Praise of Cleane Linen. London, 1624.
Thirsk Joan (ed.). Agricultural Change: Policy and Practice 1500–1750. Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
_____. Food in Early Modern England. London, Hambledon Continuum, 2007.
Thomas Keith. The Ends of Life: Roads to Fulfilment in Early Modern England. Oxford, Oxford University Press, 2009.
Tilney Edmund. The Flower of Friendship.London, 1568.
Tittler Robert. The Face of the City: Civic Portraiture and Civic Identity in Early Modern England. Manchester, Manchester University Press, 2007.
_____. Portraits, Painters, and Publics in Provincial England 1540–1640. Oxford, Oxford University Press, 2012.
_____. Townspeople and Nation: English Urban Experiences 1540–1640. Stanford, Stanford University Press, 2001.
Tusser Thomas. A Hundreth Good Pointes of Husbandrie. London, 1557.
_____. Five Hundreth Pointes of Good Husbandrie. London, 1573.
Tymms Samuel (ed.). Wills and Inventories from the Registers of the Commissary of Bury St Edmunds and the Archdeacon of Sudbury. New York and London, AMS Press, 1968.
Unger Richard W. Beer in the Middle Ages and the Renaissance. Philadelphia, University of Pennsylvania, 2004.
Vanes Jean (ed.). The Overseas Trade of Bristol in the Sixteenth Century. Bristol, Bristol Record Society, 1979.
Vanes Jean. Education and Apprenticeship in Sixteenth-century Bristol. Bristol Branch of the Historical Association, Local History Pamphlets, 1981.
Vicary Thomas. The Englishman’s Treasurie. London, 1587.
Vincent Susan. Dressing the Elite: Clothes in Early Modern England. Oxford, Berg, 2003.
Walsham Alexandra. Providence in Early Modern England. Oxford, Oxford University Press, 1999.
Walter John, Schofield Roger (eds.). Famine, Disease and the Social Order in Early Modern Society. Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
Watt Tessa. Cheap Print and Popular Piety 1550–1640. Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
Webb John (ed.). Poor Relief in Elizabethan Ipswich. Ipswich, Suffolk Record Society, 1966.
_____. The Town Finances of Elizabethan Ipswich. Woodbridge, Boydell Press, 1996.
Webbe William. Discourse of English Poetrie. London, 1586.
Wheathill Anne. A Handfull of Holesome (Though Homelie) Hearbs. London, 1584.
Wilson D.R. Dancing in the Inns of Court // Historical Dance. Vol. 2, no. 5. Dolmetsch Historical Dance Society, 1986/7.
_____. Performing Gresley Dances // Historical Dance. Vol. 3, no. 6. Dolmetsch Historical Dance Society, 1999.
Woodward Donald. Men at Work: Labourers and Building Craftsmen in the Towns of Northern England, 1450–1750. Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
Woorde Wynken de. Boke of Kervyng. London, 1508.
Wurzbach Natascha. The Rise of the English Street Ballad 1550–1650. Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
Zell Michael. Industry in the Countryside: Wealden Society in the Sixteenth Century. Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
Иллюстрации
1. Сэр Генри Антон. Фрагмент картины неизвестного художника, ок. 1596 г. Последние часы жизни солдата и дипломата времен королевы Елизаветы сэра Генри Антона прошли в постели под красным бархатным балдахином на четырех столбах. На картине видны толстые матрасы, валики и подушки в чехлах из тонкого белого льна, одеяла и подходящее по цвету красное покрывало
2. Четыре жены. Лукас де Гир, ок. 1574 г. На каждой из них надеты платье, которое открыто взору, и мантия. На этом примере видно, как благодаря выбору маленьких и недорогих головных уборов и украшений для шеи можно подчеркнуть индивидуальность в наряде. Также обратите внимание, что у женщины слева рукава платья сделаны из другой ткани
3. Сожжение останков Мартина Буцера и Пауля Фагиуса. Гравюра из «Книги мучеников» Джона Фокса, 1583 г. Религия занимала важнейшее место в жизни людей и их понимании окружающего мира. Яростные разногласия по вопросам учения унесли множество жизней. Пытки, казни и сжигание книг устраивались во многих городах, особенно регулярно — в Оксфорде, Кембридже и Лондоне
4. Аллегория дерзости. Иероним Нутцель, ок. 1590 г. Одной из центральных проблем, на которую были направлены сумптуарные законы, был соблазн людей надевать социально неприемлемую для них одежду, одежду тех, кто выше по статусу. Один из рафов на этом изображении даже украшает кучу экскрементов, подчеркивая низменную природу некоторых носителей одежды, неподобающей им по статусу. Дьявол на переднем плане поддерживает огонь, в котором нагреваются гофрировальные палочки, что напоминает о пытках ада, которые ждут выскочек
5. Алиса Барнем и два ее сына, Мартин и Стивен. Неизвестный художник (английская школа), 1557 г. В состоятельных домах первые уроки чтения и письма на английском языке были обязанностью образованной матери, которая давала их до того, как мальчики станут старше и преподаватели-мужчины начнут заниматься с ними латынью
6. Сэр Кристофер Хаттон. Уильям Сегар, ок. 1581 г. Образ тюдоровского мышления виден на одной из сторон двухстворчатого панно. Крайне индивидуальное содержание и композиция явно продиктованы вкусами модели. Сэр Кристофер Хаттон не только рассказывает нам о своем происхождении (через геральдику), но и хочет, чтобы мы узнали что-то о его личности и судьбе (через астрологические символы), его интересе к алхимии (блоки цвета), о том, что он человек, который сам сформировал свою идентичность (художник) и хорошо образован (философ)
7. Сэр Генри Антон. Фрагмент картины неизвестного художника, ок. 1596 г. Стол накрыт, поднос с кубками выставлен, йомен, отвечающий за столовую посуду, йомен-привратник и слуги стоят наготове, джентльмены положили салфетки на левое плечо, а дамы укрыли ими колени. Ужин подан
8. Весна. Питер ван дер Хейден, 1570 г. Эти сцены весны в Нидерландах содержат прекрасное изображение сезона стрижки овец. Обратите внимание, что каждый человек делает свою часть работы и что овцы достаточно маленькие и их можно стричь, положив себе на колени. Что касается садоводства, мужчины здесь составляют часть ренессансной композиции, а на самом деле посадкой растений занимались женщины
9. Лето. Питер ван дер Хейден, 1570 г. Когда мужчины шли по полю с косой во время сбора урожая, за ними следовали женщины и дети, которые вязали снопы и ставили стога. На переднем плане изображен юноша, устроивший себе перерыв
10. Судный день. Неизвестный художник, 1475 г. На этой насыщенной композиции Судного дня из церкви Св. Фомы в Солсбери епископов, скряг и нечестных на руку торговок элем сгоняют в ад. Религиозные произведения искусства, предназначенные для мест религиозного поклонения, составляли значительную часть заказов художников вплоть до Реформации. Потеря этих заказов стала финансовой катастрофой для ремесленников
11. Герб времен Елизаветы. Неизвестный художник, ок. 1570 г. Этот герб в церкви Св. Екатерины в Ладэме был нарисован на холсте для того, чтобы повесить его поверх старого, менее приемлемого с религиозной точки зрения, изображения сцены распятия. С технической точки зрения это «набивка», а не «покраска»
12. Гавен Гудман. Неизвестный художник (Британская школа), 1582 г. Этот торговец из Ратина в Уэльсе явно хотел, чтобы его портрет передавал нечто большее, чем просто внешность. Мне нравится напористая уверенность в себе мастеров эпохи Тюдоров, которые довольно успешно использовали европейскую технику, адаптируя ее, исходя из собственных целей и стиля
13. Похороны Джадда. Неизвестный художник, ок. 1560 г. Эта типично британская картина с акцентом на структуре и значении наполнена символизмом. Помимо религиозных текстов, черепа и лежащего на переднем плане тела усопшего, на ней можно увидеть четыре геральдических символа, две миниатюрные шерстяные подушки, зажженную свечу и две тщательно подобранные цветочные композиции. Две фигуры на портрете, Джоан и Уильям, изображены с ирисом, или геральдической лилией. Это не столько портрет, сколько история двух жизней, если вы понимаете зашифрованные в нем послания
14. Четыре высокопоставленных джентльмена играют в «примеро» (карточную игру). Мастер из круга графини Уорик, ок. 1567–1569 г. Азартные игры, из-за связанных с ними рисками, считались по своей природе занятием, приличествующим джентльменам. Обратите внимание на большое количество серебряных монет на столе — это целое состояние. Игроков обычно идентифицируют как (слева направо): сэра Фрэнсиса Уолсингема (ок. 1532–1590), члена Тайного совета; Уильяма Сесила, впоследствии лорда Бёрли (1520–1598), самого важного советника королевы Елизаветы, занимавшего должности государственного секретаря и лорд-казначея; лорда Хансдона (1526–1596), лорд-гофмейстера; и сэра Уолтера Рэли (1552–1618), мореплавателя и исследователя
15. Праздник в Бермондси (фрагмент). Йорис Хуфнагель, ок. 1569–1570 г. Танцы были удовольствием, к которому стремились с особым рвением молодые люди любого социального положения и пола. Здесь изображены куранта, турдион или джига
16. Праздник в Бермондси (фрагмент). Йорис Хуфнагель, ок. 1569–1570 г. В городах обед можно было приобрести в лавках с пирогами и горячими блюдами
17. Джоан Аллен. Неизвестный художник (Британская школа), 1596 г. Джоан была женой актера Эдварда Аллена и падчерицей Филиппа Хенслоу, антрепренера, стоявш его за театром «Роза», ростовщика и совладельца крахмального дома. Ее одежда явно указывает на то, что она была женой лондонского торговца или человека свободной профессии
18. Мэри Уоттон, леди Гилденфорд. Ганс Гольбейн-младший, 1527 г. Городской художественный музей Сент-Луиса. Мэри Уоттон изображена носящей гейбл и вуаль
19. Английская леди. Ганс Гольбейн-младший, ок. 1540/1543 г. Музей истории искусств, Вена. На женщине надет тюдоровский парлет
20. Томас Мор и его семья. Роуланд Локи после Ганса Гольбейна-младшего, 1592 г. Превосходная иллюстрация английской моды 1520-х гг.
21. Знатная дама. Портрет работы Михеля Зиттова. Считается, что на картине изображена Екатерина Арагонская в юности. Образец женского английского одеяния 1500–1520-х гг. На девушке надет чепец и темное платье поверх кертла. Стоит обратить внимание на вышивку, украшенный драгоценными камнями воротник и длинную тяжелую золотую цепочку
22. Маргарита Вайт, Леди Ли. Мастерская Гольбейна, 1540 г. Метрополитен-музей. Образец женской одежды 1535–1540 гг. На женщине надеты покрытое узором платье с широкими рукавами и парлет на белой подкладке
23. Леди, возможно родственница Оливера Кромвеля. Предположительно на картине изображена Элизабет Сеймур. Ганс Гольбейн-младший, ок. 1535–1540 г. Женщина одета в черное платье с длинными рукавами, манжеты которых украшены вышивкой
24. Леди Маргарет Буттс. Ганс Гольбейн-младший, ок. 1543 г. Виден гейбл и накидка из меха
25. Елизавета I в юности. Авторство портрета ошибочно приписывалось Уильяму Скротсу. Ок. 1546 г.
26. Артур, принц Уэльский. Неизвестный художник, ок. 1500 г. Прекрасно видна красная шляпа с двумя золотыми пуговицами, украшенный драгоценными камнями воротник и одеяние с темной меховой отделкой
27. Томас Говард, 3-й герцог Норфолк. Ганс Гольбейн-младший, ок. 1539 г. На мужчине надет черный плащ с подкладкой из меха рыси, у его рубашки вышитый стоячий воротник
Фотоматериалы
1. Public domain. 2. Public domain. 3. Public domain. 4. Public domain. 5. Public domain. 6. © The Trustees of the British Museum. 7. © Hulton Archive/Getty Images. 8. Public domain. 9. Public domain. 10. © From La conusaunce damours, unknown author. 11. Public domain. 12. © Printed by Wynkin de Worde. From De proprietatibus rerum by Bartholomeus Anglicus. 13. © Printed by P. Treveris. From Newe tracte for husbande men by John Fitzherbert. 14. Public domain. 15. © Printed by P. Treveris. From the Grete Herball. 16. Public domain. 17. © Library of Congress. 18. Public domain. 19. Public domain. 20. © Printed by R. Pynson. From Antibossicon by William Lily. 21. © Printed by William Powell. Copy in Huntingdon Library, San Marino, California.
1. © National Portrait Gallery, London. 2. © The British Library Board. 3. © Private Collection/Bridgeman Images. 4. © Universal History Archive/UIG via Getty is. 5. © The Berger Collection at the Denver Art Museum, USA/Bridgeman Images. 6. © Northampton Museums and Art Gallery. 7. © National Portrait Gallery, London. 8. © Staatliche Graphische Sammlung München. 9. © Staatliche Graphische Sammlung München. 10. © Photo by Emm Photography, reproduced with permission from St Thomas’s church, Salisbury. 11. © Ed Grapes, and by kind permission of St Catherine’s church, Ludham. 12. © National Museum of Wales. 13. © By permission of the Trustees of Dulwich Picture Gallery, London. 14. © The Right Hon. Earl of Derby/Bridgeman Images. 15. © Hatfield House, Hertfordshire, UK/Bridgeman Images. 16. © Hatfield House, Hertfordshire, UK/Bridgeman Images. 17. © By permission of the Trustees of Dulwich Picture Gallery, London. 18. Public domain. 19. Public domain. 20. © National Trust Images. 21. Public domain. 22. © Metropolitan Museum of Art / Bequest of Benjamin Altman, 1913. 23. © Toledo Museum of Art / Gift of Edward Drummond Libbey. 24. Public domain. 25. © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2021. 26. © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2021. 27. © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2021.
