Князь Владимир
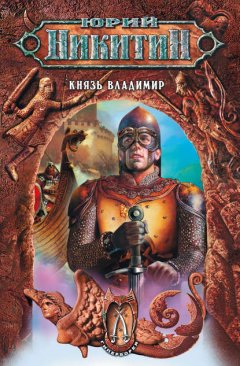
Книга 1
Пролог
В крохотную каморку челядной шагнул высокий молодой воин. Лицо смуглое, хищное, голова чисто выбрита, лишь с макушки свисает длинный клок пышных темно-русых волос. В левом ухе серьга с рубином, смуглое лицо худое, настороженное, с выпирающими острыми скулами. Даже здесь, в своем тереме, он двигался как волк в лесу: настороженно, бесшумно, готовый внезапно оскалить зубы. Пальцы крупных мускулистых рук никогда не удалялись от короткого меча на бедре и кинжала на поясе.
Железный шлем на локте левой руки, рубашка из железных колец плотно обтягивает широкие плечи, ноги в облегающих кожаных портках и высоких сапогах для верховой езды.
Вместе с ним в тесное помещение ворвались тревожащие запахи конского пота, степных трав, пожаров и крови. Женщина, что лежала скорчившись на широкой дубовой лавке, повернула измученное худое лицо. С воином пришел запах гари, словно бы стены раздвинулись и огромная враждебная Степь ворвалась в тесную комнатку. И даже слышались крики заклятых врагов – хазар, савинов…
– Уже? – спросил он требовательно.
– Сын, – ответила она едва слышно.
Она пыталась облизнуть бледные губы, язык царапался о сухое нёбо. У правого бока лежал завернутый в лохмотья ребенок с красным сморщенным личиком.
Воин поморщился:
– Чего такой красный? Урод какой-то.
Она прошептала слабо:
– Он будет красивым… все дети на свет такими… Дай ему имя, княжич.
Воин, которого назвала княжичем, поморщился, оглянулся, словно спрашивая самого себя, почему стоит здесь в темном чулане, где нельзя дышать от запахов грязного белья и вони от близкого свинарника. Из-за плеча выглянули и торопливо исчезли, как испуганные мыши, стряпухи. Молодой княжич грозен, свиреп, часто неистов. Под горячую руку попасть – можно потерять и голову.
– Имя?.. Гм… Он был зачат в степи. Так пусть же будет Степаном!
Женщина вскрикнула, протянула к нему дрожащие руки:
– Нет… Степь – это кровь, набеги, пожары, полон… А у него должно быть имя… самое лучшее на свете…
– Тогда Костей! Чтобы стал крепким, как кость. И пусть будет врагам нашим костью в горле. Отец говорил, что Костяным звали его дальнего родственника Зигфрида.
– И это как-то грубо… Он же у меня первенький! Может быть, Назар? Ведь он на заре родился…
– Не по-мужски. Лучше Сила, Силантий, Стоян…
– А Наум? Чтобы был самым умненьким?
Воин сказал с раздражением:
– Водан, Рюрик, Потык – вот имена для воина! А то еще Ульяном назови, чтобы пчел приманивал, или Филей-Филипом, чтобы мыши боялись!.. Ладно, не реви. Ишь, посматривает, волчонок… Он останется рыжим или потемнеет?.. Давай так и назовем: рыжий волк, а? Рудой волк! Рудольф?
– Волк – это страшно, – сказала она несмело и заплакала.
Воин нависал сверху, молодой, но уже огромный и хищный, в запавших глазах блистали искры. Лицо с резко очерченными чертами выражало сдержанное недовольство. Он уже жалел, что пришел в каморку для низшей челяди. Мало ли что когда-то во хмелю подгреб под себя эту девку, надо признаться, красивую, но когда вернулся из похода в Киев, стало не до нее. Он вообще женщин мало замечал: сильные мужчины раздвигают мечом пределы, пробивают новые торговые пути в дальние страны, накладывают дань на богатых соседей, бдят, защищают, добывают, а сладострастие – это утеха рабов. Другие радости им просто недоступны.
– Ладно, – сказал он, отступая к двери, – выбери сама любое имя.
– Благодарю…
Она от слабости на миг опустила веки, а когда открыла глаза, в каморке снова темно и пусто. Под окном раздался лихой свист, прогремел дробный стук копыт. Судя по направлению, где он затих, юный княжич умчался к воеводе Сфенелу, который был воеводой у князя Олега, оставался им при Игоре, а теперь все еще воевода и правая рука у великой княгини Ольги…
– Игорек, – прошептала она, – ты ведь такой игривый… Или Беримир, Селимир, Будимир… чтобы трудом своим заселил мир…
В каморке душно и жарко. В единственное окошко пробивается сквозь стенку бычьего пузыря слабый свет. Потом подошла, судя по силуэту, расседланная лошадь. Задумчиво почесалась о стену, подняла хвост. Малуша услышала дробный стук конских каштанов. Сильный запах конского помета тяжелой волной хлынул в тесное помещение.
Малуша ощутила дурноту. В раскрытой двери мелькали неопрятные челядинцы. Протащили тяжелую лохань, разбрызгивая дурно пахнущие помои.
– Нет, – прошептали ее обескровленные губы, – пусть будет сильным и стойким… Пусть станет хитрым и живучим… Хоть родился рабом, но пусть не останется им. Как суждено мне… И в залог этого пусть имя его будет – Владимир!
Часть первая
Глава 1
Огромный конь мотал головой, страшно храпел, часто переступал ногами. Это уже не смирная коняга, на которую сажали сильные руки взрослых. Этого зверя с гривой сам взнуздал в конюшне, сам вывел во двор. Только бы приучить молодого жеребца к себе, своему запаху!
На крыльце сидел Сувор, старый дружинник. Острые глаза из-под кустистых бровей внимательно смотрели за босоногим мальчиком, похожим на маленького взъерошенного вороненка на спине огромного коня. Сувор был еще в силе, только хромал из-за наконечника стрелы, засевшего под коленом. Да и жилы левой руки срослись плохо, в локте разгибалась не до конца. Но ему доверял воевода Сфенел, уважала княгиня и любил молодой княжич Святослав, уже стяжавший ратную славу неистового воителя.
– За гриву не хватайся, – предостерег он. – Позор для мужа!
Мальчик осторожно направил коня вдоль забора, понуждая идти во дворе по кругу. Жеребец шел легко, косился налитым кровью глазом на крохотного всадника. И не слышно на спине, но чует его слабенькую, но требовательную руку.
Сувор щурился под утренним солнцем. Толстые дубовые ступеньки прогрелись под прямыми лучами, от земли поднимается пряная сырость. Забегали муравьи, копают, строят, тащат. Из заднего двора доносится довольный гогот откормленных гусей. Прекрасный мир сотворил Род, отец всего живущего! И вовремя привел свирепых русов на земли мирных славян. Русы, защитив славян от хазар и других насильников, взяли в жены их дочерей, дети от такого брака зовутся русичами, и вот без крови и борьбы Сфенел безропотно служит русичу Святославу и его матери, славянке из племени древлян, княгине Ольге!
Жеребец с грохотом пронесся мимо. Копыта выбивали комья сухой утоптанной земли, те взлетали выше головы. Волосы мальчонки трепало ветром, похожие на черный огонь с редкими рыжими искорками. Владимир, закусив губы, напряженно смотрел перед собой.
– Довольно, – сказал наконец Сувор предостерегающе. – И так растешь не по дням, а по часам! Неделю тому тебя и на смирную кобылу сажали под мышки, а теперь какого зверя взнуздал!
Владимир не ответил, боялся своего дрожащего голоса. Он гонял коня по двору, приучая к себе, своему запаху, превозмогал слабость, заставляя жеребца ощутить усталость раньше, чем свалится с коня он сам.
Сувор задремал под теплым солнышком, очнулся от надсадного гоготания гусей. Те гоняли забежавшего пса. Сувор потряс головой и удивленно уставился на кружившего по двору маленького всадника:
– Еще на коне? Тебя сам Велес за ноги держит, что ли? Что за малец…
– Добрый конь! – крикнул Владимир из последних сил. Голос его осип, превратился в жалобный писк.
– Еще бы, – ухмыльнулся Сувор. – У хазар захватили! А они толк в конях знают.
– Но у меня будет лучше, – ответил Владимир. Голос пресекся, ибо жеребец внезапно пошел боком. – У меня будет свой конь.
Сувор покачал головой, но глаза его смотрели строго и настороженно. Мальчишка родился и был рабом. А рабу не суждено стать князем или знатным мужем. Правда, при усердии да старании может выкупиться из рабства, стать отроком, затем дружинником, а повезет – то и старшим дружинником. Тогда у него будут свои кони, свой терем, а то и село какое под старость получит в кормление…
Наверху в горнице послышались визгливые женские голоса. На перила навалилась заспанная и помятая Прайдана. Ее лягушачьи глаза навыкате, закисшие как у дворовой собаки, смотрели зло и подозрительно. Смятое, как сырое тесто, лицо, где отпечатались рубцы подушки, кривилось в брезгливой гримасе.
– Опять этот байстрюк лошадь гоняет, – сказала она со злостью. – Спать благородным княжичам не дает!
Жеребец оглушительно заржал, понес по двору, уже не слушая повода. Сувор вскочил, прыгнул прямо с крыльца, но его растопыренные пальцы только скользнули по шелковой гриве. Упал, перекатился через голову, тут же подхватился, напружиненный как для смертельной схватки, озверевший, мальчишка на волосок от смерти, однако жеребец внезапно изменил направление, понесся прямо на забор.
– Узду отпусти! – закричал Сувор оглушительно.
Жеребец распластался в прыжке. На страшный миг Сувору почудилось, что конь разобьется о бревна, затем решил, что заденет копытами за верхнее бревно, перевернется в воздухе и всей тушей рухнет на детское тельце – ни один конь не одолеет такую высоту, – но жеребец как взлетающая птица оторвался от земли, поднялся в воздух, всплыл как облачко над забором и передвинулся на ту сторону…
На самом деле озверелый жеребец перелетел над торчащими кольями бревен как стрела, яростно понесся вдоль узкой улицы. Комья земли взлетали над забором как огромные черные галки.
Прайдана злорадно смотрела вслед. Ей с высоты была видна крохотная удаляющаяся фигурка на бешено скачущем коне. Рядом с ее локтями над перилами появились две детские головки. Золотоволосые, с голубыми глазами, оба мальчика были с чистыми нежными личиками, оба в рубашонках до пола, пахнущие целебными травами.
– Что там? – спросил чистым детским голосом старший мальчик.
– Все тот же байстрюк, – буркнула Прайдана. – Авось на этот раз сломит себе шею.
Она сладко, с завыванием зевнула, потянулась. Пышные телеса заколыхались. У нее было сочное сдобное тело. Гридни любили ее тискать и щупать, как курицу в поисках яйца, и она гордилась своей дородностью. С такими телесами могла бы родиться купчихой, а то и боярыней!
– Он опять на коне? – спросил мальчик.
– Да, Ярополк. Ему можно, он – сын рабыни. Зато вы с Олегом – княжичи… Вам надлежит овладевать княжьими знаниями, вы – будущие печальники земли Русской. А этот… ему можно водиться с конюхами, простым людом, грязной челядью. Он спит в золе на печи, потому его зовут запечником, золушником, попелюшником!
– Запечник, – повторил Ярополк задумчиво. – Это плохо?
– Хуже некуда. Это даже не человек. А ты, напротив, выше человека. Ты – княжич!
День клонился к обеду, когда к воротам княжьего терема подошел, тяжело ступая, вороной конь. На спине сидел измученный мальчонка. Лицо и волосы были серыми от грязи, мутные капли все еще прокладывали дорожки через слой пыли.
Гридень-воротник мотнул было головой в сторону ворот, мол, сам открывай, потом закроешь за собой, но увидел отчаянные глаза ребенка, нехотя поднялся:
– Да ты едва жив… За что себя так истязаешь?
Конь потащился во двор. Гридень запер ворота, покрутил головой. Чересчур неистов мальчонка, не выживет душа взрослого мужа в таком крохотном тельце. Не жилец на этом свете. Не жилец.
У коновязи Владимир соскользнул по влажному боку, едва-едва одолевая слабость и головокружение. Неверные пальцы не сразу поймали уздечку. Он повел коня по двору вдоль забора. Нужно охладить, иначе запалится. Для скачки будет негоден, разве что отдать холопам для работ в поле или забить на мясо для псов…
Он сделал первый круг, успокаивая и охаживая коня, когда сверху раздался визгливый крик:
– Ах ты, змея шелудивая!.. Явилси!.. А на кухне котлы не чищены… А у котлов дров не напасено! А свиньи не кормлены!
Прогремел дробный перестук каблуков, ключница носила сапоги по новгородской моде. Владимир успел увидеть перед собой лишь необъятные телеса разгневанной бабищи. Тут же сильная рука швырнула его оземь, спину ожгла резкая боль. Он услышал свист рассекаемого воздуха, поспешно зажмурился, оберегая глаза, закрыл лицо ладонями.
Он слышал, как треснула под плетью ветхая рубашонка. Жгучая боль полосовала тело. Он попробовал подняться, но сильный удар по голове бросил на землю. Сверху гремел крик разъяренной огромной женщины, в голове мутилось, он чувствовал тошноту.
Убьет, мелькнула тоскливая мысль. В полубессознательном состоянии он встал на четвереньки, вскрикнул от страшной боли в боку: острый носок сапога ударил по ребрам. Его отшвырнуло, он перекатился трижды, всякий раз хватая в пригоршни пыль и грязь, во рту стало солоно, он выплюнул кровь.
Гаснущим сознанием слышал и звонкий детский смех – счастливый и беззаботный. Через перила свесились и с удовольствием наблюдали две белокурые головки. Один княжич крикнул со смехом:
– Прайда, попелюшник уползает!
– Как ящерица, – добавил другой.
– С перебитой спиной!
Он в самом деле пытался ползти, но свистящие удары плетью сбивали с ног. Лохмотья рубашки опустились на землю. Он наступал на них локтями и коленями, падал лицом в залитую его кровью грязь, вызывая неудержимый смех там наверху:
– Прайда, у запечника штанишки целы!
– Прайда, а ты сможешь…
Внезапно удары прекратились. Владимир лежал вниз лицом, распластавшись как раздавленная колесом лягушка. Изо рта текла тонкая струйка алой крови. Исхлестанное тело жгло, на спину со злым гудением падали большие мухи, оводы, слепни. Он чувствовал, как жадно лижут сукровицу, вонзают жало прямо в свежее мясо на спине…
Визгливый голос Прайданы иногда прерывался густым мужским баском. Постепенно Владимир услышал своего заступника:
– Негоже тебе, негоже… Малец еще! Да и кто тебе так котлы почистит, посуду уберет?
– Не лезь!.. Хоть ты и боярин, но здесь распоряжаюсь я, княжья ключница! Мне все хозяйское добро доверено!
– Дура ты, – отозвался мужской голос беззлобно. – Ты ж почти убила ребенка в злобе своей ненасытной!.. А другие челядины ленивы.
Владимир ощутил, как острый носок сапога снова пнул его в бок, но уже не с такой силой. Ключница прорычала, как зверь:
– Не издохнет. У него, как у кошки, девять жизней.
Однако в ее голосе не было уверенности. Холодная тень сошла с его окровавленной спины, шаги удалились. Краем глаза он увидел человека, который вступился. Боярин Блуд! Раньше лишь скользил по нему мутным взором, не замечал, как и другую челядь. «Спасибо тебе, боярин… Останусь жить, все для тебя сделаю!»
Он с трудом подобрал под себя руки, попробовал подняться, но суставы в локтях подломились, рухнул лицом в теплую грязь из горячей пыли и своей крови. Сверху на два голоса залились счастливые детские голоса. Вниз полетели огрызки яблок, недоеденные груши.
В другое время он бы ухватил такой огрызок, жадно вонзил бы зубы: голод терзает непрестанно, но сейчас сил хватило лишь на то, чтобы кое-как сесть. Голова кружилась, перед глазами плыло от сильного удара кулаком по темени.
– Эй, – крикнул чистым, как весенний ручеек, голосом старший из благородных сыновей князя, Ярополк, – а ползком до свинарни, где твое место, сможешь?
– А он только так и может, – ответил второй, Олег. Его милое, как у девочки, личико брезгливо кривилось. – Он сам свин, только еще не подрос… Но воняет уже как от взрослого свина!
Оба захохотали. Владимир пытался встать, ноги дрожали. С улицы во двор, сильно хромая, вошел Сувор, покачал головой. Владимир смотрел, как огромный воин приблизился, легко взял на руки, понес. Земля и небо колыхались, от воина шло надежное тепло. Владимир наконец позволил себе сомлеть.
В себя пришел от боли и тишины. Женщины ушли на ночные посиделки, в соседней челядной при свете лучин прядут и поют то веселые, то тоскливые песни. Холопы тоже ушли, челядная вдруг стала большой и страшной. Забившись на печи в дальний угол, он достал из-за пазухи заветный узелок из ветхой грязной тряпицы. Он всю жизнь прятал его, сколько помнит, то за сараем, то за досками в конюшне, но сейчас день был особенно горек, и эта тряпица грела пальцы.
Узелок поддался нехотя, на ладонь выкатился тяжелый перстень. На ободранной ладошке он казался особенно огромным, пугающим. В тяжелом кольце недобро поблескивал кроваво-красный камень. Вокруг него, как муравьи, темнели волшебные значки. Его мать, которую он почти не помнит, тайком передала ему и еще сказала, что перстень когда-то принесет счастье.
– Волшебный, – прошептал он разбитыми губами, – чародейский… Скорее бы твои чары проснулись!.. Неужто обязательно надо стать взрослым?
Борясь со сном, он завязал волшебный перстень в узелок, сунул за пазуху. Сны пришли счастливые. Его перестали дразнить запечником, попелюшником, золушником, зато увидели, какой он сильный, умный и красивый…
А он всех обижальщиков сажает на пали, чтобы умирали долго, а оттуда в муках видели, как он победно скачет на красивом коне!
Глава 2
На другой день, когда он, закончив таскать воду на задний двор свиньям, носил воду лошадям, во двор тяжелым галопом ворвался огромный воин на тяжелом коне. Воин был в коническом шлеме, широкие булатные пластины блестели поверх кольчужной рубашки из толстых колец, слева висел щит размером с дверь, справа торчал самый громадный меч, какой Владимир когда-либо видел.
Лицо воина было грозное, в шрамах. Синие глаза слегка навыкате смотрели холодно, предостерегающе. С ним словно ворвалась в спокойный мир грозовая туча с громами и молниями.
Он спрыгнул с неожиданной легкостью. Владимир едва успел поймать поводья: голос всадника был густой, мощный.
– Поводи по двору. Запалишь – уши оборву.
Он весь был похож на медведя, вставшего на дыбы, – огромного, нечеловечески сильного, которого рассердить легко.
Владимир проводил его уважительным взглядом. Тот взбежал на высокое крыльцо, прыгая через две ступеньки, как легкий отрок. Спина у него была могучая, кольчуга едва вмещала тяжелые, как валуны, плечи.
– Сам знаю, – пробурчал Владимир, когда его никто не мог услышать. – Ишь, ухи оборвет! Твои бы лешачьи ухи оборвать. Я лучше тебя знаю, как ходить за конем.
Он бежал рядом с жеребцом, удерживая повод и направляя по кругу, оглаживал по мокрой дрожащей коже. Полузагнанное животное постепенно замедляло бег, а когда перешел на шаг, еще сделал пару кругов и только тогда повел в конюшню.
Сувор по обыкновению сидел на крылечке. За Владимиром наблюдал из-под приспущенных век. Этот сын рабыни был самым быстрым среди сверстников, самым работоспособным, усердным. С зари и до зари таскает воду, кормит коней и свиней, чистит за ними, разжигает очаги на поварне, рубит дрова, до блеска отскребывает закопченные котлы, моет посуду, перетаскивает столы и лавки… Никогда не сидит без дела, и будь на то воля его, Сувора, то уже сейчас бы поменял с любым из высокородных княжичей. Хоть Ярополком, хоть Олегом, что и сейчас важно наблюдают сверху через перила за происходящим во дворе. Разряженные, ухоженные, розовые, не умеющие без помощи кормилиц даже одеться!
Но не суждено юному Владимиру не то что подняться до уровня княжичей, но даже приблизиться. Быть ему челядником, затеряться в отроках, быть холопом при дворе или гриднем!
– Иди сюда, сынок, – сказал он негромко, когда Владимир показался в воротах конюшни. – Вижу, накормил и напоил боевого коня… Начинаешь завоевывать не только коней, но и людей. Пусть кому-то не по нраву, но помню и тебе говорю: ты не только сын рабыни, но и сын грозного воителя Святослава! В твоих жилах течет кровь не только русича, но и настоящего руса, завоевателя земель. Тебе учиться не только скакать на коне, но и держать топор. А доверят, то и меч! Ты не должен остаться в челяди. Пробивайся в дружинники.
У Владимира остановилось дыхание.
– Но кто научит?
– Я. Ты упорен, а я когда-то был знатным бойцом. Служил у ромеев, знаю, как выстоять супротив дюжины, как нападать и защищаться.
Сердце Владимира едва не выскочило.
– Я… я буду послушным учеником!
– Верю. Потому и говорю тебе, а не другим. У нас считают, что если прицепил к поясу меч, а в другой руке у тебя щит, то уже и воин! Я таких дюжину сомну. Дурачье тупое и ленивое. Оружием владеть надобно. И дурак тот, кто скажет, что уже освоил бранное умение. Предела учебе нет. Выстругай сперва деревянный меч, вместо щита найди крышку от кадки. К железу перейдем много погодя…
Меч у Владимира уже был, из толстой березы, тяжелый, с острым краем. Бегом принес старому дружиннику, тот оглядел придирчиво, суровое лицо потеплело. Мальчишка уже не щадит себя! Мог бы выбрать прутик полегче. А с этим рука скоро устанет… Что ж, трудно в учении, легче в битве.
Он только успел показать Владимиру стойку воина, как хлопнула дверь. На крыльце появился тот самый гигант. Он окинул мальчишку внимательным взором, в котором тому почудилось пренебрежение, затем Сувора:
– Учишь? Хорошо. Как он?
– Старается, – ответил Сувор коротко.
Богатырь внимательно изучал мальчишку:
– Владимир? Что ж, я слышал, на заброшенном поле вырастают самые прочные стебли.
Владимир прошептал с мольбой:
– Я могу работать от зари до зари!
Богатырь сказал неспешным раскатистым голосом:
– Будем учить вместе. Это, как я понимаю, мой племянник.
Сувор кивнул:
– Ты Добрыня? Богатырь с застав пограничных?
– Просто с дальних, – бросил исполин.
– Вся Киевская Русь наслышана о тебе!
– Киевская? Другой Руси уже нет… пала под чужими мечами. Просто Русь… Так этот малец старается?
– Добрыня, из него вырастет хороший воин.
– Да, он крепок в кости. – Цепкие глаза Добрыни пробежали по тонкой фигурке мальчика. – А мясо нарастет.
– Что кости, – возразил Сувор. – Ты бы видел, как он занимается! Когда что с конем: заболеет или захромает, то кличут его! Где что лежит, спрашивают, у него память как у заморского слона, кому весть передать – мигом слетает и нигде не задержится. Его хотели услать в село к матери, сама княгиня возжелала, но вдруг узрели, что малец уже незаменим!..
В глазах мальчишки внезапно защипало. Губы дрожали, будто их трясли. Его никогда не хвалили, а сейчас сразу двое! Да еще кто! Сувор, который бывал и под Царьградом, служил в Риме, воевал в Болгарии, ходил в Испанию, и легендарный Добрыня, чьи воинские подвиги на дальних пределах Руси заставляют дрожмя дрожать врагов! И о котором такое рассказывают кощунники, что душа замирает от сладкого трепета…
А он, всеми прогоняемый запечник и золушник, оказывается, племяш этого героя-исполина! Который силен и с мечом, и в застолье, и в красной лжи, кого князья посылают в чужие страны!
Он стоял растерянный, жалко шмыгал носом. Глаза наполнились слезами. Он чувствовал, как на плечо опустилась огромная ладонь. От нее шло непривычное родительское тепло. Густой голос, привыкший повелевать дружинниками, проревел с высоты:
– Крепись. Теперь я буду чаще бывать в стольном граде Киеве… И тоже пригляну за тобой, малец. При случае, конечно. От меня еще наплачешься!
На заднем дворе в каморке доживал век странный старик по имени Горюн. Он был в молодости воином, так говорили, спас при таинственных обстоятельствах жизнь самому князю Олегу, потом долго был волхвом, но ушел и оттуда, занялся складыванием кощун. Его слушали охотно, он знал великое множество историй, как героических, волшебных, бытовых, так и про зверей, рыб и птиц.
Когда Владимир прибежал на другой день, Горюн оглядел его сочувствующе:
– Опять били? Что за радость бить ребенка? Даже для бабы это бесчестно… Очень больно?
– До свадьбы заживет, – ответил Владимир, как отвечали взрослые в таких случаях.
– Гм… Трудно тебе тут прижиться. Пожалуй, тебе надо сразу готовить себя в волхвы.
У Владимира загорелись глаза. Даже боль в избитом теле забыла про свои острые зубы, прислушалась.
– Я бы хотел… Но меня возьмут?
– Ты смышленый. У тебя цепкая память, я все примечаю. Ты трудолюбив, как муравей, для волхва это необходимо. И ты любишь учиться, от чего отворачиваются другие.
– Люблю! – сказал Владимир горячо. Он сел рядом, взял старика за руку, подлащиваясь, попросил: – Расскажи еще про Авариса, который ничего не ел, пока стрелу не обнес по всему белому свету!.. Или про Таргитая, нашего первого царя!..
Старый волхв усмехнулся, положил на голову мальчика худую ладонь, настолько высохшую, что казалась бы прозрачной, если бы ее не обтягивала потемневшая за годы дряблая кожа.
– Дите… Не был Таргитай первым царем, как не был и Аварис самым первым из наших героев… Память волхвов хранит дела времен столь дальних, столь далеких… И о временах диких и страшных… Вот была в старину такая прожорливая баба, что однажды в припадке голода съела и своих детей. Но не устыдилась, а только вошла во вкус, начала пожирать у соседей свиней, коз, а потом уже и коров. Наконец накинулась и на людей. У мужиков рука на нее не поднималась: все-таки баба! Да еще красивая, а красивым все можно, им все прощается, ибо красота дана от богов, они так отмечают себе равных… Так она поела всех в родном селе, затем пошла по другим, оставляя после себя пустые дома и сараи, конюшни и свинарни. Тут уж сам Перун не выдержал: закрыл глаза и метнул в нее молнию. Убил, а труп бросил в море. Так она и там, тварь ненасытная, от голода пробудилась, стала пожирать каждый утонувший корабль!.. А потом вовсе озверела, стала нападать и на целые корабли…
– А почему ее зовут Харибдой? – спросил Владимир, едва дыша от страха.
– Ее настоящее имя забыли, потому что она такую харю разъела, что не во всякую дверь пролезала, тогда ее и стали звать Харибдой. А убил ее не то Прометей, не то кто-то другой, уже не помню… Прометей – это такой велет, что не страшился даже богов. Он был огромен и силен, а главное – мог предвидеть, что будет в грядущем. Потому его и звали Прометеем, ибо он мог прометикувать[1]. Зевс, верховный бог богов, был в страхе, ибо ему однажды предрекли, что у одной богини родится сын, который будет намного сильнее отца. Но только Прометей знал эту богиню. Зевс же обычно не пропускал ни одной мало-мальски красивой богини, велетши или простолюдинки. Потому и страшился, что свергнут его…
– И Прометей сказал?
– Да, пожалел Зевса. И богиню Фетиду отдали за Палия, был такой князь чуть южнее наших земель. От того брака родился великий герой Скилл. Он еще водил тавро-скифских витязей на помощь ахейцам в их войне с троянцами… Правда, с годами имя меняется, а то и вовсе забывается. Наш неуязвимый Скилл у ахейцев, а затем эллинов стал Ахиллом, у ясов – он Сослан, Сосруко, Сасрыква, а то и вовсе Батарадз, у иранцев – Исфандияр, у германцев – Зигфрид… Скилл был неуязвим для других, потому что наши предки раньше других начали делать доспехи из железа, а их враги еще бились в медных латах, даже наконечники копий были медные… Конечно, таким оружием не пробить железные доспехи. Даже не железные, а харалужные, булатные! Разве что попасть стрелой точно в щелочку между пластинами… Ахейцы придумали оставить эту щель на пятке, ясы – на коленях, Зигфриду на спину прилип кленовый листок, потому то место было уязвимо… А его отец, Палий, жил в такой глубокой давнине, что от него остались только Палилии – праздник в самой середине весны, когда пастухи прыгают через костры… Да еще развалины палат Палатия…
В это время со двора раздались чистые, звенящие звуки струн. Владимир выглянул в подслеповатое окошко. В углу заднего двора собралась челядь, пришли гридни и конюхи, явились стражи от ворот. В середке на колоде сидел крепкий мужик с длинной бородой, в волосах и бороде проседь, на коленях разместил гусли. Кощунник мерно ударял пальцами по струнам, откашливался, крутил шеей, оглядывал собравшихся орлиным взором.
Владимир вскрикнул с загоревшимися глазами:
– Послушаем?
– Разве что с крылечка, – отозвался Горюн ревниво.
В неподвижном вечернем воздухе каждое слово певца-кощунника звучало отчетливо и значительно. Он медленно и торжественно пел про давние времена, когда солнце светило ярче, мужи были отважнее, женщины – красивее, а боги ходили среди смертных и от них рождались дети. И был род людской вровень великанам, горы тряслись от их шага, реки выходили из берегов!
Владимир зачарованно слушал про исполинские битвы, когда богатырь с братьями выходил против чуда-юда огромного Змея, который бежит – земля гудит, а хоботами машет, то огонь летит и брызжет… Богатырь встречал чудо-юдо под калиновым мостом, но когда ехал Змей, то калиновый мост проваливался…
Горюн скептически хмыкал, раздражал Владимира. Тот отодвигался, наконец совсем собрался было убежать, когда Горюн сказал внезапно:
– Мне казалось, ты смышленее.
Владимир насторожился:
– Я смышленый.
– Да? Тогда скажи, какой такой мост можно плести из калины, ежели она куст, а деревом быть не может? По такому мосту разве что таракан проползет!.. Но взрослый мужик дурь поет, а другие дурь слушают!
– Но красиво же, – сказал Владимир, защищаясь.
Глаза старца стали вдруг внимательными и понимающими.
– То-то и оно, что красивую дурь слушают охотнее, чем умные речи. Песни идут прямо к сердцу, а оно главнее головы. А песни не могут быть умными, иначе их воспримет голова, а не сердце.
– Как это сердце главнее? – удивился Владимир. – Я слыхивал, что хлеб – всему голова, что голова – над всеми царь!.. Потому она и голова, глава! Неужто кощунник наврал? А жаль, все так красиво…
– Красиво, да не так. Чуды-юды на самом деле жили на свете. Когда такое бежит, то земля дрожит! Все верно. И было оно такое огромное и сильное, что никакие богатыри лицом к лицу не могли одолеть. И даже сто богатырей, соберись вместе. Но все же этих чуд-юд перебили.
– Как?
– А так. Выкопают яму поглубже прямо на тропе, где чуды-юды ходят на водопой, вобьют в дно острый кол, а сверху закроют щитом из калиновых веток, а то еще и землицей сверху припорошат, чтобы совсем незаметно было. Бывает, чудо-юдо не хочет в яму идти, тогда в него горящие головни бросают. Шерсть загорится, вот и бежит, огнем пышет! И хоботами машет, у него их два: один спереди, другой – сзади. А провалится, там в яме и добивают, вылезти уже не может!.. Их много бродило по нашим землям… Вот и выходит, что на самом деле было еще страшнее. Ведь перебили и поели! Так что самые лютые на свете чуды-юды – это мы.
Владимир долго молчал потрясенно. От старого волхва узнавал всегда больше, чем от остальных взрослых, вместе взятых. Те только и знали, что пили, дрались, спали, бранились и мирились, а о таком чудесном даже и не слыхивали. А тут: и сердце, что главнее головы, и волхвы, что умнее князей… И кем быть ему, золушнику?
Глава 3
Ему было девять лет, когда в Киев пришел огромный обоз. В город часто прибывали вереницы телег и поболе числом, но этот был из таких диковинных повозок, что всякий останавливался на улице, вытаращив глаза и с отвисшею по шестую пуговку челюстью. А детвора и те, кто не щеголял родом и знатностью, вовсе не блюли себя в вежестве, бежали вслед, указывали пальцами, свистели, улюлюкали.
Он тогда впервые услышал часто повторяемое слово «латиняне». В передней открытой повозке ехал высокий мужчина в черном одеянии. Он был широк в плечах, худ, костист, с глубоко запавшими глазами. Когда его взгляд упал на замершего в изумлении Владимира, тот вздрогнул и отшатнулся. В глазах чужеземца была сила, жестокость, дикая уверенность в своей несокрушимой правоте.
Повозки одна за другой втянулись через западные ворота. Справа и слева каждой повозки ехали серые от пыли всадники. Тяжелые задастые кони всхрапывали, роняли густые клочья желтой пены. На понукания вскидывали гривами, делали вид, что несутся вскачь.
Народ дивился и огромным коням с такими толстыми ногами, и всадникам, закованным в жару с головы до ног в тяжелые доспехи, пышным перьям на богато украшенных кузнецами шлемах, и роскошным повозкам, диковинно сделанным.
На другой день видели, как из отведенного заморским гостям дома вышла целая процессия во главе с высоким мужчиной в черном. По тому, как держался и какие знаки внимания оказывали его спутники, все поняли, что это и есть главный, хотя одет проще других.
Они отправились в княжий терем, где их приняла великая княгиня Ольга. Владимир, как и прочая челядь, в терем не был допущен даже со скотного двора. При княгине были только внуки Ярополк и Олег, а также самые знатные да именитые из воевод и бояр. Разговоры велись за плотно закрытыми дверьми. Даже стража была удалена от дверей, дабы не было соблазна слушать чужие речи.
Слухи поползли самые разные. Одни говорили, что латиняне просят помощи против западных славянских племен бодричей и лютичей, другие – что латиняне уговаривают дать военную помощь против Оттона, который уже забирает себе всю Италию, третьи утверждали, что закордонные гости предлагают овдовевшей княгине пойти за римского папу…
Когда выяснилось, что Адальберт, высокий человек в черном, приехал по делам веры, кияне сразу потеряли к ним интерес. Христиан уже немало в Киеве, но и те не всегда понимают, в чем растущее различие между принявшими обряд крещения из Царьграда и принявшими обряд крещения из Рима. Другое дело, если бы и впрямь папа латинян засватал Ольгу. Это понятно всем, есть о чем почесать языки, прикинуть, как пойдет у них дальше и какие будут дети.
Владимир не понимал, как можно проповедовать такого бога, как Христос. Волхвы на каждом шагу объясняли, что боги русичей – это сама сила, отвага, мужество. Это вера героев, детей героев! А учение Христа, как и Бахмета, как и Яхве, велит покоряться силе, покорно сносить издевательства и плевки…
Он вспомнил подслушанные разговоры, брезгливо отплюнулся. Разве Перун или Ярило позволили бы распять себя на кресте? Да они бы… они бы всех врагов изничтожили, стерли с лица земли. Да Перун сам бы своих обидчиков распял, живьем прибил за уши к городской стене, а кишки выпустил бы и отдал таскать собакам!
Латиняне вскоре разошлись по стольному городу. Их видели в боярских теремах, среди гридней, в торговых рядах. Бродили по Подолу, завязывали разговоры с мастеровыми. Всюду затевали споры о вере, гневно называли киян грязными язычниками, славили Христа, пытались оскорблять солнечных богов русов и русичей.
Княгине пожаловались на бесчинства латинян, но она отмахнулась. Затем жаловались волхвы, что было серьезнее, но она и здесь отмолчалась, отшутилась. Наконец высказали недовольство бояре. Однако великая княгиня их тоже урезонила, мол, гости только языками треплют, а вреда никому не чинят. На Руси куда больше разбоя, татьбы, головничества, вот на что смотреть надобно.
И тогда, как пошел грозный ропот в народе, и знатные, и незнатные узрели, что княгиня уже сама христианка и потому держит сторону христиан!
– Мир меняется, – сказал Добрыня осторожно. – Уже многие короли Европы приняли веру Христа. А кто не принял, подумывает. Не выказала ли твоя матушка мудрость?
Святослав резко повернулся, даже пригнулся малость, будто изготовился к прыжку. Руки напряглись, лицо дернуло яростью.
– Моя мать? Она – женщина!
– Она княгиня…
– Она женщина, – возразил Святослав обвиняюще. – Всего лишь! Не понял? Женщина – это рабыня… или госпожа. Или – или. Женщина по натуре своей не может быть вровень, она может только подчиняться или… править. Была рабою мужа, моего отца, а когда он погиб, стала искать, чьею бы рабою стать, ибо женщина всегда ищет защиты, убежища, надежное плечо мужчины! Но после моего отца она могла стать женой только героя, равного Игорю по мощи и величию духа…
– Такого на земле нет, – сказал Добрыня убежденно.
Святослав зло оскалил зубы:
– На свою беду, сама убедилась! Вот и стала рабою… самого бога.
Добрыня в задумчивости поскреб бритую голову:
– Почему же не своего, а чужого?
– Потому, – рассвирепел Святослав, – что у нас рабов нет! Мы не рабы Сварога, а его дети! И Даждьбоговы внуки. Рабами же не будем никогда. Никогда!!!
Добрыня наклонил голову, пряча глаза. Молод княжич, горяч. Убежден, что всяк стремится к свободе. Не поверит, что иной раз свободные сами суют шею в ярмо. Ведь быть скотом, рабом – легче. Даже корм не надо искать, хозяин накормит. И все за тебя решит.
Владимир таскал мешки, сгибаясь и задыхаясь от тяжести. Он был в пыли, горячий пот стекал по лицу, на зубах скрипел песок. Он чувствовал личину грязи на лице. Но утереться некогда, надо цепко держать мешок за края.
Олег и Ярополк сидели на высоком крыльце, ели сладкое. Владимир слышал, как посмеивались, наперебой давали ему обидные клички, смеялись, придумывали одна другой злее. За их спинами как живая гора возвышалась Прайдана. За княжичами следила как наседка, молодые девки по движению ее бровей убирали недоеденное, ставили на маленький столик чашки с медом, ягодами, охлажденными сливками, свежей сметаной. Подошел Варяжко, сын знатного боярина, крепкий и широкий в плечах, друг княжичей по играм, и Владимир услышал дружный смех уже троих.
В глазах защипало сильнее. Раньше глаза выедал едкий пот, теперь ощутил и слезы. К счастью, пот и так бежит горячими струйками, никто не увидит его слез. Он сцепил зубы, его шатало, спина трещала под тяжестью мешка, а ноги подгибались. Он передвигался мелкими шажками, мешок пригибал к земле.
Кровь шумела в висках, а в ушах стоял грохот. Кроме хохота, услышал и мужские голоса. Когда сбросил мешок и с трудом распрямлял спину, заметил, как гридни выбрались на солнышко, стоят, лениво щелкая семечки.
Что-то ударило его в плечо. Он не понял от усталости, следом услышал веселый вопль:
– Раз он грязный, то пусть и наестся грязи!
Другой ком ударил в ухо. Владимир сжал кулаки, повернулся к обидчикам. Варяжко уже сошел с крыльца и бросал в него комья. Княжичи хохотали наверху, Прайдана улыбалась, уперев руки в бока.
– Ого, – вскричал Варяжко весело, – как он стискивает кулаки и сверкает глазами!
– И как свиреп! – добавил Ярополк со смехом.
– И как лют! – крикнул Олег.
А Варяжко в притворном ужасе выронил ком и вскинул руки:
– И как я боюсь!.. Он же меня разорвет в клочья!
Он подошел к Владимиру, вытянул голову. Сытое довольное лицо расплывалось в улыбке. Владимир не знал, как это получилось, он не хотел трогать боярского сына, но сжатый кулак будто сам метнулся вперед. Пальцы ожгло болью. Голова Варяжко откинулась назад, в глазах появилось безмерное удивление.
Он отступил, споткнулся, опрокинулся на спину. Во дворе сдержанно засмеялись. Варяжко вскочил рассвирепевший, заорал:
– Да я разорву его голыми руками!
Он бросился вперед, размахивая кулаками. «Он старше и сильнее, – мелькнула мысль, – этот боярский сын сломает меня, как стебель… Он сильнее и тяжелее. Надо, как учил Сувор, двигаться быстрее. Как можно быстрее!»
Его кулаки дважды ударили Варяжко в лицо, а кулаки Варяжко прорезали воздух. Тут же еще два удара сбоку, один разбил губу, и Варяжко ощутил привкус соли во рту. Он заорал и снова попытался ухватить Владимира. Тот увернулся, хотя чувствовал, как после мешков двигается медленнее, ударил снова, кулак Варяжко задел скулу, но только оцарапал. Он судорожно подставил ногу боярскому сыну. Варяжко рухнул как сноп, но еще в воздухе нога Владимира достала его в ребра. Он перевернулся, а когда поднимался с четверенек, Владимир вложил всю силу в удар ногой. Сам едва не закричал от боли, но зато Варяжко всхрюкнул и содрогнулся от ушей до пяток, как дерево от удара тяжелого валуна. Его лицо было разбито, кровь хлынула из расквашенного носа. Он завалился на спину, загребал обеими ладонями пыль, но подняться не пробовал.
Владимир в мертвой тишине слышал только свое сиплое дыхание. Потом воздух всколыхнул пронзительный визг:
– Убивец!.. Раб убил боярского сына! Хватайте его!
Прайдана орала, княжичи вскочили, опрокинув столик. Варяжко пробовал подняться, но падал на спину. Гридни озлобленно ухватили Владимира за плечи. Он вскрикнул, руки зверски завернули за спину.
Из людской вышел, хромая, Сувор. Волосы были всклокочены, под глазами висели тяжелые мешки. Он закричал сразу мощным голосом, который только и остался непокалеченным с Журавской битвы:
– Оставьте хлопца! Разве не Варяжко начал драку?
– Он боярский сын! – заверещала Прайдана. – Убейте гаденыша!
– Да дети сами разберутся…
– Убейте!
Владимир ощутил, что его тащат, едва давая касаться ногами земли. Потом кто-то вскрикнул, другой выругался. Владимир упал на землю. Над ним пронеслась длинная жердь. Вскакивая, увидел, как Сувор, сильно прихрамывая, размахивает над ним оглоблей, а челядины с проклятиями разбегаются. Один уполз на четвереньках.
– Не сметь! – прорычал Сувор. Он был страшен. – А это – сын Святослава!
Голоса умолкли. Даже Прайдана на миг затихла, затем вскрикнула с новой яростью:
– Этот робич? Он никто, челядин. А здесь я распоряжаюсь! Я велю взять и выпороть на конюшне! Ну?
Челядины нехотя, но дружно двинулись со всех сторон. Сувор размахивал оглоблей, но искалеченная нога не позволяла двигаться так же быстро, как учил Владимира. Сбил с ног еще двоих, но кто-то ударил колом в затылок, и Сувор упал, обливаясь кровью.
Сильные руки ухватили Владимира, потащили, сорвали одежду. Нагого бросили на широкую скамью. От нее шел недобрый запах, в щели забились коричневые комочки свернувшейся крови. Один мужик сел ему на ноги, другой цепко держал голову.
Пороли долго, с наслаждением. Он сцепил зубы и не проронил ни звука, что разъярило палачей еще больше. Он понимал, что нужно наконец вскрикнуть и заплакать, тогда взрослые получат свое и отпустят, но что-то не позволяло так поступить, и он терпел, пока в глазах не потемнело и он не перестал видеть, слышать и даже чувствовать удары.
Он уже не слышал, как гридень на ногах пробурчал:
– Листопад, погоди… Что-то ноги не дергаются.
– Забили насмерть? – спросил Листопад равнодушно. Он небрежно стряхнул капли крови с рубахи, а те, что упали на его толстые губы, слизнул с явным удовольствием.
– Пожалуй.
Гридни отпустили недвижимое тело, а Листопад пинком сбросил с лавки. Тело Владимира повалилось мягко, безвольно. Он лежал на спине, раскинув руки. Из-под него начала выплывать кровь, быстро впитываясь в сухую землю.
– Пошли, – сказал один хмуро, – вряд ли выживет.
– Да, перестарались.
– Что – перестарались, – возразил Листопад. – Сувор едва плечо мне не выбил!
– Так то Сувор! А ты запорол мальчонку.
– А мне какая разница? Я и тебя могу прибить со злости. Думаешь, плечо не болит?
Когда Владимир очнулся и сумел заставить себя шевелиться, он потащился в каморку Сувора. Старого воина как принесли и бросили на пол, так он и лежал, бессильно разбросав руки. Из разбитой головы все еще стекала кровь. Владимир смочил тряпку, вытер кровь и прикладывал к голове старого дружинника до тех пор, пока тот не очнулся и повел глазами вокруг:
– Ты… цел?
– Жив, – ответил Владимир.
– Значит, цел, – прохрипел Сувор. – Все заживет, Влад. Все заживет!.. Молодость свое возьмет.
Да, спина зажила, даже не гноилась, только остались рубцы на всю жизнь, но одновременно узнал, что свое берет и старость. Сувор начал чахнуть, и хуже того – в глазах появилось затравленное выражение, как у бродячего, никому не нужного пса. Он внезапно ощутил, что уже не воин и что его может побить простая грязная челядь. Он согнулся сильнее, из каморки почти не выходил.
Два дня, что прошли после порки, Владимир выбирал время. Он чувствовал, что если все останется так, как есть, то и его спина, несмотря на молодость, уже не выпрямится. Два дня он жил как натянутая тетива, а в полночь медленно выбрался из людской. Все спали, он перепроверил, так ли, потому и откладывал так долго. И еще потому, что самый крепкий сон, как поучал Сувор, под утро. Именно тогда лучше всего лазутчику пробираться в стан врага, а у сонного вартового можно с пояса снять меч.
В челядной спали семеро. Тот, который едва не изломал кнут о его спину, лежал на широкой лавке. На лавках похрапывали еще двое. Остальных, что скрючились на тряпках посреди комнаты, Владимир осторожно обошел, запоминая в темноте, куда ступить. В окно светила слабая луна, глаза привыкли, он видел каждого отчетливо.
– Если оставлю, – прошептал он, все еще убеждая себя, – то не быть мужчиной. И не быть человеком… Я останусь рабом!
Листопад спал, запрокинув голову. Белое горло хорошо видно, Владимир вытащил нож, острый как бритва, с дрожью скользнул взглядом по яремной жиле, где течет вся кровь. Если полоснуть, то кровь брызнет тугой горячей струей и человека уже не спасет никакая сила. Кровь бьет с такой мощью, что струя разбрызгивается на сажени… Он видел, как ежедневно режут коров, овец, коз, свиней, а у человека такое же мясо. И такая же кровь.
Но он знал и то, что даже с перерезанным горлом корова будет метаться, забрызгивая кровью, если сперва не оглушить молотом по голове. И этот здоровенный мужик вскочит и разбудит всех.
Он примерился, приставив узкое отточенное лезвие к глазу Листопада, задержал дыхание и с силой ударил другой рукой по рукояти.
Лезвие вошло в глазную впадину, как в теплое масло. Глаз лопнул, брызнув на пальцы липким. Листопад слабо дернулся и застыл. Он был еще жив, но в голове сходятся все жилы, и лезвие перехватило их разом. Владимир попятился, удерживая себя от дикого желания выбежать с криком. Едва не теряя сознание от ужаса и омерзения, он выбрался на цыпочках, проскользнул вдоль стен к людской, неслышно пробрался в свой угол.
Уже укладываясь на тряпки, ощутил, как все тело сотрясает дикая дрожь. Он закрыл глаза, но знал, что сон не придет. Он убил человека. И если даже удастся скрыть от людей, то боги все равно видели все!
Глава 4
Утром был крик, во дворе метались люди. В людской начали подниматься, спрашивали испуганно, что стряслось. Он встал в числе последних, вышел, сильно хромая, двигался с трудом, кривился болезненно, а спину держал полусогнутой.
Пронесли тело дюжего мужика. Рукоять украденного с поварни ножа уже не торчала в глазнице, лицо было покрыто коричневой коркой запекшейся крови. Народ сбегался посмотреть, их оттесняли. Потом двое из княжьего терема ходили и с пристрастием допрашивали всех. Больше всего поглядывали на Сувора, кое-кто потребовал потрясти и мальчишку, да лучше бы с каленым железом, но старший посмотрел на бледного и отощавшего после порки Владимира, отмахнулся с пренебрежением:
– Еле ноги волочит… Это дело рук мужчины.
– Тогда Сувор?
– Сувор еще не покидает ложа. Какой злыдень едва не убил старика? Нет, Сувор еще не скоро встанет, если вообще поднимется.
Гридни переглядывались. Владимир видел растущий страх на грубых, озлобленных лицах. Кто-то шепнул о гневе богов, о некормленом домовом, о злобе упырей. Прошлая жертва принята была как-то не совсем хорошо, хоть и принята…
Вечером он случайно столкнулся лицом к лицу с гриднем, который тогда сидел у него на ногах. Что прочел в глазах избитого мальчишки, неизвестно, но Владимир видел, как дрогнуло лицо взрослого мужика, как незримой тенью метнулся страх.
Когда разошлись, Владимир удивленно поглядел ему вслед. Оглянулся и гридень, будто ощутил взор, вздрогнул. Походка изменилась, он юркнул в ближайшую дверь кузни, хотя Владимир был уверен, что шел к подвалам с зерном.
Боги ли вмешались, ночной ли упырь задавил гридня, но с того дня спина его не знала кнута. Он получал оплеухи, по-прежнему орали и взваливали на его плечи столько, что и взрослый падал бы от изнеможения, но пороть… Даже Прайдана начала поглядывать с некоторой опаской.
«Я, – подумал он потрясенно. – Я что-то изменил! Сам. Волхвы глаголят, что боги помогают только сильному. Но, похоже, помогают и тем, кто страстно жаждет стать сильным».
В эту ночь он еще мечтал, как зло отомстит обидчикам, каким пыткам подвергнет Прайдану, но к утру впервые в жизни начал строить планы.
Недели через две после прибытия латинян Владимир мчался на коне к Горе. Он отвез наказ старшего дружинника ловчим, возвращался гордый своей полезностью. Он уже выполнял поручения взрослых, в то время как его сверстники, не только княжичи – братья по отцу, еще скакали на палочках и лихо рубили голову чертополоху.
Возле небольшой статуи Симаргла, вырезанной с любовью и умением из старого дуба, собралась большая группка горожан. Владимир придержал коня. Люди размахивали руками, орали, наскакивали друг на друга, спорили, тыкали в грудь один другому растопыренными пальцами. Каждый оглядывался, указывал на крылатого пса, что призван охранять посевы, снова наскакивал на супротивника в споре. Гвалт стоял больший, чем когда вороны отгоняют бродячую кошку от своих гнезд.
Потом чуть стихло, а к деревянному столбу протиснулся приземистый человек в черной одежде. Он вскинул руки, что-то закричал горестно и уныло. Кияне начали оборачиваться к нему, голоса стихли. Больше разглядывали его необычный наряд, похожий на черное платье вдовы, но кое-кто слушал, покачивал головой.
Латинянин ярился, изо рта шла пена, выкрикивал то ли заклятия, то ли молитвы, тыкал перстом в деревянный столб. Владимир остановил коня, с седла было видно через головы собравшихся, как лицо латинянина покраснело от натуги, а глаза стали круглыми, как у совы.
– Вы кланяетесь не богам, а идолам! – донесся яростный крик на ломаном языке полянского племени. – Из одного дерева делаете своих богов и свои лопаты. Так почему не кланяетесь и лопатам?
Владимир видел, как лица мужиков посерьезнели. Один сказал предостерегающе:
– Ну-ну, ты богов наших не тронь. Хвалишь своего, ну и хвали. А нашего не тронь. Мы ж твоего не трогаем?
– А я вам говорю, – надрывался латинянин, – что только наш бог – настоящий! А все остальные – демоны. Бог настолько велик, что его нельзя изобразить ни в камне, ни в глине, ни в дереве. А все, кого изображаете, – это демоны! А наш бог настолько всемогущ, что нет ничего на свете, чего он не мог бы сделать…
Из задних рядов протиснулся крепкий немолодой мужик. Он был в простой холщовой рубахе с открытым воротом. За пеньковым поясом торчал плотницкий топор. Лицо его было изуродовано шрамами, правое ухо срублено. Глаза смотрели со злым весельем.
– Все?
– Все! – ответил латинянин яростно.
– Даже невозможное?
– Для нашего бога нет ничего невозможного!
– Гм… А скажи, латинянин, раз уж он так всемогущ, то сможет ли сотворить такой камень, чтобы сам не мог поднять?
И смерды, и знатные одинаково морщили лбы, переваривали вопрос, ставили его так и эдак. Дошло не сразу, и то не до всех, наконец лица иных начали расплываться в неуверенных усмешках. На латинянина поглядывали с интересом, как-то вывернется? Подкузьмил Микула, ничего не скажешь, крепко засадил.
Латинянин задохнулся, как от удара под ложечку. Глаза на миг стали растерянными, но красное лицо побагровело, налилось тяжелой кровью. Он завопил, потрясая кулаками:
– Козни неверных! Магометанцы расплодились среди вас, подбивают против истинной веры! Сам диавол глаголет вашими устами!
Микула стоял, широко расставив ноги. В хитро прищуренных глазах была откровенная насмешка.
– Нет, ты не юли, как лиса хвостом. Ответь!
Его поддержали разноголосые крики:
– Да, ответь!
– Человек спросил ведь! Ответь, коли могешь…
Латинянин вскрикнул во весь голос, от натуги срываясь на поросячий визг:
– Что я могу ответить диаволу? Только бесстрашно плюнуть ему в обличье!.. А ежели ваш бог не только в дереве, то пусть он поразит меня своей мощью!
Латинянин повернулся к идолу и смачно плюнул прямо в деревянный лик Симаргла. Мужики ахнули. Владимир сжался на коне в предчувствии беды. Симаргл дает добро, охраняет посевы, но чтобы охранять, надо иметь злой нрав и крепкие зубы!
Толпа как-то сразу двинулась на бесстрашного монаха-проповедника. Микула с быстротой молнии выхватил топор.
– Ты глуп и невежественен, монах! – выкрикнул он срывающимся от ярости голосом. – Я слышал куда лучших проповедников. Дурак ваш папа римский, что прислал таких олухов! Ты плюнул не в Симаргла, ты плюнул в наши души… Наш бог не карает, он слишком велик – он бог! – но это поручил нам, людям. И пусть теперь твой сильномогучий бог защитит тебя, если сумеет!
Он коротко и страшно взмахнул топором. Латинянин бестрепетно смотрел в лицо обидчику, не делая попыток бежать или даже уклониться. Возможно, все-таки ждал спасительной руки своего бога.
Лезвие топора ударило в середину высокого лба. Звонко хрустнуло, словно перерубили толстую жердь. Монах сделал два шага вперед. Из расколотой головы торчала рукоять топора. Само лезвие ушло вглубь, разрубив голову до гортани.
Мужики сурово молчали. Конь под Владимиром задрожал и попятился, чуя кровь. Губы Владимира тряслись, по спине бегали мурашки. Смерть видывал часто, она была всюду: в поединке, на охоте, казнь головника, но то были понятные смерти. Всякий раз за что-то! Но сейчас ни с того ни с сего – горящие глаза, перекошенные лица, руки на рукоятях ножей… И страшная непонятная смерть человека на глазах толпы!
Вечером того же дня плотник Микула был скаран на горло. Его забили до смерти палками, карой головников и прочих извергов, недостойных даже смерти, как другие люди. Казнили его по приказу великой княгини Ольги, которой пожаловался голова посольства епископ Адальберт.
По Киеву пополз грозный ропот. Два монаха вышли утром и вскоре прибежали обратно. Оба в изодранной одежде, избитые. Один держал на весу сломанную руку. Княгиня Ольга распорядилась приставить к монахам по два гридня, чтобы охраняли гостей, не давали чинить обид. Боярин Блуд, который особо яро призывал держаться за веру отцов, явился к княжичу Святославу для тайной беседы.
Говорили долго, Блуд как никогда был настойчив. Святослав хмурился, хотел уйти от разговора, но Блуд, как стало известно погодя, не дал даже отложить трудное решение.
На другой день княжич Святослав, коротко и в сторонке переговорив еще раз с Блудом и двумя прискакавшими к нему воинами, тут же отослал всех обратно, а сам, оседлав своего Вихря, унесся за город. В тереме глухо и с оглядкой говорили, что княжич не попрощался с матерью, как делал всегда, уехал, даже не спросив ее разрешения, даже не сказал, куда ускакал.
Весь день к княгине приходили встревоженные бояре, воеводы, знатные люди. Рядом с княгиней по левую руку сидел епископ Адальберт: мрачный, с горящими глазами, встречающий каждого суровым испытующим взором. По правую сторону находился священник Григорий, прибывший из Царьграда.
Поговаривали, что Адальберт и Григорий – лютые враги, ибо верят в Христа по-разному, когда-нибудь схлестнутся насмерть, и одному из них не жить, но сейчас заключили перемирие. Мол, оба христиане, волею одного бога заброшенные к нечестивым гипербореям, все еще поклоняющимся своим солнечным богам…
Взрослые вокруг Владимира люто спорили, ругались, потрясали кулаками. Он никак не мог уловить смысл разногласий, извертелся среди гридней и челяди. Впервые им было не до него, никто не бил, не пинал, не заставлял чистить до блеска закопченные котлы.
Выскочил на улицу, там мелькали огни факелов. Часто слышался быстрый цокот подков. На улицах начали появляться вооруженные люди. В воротах боярских теремов теперь стояла вооруженная до зубов и многочисленная стража. А княжий терем охраняли особо строго, отборные гридни прохаживались по обе стороны ворот, не подпускали даже близко. Наверху ворот сидели лучники.
Этой ночью он долго не мог заснуть. Раздраженные голоса раздавались как со двора, так и из терема, звенело железо, скрипели сдвигаемые с мест тяжелые сундуки, комоды, столы. Сон пришел тоже неспокойный: с пожарами, криками, кто-то огромный хватал его и бросал в пропасть, так не раз, пока он не проснулся весь в липком поту и с бешено колотящимся детским сердечком.
Во дворе стоял крик. Он бросился к окну. В распахнутые ворота на полном скаку врывались тяжело вооруженные всадники. По обе стороны лежали темные трупы стражей. Они казались маленькими, скрюченными, но темные лужи под ними были огромными.
С крыльца сбежали трое гридней, рослые и крепкие. Мечи в их руках грозно блистали. Всадники на ходу метнули дротики, все трое защитников рухнули, пронзенные насквозь острыми жалами. Другие всадники кружили по двору, быстро и умело рубили сопротивляющихся, лучники прямо с коней так же быстро и прицельно били стрелами по окнам терема. Десятка два воинов, споро и без толкотни, заскочили с седел на крыльцо. В лунном свете блестели шлемы, латы на плечах, кольчуги. Это были самые матерые воины, прошедшие со Святославом сквозь огонь и пожары битв, разгромившие Хазарский каганат, усмирившие вятичей, ясов и касогов!
Впереди бежал с обнаженным мечом рослый и могучий витязь. Он сбил наземь двух встречных гридней, не стал добивать, понесся по лестнице вверх. За ним бежали его дружинники. Владимир узнал княжича Святослава.
В палатах гремело, слышались душераздирающие крики. Вспыхнул огонь, но со двора прогремел властный голос, трое из нападавших бросились гасить пламя. Распоряжался огромный толстый воин на коне. Когда пламя осветило его лицо, Владимир с трепетом узнал руса Сфенела, опытного воителя, наставника княжича Святослава.
Пожар затушили быстро. Крики вскоре затихли, несчастные захлебывались в своей крови. Сфенел быстро отдавал приказы. Огромный и толстый, он двигался очень быстро, распоряжался умело и жестоко. Из темноты выныривали воины, снова уносились в ночь, быстрые и бесшумные, как призраки.
Из зияющего пролома в дверном косяке на крыльцо вышел, переступив через сорванную дверь, рослый воин в полном воинском доспехе. В его руке тускло блестел меч, длинный и острый. С черного острия срывались темные капли. Когда воин откинул забрало, Владимир в свете факелов узнал княжича Святослава.
– Готово и с большой палатой.
– Гридни? – коротко спросил Сфенел.
– Кто сдался, того просто связали.
– Пойдем, сразу переговорим с княгиней.
Святослав заколебался, и у Владимира в его укрытии сжалось сердце. Святослав, великий воин и великий полководец, завоевавший соседние страны и мечом раздвинувший пределы Руси, сильный и решительный, сейчас колебался в мучительной растерянности, а Сфенел, давно уже не наставник юного княжича, сейчас словно снова вернул прежние времена.
Он с неожиданной легкостью прыгнул с седла прямо на крыльцо. Затрещали доски, воевода поскользнулся в темной луже, выругался. Он кивнул, сразу несколько воинов бросились к нему с обнаженными мечами. Святослав вздохнул, крепче сжал рукоять. Лицо его было бледным, а глазные впадины в слабом лунном свете казались темными пещерами.
– Надо… так надо, – сказал он хриплым голосом.
Он пошел впереди. За ним следовали Сфенел с дюжиной воинов, Владимир никогда не видел столько рослых и так хорошо вооруженных людей вместе. Как узнал позже, это были последние из русов.
Глава 5
Рано утром вестники собирали воевод, бояр и знатных людей в княжеский терем. Кияне были наслышаны о ночной схватке. У многих кто-то да служил при огромном великокняжеском тереме, иные так и не вернулись, а кто-то явился только под утро в порванной одежде, побитый, если не раненый.
Простой народ валом валил за боярами, долго стоял молчаливой толпой за оградой, ждали выход великой княгини. Это всегда бывал праздник: княгиня одевалась богато, пышно. Простой люд всякий раз ахал при виде нежнейших шелков из Царьграда, багдадских тканей, германских ожерелий, искусно сделанных сапожков из далекой Иберии.
Во дворе непривычно много было воинов из отборной дружины княжича Святослава. Суровые, огромные, как башни, закованные в булат, они молча возвышались на исполинских конях, хмуро посматривали на крыльцо. Такие же нелюдимые воины, среди них много русов, эти даже по-местному говорили плохо, стояли по двое-трое на улицах, подозрительно смотрели на киян, столпившихся у ограды. В их присутствии гасли разговоры, их обходили стороной, даже косые взгляды прятали. Они угнетали своим молчанием, неподвижностью, нежеланием общаться.
Когда великая княгиня вышла на высокое крыльцо, во дворе и за оградой пронесся общий вздох. Княгиня была бледная как смерть, одета проще простой боярыни. Только роскошная шуба, наброшенная на плечи, несмотря на жару, как знак великокняжеской власти, подчеркивала ее владение Русью. Ее поддерживали под руки двое седовласых, но, как поняли в толпе, уже не только из почтительности: великая княгиня в самом деле едва держалась на ногах.
– Люди земли нашей, – заговорила Ольга. Ее голос был смертельно усталым, в толпе зашикали друг на друга, стараясь не проронить ни слова. – Долгие годы я несла тяжесть власти над нашим полянским племенем, над племенами древлян, дряговичей… над другими, что были властью русов объединены за последние годы… Чувствую, что силы покидают меня… Не по мне эта земная тяжесть, да и хочу открыть душу небесам, хочу беседовать с богом… а когда с ним общаться, когда то разбой, то пожар, то Иваш Ивку побил? Все свои печали несете мне, перекладываете на мои плечи!
Сфенел и Святослав высились за ее спиной, тяжелые и неподвижные, но за каждым словом следили. Сфенел кашлянул, и Ольга, вздрогнув, торопливо заговорила снова:
– Силы мои ослабели. Больше не могу держать тяжесть власти княжеской… Но у меня есть сын Святослав, вы его знаете… Вы его хорошо знаете! Он всю жизнь проводит в воинских походах, но вчера… вчера я призвала его и просила принять на себя заботу о землях русских…
Полустон-полувздох пронесся над толпой. Сфенел подобрался, хищно оглядел народ. Несколько воинов тут же бросились в толпу.
– Святослав, – продолжила княгиня все тем же мертвым голосом, – согласился принять великое княжение. Так что я велела приготовить все для передачи княжеской власти. А Святослав пусть принесет присягу по старым обычаям отцов наших… По обычаям русов.
Ее глаза на бледном лице были огромные и страдальческие. Старцы бережно повели ее обратно. Роскошная шуба скрывала ее некогда стройную фигуру, но все видели, что великая княгиня горбится, как под неподъемной тяжестью.
За оградой народ задвигался, пошли стоны:
– Княгиня!
– Заступница наша!
– На кого покидаешь сирых и недужных?
Сфенел коротко взмахнул рукой, и, словно брошенные из его горсти, всадники тут же направили коней в толпу, оттесняя от ограды, загоняя в тесные улицы. В руках появились плети из сыромятной кожи с вплетенными кусочками свинца. Послышался треск лопающихся рубах под ударами плетей, крики.
Не дожидаясь полудня, волхвы привели к присяге на верность Русской земле и ее древним законам княжича Святослава, которого с этого момента стали называть князем.
Ольга по-прежнему именовалась великой княгиней, а Святослава называли просто князем, но никого это не обманывало. За спиной Святослава грозно маячили острые копья верной ему могучей дружины русов и русичей, разбогатевших на удачных походах в соседние земли. Его держались и наемные варяги, да и простой люд предпочитал понятную веру отцов сложной и чужой вере с чужими именами и названиями. Святославу, равнодушному к титулам, как и к пышной одежде, важнее была реальная власть, он в разговорах с хазарами называл себя каганом, с викингами – конунгом, с печенегами – ханом, а с дикой чудью – вождем. На главном капище рядом с богами русов и полян уже стояли боги древлян, дрягвы, вятичей, тиверцев, даже покоренных ясов, ибо в дружину Святослава влилась дюжина ясских воинов.
Часть знатных бояр бежала из города. Крутой нрав Святослава знали. Другие же, принявшие христианство, умудренные жизнью, просто ушли в тень. Князю-воину будет не до вопросов веры. Он весь в походах, спит на коне, ест конину, едва-едва зажарив ее на угольях… Рано или поздно отважные русы полягут в битвах! Ведь сами ищут кровавой брани, в их песнях слышен звон мечей и рев боевых труб, реками льется кровь, а они гибнут как герои… Вот и пусть гибнут и дальше. А здесь можно будет повернуть по-старому…
Адальберта с двумя уцелевшими в резне спутниками вывели за ворота Киева и велели убираться без оглядки. Дружине Сфенел велел наложить стрелы на луки.
– Ежели хоть один оглянется, – приказал он жестко, – бить как свиней! Без жалости.
Таким Владимир вспоминал этот переворот. Русь, принявшая католичество великой княгиней и всей княжеской верхушкой, была повернута могучей рукой воина Святослава к древней вере русов.
Княжеская оружейная занимала правое крыло терема – в три поверха, а еще был подвал в два поверха, стены из дикого камня. Владимир умел подружиться с самыми нелюдимыми, а оружейникам всегда старался что-то подать, принести, и его допускали поглазеть и даже потрогать почти все, что хранилось под их началом.
Здесь любил бывать Святослав, но, на счастье Владимира, он редко бывал в Киеве.
Самое древнее и удивительное оружие хранилось в подвалах. На вбитых между глыбами крюках висели киммерийские луки и бронзовые мечи. Тут же рядом хранилась и скифская зброя, как называли свое оружие степняки древности. Мечи-акинаки, секиры, ножи – все из первого железа, еще слабого, сырого, незакаленного. Правда, мечи и ножи с золотыми рукоятями. Не простые скифы пали от рук древних русичей!
В распяленном положении висели ассирийские доспехи, кольчуги. Там же были конические шлемы, поножи, луки. Уже не оружейники, а волхвы рассказывали, что столь дивные вещи привезли пращуры из дальнего похода на Восток. Тогда победно дошли до самого Египта, но фараоны откупились богатой данью.
Там же была зброя персов, гребнистые коринфские шлемы с забралами остались от эллинов, когда была разбита армия великого Лександра. Пошли стричь гипербореев, вернулись стрижеными, да и не всем повезло вернуться. От них осталось особенно красивое оружие, сплошь с диковинными личинами, богато украшенное, щиты с вырезами. Говорят, ничто на свете не могло выстоять против удара македонской фаланги! Но под стрелами скифов и двуручными мечами богатырей-сколотов полегли завоеватели, немногие успели унести ноги…
На поверх выше в подвале хранились доспехи и зброя сарматов. Длиннополые кафтаны, обшитые бронзовыми пластинами, глубокие железные шлемы, длинные пики, знаменитые двуручные мечи. Это с их помощью сарматы разбили скифов и оттеснили на северо-запад, где те вскоре слились в единый народ со сколотами, ушедшими с Коло.
Отдельный угол был отдан зброе римлян. Не нынешних ромеев, а тех, древних, настоящих. Их принесли с дако-римской войны, когда славяне помогали соседям отразить нашествие римлян. Шлемы римлян были просто чудом, их невозможно пробить ни мечом, ни секирой, ни копьем. Только клевцы, боевые молоты с узким, длинным и слегка загнутым к рукояти бойком, умелая придумка сколотских рыцарей, помогла справиться и с ними, тогдашними властителями мира.
Здесь же в углу висели и панцири легионеров, набранные из длинных прогнутых стальных пластин. В ряд висели странные короткие ножи, которые у римлян служили мечами и звались гладиями. Старый оружейник, его звали коваль Людота, объяснил пытливому отроку, что огромный двуручный меч сколотов плох в тесном бою, когда сшибаются две армии и, выставив щиты, давят одна на другую. Передние ряды задыхаются от тесноты, тут в самый раз короткий меч: кольнул из-под щита – и снова как черепаха в панцире!
Вместе с оружием стояли и захваченные в боях римский орел на древке – золотой! – знак легиона, значки манипул и когорт.
Выбравшись из подвала, он попадал на первом поверхе в царство оружия готов. От них осталось особенно много, ибо с готами то воевали, то торговали и роднились, то снова воевали. У них особенно заметны великолепные кольчуги с длинными рукавами и капюшонами. Кроме обычных щитов, секир и мечей, выделялись большие боевые ножи с клинками длиной в локоть. Их называли скрамасаксы, с ними готы не расставались, а впоследствии одна ветвь готов так и назвала себя – саксы!
Другая половина первого поверха была отдана оружию гуннов, с которыми отношения как славян, так и русов тоже были непростыми. То воевали, то дружили, то ходили с ними в походы, однажды даже славянское племя во главе со своим вождем Аттилой возглавило союз племен и провело огромное войско по всей Европе, но после смерти Аттилы, одними прозванного гетманом Гатилой, другими – Тилаком за его дородность, третьими – Бичом Божьим, попросту переводя на свой лад его имя Богдан Гатило, – союз распался, и славяне с гуннами воевали вплоть до их истребления.
В верхних поверхах Владимир любил быть больше всего. Здесь хранилось оружие пращуров: как сколотов и скифов, так и меч Кия, секира Руса, панцирь Рюрика, нож Игоря, лук Олега Вещего… Здесь же в великом множестве были доспехи и оружие, добытые Святославом в последних походах, купленные у купцов. Существовал обычай, что, пока смотритель княжьей дружины не отберет нужное, купцы не выставляют оружие на торгу.
Среди развешанного здесь оружия были кольчуги дамасские с короткими рукавами, испанские и толедские с длинными рукавами и с воротниками или капюшонами, хорезмийские кольчуги из плоских колец – байданы, комбинированная кольчато-пластинчатая броня: юшманы, колонтари, бахтерцы.
Шоломы стояли самых разных видов и размеров. Норманнские, германские, ромейские, арабские, сирийские, ерихонки и мисюрки, шапки железные и медные, с бармицами и без, с железными личинами и со стрелками, с яловцами и перьями. Были харалужные, украшенные золотой насечкой, и суровые стальные.
Поручни и поножи, ноговицы и латные рукавицы – все было разложено рядком, отроки под началом старшего оружейного смотрителя бдили за чистотой.
А на втором поверхе стен не видать: сплошь мечи и сабли, кинжалы и ножи, мечи обоюдоострые харалужные русские, из хорошей светлой стали, норманнские, слегка изогнутые хазарские, сабли печенежские и арабские, бороздчатые зульфакары, армянские и персидские из черного булата, длинные колющие мечи-кончары. Оружие наемников из Хорезма, служивших кагану Хазарии!
Самыми ценными здесь были мечи с далеких восточных островов. В отличие от булатных мечей из Индии или Персии, которые ломались во время русских морозов, как сосульки, эти мечи выдерживали любые морозы и любые удары. Но такие мечи имелись только у немногих воевод князя.
Затаив дыхание слушал Владимир о странных путях, по которым оружие бродит по свету, переходит из рук в руки, оказывается в самых дальних краях. Так кельтские кольчуги достигли неведомых жарких стран, а китайские доспехи из лакированной кожи носорога добрались до Руси, Оловянных островов, суровых норманнов, данов, попали на таинственный остров Руян. Волхвы глаголят, что в древности не было страшнее морских разбойников, чем викинги из Куявии и Руяна!..
Целыми связками здесь же стояли копья, пики, дротики-сулицы, совны, рогатины. Топоры, секиры, топорки, клевцы, чеканы, булавы, шестоперы, палицы занимают с десяток столов и лавок. Были здесь и простые, но больше тех, дорогих, которые князь вручает сотникам, тысяцким, воеводам как знак их воинской власти. У ряда палиц навершие сделано из священного камня нефрита. Пока такой камень расколешь – железный молот разобьешь!
Людота, посмеиваясь, сказал:
– У ромейского императора, по-ихнему базилевса, такая булава тоже знак власти. Еще с тех времен, когда Тарас, первый человек на земле, привязал камень к палке и начал ею побивать зверей… Скипетром зовется ныне. А в другой руке он держит… я говорю о базилевсе, агр-р-ромадный булыжник, державой именуется. Это еще с того времени, когда Тарас даже привязывать камень не умел, просто кидался им… С тех пор и пошло: у кого булыжник больше да кто кинет дальше, тот и вождь!
Когда удавалось, Владимир очень любил смотреть, как работает старейшина оружейников. Его знали и чтили даже у германцев, свеев, ляхов. Мечи с меткой «Людота-коваль» стоили целое состояние!
Седой как лунь, но не потерявший силу, высокий и могучий, ни капли жира в сухом мускулистом теле, весь из тугих жил, жир вытоплен до капли в жарком пламени горна. Он не гнал отрока, тот мехи качает, холодного квасу подаст, и все без напоминания, чует сердцем, что совсем редкий дар среди людей.
Враки, объяснил он как-то, что оружейники скрывают свою работу. Окон нет не потому, что подглядят да сглазят, а потому, что в полутьме лучше различим цвет нагретого металла. Недогрев и перегрев одинаково губительны. В недогретом пойдут трещины, в перегретом выгорит сила.
Ковка мечей вообще дело особое. Это не сошник или подкову сварганить, даже не секиру или топор. Там просто надо старание и умение, но для ковки меча этого мало. Для меча сперва набирают руду в болотах, толкут, сушат, просеивают, выплавляют в домнице. Готовую ноздреватую крицу проковывают, выжимая шлак. Это уже готовый металл для подков и ободьев колес, славянского топора или пера рогатины. Для меча эту крицу проковывают в прутья, те закапывают на болоте. Через год достают, снова проковывают этот изъеденный ржавчиной прут. И так из года в год, лет десять, а то и двадцать! Потом выдержанное вот так железо еще раз проковывают, разрезают на куски, укладывают в горшок из обожженной глины, добавляют древесного угля, смоляных листьев, замазывают наглухо и ставят надолго в раскаленную и непрерывно продуваемую мехами печь. Потом долго ждут, пока печь остынет. Горшок вынимают и разбивают. Наконец Людота приносит жертву и вынимает драгоценные слитки металла, из которого уже можно ковать настоящие мечи!
Владимир замечал, что старый коваль иногда по нескольку дней постится, ходит с отрешенным взором, лицом становится светел, но в глазах появляется грозное веселье. В кузне сжигались пахучие травы, развешивались обереги. Людота, встав обязательно до восхода солнца, призывал на помощь Сварога, бога-коваля, повязывал волосы кожаным ремешком, надевал на голое тело передник из толстой кожи и возжигал горн.
Но даже из этого металла можно было делать лишь простой меч. Подручные ковали такие из мягкого металла, Людота лишь приваривал стальные прутья по краям. Зато харалужный меч ковался из ряда слоев стали и железа. Равномерно проковывался, сваривая слои, потом перегибался и проковывался заново. Владимир только раз досмотрел до конца, он насчитал шестнадцать перегибов! Он не дышал и не шевелился, потому что, если Людота отвлечется хоть на миг, будет испорчен труд десятка лет!
Даже Святослав, а до него Игорь и Олег не решились бы отвлечь Людоту от священного действа. Олег так вовсе распорядился в такие дни ставить охрану, дабы никто не посмел испортить благородный меч.
Еще видел Владимир, как бережно Людота шлифовал такой вот харалужный меч из уклад-железа. Шлифовальных камней у Людоты Владимир насчитал восемнадцать, от грубых до нежнейших, как шелк.
Обмотав клинок чистой тряпицей, оставив только участок в ладонь, Людота шлифовал, смачивал, снова шлифовал.
После шлифовки раскаленную полосу погружают в растопленное сало. Затем снова нагревают и дают медленно остыть над тлеющими угольями. Верно закаленный меч имеет зеленый цвет у рукояти, фиолетовый, как небо вечером, в середке клинка, синий на конце, а края лезвия должны быть желтыми, как горящее солнце!
Теперь еще раз шлифовка и окончательная заточка. Поворачивая клинок под разными углами к свету, видишь узор харалуга. Если узор в виде ветвистых молний, то меч оценивается в груду серебра на другой чаше весов!
Дважды Владимир видел, как изготавливают особый меч-кладенец. Когда у Людоты получался особенно удачный меч, к нему в кузницу приводили пленного раба. Выбирали молодых, яростных, взятых в жарком бою. Людота бестрепетно погружал раскаленное лезвие в тело кричащего в смертной муке человека, пока меч не скрывался по самую рукоять. Душа воина переходила в меч, тот становился одушевленным, получал имя. Такой меч был непобедим, он прошибал любые щиты и доспехи. Стоил меч в два раза больше, чем помещалось золота на другой чаше весов.
Первый свой меч-кладенец Людота сделал для великого князя Олега, чья жизнь всегда была окружена тайной. Он был князь-волхв, умел оборачиваться волком и птицей, а в походе на Царьград заставил корабли идти под парусами по земле. Никто не зрел его смерти, а курганов над его могилой показывают сразу три: в Киеве, Ладоге и Урюпинске. Никто не ведает и куда делся его волшебный меч-кладенец…
Но даже простые мечи с именным клеймом Людоты были великой ценностью. Великий князь их забирал в свою сокровищницу, награждал ими только самых знатных и отличившихся бояр и воевод… Их носили еще более гордо, чем золотые гривны на шее или диаманты в серьгах.
Владимир спросил трепетно:
– Дедушка, почему росские мечи прямы и обоюдоостры, а хазарские с одним лезвием и чуть скривлены? А печенежские сабли вовсе кривые?
Людота погладил его по голове. Ладонь старика была тяжела и шероховата, как кора дерева.
– Меч – символ Руси. Он прям и честен. Сабля же гибка и коварна. В Диком Поле с саблей сподручнее…
– Тогда наши богатыри уступят ворогам?
Людота усмехнулся:
– Это здесь они с мечами, а в Диком Поле берутся за сабли. Сабля быстрее, легче. Пока юркого печенега мечом достанешь, он тебя саблей иссечет… Если доспех, конечно, не защитит. Мы, кузнецы киевские, сабли тоже куем. Посмотри вон на те заготовки! Это викинга или германца можно сразить только мечом или секирой, столько на них железа толстого. Потому меч и есть главное наше оружие, хотя сабли куем тоже добрые…
– А я думал…
– Сабли тоже бывают разные, – пояснил Людота с усмешкой. – Будешь на верхнем поверхе, посмотри на восточную сторону. Там есть две сабли, или кривые мечи, не всякий их поднимет даже обеими руками. Клинок в три локтя, рукоять в локоть. Такими саблями дрались супротив всадников на верблюдах. Рубили противника вместе с их горбатыми конями!
Глаза Владимира блестели. Он всегда смотрел на оружие жадно, ибо у кого в руках меч, тот и властелин над тем, у кого нет. Взяв в руки хотя бы палку, уже чувствуешь себя сильнее. Спина выпрямляется, а если в ладони оказывается рукоять топора, то и взгляд становится прямым и гордым. А если меч… а мечи носят только князья и старшие дружинники, в то время как оружие простых воинов – топоры, палицы, рогатины…
– Когда-нибудь, – сказал он дрожащим голоском, – я получу право носить твой меч!
Людота ласково коснулся его детской головки. Глаза мальчика смотрели умно и преданно.
– Получишь, – согласился он. – Но жизнь не всегда соглашается отдать то, что от нее хочешь.
Глава 6
Добрыня выслушал великую княгиню, поклонился:
– Я все у ромеев вызнаю. Не беспокойся, матушка. Наши послы у ромеев бывают не часто, нас боятся и потому примут с почестями. Я уже бывал в Царьграде, матушка. И слом, и лазутчиком, мне многое там знакомо. А деньги да подарки открывают в продажном Царьграде любые двери. Там все прогнило, матушка. Это у германцев бывало трудно. У них все на чести! Да печенеги в толк не возьмут, как это слово можно нарушить. А ромеи за серебряную монету мать родную продадут…
Он хотел добавить, что за медную продадут и веру своего Христа, но после той ночи, когда княжич стал князем, когда трупы вывозили подводами, а кровь замывали еще и на другой день, в княжьем тереме разговоров о вере избегали. Святослав никого не казнил, но к христианам относился недоброжелательно, грозно хмурил брови при виде нательных крестов.
Еще раз поклонившись, Добрыня вышел из горницы. Гридни, встречаясь с ним взглядом, вздрагивали и подтягивались, суетливо щупали оружие. Добрыня был нещаден к неряхам и неумехам, как все старшие дружинники Святослава. Слишком много зависело в дальних походах от того, как подвязан меч, как смотришь по сторонам, как готов отразить удар, направленный в спину твоего соратника.
Добрыня, спустившись в челядную, отыскал взглядом у котлов скрюченную в три погибели тощую фигурку. Владимир, весь в копоти, черный, как обугленная головешка, исступленно скоблил железные бока огромного котла.
Темные выпуклые глаза Добрыни изучающе смерили взглядом племянника. Сам Святослав был темно-рус, но все дети обликом получились в матерей: Ярополк и Олег – золотоволосые, с ясными голубыми глазами, даже Владимир, сын рабыни, пошел не в отца, а в мать – с темными, как терн, глазами, волосы черные, как вороново крыло, кожа смуглая даже зимой, обликом дик и резок. Даже больше похож на руса, чем отец, русич. Поговаривали даже, что его мать – из племени русов, но на самом деле кому дело до сына рабыни? Да и разве могла гордая руса стать рабыней?
Он холодно улыбнулся. Знаем, какого роду-племени мать этого мальца, а ему, Добрыне, сестра, но пока что не скажем. Рановато.
– Эй, бросай это важное дело!
Владимир испуганно вскинул голову, тут же втянул ее в плечи. Живет в ожидании удара, понял Добрыня. Если не сломается, что случится скорее всего, то дубок вырастет стойкий ко всем невзгодам.
– Мне велели…
– Кто?
– Прайдана.
– Сейчас я твоя Прайдана. Пойдешь со мною.
– Слушаюсь, дядя, – ответил Владимир преданно. – Сейчас?
– Немедля.
Он смотрел на мужающего подростка бесстрастно, лишь в глубине глаз было одобрение. С детства уяснивший по презрительному отношению взрослых, что он не полноценный холоп, а всего лишь сын рабыни, которая попалась на глаза хмельному княжичу в жаркую ночь, этот малец научился отстаивать свою честь жестоко. Когда не может, сила бывает чересчур велика, затаивает гнев, лишь меряет обидчика пристальным взглядом, словно прицеливается, куда нанести удар, когда рука окрепнет. Добрыня замечал, что даже самых бесшабашных пробирало беспокойство. Сын рабыни умеет скрывать мысли, держит язык за зубами, в отличие от настоящих княжичей, сыновей Святослава от благородной княжны, – те живут легко и беззаботно.
И растет не по годам быстро. Высокий и широкоплечий, по виду старше своих сверстников, мускулистый, правая рука чуть толще от постоянных упражнений с оружием, но и левой они с Сувором обучили наносить удары с той же точностью и силой, луком владеет лучше иных дружинников, в схватках уже догоняет взрослых мужей. Но и этого мало: упражняется до изнеможения, бросает дротик без устали, рубит мечом толстые прутья, прыгает в тяжелом снаряжении на одной ноге через двор, потом обратно, и так много-много раз…
Добрыня видел, как Святослав сперва смотрел неприязненно, заставлял высокородных сыновей следовать сыну рабыни в воинских занятиях, но те бросали скучные и тяжелые упражнения, едва строгий отец скрывался с глаз. И Святослав сквозь зубы хвалил юного челядинца. Правда, за глаза.
Добрыня помедлил, все еще рассматривая племянника пристально и придирчиво, но тот смотрел преданно, вопросов не задавал. Он был готов куда угодно и как угодно дяде-богатырю, которого любил и чтил. Удовлетворенный, Добрыня кивнул:
– Княгиня отправляет меня с тремя боярами послом в Царьград. С собой берем дюжину воинов, больше не разрешено базилевсом, троих отроков, двух слуг и одного конюха.
Владимир молчал, только щеки заалели. Добрыня покачал головой:
– Не всякому выпадает удача. Побывать за морем! Да другой горло сорвет, деньги все истратит, но его не возьмут… Хотя какая удача? Удача слепа, она и дурням выпадает. А ты сам добился, того не подозревая… Ты хоть знаешь, чего добился?
Владимир смотрел, онемев. Сердце стучало так сильно, что ветхая залатанная рубашка уже не подпрыгивала, а тряслась на груди.
– Ты добился, – продолжал Добрыня с расстановкой, – что ты уже стал лучшим… Пока что с конями. Но ты уже незаменим… почти.
– Дядя, – прошептал Владимир.
– Догадался? За тебя замолвили словцо кони. Изволят тебя иметь при себе и в поездке за море!
Море распахнулось как гигантские ставни. Блистающий мир чистейшей воды надвинулся с такой мощью, что сердце Владимира затрепетало, как крылья бабочки в бурю. Воздух был свеж и чист, каким никогда не бывал в лесу или поле, где всегда тесно от запахов травы, зелени, земли, цветов, навоза, а здесь необозримая масса воды была чистейшей и прозрачнейшей, с оттенком таинственной зелени.
Их огромный корабль поднимало как щепочку, долго вздымало ввысь, все выше и выше, так что мачта задевала облака, еще чуть – упрется в небесную твердь, и Владимир потрясенно видел со всех сторон только бескрайний синий мир, даже без волн! Потом так же неторопливо корабль соскальзывал с гребня водяной горы, скользил вниз, с боков наконец вырастали такие же волны, но корабль падал все ниже, в водяную бездну, с обеих сторон высились прозрачные, как лед, стены ущелья из воды, а корабль старался достичь дна… и в самом деле Владимир потрясенно уже различал близкое дно: с янтарно-желтым песком, диковинными морскими зверями, и сердце сжималось в страхе… но в последний миг корабль снова начинал долгий путь наверх.
Добрыня бурчал, что кормчий трус и неумеха, боится плыть напрямик, ползет вдоль берега, боится утопнуть на глубоком, однако Владимир и так едва-едва различал на виднокрае темную полоску земли. Ежели оторваться и от нее, то как не потеряться в беспредельном окиян-море?
Возбуждение не оставляло с того благостного мига, когда Добрыня велел взять его при посольстве в Царьград. Сердце стучало так, что к вечеру уже болело, изранившись о худые ребра. Он ходил за конями, кормил и чистил, купал, чинил одежду, бегал с поручениями, но всякий раз, оказавшись на палубе, подпрыгивал и верещал в диком восторге. Дважды снился страшный сон: никакого моря, никакого корабля, а он все в той же грязной и душной челядной, полной вони и храпящих холопов!
Он никогда не думал, что воды может быть столько. И вокруг, и внизу под кораблем. Кормчий рек, что плывут над вершинами гор, а до этих гор еще с полверсты! Если и врет, то не сильно, Владимир зрел сквозь чистую прозрачнейшую воду на десяток саженей вглубь, что немыслимо в их Днепре, но дна так и не узрел…
Добрыня обронил, что в открытом море вовсе чудо-юдо плавает на других чудах-юдах, еще чудами-юдами и погоняет! Там Морской Змей, там драконы и странные существа, но редкие герои отваживаются пересекать даже это не шибко широкое море напрямик. Ромеи и русы привыкли плавать по морям, не выпуская из виду берегов, так надежнее, пересечь море поперек – дело рисковое всегда. С ватагой разбойников – да, но слам такое молодечество в упрек, не в заслугу.
Владимир сперва считал города и порты, куда заходили корабли взять питьевой воды, потом перестал, голова шла кругом. Толмач по большей части бражничал с воеводами, Владимир приноровился подавать кувшин с вином, сладости, убирал грязную посуду, а сам жадно впитывал каждое незнакомое слово, сравнивал со своими, ловил речи бояр и ответные речи толмача, снова сравнивал, вникал в смысл, еще смутный, удивительный, обрывочный… Но разве кто-то возьмется обучать языку раба?
Однажды рано утром он выбежал наверх, ежась от утреннего ветерка, тоже странного и непривычного, ахнул, ухватился за канат.
Неправдоподобное лазурное море впереди словно бы обрывалось, закрытое торчащими, как иглы рассерженного ежа, мачтами кораблей. Паруса были спущены, черные мачты торчали, словно обугленные. Неужто на свете их может быть столько?
А дальше прямо из воды вырастали белоснежные горы, отвесные стены, настолько гладкие и чистые, что глаза лезли на лоб, отказываясь верить… И вдруг он понял потрясенно: эти стены сложили человеческие руки! Судя по всему, здесь сторожевые крепости, ромейские заставы богатырские. Наверху зубчики, едва заметно глядятся крохотные окна. Самую высокую сосну поставь на такую же, а потом еще и еще, и то не достанут даже до середины башен! Или местные боги здесь держали оборону от других богов?
Волны с тяжелым грохотом обрушивались на несокрушимое основание башен, что вырастали прямо из чистейшей воды. Когда наконец росский корабль приблизился к первой, Владимир с еще большим потрясением увидел сквозь прозрачнейшую воду, как стена из исполинских глыб опускается все ниже и ниже, куда человеку не донырнуть, не всякая рыба туда опустится, а тяжелые обтесанные ломти скал лежат ровненько, стена выглядит сплошной, волосок не просунуть между глыбами гранита… Или морские боги строили?
Рулевой, им был сам кормчий, лохматый мужик поперек себя шире, покосился на застывшего в изумлении мальчишку:
– Что, громом пришибло?
– Его… строил сам Род? – прошептал Владимир благоговейно.
– Я сам так думал. Ты рыжих муравьев видел?
– В лесу? – удивился Владимир, он не отрывал зачарованных глаз от исполинских стен. – Кто же их не видывал!
– Малы, а какие хоромы строят!.. Их лесные кучи еще выше. Ежели, конечно, сравнить их рост и рост ромеев.
Холодный насмешливый голос заставил Владимира захлопнуть глупо раскрытый рот. Он покачал головой:
– Мы же такое не строим…
– Откуда деревья в стране песка и камня? – хладнокровно заметил кормчий. – Потому и строят из того, что есть. А камень на камень можно громоздить и до неба… Буди старших!.. Вон уже гавань. Там башни еще повыше.
Владимир попятился. Глаза стали круглые, как у молодого совенка.
– Неужто могут быть еще выше?
Кормчий сплюнул через борт:
– Это собачьи конурки в сравнении с теми, что запирают вход в Золотую бухту.
Когда Владимир сбегал вниз, оттуда уже плелись, хватаясь за стенку, зеленые и опухшие от морской болезни бояре. Они лечили ее неразбавленным вином, теперь на них было смотреть страшно. Правда, вид встающих из моря исполинских башен потряс даже их, только Добрыня напускал равнодушный вид, он-де уже третий раз в Царьграде, но Владимир подметил, что воевода хитрит. Царьград и есть Царьград, наверное, даже ромеи из других городов тоже раскрывают рты на всю варежку.
– Царь городов, – сказал благоговейно боярин Волчий Хвост.
– Это пока только порт, – объяснил толмач тоном полнейшего превосходства. – Он весь мандракий, что означает загон для овец. Только в этом загоне сотни кораблей со всего света… Еще мой дед строил стены этого загона. Глубина в море была больше ста локтей, туда на кораблях возили каменные глыбы и скидывали в море, скидывали, скидывали… Камень брали на берегу, там раньше были горы. Больше года возили глыбы и сбрасывали в море. Гору источили норами, потом норы превратились в огромные пещеры, затем горы рухнули, их разобрали на глыбы и сбросили опять же в море, потом на месте гор образовались пропасти, но и оттуда поднимали глыбы неотделанного камня, грузили на корабли, вывозили в открытое море, сбрасывали. Наконец лучшие ныряльщики сообщили, что в глубине уже можно различить вершины подводных гор!.. Ну а дальше, понятно, все было намного проще.
Владимир потрясенно смотрел на исполинские башни. Облака задевают острыми зубьями! Построить такие горы проще того, что внизу под водой? Какие же тогда там? И все это построили не боги? Так что же за люди живут в этих землях?
– Как они могли… Как могли сотворить такой город? Я уж думал, это Славен, столица вирия!!!
Добрыня, который сам жадно пил из всех кружек, как он это называл, то есть учился у всех, подхватывал крохи знаний где мог, о Царьграде знал уже не меньше, чем о Киеве. Чтобы подлить масла в огонь, рассказал, что этот древний град, который зрят бояре, вовсе не древний, а построенный на развалинах старого, разрушенного императором Константином, что жил всего-навсего полтыщи лет тому.
– Полтыщи? – У Волчьего Хвоста волосы встали дыбом. – А когда же тот… старый…
Добрыня, кичась своими широкими познаниями, начал рассказывать, как один из аргонавтов, внук самого Посейдона, возвращаясь из похода за золотым руном, ахнул при виде красивейшего места на берегу Пропонтиды. А так как доля добычи при нем уже была, награбил довольно, то решил там и поселиться. К нему примкнуло несколько искателей приключений, они помогли построить маленький городок. Помогли, разумеется, больше мечами и копьями, чем молотками и лопатами. Отважного аргонавта звали Византом, потому и городок назвали Византом.
Визант стал воротами из Европы в Азию. И обратно. Здесь сошлись дороги из Европы, Азии, Африки, отсюда со страхом цивилизованные народы смотрели в сторону степей, где на том берегу морского пролива показывались орды беспощадных скифов, а за их степью лежала еще более таинственная страна гипербореев, там зимой с неба падают белые холодные перья…
Этот городок быстро превращался в город, завел торговлю со всеми европейскими и азиатскими странами. Еще Визант вооруженной рукой собирал пошлину с проходящих через пролив кораблей. Правда, он же давал им и защиту. Царь Дарий, когда шел войной на скифов, по дороге взял Визант и разрушил до основания, жителей истребил, а уцелевших продал в рабство.
Позже жители восстановленного Византа пытались освободиться из-под власти персов, но персы снова его разрушили, жителей разогнали, а сам город превратили в укрепленную крепость персов, куда не допускали местных жителей.
Павсаний освободил от персов измученный городок, но он на долгие годы и даже столетия стал лакомой костью, из-за которой грызлись Спарта и Афины. Визант то освобождался от зависимости, то снова у него отнимали даже право собирать пошлину, наконец появился новый грозный враг – Филипп Македонский. Жители Византа встали на сторону Рима, что воевал с быстро набирающей силы Македонией, а Рим в благодарность, захватив Грецию, дал Византу некоторые права и привилегии перед другими городами Эллады.
Так продолжалось до тех пор, пока император Веспасиан не решил, что Визант слишком злоупотребляет своими льготами. Римские легионы двинулись на юг, туда же выступил и флот. Жители Византа сражались отчаянно, кровь древних аргонавтов еще текла в их жилах, но все же были перебиты или уведены в рабство. Город разграбили и сожгли дотла.
Но Визант обладал неслыханной живучестью. Римская армия не могла жить среди руин, ушла, а уже на другой день каменные глыбы начали сползаться к тем местам, откуда их выломали. Стены Византа выросли еще выше. Он продолжил борьбу, а против императора Септимия Севера выставил неслыханный флот в пятьсот триер, какого даже у могучего Рима никогда не было. А уж у Игоря, который ходил на Царьград, – тем более. Даже у Вещего Олега, что прибил свой щит на врата Царьграда!
Три года продолжалась сокрушительная битва. У Рима была сильнее армия на суше. Она-то и ворвалась через разрушенные стены. На этот раз жители были вырезаны, стены развалены, а поперек городской площади провели плугом борозду в знак полного уничтожения города.
Именно Рим, могучий и все доводящий до конца Рим, сумел окончательно уничтожить Визант как огромный и цветущий город, центр окрестных земель, откуда смотрели на него с надеждой… На руинах восстановился лишь крохотный городок, бедный и жалкий, каких не счесть в Римской империи.
И лишь император Константин Великий, блистательно разгромив Ликиния, был у него такой соперник, прозорливо увидел великое будущее Византа. Ну прямо как Олег Вещий, что перенес свою столицу из Новгорода в Киев. Он построил на его месте новый город, сделав его второй столицей Римской империи, равной самому Риму, украсил дворцами и театрами, переселил туда часть богатых римских семей…
Он сам не предполагал, что вскоре ему самому придется спешно переезжать в древний Визант, который он, перестроив, переименовал в Новый Рим! Ну вроде как жители из Старгорода, что на новом месте основали городок, нарекли его Новгородом… И что столица Римской империи указом того самого императора, здесь именуемого базилевсом, будет перенесена именно сюда, в Царьград!.. То бишь Новый Рим. Народ стал вскоре называть его Константинополем, а мы и того проще – Царьградом…
– С тех пор прошло всего лет пятьсот, – объяснил Добрыня небрежно, – ну, не ровно пятьсот, а с гаком… Ну, с хвостиком…
– Как у козы? – спросил озадаченный Волчий Хвост.
Добрыня призадумался:
– Гм… нет, у козы короткий, потянет лет на двадцать. Как у тебя! Я имею в виду волчий.
– Это лет на семьдесят? – спросил Волчий Хвост. Он выглядел потрясенно, а Владимир, слушая их, вовсе превратился в деревянный столб. Разве можно вообразить такую старину?
Глава 7
Добрыня уплатил пошлину, а по грамоте к базилевсу их пропустили без долгого карантинного досмотра, обычного для торговых судов. Владимир сошел на берег, навьюченный как заводная лошадь, хотя и коней пропустили в Царьград. Толмача дали другого, а проводника попросту навязали, хотя Добрыня заявлял гордо, что он-де знает здесь все вдоль и поперек. Волчий Хвост усмехнулся: потому и не пустили самих!
Владимир, уже осмелев, прилип к новому толмачу, жадно учил ромейские слова, запоминал, спрашивал, как то или иное новое слово, выражение. Добрыня бросил с насмешкой:
– Нас поселят в квартале русов… Там с десяток домов, купленных нашими купцами. А дома не в пример киевским.
– А вдруг толмач отлучится? – попробовал защититься Владимир.
– Ну, не всегда же лялякать с ромеями, – сказал Добрыня равнодушно. – И отдохнуть надобно, полежать… Они и так суетливые и прилипчивые, как обезьяны…
– А что такое обезьяны?
– Ну, что-то вроде тебя. Только настырнее.
Дорога от гавани и к городской стене ошеломила пестротой, разноголосьем. Людей как на базаре, идут пешком и едут на конях, странных огромных зверях с двумя горбами на спине, маленьких длинноухих лошадках, а настоящие кони были такие разные, что Владимир даже от них не мог оторвать взора. Тонконогие и легкие, как птицы, нервные, горячие, с огненными глазами, с круто выгнутыми шеями, в сухих мускулах, и огромные, как горы, кони, тяжелые и медлительные, что тянут за собой такие же огромные подводы, доверху нагруженные скарбом. Эти кони выглядят так, что, упади на их телегу гора, не заметят, будут тащить все так же неспешно, гулко бухая в прокаленную землю огромными, как жернова, копытами.
Когда впереди встала белая стена, перегородившая мир, сердце застучало так, что вот-вот выпрыгнет. Дорога упиралась в эту стену, там виднелись ворота, настолько малые, что казались мышиной норкой в стене, а то и вовсе прогрызенной муравьями. Народ темным шнурком втягивался туда, исчезал.
Когда приблизились еще на полверсты и стена закрыла половину неба, Владимир наконец увидел настоящую величину ворот. Если поставить на телегу еще пять телег с сеном, даже не заденут свода!
Добрыня строго прервал аханье бояр:
– Хватит дорожную пыль собирать нижней челюстью!.. Вещий Олег, да будет вам напомнено, брал дань с этого града. А в знак победы приколотил свой щит на эти врата. Так что и мы не лыком шиты!
Ворота были распахнуты настежь. Пока Добрыня платил стражам за вход, Владимир пытался заглянуть на ту сторону тяжелых створок. Хоть одним глазом увидеть щит князя-волхва, о котором слышал столько, что вообще перестал верить.
Один из стражей отогнал, не дал протиснуться между створкой и стеной. Вдруг да русы используют детей как лазутчиков?
Их поселили в Русском квартале. Как выяснил Владимир, здесь была также Русская улица, Русский торг, даже русские постоялые дворы. На другом конце города, как объяснил толмач, располагаются дома и лавки славянских купцов. Постоянная торговля с Царьградом привела к тому, что русские и славянские купцы покупают дома, в отъезды поручают их соседям, что клялись теми же богами. Здесь постоянно звучит русская речь, и Владимир, который ощутил себя снова в Киеве, сразу стал рваться на улицу.
Добрыня оглядел его с сомнением:
– Тебя здесь и куры загребут… Но мужчина проверяется в деле! До вечера ты свободен. К ужину чтобы вернулся. Будешь подавать на стол вместе с греками, поучишься.
Волчий Хвост покачал головой:
– Потеряешь мальца… Сколько ему?
– Десять лет, – буркнул Добрыня. – Мы в его годы уже быкам шеи ломали!
– То быкам… Дай ему меч.
– Зачем? Если что, виру платить нам.
– Я без меча чувствую себя голым. У него голос будет крепче.
Добрыня пристально оглядел племянника с ног до головы:
– Добро. Сними обноски, оденься как отрок! Ладно, и шелом возьми, кудри свои скроешь. А то, не ровен час, примут за грека… Но не заносись, не заносись!.. Мы-то знаем, что ты лишь помощник конюха.
Владимир, едва дыша от свалившегося счастья, сменил драные портки на новые, торопливо перекинул через голову перевязь с мечом, чтобы рукоять торчала над левым плечом, к поясу прицепил короткий нож в простых ножнах из грубой кожи. Он оставался в старой вытертой душегрейке из волчьей шкуры, руки были голые до плеч, грудь и живот тоже чувствовали горячие лучи здешнего солнца. Но широкий ремень с железными бляхами надежно стягивал в поясе, а тяжелый меч придавал уверенности.
– Я не задержусь, – пообещал он преданно.
Добрыня и Волчий Хвост с усмешкой смотрели вслед. Мальчишка даже подпрыгивал от счастья, ноги едва касались земли. Когда исчез за воротами, Волчий Хвост хмыкнул с сомнением:
– Вернется вовремя?
– Боишься за свой меч? Отрок хитер и осторожен. Вернется.
Боярин отвернулся, уже весь в делах завтрашнего представления во дворец, но предупредил:
– Если сгинет, с тебя цена моего меча!
– Не давал бы, – буркнул Добрыня. – Я вон свой шлем одолжил и то не трясусь…
Волчий Хвост смотрел с сомнением:
– У тебя ж голова как пивной котел! Он в нем с ногами поместится.
– Хлопчина не дурак, надел под него две вязаные шапки.
Владимир шел, шарахаясь от горластых уличных торговцев и диких воплей их длинноухих лошадок, жадно рассматривал старинную кладку. Какие великаны притащили эти глыбы, как взгромоздили одну на другую, как подняли на самый верх башен?
Ромеи пестрые и шумные, суетливые, живые, как бурундуки, даже совестно за их вертлявость, но что бросилось ему в глаза еще на пристани… домашние, что ли, лица горожан.
В Киеве каждый третий обезображен. Хотя нет, это же шрамы, а не язвы или короста, это не безобразие, а отмеченность, как говорят воины, богами. В Киеве каждый третий не обезображен, а украшен рубцами старых ран! А если какие скрыты под одеждой, то лишь скованное движение выдает иное, жила срослась не так или кость повреждена. А шрамами иному так стянет лицо, что и не улыбнуться больше, только скалится, как зверь лесной. Но и такие, как слышал Владимир разговоры взрослых, девкам любы. Даже особо любы, ибо это уже испытавшие, уцелевшие, выжившие в бурях и невзгодах. Им теперь долгая жизнь на роду выткана Сречей. От них и детишки пойдут здоровые, сильные, отважные!
А тут, в Царьграде, кто ни попадался навстречу – чист от шрамов, с целыми руками. Хоть патриций, хоть охлос, все выглядят так, будто никогда в сражениях не бывали. А может, и не бывали. Империя огромна, битвы идут на окраинах, на границах. Там сшибаются волны, а сюда не то что брызги не долетают, даже рябь не докатывается…
В Киеве на каждом двадцатом белеет туго стянутый холст, сквозь белую ткань еще проступает алая кровь. Рука воина привычно дергается к топору, темнеют глаза. Он еще там, на близких окраинах Руси, где как град гремят мечи по шлемам и щитам, вихрем несутся обезумевшие кони, волоча по трупам застрявшего в стремени ногой хозяина, где каждый мужчина проходит великое испытание…
Он косился брезгливо на нищих, что сплошной коростой усеивали паперти. На Руси таких страшилищ не увидишь. Царьград и тут переплюнул Киев, но и среди этих уродов не видать тяжко искалеченных. Все больные-пребольные. Страшные язвы гниют прямо на глазах, мухи обсели и пьют сукровицу… На Руси человек теснее живет на миру, а там если не может другим подсобить мудрым словом – завоеванием старости, то уходит из жизни сам… Или просит детей своих вывезти в лес и оставить диким зверям.
И вдруг он понял. Вернее, как-то пришло озарение, что в самой безмерной мощи империи кроется и слабость. Этот огромный зверь разжирел, стал неповоротлив, из норы не вылезает, сам уже не нападает, а только огрызается! Недаром киевские князья, приводя голодные и злые дружины под высокие стены этого града, царя над градами, заставляют трепетать его жителей уже при виде обнаженных мечей, и ромеи униженно умоляют о мире и откупаются богатой данью!
А ведь Русь пока что совсем крохотная рядом с необъятной Римской империей… Или уже не крохотная?
Вдруг он услышал быстро нарастающий грохот копыт. Из центра города по середине улицы бешено неслись всадники. Все были одеты настолько богато, что он счел бы всех императорами, если бы не знал, что базилевсов столько в одном городе не бывает.
Всадники неслись с кличем: «Принцесса Анна! Принцесса Анна!.. Дорогу принцессе Анне!», и народ на всем их пути шарахался к стенам, падал на колени и склонял голову.
Владимир засмотрелся с раскрытым ртом на происходящее и не заметил, как перед ним вырос на огромном красивом коне великан в блестящих доспехах. Он был яркий, блистающий, глазам стало больно. На роскошном шлеме развевался пучок перьев такой нежной белизны, какую Владимир даже вообразить не мог.
– Ты что же, дурак? – рявкнул всадник.
Он коротко взмахнул рукой. Владимир не успел опомниться, как на голову обрушился удар булавы. Будь шлем ромейским или германским, быть бы с разбитой головой, но узкий конический шлем роса сбросил скользящий удар. Да еще помогла смягчить удар толстая вязаная шапка из козьей шерсти.
Сбитый с головы шлем загремел по камням, а Владимир с занемевшим плечом, повинуясь выучке, не рассуждая, уклонился от второго удара, одним прыжком оказался у стремени, мощно рванул за красный сапог.
Всадник рухнул с коня, как блестящая льдина. Каменные плиты дрогнули. Раззолоченный и разукрашенный шлем, ломая пушистые перья, запрыгал со звоном по камням и лег рядом с харалужным шлемом Добрыни. Опять же повинуясь выучке, Владимир с силой ударил носком подкованного сапога в уязвимый висок.
Конь дико заржал, отпрянул, болтая поводьями. Другие всадники повернули коней в их сторону, в руках блеснули мечи.
Владимир похолодел, затравленно огляделся. Сзади массивная кладка из громадных глыб, стена поднимается на немыслимую высоту, а справа и слева люди с обнаженными мечами. Солнце недобро играло на блестящих лезвиях, и он понял, что это последнее, что видит в жизни.
Он взял в левую руку нож, правой стиснул рукоять меча. Всадники нахлынули и остановились, мешая друг другу конями. Боятся подъехать ближе, понял он внезапно. Ведь можно поднырнуть под коня, распороть брюхо или перерубить сухожилие, а они терять дорогих коней не хотят!
Удары двух воинов он отбил, но продержался бы недолго, силы неравны, однако из-за спин воинов прозвучал холодный властный голос:
– Принцесса Анна желает знать, что здесь происходит?
Всадники расступились. Посреди улицы восемь чернокожих полуголых людей держат на плечах роскошные носилки. Их со всех сторон окружили всаженные в железо телохранители с мечами наголо. Возле носилок двое: закованный в доспехи немолодой человек в богатом шлеме, золотистые с проседью волосы падают на плечи, это он остановил воинов, и скромно одетый человек, в котором Владимир безошибочно узнал толмача.
Один всадник воскликнул:
– Не вели казнить, ослепительная принцесса! Мы не успели этого варвара ни убрать с твоих царственных глаз, ни поставить в пыль, которую недостоин даже жрать, ибо это пыль нашего царственного и божественного города…
Занавески носилок колыхнулись. Появилась белая, нежная и совсем детская рука. Следом выглянуло удивленное девичье личико, очень юное, но красивое настолько, что Владимир задохнулся, будто его ударили поленом под ложечку.
– Это и есть варвар? – спросила она чистым музыкальным голосом.
Владимир снова вздрогнул, так говорить могут только небесные девы-берегини.
– Да, наша повелительница!
– Спроси, из какой он страны?
– И так видно, гиперборей, наша владычица.
– Варяг?
Начальник стражи, это он рядом с носилками, повернул грозное лицо к Владимиру. Тот все еще оставался в боевой стойке с мечом и кинжалом.
– Эй, кто ты будешь?
– Я русич, – ответил Владимир сипло.
– Рус, – повторил начальник стражи пренебрежительно, но Владимиру почудилась в его громовом голосе тревога.
Толмач наклонился с коня к занавескам:
– Есть такое крохотное племя на одной из северных границ нашей необъятной империи. Маленькое, дикое, языческое…
Принцесса, ей было весен семь-восемь, окинула юного варвара беглым взором. Личико ее выразило скуку. Она уже опускала занавеску, когда Владимир неожиданно даже для самого себя сказал на ломаном ромейском наречии:
– Да, я из маленького дикого племени. Того самого, которое разгромило вашего надежного союзника – Хазарский каганат, отобрало у вас Болгарию, сейчас громит ваши войска по дороге сюда, по дороге в вашу жирную империю, где много золота и юных женщин. Из того самого кро-о-о-охотного, которому платите дань! И которому заплатите намного больше!
– Что-о-о? – проревел начальник стражи. Похоже, он еще не понял ломаной речи, но ощутил по тону, что варвар сказал резкость, а когда наконец понял, то побагровел страшно, его рука метнулась за мечом.
Владимир отступил на шаг по стене влево, открыл телохранителя. Тот поднялся на четвереньки, мотал головой, роняя красные слюни и сопли.
Занавески колыхнулись снова. Принцесса выглянула, голосок был озабоченным:
– Что с ним?
– Упал с коня, – сказал Владимир дерзко. – Ему почему-то захотелось поставить меня на колени!
– Таков этикет, – сказала принцесса строго.
– Я не ромей!
– Правила для всех…
– Нет, – возразил Владимир яростно. Его руки задрожали, тело затряслось, он заговорил быстро, словно выплевывая, как из пращи, злые слова. – Никто нам и никогда!.. Честь дороже!.. На колени поставить не можно, разве что отсечь ноги до колен… но и тогда голову мою вам не склонить, разве что снять с плеч!
Он чувствовал, как в его тело вливается страшная мощь, и сам не знал, почему так взбесился. Ведь привык, что он – раб, челядин, на побегушках, так что же сейчас так задело?
Он поворачивался, чуть пригнувшись, держал меч и кинжал наготове. На него смотрели без страха – слишком юн, голос почти детский, – но уважительно. Начальник стражи сказал внезапно:
– Берсерк!.. Дьявол… Всем отступить! Я не хочу терять людей. Добьем его стрелами.
Владимир, видя, как всадники попятились, выпрямился, чувствуя, что пришел его смертный час. Внезапно он услышал далеко в небесах хриплый, зовущий на бой и подвиги звук боевого рога. Кровь вскипела, он крикнул громко и страшно:
– Давай!.. Но ты ромей, а значит, не воин, а торгаш. Прикинь как торгаш: не дорого ли придется платить за мою голову, когда сюда придут войска моего отца, неистового Святослава, уничтожая все на пути, сжигая города, вытаптывая посевы, уводя сотни тысяч ромеев в полон? Не дорого ли будет, если ваши крепости рухнут в пыль, когда ваш император в страхе запрется в этом городе, на ворота которого мой дед уже прибивал свой щит? Если эта цена, торгаш, не покажется слишком велика, то натягивайте луки, трусы!
Начальник стражи сказал глухо:
– Юный росич нам грозит!.. Принцесса, позволь…
Владимир встретился с глазами принцессы, и у него стало сухо во рту. Долгое время они неотрывно смотрели друг на друга. Такого нежного лица он не видел даже во сне, в неясных грезах, а глаза у нее были огромные, понимающие, смотрящие прямо в душу. Он уже понял, что она увидела и поняла больше и лучше стражей, сильных и тупых воинов, и что даже сейчас, в своем детском возрасте, умеет владеть собой… даже лучше, чем он, она умеет заглядывать в будущее, как подобает наследнице великой империи, слово которой весит очень много.
Она наконец оторвала взгляд от его юного лица, варварски мужественного и даже красивого особой дикой красотой, свойственной неприрученным животным, проговорила презрительно:
– В путь!.. Слишком много чести для варвара, Войдан, чтобы с ним даже разговаривали. Ты готов поднять меч на червя? Тогда тебе придется купить новый, а этот выбросить как оскверненный. Что с того, что не пал на колени? Ведь не заставляешь же кланяться мне каждую бродячую собаку или кошку, и того более – букашку? Законы наши для людей! А варвар – не человек.
Носилки приподнялись, всадники выровняли строй и поехали по обеим сторонам. Начальник стражи покосился на дерзкого и – Владимир даже вздрогнул – подмигнул. Передовая группа унеслась вперед с кличем: «Принцесса Анна! Принцесса Анна! Дорогу принцессе Анне!»
А он остался на улице, опираясь спиной о стену. Ноги дрожали, едва не опустился на землю. Сердце стучало так, будто хотело выломать ребра и броситься на обидчиков. Он сам не понимал, почему пришел в такую ярость. Почему наплел про Святослава – тот и пальцем не шелохнет, чтобы помочь – про князя Олега, который никогда не был ему дедом. Или те обиды, что терпит там, невыносимы здесь?
– Я отомщу, – произнес он свирепо и, не попадая в ножны, кое-как убрал меч и нож. – Я покажу!.. Они узнают!
Еще не знал, что каждый ребенок в бессилии кричит это после каждой большой обиды. А в детстве все обиды – огромные и невыносимые. Даже смертельные.
Не все запоминаются. Но рубцы оставляют.
Глава 8
Их провели по улице между роскошнейшим ипподромом – здесь стен не углядеть за множеством статуй из драгоценного мрамора – и просто сказочным садом. Дальше виднелся большой императорский дворец.
Владимир слышал изумленное аханье то справа, то слева. Он шел, стискивая зубы, стараясь во всем подражать Добрыне. Дворец был белоснежным, от него веяло чистотой и свежестью. И настолько огромен, что, казалось, под его крышей можно разместить весь Киев. Огромных колонн из фригийского мрамора было не меньше, чем березок в днепровских лесах.
Но белые колонны, в отличие от березок, были в три обхвата, гладкие и без единого пятнышка, они вздымались на немыслимую высоту, там красиво изгибались портики. Колонны были украшены золотом, серебром, глаза разбегались от цветного мрамора, порфира, живописи, изумительной мозаики.
Их вели по широкой дорожке к главному входу, а по обе стороны благоухали деревья с невиданными цветами. Владимир потрясенно понял, что многие деревья не настоящие! Их листья цвета осени не шелестят, а слегка позванивают, ибо из чистого золота!
Между деревьями сидели огромные, отлитые из золота львы. Они страшно рычали, смотрели на проходящего Владимира рубиновыми глазами, поворачивали за ним голову, свирепо били по земле золотыми хвостами. Кромка дорожки к дворцу была выложена блестящими массивными плитками из серебра.
В саду шелестели фонтаны. Красиво изогнутые струи поднимались выше вершин деревьев. Владимир чувствовал на лице тончайшую водяную пыль. Над головой пролетали яркие сказочные птицы.
Принцесса Анна с подругой тайком рассматривали с балюстрады неспешно шествующих через сад русов. Обе прыскали со смеха: эти грузные важные мужчины так потешно и пугливо шарахаются в стороны, когда над головой пролетает попугай с криком «Слава базилевсу!» или когда навстречу выскакивают обезьяны и выпрашивают сладости!
Когда на дорожке, посыпанной золотистым песком, появился юный варвар, что не преклонил колени, она впилась в него взглядом. Вдруг ей стало тревожно. Вспомнила подслушанные разговоры отца, его василиков, высших чиновников. Над империей уже столетие сгущается туча, с каждым годом молнии бьют страшнее, а гром гремит громче. Империя будет разрушена, все понимали. Как был захвачен и разрушен Рим германцами, так Константинополь будет разрушен русами. Их походы становятся все разрушительнее, беспощаднее. Это был мощный натиск, в результате которого в самом Константинополе как грибы вырастают целые кварталы русов. Силой и нажимом росские князья добивались привилегий и льгот для своих купцов и товаров. Вообще Восточно-Римская империя на треть уже заселена вторгающимися славянами. Славяне заняли важнейшие посты в армии, в управлении страной, они становились императорами, они вершили суды и творили историю своей новой родины. Жители империи еще называли себя греками, хотя уже говорили на смеси славянского с остатками греческого, половина на половину, а историки, любившие точность, называют их новогреками, в отличие от настоящих греков, населявших ту Грецию, прежнюю, Элладу. Но худшие для империи из славян были те, кто попал под власть русов и болгар. И те и другие редко шли на службу, а неприкрытой целью русов и их Киевской Руси было захватить Константинополь и сделать его стольным градом своей молодой и быстро растущей империи, которую они еще просто не догадываются именовать империей.
Да, здесь о скором падении Константинополя знают от мала до велика. Тень обреченности витает над каждым. Все знают, что именно росы возьмут и разрушат город. И что роковой час уже близок. А каким город будет уже под их властью, этого не мог предсказать никто.
Этот молодой варвар, еще мальчик, нет, уже юноша, идет спокойно, не удостаивая взглядом диковинные цветы, привезенные ее отцом, дедом, прадедом из дальних стран Востока. Не заинтересовался крохотной обезьянкой, размером с ладонь, но удивительной копией человека – как сказал митрополит, жалкой попыткой Сатаны тоже создать своего человека, и когда испуганный базилевс хотел было истребить всех обезьян, как создание рук врага рода человеческого, просвещенный митрополит удержал, сказал назидательно, что пусть живут и служат примером, как далеко Сатане до Создателя.
Когда он скользнул равнодушным взором по драгоценным ливанским кедрам, вывезенным сюда за огромные деньги, она ощутила гнев, досаду, но вдруг его глаза встретились с ее глазами, хотя она наблюдала очень скрытно, и она внезапно поняла, что для него лес не предмет любования, а материал, который нужно рубить, превращать в бревна, строить дома, дворцы, крепости, тараны, засеки… Лес для него не искусное создание рук Всевышнего, а материал для работы!
Отец уже указывал ей на людей с такими лицами и такими глазами. Для них весь мир – лишь арена деятельности. Их деятельности! Отец говорил, что эти люди – вершители судеб, соль земли. Они становятся предводителями войск, совершают перевороты, завоевывают царства. Именно они двигают историю: вперед ли, назад, в сторону, но никогда не остаются наблюдать со стороны, из безопасного укрытия, как стремится для себя большинство.
И вот такой человек идет по усыпанной желтым песком дорожке среди павлинов и райских птиц!
– Елена, – подозвала она подругу, – кто вон тот юноша?
– В камзоле из соболей?
– Нет, ближе к нам.
– Беловолосый, с оторочкой из песцов?
– Да нет же, – сказала она нетерпеливо, – вот тот высокий, черноволосый! Который даже в наш императорский сад явился в своей варварской шкуре! Как дикий германец в завоеванном Риме!
Подруга взглянула на нее с удивлением. В голосе прозвучала едва заметная насмешка:
– Принцесса, но это же… слуга!
– Как… слуга? – переспросила Анна ошеломленно.
– В посольстве люди самого разного ранга, ты же знаешь. Посол великой княгини, толмачи, помощники, знатные люди. А также челядь для обслуги. Этот молодой прислуживает даже не людям, а коням!
Анна прижалась лицом к стене с глазком, чтобы подруга не видела ее внезапной бледности. После паузы, справившись с голосом, сказала ровным тоном:
– Все ты знаешь…
– А что делать? – вздохнула Елена. – Мы еще маленькие. Заводить любовь с начальниками дворцовых караулов, как делают взрослые женщины, вроде бы еще нельзя… Хотя не понимаю почему? А играть в куклы – слишком взрослые. Только и остается, что смотреть на них и учиться… чтобы потом быть умнее.
Главным у русов был гигант с суровым лицом. Лицо в шрамах, но это его не обезображивало, лишь придавало значимость, ибо шрамы мужчин украшают, как женщин серьги и кольца. С ним ходили еще четверо, указывали перстами на диковинки, ахали, таращили глаза. Гигант снисходительно улыбался. Он и мальчик-конюх чем-то были похожи…
Единственным слугой, допущенным вместе с самыми знатными русами в сад базилевса – остальным вежливо отказали, – был странный слуга, который не преклонил перед ней колени! Анна чувствовала какую-то тайну.
Елена прильнула к щелочке:
– А ты права. В этом мальчике что-то есть. Врожденное благородство, гордость. В глазах виден ум. В плечах широк, лицо смелое. И красив как сам Сатана, прости меня Господь!
– Да, – сказала Анна, – это в нем есть.
Что-то в ее голосе насторожило Елену, но принцесса уже смотрела в глазок с безучастным видом, перебрасывала царственный взор с одного руса на другого.
– Славяне, – сказала Елена, потупя взор, – народ странный… Копни чуть ли не любой знатный род в империи, у каждого либо славянин в предках, либо в родстве со славянами. А сколько у нас было начальников эскадр, стратегов из славян?
– Довольно, – оборвала Анна резко. – Славяне служат в войсках империи по договору. Иные нанимаются целыми племенами. Но они всего лишь варвары, наемники! Они служат нам!
– И своей далекой родине, – добавила Елена лукаво.
– Вздор! Что могут взять дикие варвары, не знающие даже Христа, из великой империи? Перестань болтать!
Она резко задернула занавески, закрывая тайные глазки. Однако перед ее взором все еще шел по залитой солнцем золотой дорожке широкоплечий высокий юноша с глазами завоевателя и человека, меняющего мир. Безуспешно орут и верещат над головой редкие обезьяны, в кустах обиженно вздымают пышные хвосты павлины, раздраженно кричат человеческими голосами попугаи, обиженные невниманием…
И еще у него взгляд, словно видит ее за этой стеной!
Их вели через бесчисленные хоромы, где и стены, и полы, и каменные стволы колонн блистали роскошью. Русичам, привыкшим к низким деревянным потолкам, было странно и удивительно видеть в дальней выси изогнутые своды, напоминающие небеса. Воздух был пропитан сладкими запахами редких цветов, заморских смол. Вдоль стен стояли сановники, на каждом столько украшений из золота и яхонтов, что хватило бы снарядить войско в Испанию. А то и в набег на Сицилию. И этих сановников здесь больше, чем Святослав брал с собой народу в походы!
Владимир, его во дворец взял Добрыня с какой-то своей целью, был потрясен, как потрясены и люди посольства. Даже Добрыня притих, шел смиренный, глаза стали круглые, а вид имел подавленный, хотя бодрился изо всех сил. В Царьграде бывал и раньше, но внутрь дворца базилевса попал впервые!
Потом им указали, где стоять, справа и слева ждали не ромеи, а такие же люди из других стран. Правда, одеты странно, причудливо, одни совсем черны лицами, другие желты, третьи с красной, как натертой, кожей, но такие же, как и он, потрясенные, скованные. Это роднило их с русичами больше, чем русичей с похожими на них ромеями. Владимир инстинктивно чувствовал к этим людям с другим цветом кожи симпатию. От их неуверенности странным образом черпал свою уверенность. Не только у него дрожат колени!
Затем глашатаи возвестили о прибытии родни базилевса. Ворота распахнулись. Владимир воспринял их не как двери, а именно ворота – высокие, как вход в вирий, украшенные золотом, серебром и драгоценными камнями, из внутренних покоев по ковровым дорожкам медленно пошли пышно одетые люди.
Им кланялись как сановники, так и послы. Добрыня зорко следил за соседями, чтобы не наклонить голову ниже положенного. Он не знал, кто кем приходится базилевсу, но рядом чернолицые послы в цветных тряпках на голове кланялись одним ниже, при виде других лишь наклоняли голову, а при появлении третьих чуть ли не переламывались в поясе. Добрыня свистящим шепотом велел русичам подражать более знающим.
Владимир стоял позади всех, почти не видел важно шествующих, затем как-то незаметно для себя протиснулся в передний ряд, жадно и трепетно смотрел на дивную красоту одеяний, надменные лица, украшения.
Внезапно словно ударили в спину. Дыхание перехватило. В конце процессии рядом с красивой женщиной со строгим лицом важно шествовала девочка, он ее видел на носилках. Стражи ее тогда назвали принцессой!
Ее детское личико было строгим и серьезным. Неправдоподобно большие глаза смотрели прямо перед собой, на бледных щеках проступала тень бледного румянца. Она была во что-то одета, явно богатое, но Владимир видел только ее лицо.
Она уже поравнялась с ним, он задержал дыхание. Вдруг, словно ее толкнул кто, она повернула голову. В ее больших глазах отразилось удивление и… узнавание. Она замедлила шаг, смотрела неотрывно снизу вверх. Ее щеки разом охватил жаркий румянец, разлился по шее, поднялся до кончиков ушей.
Сердце Владимира стучало так громко, что ничего не слышал, кроме шума крови в ушах. Не сознавая, что делает, он внезапно опустился на колено. Она едва слышно ахнула, закусила розовую губу. В глазах было изумление, страх, восторг, снова страх…
Женщина быстро взглянула на юного варвара, что-то сказала сквозь зубы маленькой принцессе. Та с усилием опустила глаза. Женщина, сохраняя на лице улыбку, потянула ее за руку. У него вырвалось вдогонку хриплое:
– Я все равно тебя возьму!..
Ее почти утащили, он поднялся. Над головой слышалось сдавленное дыхание Добрыни. Воевода был разъярен, но сейчас Владимиру впервые было все равно, будут его жечь огнем или разрубят на куски!
Служанки расчесывали Анне волосы, когда в ее комнату вошел Иоанн Цимихсий, блистательный полководец, а ныне еще и базилевс, сильный, красивый и мужественный, в любой одежде больше похожий на яростного воителя, что сам водит в бой отряды, чем на мудрого и расчетливого правителя необъятной империи.
Женщины, как вспугнутые птицы, исчезли, повинуясь взмаху его руки. Базилевс наклонился с натугой, в груди хрипело. Сухие губы коснулись ее волос. Великий полководец, ставший императором, понимал, что и ему дали яд, как было с многими базилевсами до него, даже подозревал, кто дал. Самая красивая женщина мира – Феофано, бывшая танцовщица в притонах, шлюха, утолявшая за ночь по сто пьяных солдат и моряков, ставшая затем императрицей, изменившая весь свой облик и ставшая покровительницей литературы, искусства. Она возвела на престол его, блистательного полководца и отважного дерзкого воина – он в этой же спальне проткнул мечом предыдущего базилевса, – она же расчищала место на престоле для своих подрастающих сыновей: Василия и Константина. В свои сорок лет она оставалась такой же юной и красивой, как и в те годы, когда появлялась обнаженной на подмостках, доводя до умопомрачения пьяных солдат.
От черных как вороново крыло волос девочки шел аромат свежести и чистоты. Иоанн тяжело опустился в кресло напротив.
– Очень устала сегодня?
– Нет, – ответила она, чувствуя неясное смущение. – Парадный выход длился недолго. А потом мы с Еленой и Тирисой играли.
Иоанн сказал со строгостью в голосе:
– Анна, все заметили, что ты слишком внимательно рассматривала этих северных варваров. Если бы еще всех, а то одного! Так делать нельзя. Ты должна помнить: за твоим лицом наблюдают тысячи глаз. Не простых людей, а высоких сановников! Наблюдают, стараются угадать твои мысли, чтобы немедленно броситься их выполнять… или вредить. Потому мы и должны, в отличие от простолюдинов, появляться на выходах… и вообще на людях с самыми непроницаемыми лицами. Мы не должны позволять себе ни единого непроизвольного жеста!
Анна ответила тихим голоском:
– Но он встал на колени!
– Естественно, – сказал Иоанн с удивлением.
– Нет.
– Что «нет»?
– Он не встал на улице, когда его старались заставить. Я направлялась в храм, телохранители проскакали вперед, очищали дорогу, народ, как обычно, опускался на колени, а этот дерзкий схватился за меч. Он тяжело ранил моего стража. Его бы убили, но я вмешалась…
– Ты сделала верно, – одобрил Иоанн. – Этих гипербореев лучше не раздражать. Им только дай повод, завтра же их войска окажутся под стенами Константинополя! А это может лишь ускорить падение нашего города.
– Разве это так уж неизбежно?
Он печально наклонил голову:
– Империя слабеет с каждым днем. А славянский мир и без того уже вторгся в наши владения. К счастью, они пока что, очарованные нашим величием, охотно забывают свои племена и становятся подданными империи. Но есть племя русов, их послы сегодня добивались увеличения дани… Да, мы платим им золотом, чтобы не терзали нас набегами. У них сейчас появился неплохой полководец по имени Святослав. К нашему несчастью, он еще и великий князь Руси… Это значит, что он может бросить на войну всю мощь их быстро растущей страны. Я не знаю, какое чудо должно произойти… И кто или что смогло бы стать таким чудом.
Он осекся, увидев, как внезапно заблестели ее чудесные черные глаза. Бедная девочка уже представила себя спасительницей столицы империи!
– Боюсь, – сказал он тяжело, ибо рожденные в порфире должны знать безжалостную правду с пеленок, – боюсь, что гибель и падение славного Константинополя случится уже при нашей жизни. При твоей – наверняка. Уже ходит по земле тот человек, которому суждено разрушить наши ранее несокрушимые стены… Возможно, это как раз и будет неистовый Святослав. Он уже нацелен на нас. Но даже если как-то сумеем ему помешать, то его сын уж точно довершит дело отца!
Но по ее личику он видел, что мысли маленькой принцессы далеко. И точно, она зябко передернула плечами, но ответила совсем не то, что он ожидал:
– Он сказал, что лучше примет смерть, но на колени не встанет даже перед Богом… И тогда я велела все оставить так, как есть. Ведь тучи саранчи не лучше тучи варваров, но мы же на них не гневаемся? Я унизила его гордость, указав дикарю на его место, и он, несмотря на свою дикость, понял…
– Понял ли? – усомнился Иоанн.
– Понял! Стоило взглянуть на его лицо.
– Ты мудра не по возрасту… моя дорогая.
Она чувствовала, что базилевс едва не назвал ее дочерью, он любил ее, как и ее старших братьев: Василия и Константина, но если их постоянно наставлял, как вести дела империи, когда станут базилевсами, то ее ласкал и баловал.
Она спросила напряженно:
– Но почему он встал на колени теперь, когда его никто не заставлял?
Иоанн нахмурился. Взгляд его ушел в сторону. Она чувствовала, что он знает, ибо у мужчин есть что-то общее, о чем они не говорят, но как-то знают, вернее, ощущают свое единство. И понимают поступки друг друга, даже если разделены горами и морями, происхождением, языками.
– Их натура темна, – ответил он наконец с великой неохотой. – Они – бурлящий котел страстей и противоречий. Это наш народ империи укрощен разумом и верой в Христа, а русы… Забудь, иди к гостям.
Она пробормотала уже в дверях:
– Встал на колени, когда никто не заставлял… Но почему? И зачем сказал такие непонятные слова?
Глава 9
Когда покидали дворец, Добрыня прорычал:
– Сейчас ты еще нужен… Потом переломаю тебе кости!
Владимир кивал, соглашался, не чувствуя ни страха, ни облегчения. Перед глазами все еще стояло прекрасное лицо с удивленными глазами, в ушах звучал надменный и нежный голос, в который раз она с высоты носилок называла его варваром, а он отвечал, спорил, говорил с нею…
Волчий Хвост с удивлением тряхнул за плечо:
– Тронулся, что ли? Добрыня, он нас вовсе не слышит. Здесь и зрелому мужу рехнуться недолго. Сколько красоты, богатства, мощи!
– Прибью, – прорычал Добрыня. – Дурень, с чего ты бухнулся на колени? Опозорил, дурак…
– Она красивая, – прошептал Владимир. Его глаза смотрели сквозь Добрыню. – Она очень красивая…
Волчий Хвост обошел вокруг, присматривался, оглядывался на Добрыню. Внезапно расхохотался:
– А ты заметил, что и принцесса сбилась с шага? То выступала будто пава, а то вся залилась краской!.. Что он ей такое сказал? Я думал, ромеев уже ничем не удивишь, не смутишь! Видать, такое загнул…
Для членов посольств в одном из залов накрыли столы. Добрыня вместе со своими чувствовал себя как в открытом поле, настолько высоко свод, к тому же умело выкрашенный в небесную синь да еще с намалеванными облаками. За соседние столы, поставленные не тесно, чтобы не толкаться с иноземцами, усаживались странные люди из неведомых земель. Волчий Хвост откровенно пялил глаза, Добрыня ворчал – этикет царьградский нарушает, – но и на них посматривали с удивлением и опаской. Эти светловолосые гиганты, что говорят и смеются громовыми голосами, в диковинку тем, чья голова едва достает им до середины груди. Даже Владимир, подросток, на полголовы выше и тяжелее этих взрослых смуглокожих людей с раскосыми глазами…
Добрыня рявкнул:
– Куды за стол? Брысь подавать блюда людям!
Владимир послушно двинулся к царьградской челяди, разодетой пышно и богато, что носила блюда гостям. Волчий Хвост попытался удержать:
– У них там свои обычаи… Его не пустят!
– Не пустят, так выпрут на улицу, – отмахнулся Добрыня.
Однако вышколенные слуги молча приняли Владимира в свои ряды. Возможно, у варваров таков обряд. Или этот проверяет, не кладут ли отраву его хозяевам…
Но даже голодный и роняющий слюни при виде тех блюд, которые расставлял перед боярами, он все равно видел лицо маленькой принцессы, слышал ее музыкальный голос, поселившийся в его ушах, ощущал ее нежный теплый запах.
Добрыня и Волчий Хвост спорили о приеме. Матерые волки заметили немало из того, что ромеи хотели бы истолковать иначе, но Владимир заметил их взгляды искоса и в свою сторону. Он носил на подносах блюда, кувшины с вином, убирал грязные тарелки, менял ложки, потом его вовсе отправили на кухню мыть посуду.
В помещении было жарко и влажно. Котлы кипели, как в сказках, огромные, на исполинских сковородках шипела и трещала яичница из сотни яиц, жарились широкие ломти мяса, поднимался чад от сгоревшей рыбы. Челяди суетилось меньше, чем в поварнях княжеского терема, крику и бессмысленной толкотни совсем мало, работали споро и умело. Горячая вода текла по трубам сверху, а холодную воду можно было добавлять из деревянных кадок.
Когда в зале стихли здравицы в честь базилевса, а гости разошлись, он с другими слугами еще долго перемывал посуду, вытирал досуха, расставлял по рядам бесчисленных полок, а потом в зале с другими собирал объедки, мыл и чистил столы, лавки, пол и даже стены.
В квартал русов вернулся, едва таща ноги. Зато исчез страх, что Она как-нибудь ненароком заглянет на кухню и увидит его в бабьем переднике перед горой грязной посуды! Это после того, как видела его в гордой стойке с мечом и кинжалом против всех ее телохранителей! Лучше сразу броситься на меч. Мужчина, переживший позор, – уже не мужчина.
Он ожидал грома молнии на свою голову, но Добрыня был чем-то занят, метался по комнате, спорил с двумя ромеями, на лавке сидел молчаливый Волчий Хвост. При виде замученного Владимира Добрыня лишь раздраженно отмахнулся:
– Иди на конюшню, дурак! Мы приглашены на выезд. Завтра кони должны играть, как крылатые змеи!
Длинное приземистое здание, под крышей которого можно было упрятать целое племя, было конюшней базилевса. Одной из его многочисленных конюшен, как объяснили русским послам. Владимир сам чистил и кормил коней посольства, дивился умению и продуманности ромейских умельцев. В каменном полу прорезаны канавки для стока мочи, там постоянно журчит вода, отборный овес и пшеница к кормушкам подается на тележке, что двигается по особому желобу, а чистейшая ключевая вода сама наполняет поилки, едва конь отопьет глоток.
Стойла были чистыми, опрятными, сено душистое, наполненное запахами полевых цветов. Где русичам понадобилось бы семеро, в ромейской конюшне управляется один. Еще один ходит по той стороне, осматривает коней, чешет гривы и хвосты, разговаривает.
Владимир с первого дня жадно прилип к местному конюху, изводил расспросами, льстил и стелился, без раздражения слушал постоянное хвастовство и непомерные восхваления мощи и величия империи, самой блистательной из всех существующих.
Но сегодня он слушал рассеянно, на лице блуждала глуповатая улыбка. Поил, чистил, убирал, а мысленно разговаривал совсем не с ромейским конюхом. Вздрогнул, когда в сознание ворвался самодовольный голос:
– Теперь ты видишь, что нет более великого государства…
Владимир спросил раздраженно:
– Ну а ты здесь при чем?
– Как при чем? Это моя империя, я в ней живу!
– Империя велика и могуча, – согласился Владимир, – но это она, а не ты. А чего стоишь ты? Не хоронись за спину империи, скажи о себе. Умеешь ли ты сражаться? Умеешь ли рисовать, слагать вирши, строить? Что умеешь ты?
– Моя империя…
– Да мы ж говорим не про империю! А ты?
Конюх сказал с недоумением:
– Ты не понимаешь, потому что твой народ сам еще младенец! А мой древний, с богатым прошлым!
Владимир и сам видел, что здесь даже конюшни Царьграда строили и перестраивали веками. Местные жители потеряли счет пращурам, которые жили до них в тех же исполинских домах из каменных глыб. Все верно, в его диких лесах жизнь только начинается, дома рубятся из дерева. Куда ни пойди – везде только зверье лютое, не видевшее отродясь человека.
– Да, – сказал он неожиданно даже для себя самого, – но кто спорит? Твой народ – с богатым прошлым! Пусть даже самым богатым на свете. Зато мой – с будущим.
Ромей вдруг потемнел лицом, и Владимир понял, что нечаянно угодил в больное место. Здесь от базилевса до последнего раба знают, что Константинополю пасть. И даже знают, кто победно взойдет на его стены.
Владимир гордо повел плечами, чувствуя невидимые доспехи. Внезапно ощутил, впервые в жизни, что он не просто всеми попираемый челядин, сын рабыни. Он русич, сын земли, которую уважают и боятся.
Но чтобы это ощутить, надо всего лишь побывать в чужой земле.
– Я все равно тебя возьму, – повторил он, пробуя слова на вкус, – одну или с Царьградом!
Корабли, подгоняемые ветром, споро бежали к днепровскому берегу. Белые стены Киева еще только выдвинулись из-за края, когда на причале уже начали появляться люди.
Добрыня, стоя на носу корабля, сказал с восхищением:
– Какая сорока им донесла?..
– Раньше нас вышли купцы новгородские, – бросил Волчий Хвост. – А они поперли напрямик.
Добрыне почудился упрек, нахмурился:
– Им нечего терять.
– А товары?
– Что товары…
Берег быстро вырастал, народ что-то орал, швырял в воздух шапки. Волны били в борта тяжелые, совсем не те почти воздушные лазурные волны царьградского моря, что несли их как перышко. Корабль шел тяжело, не скользил по верхушкам волн, а вспахивал реку, словно бы проламывался через заборы волн, силой пробивал путь к причалу.
Кормчий довольно скалил зубы. На самом краю причала ему махала косынкой статная полногрудая женщина. За ее юбку держались двое малых детей. У него в каждом порту по жене, а то и по две, и чем больше заводил жен, тем чаще приходилось уходить в море, чтобы заработать на всех. Да и дети плодятся, как головастики.
С корабля метнули канаты, на причале подхватили, подтянули, привязали, наложили мостки, и вот Добрыня величаво ступил на родную землю. Поклонился земным поклоном, а Волчий Хвост даже встал на колени и поцеловал землю.
Расталкивая толпу, на причал пробился Сфенел. Обнял Добрыню, почти такой же огромный и тяжелый, отстранил на вытянутые руки, всматриваясь в загорелое лицо:
– Зрю, доволен… Все удалось?
Добрыня улыбнулся:
– Про то княгиня должна узнать первой.
Брови Сфенела сдвинулись к переносице. В глазах мелькнул предостерегающий огонек.
– Ежели на то пошло, то первым должен узнать Святослав. Но князь сейчас в походе…
– Как же ты остался? – удивился Добрыня.
Брови Сфенела уже не сдвинулись, а сшиблись на переносице.
– На то воля Святослава. Он там, а я блюду его интересы здесь. Все еще непонятно?
– Понятно, – ответил Добрыня, он чуть побледнел, голос стал почтительнее. – Сфенел, я расскажу тебе по дороге.
С корабля добровольные помощники таскали сундуки, ларцы, мешки, тюки дорогой ткани. Волчий Хвост остался руководить, Добрыня ушел со Сфенелом. Владимир отнес на берег тюк с паволокой, как вдруг его схватила за плечо грубая рука.
– Ты чего меня толкнул?
Перед ним стоял Варяжко, отрок самого Святослава, друг Ярополка, сына великого князя. Он был не простым другом княжича, а закадычным, что означало друга задушевного, ибо у русов бессмертная душа живет за кадыком, и от них к славянам уже начали переходить слова «схватить за душу» или «задушить», когда хватали за горло. А Варяжко был русичем, сыном настоящего руса и славянки из племени вятичей. Он был на полголовы выше Владимира, шире в плечах и тяжелее.
– Я нечаянно, – сказал Владимир, он дышал тяжело, тюк едва не переломил его надвое.
– За нечаянно бьют отчаянно! – захохотал Варяжко.
Его кулак без размаха ударил в лицо. Боль ожгла губы, он ощутил во рту соленое. Не успел сжать кулаки, как Варяжко со смехом ударил сбоку в голову.
Земля и небо поменялись трижды местами. Он приподнялся на дрожащих руках, увидел приближающийся конец сапога. Откатился, вскочил на ноги, но снова кулак с ленивой небрежностью ударил по губам.
– Ну, – голос Варяжко был злой и насмешливый, – мне рассказывали, что ты прямо герой! Упражняешься с мечом, на конях скачешь… Покажи, на что ты годен!
Он стоял перед ним уверенный и насмешливый. Кулаки сжал, но не нападал, давал время прийти в себя. На них оглядывались, двое-трое даже остановились посмотреть на драку подростков. Другие шли мимо: драки – дело привычное, а корабли из Царьграда всегда праздник.
Владимир стиснул кулаки и бросился на обидчика. Напасть на русича – преступление, но тот сам вызвал его на драку. Значит, дозволено. И он в злости и жажде размазать врага по земле все же вспомнил то, чему учили его Сувор и Добрыня.
Варяжко пропустил два сильных удара в лицо, едва удержался на ногах. Глаза его расширились от удивления. Он умело уклонился, выбросил сам кулак навстречу. Владимир ощутил удар так, как будто в него попала глыба из баллисты. Преодолевая боль, он умело закрывался локтями, подныривал, доставал кулаками противника, но пальцы всякий раз натыкались тоже в искусно поставленную защиту из рук, локтей, предплечий, а кулаки Варяжко все же прорывали его защиту, били больно.
Разбитые губы кровоточили, затем кровь потекла из разбитой брови, заливала глаз. Он торопливо смахивал ее, стараясь увернуться от жестоких кулаков. Услышал чей-то предостерегающий голос:
– Эй, отроки!.. Драка-то небось до первой крови?
И голос ненавистного Варяжко:
– Нет!
– А как же?
– Пока один стоит на ногах!
Владимир из последних сил бросился на врага. Он видел торжествующую ухмылку. Румяное лицо Варяжко оставалось целым, только на костяшках пальцев появились ссадины. Он почти не запыхался, теснил умело. Владимир обреченно понял, что Варяжко – не княжичи, что любят поспать и поесть. Этот сам явно упражняется до темных мух в глазах. А так как черной работы у него нет, то может упражняться все дни…
Сильный удар в голову потряс. Перед глазами вспыхнули искры, будто в догорающий костер швырнули камень, ноги подломились. Но еще до того как упал, сильный завершающий удар пришелся снизу в челюсть и буквально поднял его на воздух.
Тьма наступила раньше, чем он ударился оземь.
Глава 10
Святослав, огромный и весь в железе, пропахший дымом костров и конским потом, вошел в горницу быстрым неслышным шагом. Его сравнивали с пардусом, ибо двигался как пардус: неслышно и молниеносно, был свиреп в бою и умел с любой дружиной быстро одолевать немалые расстояния.
Его острые серые глаза быстро пробежали по горнице, ухватив всю разом, с двумя детьми и женой, тесными стенами и двумя окошками. Там, за решеткой на окнах, призывно синеет бескрайний простор, там просыпается душа и рвется в полет, там степь бросается под копыта его коня, а он в бешеной скачке слышит призывные звуки медных труб, зовущих к победам, славе, настоящей мужской жизни!
А в горнице под взглядом острых глаз каждый ощутил потрясение, будто сильные руки великого князя больно ухватили за плечи.
– Дети мои, – сказал он негромко, но страшная сила чувствовалась в его голосе, – я опять на брань… Но гибнет не тот, кто воюет, а кто сидит сиднем. Он уже мертв! Молодые да сильные народы ищут новых земель, а когда находят – берут по праву сильного. Так наш дед привел на эти земли русов из своей Руси и построил Русь Киевскую. А из дальних неведомых земель пришла дикая орда конных болгар во главе с ханом Аспарухом, захватила земли наших братьев славян, обратив их в рабство, основала свое царство, назвав его Болгарией… Теперь болгары нападают на ромейские земли. Царьград, с которым мы в союзе, просит помощи. Он прислал деньги, но я и без денег верен слову.
Ярополк сказал рассудительно:
– Отец, но ведь славяне и болгары уже сдружились. Болгары выставляют свою конницу, а славяне идут пешими. Но бьются против ромеев вместе!
Святослав неожиданно усмехнулся:
– Вятичи тоже идут в моем войске! Но с охоткой ли? Я иду на болгар, но они воины смелые, ярые, а воинская судьба переменчива. Я побеждал, но так ли будет всегда? Увы, нет уже моей матери, что блюла покой земли Русской. Не на кого оставить мне Русь. Остались только вы, мои подросшие соколята.
Он заметил заблестевшие глаза Ярополка, увидел, как заалели щеки Олега. Они были хороши, эти сыны от угорской княжны. Рослые, с ясными чистыми лицами, смышленые, с детства обученные, как управлять землями, как собирать дань, как подбирать помощников, как править суд и блюсти покон.
– Тебя, Олег, я шлю князем в богатую землю древлян. Будешь сидеть в Искоростене, бывшем их стольном граде. Под твоей рукой будут все тамошние города и веси, а их у древлян множество. Собирай исправно дань, блюди покон отцов наших и чти богов.
Ярополк подался вперед, но Святослав, не обращая на него внимания, нежно привлек к себе Олега, обнял и троекратно расцеловал. Наконец повернулся к Ярополку:
– А тебя, Ярополк… оставляю вместо себя в этом стольном граде Киеве. Блюди покон, чти богов, береги рубежи земли Русской.
Он прижал к груди Ярополка, расцеловал.
– Спасибо, отец, – сказал Ярополк прерывающимся голосом. – Клянусь всеми богами, я не посрамлю чести отцов. Я буду беречь землю Русскую до твоего возвращения.
– В помощь тебе бояре и знатные люди Киева, – добавил Святослав. – Слушай их советы, поступай разумно. Они битые жизнью люди, видали всякое. Я выступаю в поход через неделю, так что уже завтра я объявлю боярам о своем решении.
В горницу вошел Добрыня, остановился на пороге. Святослав, стоя к нему спиной, сказал резко:
– Что там еще?
– Прибыла малая дружина тиверцев. Вооружены неплохо, но треть коней сбила ноги. Торопились, знают тебя.
– Где они?
– Я велел им разбить лагерь в двух верстах от городских ворот.
Святослав хлопнул Ярополка по плечу, уже рассеянно, повернулся к Добрыне:
– Поедем посмотрим. За неделю их надо подготовить.
Он шагнул к дверям, уже весь на поле брани, на дорогах Болгарии, среди битв, звона оружия и победных кличей.
На другой день с раннего утра во всех очагах горел огонь, в котлах кипела вода. Повара и стряпухи сбивались с ног. Святослав прислал дюжину дружинников, те пригнали подводы с битой дичью, птицей, тушами кабанов, оленей. Жарили во дворе на углях, а на гигантских вертелах истекали соком ободранные туши свиней, овец, гусей.
К чему-то готовились, в терем прибывали знатные люди Киева. Челяди велели одеться в чистое. Владимиру тоже дали одежку чистую, хоть и латаную-перелатаную. К полудню стало известно, что готовится, челядь ахала и перемывала косточки княжичам и воеводам, глухо негодовала на Святослава, что снова уезжает в дальние земли, уводит сильное войско, а Киев остается без защиты.
Правда, торки и берендеи берегут рубежи, а печенеги честно блюдут договор о дружбе. Но все же непривычно, когда уходит все войско русичей! Печенегов трудно считать своими, когда даже соседние племена то и дело нападают, жгут села, а полон уводят на продажу в заморские страны иудеям!..
В полдень прибыли купцы и знатные люди Новгорода. Они добирались несколько недель, торговали, с ними были две подводы заморских гостей. Трое германских купцов, молодых да рисковых, решили поискать торгового счастья в глубинах Руси.
Владимир сбивался с ног, обслуживая гостей. Он за годы после возвращения из Царьграда подрос еще, раздался в плечах, не по годам рано превращаясь из мальчишки на побегушках в паренька, на которого можно положиться и в более трудном деле. Он был быстр, понятлив и услужлив, с ним любили иметь дело, хотя с ним никто не сближался. Робич был молчалив, что-то держит затаенное. Из Царьграда вернулся другим, взгляд стал иным, речь замедлилась, словно каждое слово проверяет трижды, осматривает и поправляет перья, прежде чем, как синичку, выпустить на волю.
Когда во двор въехали новгородцы, Владимир был первым, кто выбежал навстречу. Он всегда старался встречать всех первым. И пусть работы больше, но от общения с новыми людьми получает то, о чем другие челядины не подозревают.
Новгородцы слезали с подвод медленно, охая и разминая затекшие от долгого сидения дородные тела. Владимир быстро оглядел новгородских посланников цепким запоминающим взглядом. В огромном напряжении, что не оставляло его последние годы, а в последние дни вовсе затянуло душу в тугой узел, он увидел и знатную внешность, и дородность, сумел увидеть и то, что таили в себе, напоказ не выставляя.
Он держал коня крупного мужчины, чья седая борода говорила о возрасте, как золотая гривна на груди – о знатности. За ним во двор въехали всадники и еще подводы.
– Приветствую вас, – сказал он звонким голосом, который дрожал, как туго натянутая струна, – люди Новгорода! Ваш город предназначен для великих дел. Только вы – несокрушимый оплот Руси, ибо западные племена уже двести лет истекают кровью под натиском Германской империи… и всей Европы. Если они падут, то ничто, кроме Новгорода, не спасет Русь!
Его ноги тряслись, когда он произносил эти высокие словеса. Сам только вчера узнал от волхвов, кто там где воюет, за что, какие силы кому дышат в затылок.
На него смотрели с удивлением, любопытством. Владимир со страхом понял, что его речь понравилась, его не шуганули, а значит, должен идти дальше. Никто и никогда не говорил им, что они – защитники Руси. Полабские славяне далеко, они там, собравшиеся в два исполинских объединения племен, бодричей и лютичей, истребляют друг друга, а германцы помогают то одним, то другим, натравливая друг на друга, а тем временем захватывают их земли. До Новгорода докатываются только отголоски великой битвы, что длится вот уже двести лет, этот парень прав, а сюда, до Киева, доносится только смутное эхо искаженных слухов… Далеко смотрит этот парень! Интересно, чей он?
– Постой, – сказал один с вялым интересом, – ты ведь Владимир, сын Святослава?
Он кивнул, не в силах выдавить ни слова. Здесь, в Киеве, гораздо важнее, что он – сын рабыни Малуши.
Дородный мужчина слез с коня:
– Спасибо за добрые слова. Как здравствуешь… княжич?
Владимир задохнулся, а новгородцы за спиной старшого переглянулись. Стойгнев перегнул палку. Этот вежливый и неглупый парень хоть и сын Святослава, но княжичем быть не может.
– Спасибо, хорошо. Вас где разместили?
– В доме на Ляшской улице.
Владимир сказал медленно, хотя мысли носились суматошные, сшибались одна с другой так, что в голове стало больно:
– На Ляшской? А есть еще Чешская улица, Печенежская, Жидовская, Искоростенская… А Новгородской нет, хотя ваш город и богат, и намного ближе.
Новгородцы переглянулись. Помощник Стойгнева, юный боярин Цветослав, даже зарделся как девица. Правда, Новгород еще мал и беден, но быстро входит в силу, и в самом деле было бы лестно иметь в стольном граде свою улицу, хотя бы по названию.
Стойгнев присматривался к Владимиру с интересом:
– Мне сдается, что ты знаешь многое. Нам отвели комнату в тереме, где будем ждать великого князя. Пойдем, посидишь с нами. Что-нибудь расскажешь, чтобы на приеме не ударить в грязь лицом.
Владимир чувствовал, что сейчас на волоске повисла не только его жизнь при княжеском дворе, но и вообще жизнь. Да, он готов на смертельный риск, долгими ночами обдумывал разные планы, не менее опасные, прикидывал, кто как ответит, просматривал разные дороги на несколько шагов вперед, видел ловчие ямы и пропасти и прикидывал, насколько у него хватит сил перепрыгнуть или обойти… Но сейчас не прикидка. Сейчас уже летит в прыжке через бездонную пропасть!
Новгородцам отвели большую комнату, хорошо убранную, но Владимир заставил себя нахмуриться и покачать головой. Возле окна сидели на лавке с резной спинкой два старца, одетые по-новгородски пышно. Их привезли утром, Владимир уже узнал у челяди и гридней их имена. Оба крепкие, кряжистые, седые волосы падают на плечи, но глаза еще как у лесных зверей, живут, внуков нянчить не уходят, живым примером показывают молодым, как надо жить и воевать.
Один из старцев покосился через плечо:
– Долго спишь, Стойгнев… А это кто?
Стойгнев похлопал по плечу Владимира:
– Это Владимир, сын Святослава. Не гневайся, Кресан. Долго ждать пришлось, пока Цветослав щеки красил.
Он гулко захохотал, а разряженный Цветослав ткнул его кулаком в бок.
– Сын Святослава? – буркнул старец, которого назвали Кресаном. – Так у него же только двое, Ярополк и Олег. Откуда этот?
– Откуда все, – засмеялся Стойгнев. – Говорю, не гневайся, Кресан. Этот парняга живет здесь в тереме, новгородцев уважает, знает многое. Нам не помешает узнать больше перед тем, как встретимся с великим князем. Жаловаться на посадника непросто даже тебе, который ходил в походы с его отцом, который сажал маленького Святослава на коня!
Кресан, нахмурившись, рассматривал юношу. Брови были кустистые, словно покрытые инеем, глаза поблескивали в глубине. Лицо темное, в бороздах морщин, шрамов, затвердевших складок.
Владимир совладал с волнением:
– Славный воевода Кресан! Новгород проявил мудрость, прислав тебя с посольством. Тебя в Киеве знают как героя битвы под Липцами, где ты один защищал мост против всего войска вятичей. Святослав оставляет Киев моему брату Ярополку, тот воздаст Новгороду должное.
Он видел, как они поморщились, когда он, сын рабыни, назвал Ярополка братом, но вовсе скривились, когда сказал, что Ярополк воздаст Новгороду должное.
– Держи карман шире, – сказал Стойгнев грубо.
– Я бы воздал, – ответил Владимир невинно. – Новгород защищает северные рубежи Руси. Уже потому с него надо снизить дань. Новгороду приходится много тратить на кормление наемной дружины!
В глазах Кресана блеснул огонек.
– Это понимаешь ты, малец… Но не разумеют киевские бояре. Не хотят понимать, у них брюхо прожорливое. Да и великий князь больше их слушает. Так ты говоришь, Святослав хочет оставить Киев Ярополку?
Владимир нашел себя окруженным новгородцами. Смотрели с жадным интересом, в глазах была тревога. Он глубоко вздохнул: сейчас все висело на волоске.
– Уже решено, – ответил он ровно. – Сегодня объявят. Для того и собирают в терем знатных людей. Заметили, какой пир готовится? Во всех городах будут наместники, как и раньше, а в два города поставят собственных князей.
– В какой еще?
– Искоростень. Олег.
Кресан кивнул:
– Понятно… Киев да Искоростень – самые богатые земли, самые богатые города. А что Новгород…
– Зачем вы так о Новгороде? – упрекнул Владимир. – Вы только посмотрите, каких людей он послал!.. С вами славный Залешанин, который один против десяти свеонов дрался и выстоял…
Новгородцы заулыбались, со смешками оглядывались на здоровенного мужика, что весь ушел в бороду. Владимира буравили, едва вошел, хищные глаза, что росли, казалось, прямо из разбойничьей бороды, но теперь глаза потеплели.
– И славный Бразд с вами, – продолжал Владимир, – славный тем, что у него дома в Царьграде и свой торговый ряд. Я был в Царьграде, дивился не столь красе царьградцев, сколь богатству и обилию лавок славного Бразда, славного гостя новгородского!.. И Радосвет, чьи товары идут до неведомого Багдада… О! И грозный Градомир здесь, чьи корабли вернулись с заморским жемчугом из дальних южных стран!
Он поворачивался по комнате, всматривался в лица новгородских гостей, узнавал, ахал, радовался, называл каждого по имени, вспоминал их дела, и было видно, что счастлив, раз уж удалось узреть сразу столько знатных людей, знатных не столько родом – то заслуга отцов и дедов, – а деяниями, победами, удачным торгом, ковавших имя своими руками, умом, силой.
Наконец он подошел к седому старику, что сидел с Кресаном рядом, положив на стол тяжелые высохшие руки. Суставы на пальцах вздулись, изувеченные болезнями, расплющенные в боях, покрытые шрамами за долгую жизнь, полную боев и схваток.
Владимир наклонился, бережно коснулся губами сухой кожи на пальцах старика.
– Я целую руку, – сказал он тихим прерывающимся голосом, – которая держала меч в последнем бою моего деда Игоря… Если бы так же дрались и другие дружинники, мой великий дед разбил бы подлых древлян, вырвался бы из западни!
Старик с усилием поднял голову. Глаза его слезились, долгая дорога отняла последние силы – не стоило на закате жизни пускаться в такой путь, но голос напомнил о том времени, когда тело было молодо, руки сильны, а на мечах мог драться с утра и до ночи без устали.
– Кто ты, юнак?
– Владимир, сын Святослава и внук Игоря. Я тот, кто чтит великие победы, помнит о них и не даст забыть другим!
– Славный… будет из тебя… князь, – прошептал старик. – Ты… похож… на Игоря… Сумеешь держать покон дедов наших…
Новгородцы переглянулись, скрывая неловкость. Старик теряет нить жизни, сын рабыни все-таки сын рабыни.
Владимир, выручая новгородцев, заговорил быстро и горячо:
– Ты дрался храбро и яро, потому и сумел прорваться сквозь ряды древлян и принести княгине Ольге, моей бабушке, горестную весть… Благодаря тебе она успела изготовиться к ответу. Твой отец, славный Асмунд, прибыл вместе с Рюриком, моим прадедом… Кто, кроме тебя, сможет рассказать о столь давних днях? Твой дед, когда держал тебя на коленях, рассказывал о деяниях твоего и моего рода, который тогда был еще на далеком Буяне! Расскажи нам!
Старик прошептал:
– Твои сверстники еще голубей гоняют да девок на сеновал тащат… Тебе же быть великим князем! Ты знаешь старину, чтишь старших, знаешь покон… Сядь ближе, я расскажу тебе…
Глава 11
Владимир следил краем глаза за новгородцами. Они входили в горницу и выходили, брали разные вещи. На него посматривали с теплотой, даже боярин Стойгнев взглянул пару раз со странным интересом.
Старик заснул на полуслове. Голова упала набок, из полуоткрытого старческого рта выползла струйка слюны. Перебарывая брезгливость, Владимир сказал теплым голосом:
– Крепкие люди в Новгороде. Такую дорогу да в таком возрасте… Киянам и молодым не каждому под силу.
Стойгнев расхохотался:
– Мы – люди северные. К трудностям привычные. Кремень, а не люди. А ты понравился нам… княжич. Совсем не такой, как твои братья.
Хотя он назвал его княжичем с усилием, но все же назвал. У Владимира камень свалился с души, но тревога подступила с острым ножом к горлу. Надо продолжать, теперь надо продолжать!
Он смущенно потупился и развел руками:
– Какой есть, не взыщите…
Стойгнев покровительственно похлопал по плечу:
– Понравился, всем понравился!
Хлопнула дверь, вошел Годовит. Тяжелый, грузный, он прошагал вдоль стены, половицы жалобно скрипели. Раздраженно сбросил на лавку широкий пояс, почесал вспотевшее место:
– Сумасшедший город! А мух сколько… Дерьма много, а убирать некому.
Похоже, под дерьмом имел в виду нечто другое, но Стойгнев и Цветослав промолчали. Бразд прогудел:
– Цветослав, сходи за Гонтой. Он в трех соснах заблудится, хотя здесь и сосны… тьфу!.. у меня нос толще.
Стойгнев увидел внимательные глаза Владимира. Тот нерешительно улыбнулся:
– Я вижу великого боярина и воеводу… но не могу вообразить себе… прости… тебя в детском облике! Так и вижу, как ты, зело силен и грузен, лезешь, как кот, на дерево, дабы разорить птичье гнездо, но шелковая перевязь за сучья цепляется, меч по ногам бьет, узорные сапоги по коре скользят… да и пузо… гм…
Стойгнев гулко расхохотался. В дверь заглянули испуганные лица, привлеченные таким звериным ревом. Стойгнев жестом велел им исчезнуть.
– Ну и ну, – сказал он, вытирая слезы. – Это я с пузом? Да знаешь, каким я был до шестнадцати лет? Соплей перешибить можно было. Весь как соломинка!.. А уж по деревьям лазил, как по земле бегал!.. Бывало, на самую верхушку взлезу, куда и галка боялась садиться – обломится. А я сидел, не падал! А ты говоришь, пузо!.. Хо-хо… А с шестнадцати начал мясом обрастать, скоро мне для кулачного боя во всей округе нельзя было найти поединщика… Где силой не брал, так увертливость помогала… А дальше и выучка пришла, да и силы прибавилось…
Он внезапно оборвал речь, раскрасневшийся и довольный, остро взглянул на молодого парня:
– Ох и хитер ты, хлопец! Сам же знаю, всякий старый пень обожает детство вспомнить. Хлебом не корми – дай про ранние годы рассказать. Сам таких ловил на крючок, а теперь ты меня за губу подцепил… О-хо-хо, молодчага, не ожидал! Люб ты мне, скажу по правде. Зрелый в тебе ум и понятливость зрелая. Те два княжича, между нами будь сказано, тебе и в подметки не годятся, хотя за ними наставники по пятам ходят, тиуны всему обучают!
Владимир сказал медленно:
– Но им уже даны княжества.
– Что делать, – развел руками Стойгнев. – На то воля великого князя.
Владимир ощутил, что сердце забилось, как птица в силках. Дыхание стало горячим, словно в груди разгорелся горн, где накалялось железо.
– А воля вашего града ничего не значит?
Стойгнев объяснил терпеливо:
– Нам Святослав князя не даст. Земля наша бедная, северная, на княжество не тянет. Да и город мал. К тому же Святослав уже распределил сыновей, если ты говоришь верно. К нам идти некому.
Это был миг, ради которого он жил, и сейчас плечи сами выпрямились, грудь подалась вперед, он даже стал выше ростом. Сжимая невидимой рукой яростно бьющееся сердце, взглянул в глаза старейшине новгородских купцов:
– Есть.
Стойгнев в великом удивлении поднял усыпанные серебром брови. Глаза смотрели остро, но с непониманием.
– Кто?
– Я.
Услышав разговор, к ним повернулись Бразд, Годовит, Громодар. Владимир физически ощутил их острые взгляды. Тень неудовольствия пробежала по лицу Стойгнева. Он уже поднял руку, намереваясь отослать неразумного робича прочь, но тот заговорил горячо, торопливо:
– Да, я сын рабыни! Потому мне княжества не дадут, но и вам не дадут князя в вашу бедную северную землю… Пойми, боярин, если мне получить бы княжение в Новгороде, то это важно для вас сейчас… и еще важнее будет потом! Сейчас, потому что часть дани станете оставлять у себя на содержание своей дружины… новгородской, а не киевской, а на потом… потому что, получив в князья хоть и сына рабыни, но все же сына Святослава, вы в другой раз сможете требовать князя уже по праву. Высокорожденного! Подумайте о судьбе и славе Новгорода! Разве для этого не стоит рискнуть вызвать гнев великого князя?
Он говорил с жаром, настойчиво. Теперь путь к отступлению был отрезан. К вечеру во дворе уже будут знать о его притязаниях. А к утру его в лучшем случае найдут с перерезанным горлом или утопленным в ближайшем пруду. А в худшем – посадят на палю или подвесят за ребро на крюк, чтобы другим неповадно было.
Стойгнев задумался, Годовит сопел и хмурился. Бразд сожалеюще покачал головой:
– Святослав нам никогда не даст князя. Никакого. Ни высокорожденного, ни самого последнего раба. Новгород слишком мал, беден. Тогда бы каждое село захотело стать удельным княжеством!
Стойгнев и Годовит наконец кивнули, на Владимира смотрели с жалостью. Он видел, что они тоже знают его дальнейшую судьбу.
Он перевел дыхание, сказал с заледеневшим сердцем:
– Есть способ.
– Ну-ну, – подтолкнул Кресан.
– Новгород не только мал и беден, но и далек.
– Святослав это знает. Ну и что?
– Он далек от Киева, зато близок к свеям, еще ближе к Оттону… Надо продолжать?
Кресан беспокойно задвигался. Все повернулись к нему. Оказывается, старец уже не спал, слушал. Короткий сон освежил, глаза сверкали неукротимо, а костлявые пальцы с силой сжимали подлокотники кресла. Стойгнев и другие бояре почтительно ждали слов старца. Тот нетерпеливо махнул рукой, отсылая гридня, что ввалился в горницу. Годовит проводил того до дверей и запер на засов.
– Отец спешит на брань, – сказал Владимир, он никогда так часто не называл Святослава отцом, как никогда не называл Ольгу бабушкой, а Игоря дедом. – Там его война, там вся его жизнь. Ему нужно, чтобы на Руси в его отсутствие было спокойно. Помните, как разъярился, когда печенеги подступили к Киеву? Ему пришлось прервать войну в Болгарии, срочно явиться под стены Киева, прогнать печенегов и лишь потом снова возвращаться на прерванную брань… Если ему пригрозить…
Стойгнев отступил на шаг. Лицо исказилось гримасой страха.
– Пригрозить Святославу Неистовому?
Владимир поймал его за полу, дивясь своей смелости.
– Мой отец тоже человек, – сказал он настойчиво. – Да, он свиреп, не терпит прекословия… но он спешит в Болгарию! Его душа уже там, с войсками. А возиться с новгородцами для него мука! Он спешит свершить великие подвиги, что ему местные свары? Если намекнуть, что ежели он не даст Новгороду князя, то вы сами изберете….
Кресан отшатнулся:
– Никто не посмеет…
– Ладно, зайдем с другого боку, – сказал Владимир с отчаянием. – Мол, новгородцы волнуются. Одни тянут к Оттону, другие – к свеям. Хорошо бы, мол, дать им своего князя, чтобы привязать к Руси крепче. А в Новгороде немало людей достойных, да и чужие в князья набиваются. От поляков, германцев, свеев… Если придет князь от них, тогда Новгород будет смотреть уже не в сторону Киева!
Стойгнев сказал дрогнувшим голосом:
– Святослав тут же скарает нас на горло.
– Или посадит на палю, – предположил Годовит, – чтобы мы умирали долго, а другие видели, что ждет отступников.
Владимир чувствовал, как крупные капли пота покатились по разгоряченному лицу.
– Не покарает!.. Вот как боги святы, не покарает!.. Он покарал бы, если бы оставался в Киеве. Еще и дружину повел бы на Новгород, чтобы чинить суд и расправу. А сейчас ему некогда возиться с такой мелочью, как Новгород!.. Покарает вас, послов, а в Новгороде вдруг да вспыхнет мятеж? Конечно, для него его удавить – раз плюнуть, но вся дружина уже готова к броску на юг, в Болгарию, а затем к Царьграду! Что ему Новгород, когда он одной ногой в Царьграде?
Стойгнев, сам бледный, такие речи даже слушать опасно, смотрел то на взволнованного подростка, то на Кресана. Старец впал в глубокую задумчивость. Годовит спиной подпирал дверь, прислушивался и к речам, и к звукам из коридора.
– Мы посоветуемся, – сказал наконец Кресан. – Ты, княжич, иди с богами… Взбаламутил нам души. Уж почудилось, что и в самом деле наш город сможет получить князя.
– Навеки, – ответил Владимир со страстным нажимом. Он поклонился, шагнул к двери, затем повернулся и сказал страстно: – Отныне и навеки! Я буду лишь первым.
Дверь за ним захлопнулась. Стойгнев еще долго стоял посреди комнаты, не двигаясь с места. Только голова начала дергаться, а брови сшиблись на переносице. Годовит шептался с Кресаном. Вид у обоих был испуганный, а лица белее мела.
Его трясло, как стебелек на ветру, когда он закрыл за собой дверь. Перед глазами плыло, в ушах стоял звон. Он смахнул пот с глаз, заставил себя дышать медленнее, на подгибающихся ногах сбежал на поверх ниже. Он помнил, где чья комната была вчера, и помнил, кто их занимает сейчас.
Добрыня стоял у окна, в его огромных руках блестела мертвенными искрами рубашка из булатных колец. Витязь рассматривал ее придирчиво, хмыкал, вертел так и эдак.
– Дядя! – вскрикнул Владимир. – Мне очень нужна твоя помощь.
Добрыня повернулся, серые глаза внимательно оглядели молодого парнишку.
– Дядя, – сказал Владимир страстным шепотом, – прибыли новгородские посланники с жалобой на бесчинства наместника. Но я убедил их просить меня на княжение. Великий князь, конечно, будет против… но тут можешь помочь ты!
Добрыня даже отшатнулся. Племянник стоял перед ним красный, пылающее лицо пошло багровыми пятнами. Его трясло, на лбу выступили крупные капли пота. Черные волосы слиплись сосульками.
– Ты в своем уме? Откуда ты взял, что новгородцы…
– Дядя, – перебил Владимир, что было неслыханно: Добрыню даже дружинники не решались так обрывать, – это так! Подумай, как склонить князя, чтобы выслушал их!.. Быстрее, уже гремят трубы! Созывают на великий сбор!
Добрыня досадливо отшвырнул кольчугу на стол:
– Зачем тебе этот северный городишко? С его долгой зимой и бесконечными болотами? В Киеве тепло, богато, гости из дальних стран…
Владимир проглотил резкий ответ, взрослый дядя иногда мыслит как совсем невзрослый, заговорил другим тоном:
– Да, здесь богато, здесь тепло, здесь гости… Но такие кольчуги есть и в Новгороде. А нет – купить можно. Из меня ведь какой князь? Только название. Меня отец отправил бы только с тобой, дядя. Ты в Новгороде был бы настоящим князем, только что звался бы посадником или еще как… Ведь в мои годы какой князь?
Добрыня отмахнулся, потянулся за кольчугой, но движения стали нерешительными. Владимир почти видел, как медленно начинают двигаться жернова, что заменяют мозги в черепе могучего воителя. От усилий кожа на ровном лбу собралась валиками.
– Князь не согласится, – сказал он наконец с сомнением.
– Что мы теряем? – упорствовал Владимир. – Зато получить можем все.
– Князь привык, что я советы подаю дельные.
– Тем более! Он уже седлает коней для великого похода. А мы приобретем Новгород.
Он нарочито выделял слово «мы». Его обижала и не любила челядь, а Добрыню – воеводы, бояре, тысяцкие. Он был как бельмо на глазу, близок к грозному Святославу, но не родовитый, пригретый лишь за верное служение. Но долго ли перемениться дружбе? Да и не вечен князь, особенно когда идет в новую страшную сечу. Он всегда первым вступает в бой, последним уходит. Долго ли боги будут беречь его буйную голову?
Владимир молчал, смотрел на Добрыню. Так хотелось, чтобы богатырь по его лицу прочел, что когда Ярополк возьмет бразды правления в свои руки, то Добрыне несдобровать. Своих земель нет, как нет сел и городов. Святослав не успел пожаловать, да и не хотел. Так дружинник вернее привязан, надежнее служит, на свои богатства не оглядывается. Но теперь он, голый и безденежный, останется со знатными людьми Киева. А у них и пожалованные, и унаследованные земли, они при любом князе – сила. А что останется у него, если Святослав сложит буйну голову?
– Я попытаюсь, – ответил Добрыня наконец с тяжким вздохом. – Вряд ли у нас что-то получится. Но я попробую склонить Святослава дать тебя в Новгород князем…
– Нет, – прервал Владимир. – Не меня. Просто князя.
Добрыня смотрел пристально:
– Я вижу, ты обдумал все очень хорошо. Почему?
– Святослав сам назовет меня. Другой не пойдет в северные болотные земли.
Добрыня с сомнением покачивал головой, но глаза были тревожными и задумчивыми. Парень молодой, но хитер как лис, осторожен как бобер, а паутину ткет такую, что мизгирь позавидует. Похоже, к такому случаю готовился давно, все продумал. Умному хватит раз взглянуть на ромеев, чтобы научиться их хитрости да хвостовилянию. Что ж, нужда заставит калачи есть.
– Ладно, – сказал он наконец. – Небо раз в жизни посылает удачу каждому. Это только в сказках жар-птица прилетает трижды. На самом же деле сразу не ухватишь – второго случая не будет. И не скажешь: «Великий Сварог, позволь пройти по жизни еще раз, уже по-умному». Надо сразу…
В дверь громко постучали. В щели показалась голова гридня.
– Дружинник Добрыня! Святослав велел собрать всех знатных людей в большой палате. Торопись, князь ждать не любит.
В голосе прозвучала угроза. Владимир видел, как с лица Добрыни отхлынула кровь. Он перевел дыхание, коротко взглянул на паренька, что без страха зовет встать пред грозны очи великого князя, известного крутым нравом, дабы спорить, доказывать, убеждать, настаивать.
Владимир задержал дыхание. Костяшки на пальцах побелели, а ногти впились в ладони так, что по лицу Добрыни видно – больно.
– Мы… идем. Пойдем… княжич!
Главная палата уже была заполнена народом. Молодые бояре пришли пораньше, заранее старались встать ближе к возвышению – там великокняжеское место – старые сразу расселись на приготовленных для них широких дубовых скамьях вдоль стен. Им всех видать, их тоже зрит каждый.
В полных доспехах, словно на брань, явились воеводы, тысяцкие. Позже всех пришли два волхва: в звериных шкурах, лохматые, у одного лицо закрыто волчьей маской. Это был волхв Тайного Братства, их зреть смертным возбранялось.
Князь явился стремительно, словно вбежал. Горячий, гремящий, словно выкованный из железа, в тонкой заморской кольчуге, с мечом на поясе. От него пахнуло зноем, будто на миг вырвался из жаркой брани в полуденных странах. Горящие грозным весельем глаза разом охватили всех в зале. Бояре ощутили себя неуютно, задвигались. Князь должон быть важен, аки павлин, величав, дороден. От него должны исходить милости, он должон быть аки отец… А этот хищный зверь чем быстрее уберется из Киева, тем лучше. С его сыновьями как-то сладят.
– Приветствую вас, люди Киева, – прогремел его сильный голос.
Все поклонились, ответили вразнобой. Святослав в два шага поднялся к резному креслу, сел. Бояре толпились за спиной, старались стать ближе. В широкие окна врывался солнечный свет, блистал и переливался на ярких бляхах, застежках, поясах, рукоятях ножей.
– Кони просятся под седла, – сказал Святослав звонким, как боевой рог, голосом, – мечи рвутся из ножен. Мы уходим в поход, дабы добыть Руси чести, а киевским князьям – славу. Моя последняя воля! Ярополку сидеть на столе киевском, блюсти покон отцов наших, собирать дань с земли киевской и всех подвластных нам, быть старшим. Олег едет князем в древлянскую землю. Дань исправно высылать Ярополку, чтить богов, блюсти покон пращуров.
Он поднялся, словно его подбросила неведомая сила. Ноги подрагивали от желания выбежать из палаты и прямо с крыльца прыгнуть в седло. Могучий жеребец во дворе уже злобно роет копытом землю, храпит и люто скалит зубы на отрока.
Бояре задвигались, зароптали. Великий князь вовсе их ни во что не ставит, ежели сейчас готов удалиться! Виданное ли дело, не успели сесть, как уже все кончилось. А где степенные беседы, где уважительные советы со старшими?
От новгородцев шагнул вперед Стойгнев. Так получилось, что он загородил дорогу великому князю, но не попятился, стоял и смело смотрел в грозные очи неистового витязя.
– Великий князь, – он поклонился, – Новгород кладет тебе земной поклон. Шлет дань и дары сверх дани, а еще сверх того – двух заморских коней, драгоценное оружие франкской работы и ларец из-за южного моря…
– Благодарствую, – сказал Святослав. Он посмотрел через голову новгородца на двери, где маячили двое его дружинников. – Теперь говори, что просите. Ведь недаром же скуповатый Новгород прислал что-то сверх урочной дани!
Владимир видел, как широкое лицо боярина покрылось крупными каплями пота. Он поклонился еще, сказал просительно:
– Прислал нас новгородский люд с жалобой на твоего посадника… Грабит и разоряет нас, часть дани присваивает… Нет-нет, великий князь, мы всю ночь советовались, услыхав о твоем решении… мы хотим просить тебя дать нам тоже своего сына на княжение. Город наш растет быстро, пора и нам получить бы себе князя.
Святослав поморщился:
– Если посадник проворовался, дам другого. Но князя у меня для вас нет. В Киеве – Ярополк, в Искоростене – Олег. Больше сыновей у меня нет.
Эти слова как ножом кольнули Владимира. А Стойгнев поклонился, сказал глухим голосом:
– Понятно. Богаты земли киевские, как и древлянские, это не наш бедный север… Но я должен сказать тебе, княже, что народ бурлит. Шныряют лазутчики то Оттона, то свеев, то польских князей. Всяк на свою сторону тянет.
Святослав страшно оскалился. Кровь отхлынула от его лица, он был страшен.
– Что хотят?
– Княже, я только посол. Ежели ты хочешь не правды, а сладких слов, только скажи!.. Я тут же скажу, что у нас все хорошо и все поют. Тебе будет приятно. Сейчас приятно.
Глаза великого князя полыхали как угли. От него пошла волна такой ярости, что всех вокруг него охватил озноб. Внезапно Добрыня шагнул вперед:
– Дозволь слово молвить, княже… У тебя есть еще сын. Ну и что, что челядин? Там ведь не Киев, а всего-навсего Новгород. А с ним могу поехать я, чтобы смирять их буйства. Рука у меня тяжелая, сам знаешь.
Святослав некоторое время поедал его глазами. Казалось, вся ярость князя обрушится на верного дружинника. Внезапно Святослав с шумом выдохнул воздух, горячий, как струя пламени Змея. Широкая грудь опустилась, он коротко и зло рассмеялся:
– Тяжелая рука? Это недурно. Да и голова у тебя на плечах такая, что весь Новгород о нее топоры выщербит… Добро! Пусть будет так. Слушайте все!.. Назначаю городу Новгороду князем… Владимира. В нем есть и моя кровь, он будет править от моего имени. А Добрыня при нем поедет посадником.
Стойгнев поклонился земным поклоном. Владимир видел, как мелко-мелко дрожали ноги посла. Гнев Святослава бывал страшен. На княжьем троне после кроткой славянки Ольги снова оказался страшный русич, буйным нравом не похожий вовсе на руса. Стойгнев снова и снова кланялся, скрывая пережитый страх.
– Благодарствуем, великий князь! – проговорил он нетвердым голосом. – Благодарствуем от всего народа новгородского! Будь уверен, отныне наши уши глухи к речам послов германских или свейских. Ты можешь отправляться в поход спокойно! Наши земли тебе верны.
Святослав пренебрежительно отмахнулся:
– По вам и князь!
Часть вторая
Глава 12
У богатыря Славена была красавица сестра Ильмера. Он ее любил нежно и бережно. Когда враги сумели вытеснить его с земель, он на новом месте выстроил город и нарек его Ильмером.
Город рос, Славен помер, а переселенцы в тоске по Старграду называли между собой новый город просто Новоградом, Новградом, Новгородом. После гибели Славена город вовсе перестали называть Ильмером, только волхвы еще помнили, передавали из поколения в поколение свое сокровенное знание, занося его чертами и резами на деревянные дощечки. Через дощечки по краю пропускали раскаленный прут, за ним продевали веревочку и такими связками хранили в своих тайниках.
Укрепил Ильмер, а ныне Новгород, и расширил князь Вандал, а уже Гостомысл мудрой политикой сумел завязать крепкие торговые узы с заморскими странами. Он же пригласил на княжение отважного воителя Рюрика Боянского, или же, как его называли в западных странах, Рюрика Рюгенского. Перед могучим предводителем варяжских дружин из русов, свеев и германцев трепетали приморские города Европы и даже далеких южных стран. Рюрик жил со своим народом на острове Буяне, в соседних странах его звали Рюгеном, оттуда совершал молниеносные набеги на быстроходных ладьях. Данию он грабил так часто, что в ряде западных хроник его называли Рюриком Датским.
На просьбу Гостомысла прибыть на княжение сперва ответил отказом, Новгород-де ставит наемных князей с их дружинами в слишком подневольное положение, но посадник был настойчив, расписывал огромную страну, которой можно владеть, и Рюрик в конце концов прибыл в святилище Световида, спросил оракула, и тот велел немедля идти на помощь тестю. Рюрик и сам понимал, что остров мешает расти племени русов вширь, а земли на материке заняты накрепко. У восточных же родичей земля велика и обильна, а порядка в ней нет – так ее расписывал Гостомысл. Диких же соседей, что докучают из Степи, можно загнать обратно. А из бесчисленных славянских племен, что бьются одно с другим смертным боем, можно создать такое государство, перед которым задрожат западные страны.
Он прибыл в Новгород со своим двором и могучей дружиной. В ней, кроме самих русов-рюгенцов, были свеи, германцы, норманны, даже два мавра. Беспорядки он подавил сразу и жестоко. Последний большой мятеж поднял Вадим Храбрый, последний вольный славянин, как его назвали позже. Рюрик сразил его в честном поединке, а остатки мятежников рассеял. Кого поймали, вешали вдоль дороги.
Княжение Рюрика было недолгим. Он еще возвращался в свою Русь, на Рюген и в Данию, улаживал старые споры, но раны прошлых лет давали о себе знать. Он все еще сам объезжал подвластные племена, чинил суд, но на обратном пути к Новгороду расхворался сильно и тяжко. Умереть бы своей смертью, но бог воинов милостив: храбрецы из местного племени решили устроить засаду могучему воителю. Рюрик разгадал вовремя, кого побил, кого взял в полон, но последний из умирающих пустил ему стрелу в спину.
Игорь, сын Рюрика, был годами еще мал, вместо него правил Олег. Его звали Вещим, он был из волхвов и умел прозревать грядущее. Олег не желал называться князем, ему по рождению нельзя им быть, однако это не помешало ему воевать успешно, собирать племена в единое государство, которое назвал Русью в память о покинутой Руси на родном острове. Потом он разбил ромейские войска, заставил их императора платить ему дань, тем самым считаясь с новым образованием на своих границах, а в знак победы прибил на ворота Царьграда свой щит.
Однако едва лишь Игорь подрос, Олег тут же сорвал с пояса меч, передал Игорю, а сам ушел в волхвы. Никто не знает, куда он ушел, умер ли вообще, потому что у таких людей судьба бывает очень странной, а для простого люда – невероятной и таинственной.
Еще Олег при малолетнем Игоре занял Киев, убив Аскольда, последнего потомка древних сколотских царей, от народа которых остались только названия рек, гор, озер, вроде Оскол, Ворскла… Русь Олега переместилась южнее, стала называться Киевской, в отличие от Руси Буянской или Руси Новгородской.
С той поры Новгород без князя. Князья сидят только в Киеве, а в других городах – посадники. Из Киева князья собирают ежегодную дань. И вот теперь впервые после многих десятилетий Новгород обретает своего князя, что сразу возвышает весь город на целый поверх. И городу, и новгородцам будет больше чести, славы и уважения.
Значит, горожане должны быть рады ему, Владимиру. Как и бояре, купцы, знатные люди. Пусть он не совсем князь – сын рабыни! – пусть великая, хоть и придуманная, нужда заставила грозного Святослава дать им свое княжение, пусть даже он и здесь будет под присмотром верного Святославу пса войны Добрыни….
Но все-таки… все-таки это его первая большая победа. Победа его ума, воли и выживаемости!
И еще одно, думал он напряженно в ритм быстрой скачке. Святослав, в отличие от своего отца Игоря, Олега, Сфенела, которые были чистокровными русами, есть уже русич, или росич, то бишь помесь руса со славянкой. Правда, Святослав бреет голову, как русы, оставляя длинный чуб, свисающий на ухо, носит в левом ухе серьгу, моется в тазу, а не в славянской бане, и вообще крут нравом, быстр и яростен, как русы, свиреп в бою, но все-таки его матерью стала славянка Ольга, и он уже одинаково владеет обоими языками.
Зато уже дети Святослава, даже его высокородные от жен княгинь, с детства знают славянскую речь, а язык своих дедов по отцу воспринимают как близкий, но не свой.
Славяне же, будь это дрягва, дубиничи, тиверцы, вятичи, раз уж покорились русам и платят им дань, то считаются ихними, то бишь людьми русскими. Он тоже русский, а не рус и даже не росич, это его сблизит с покоренным народом. Все-таки если не откровенная ненависть, то недовольство захватчиками все еще живо. Он в их глазах должен стать не просто первым князем, а первым русским князем!
Уже показались серые бревенчатые крепостные стены Новгорода. Небо нависало серое, как раскисшая под ногами земля, воздух был свежий, а ветер дул промозглый, нес сырость и болезни. Кони тащились тяжело, на копытах нависало по пуду грязи.
Владимир подавил разочарование. Да, это не огромный Киев, где среди трехповерховых теремов уже есть и каменные или хотя бы каменные в основании! Не Киев… Но зато в Киеве он был и должен был остаться навеки сыном рабыни. Здесь же, при удаче… нет, плохое слово, пусть удача улыбается никчемам, а он должен добиваться успеха. Удача слепа, может посетить и круглых дураков, потому на нее и надеются, а сильные куют не удачу, а успех!
Он вздохнул глубоко и мощно. Он вырвался из Киева, но там было привычно, защищенно, безопасно, хоть и не очень сытно. А здесь чужой город, чужие люди. А на нем клеймо байстрюка, бастарда, незаконнорожденного. И бороться за себя придется еще больше, чем раньше. Добрыня и Стойгнев, что едут сзади, не помощники. У них свои цели, а он для них вовсе не князь, а так… кому ложка, кому черпак, кому еще какое средство для достижения своих целей.
Послышался далекий конский топот. От городских стен мчались всадники. Владимир решил было, что новгородцы встречают как князя, но те приблизились, он увидел, что настигают убегающего человека.
Уже сверкнули мечи над головой беглеца. Тот понял, не уйти, резко скакнул от дороги, побежал, но до леса хоть и близко, но двое конных пустили коней наперерез. Беглец затравленно оглянулся, быстро подхватил длинную жердь, свирепо взмахнул над головой. Послышался крик, оборвавшийся на всхлипе. Всадник вылетел из седла, как тряпичная кукла, а конь от удара присел на круп.
Владимир пустил коня вскачь, заинтересованный дракой. За ним часто застучали копыта, Добрыня с дружиной не отставал.
Беглец отбивался отчаянно. Рослый крутоплечий молодой мужик вертел над головой толстую жердь, чуть ли не бревно, увертывался от ударов мечей, пригибался. Лицо его было оскалено, рубашка в лохмотьях обнажала темное от солнца, мускулистое тело.
Еще один получил удар в плечо, выронил меч. Всадники пугливо раздвигали круг, а беглец расширял его все больше и больше, бросаясь то на одного, то на другого. Лес уже приближался, беглец бросал на него затравленные взгляды. Поняли это и всадники. Один выругался, сорвал с плеча лук.
– Стойте! – крикнул Владимир.
Он ощутил, что с коня голос звучит достаточно властно. И те, кто его еще не знает, могут не заметить, что он сам дрожит от страха.
Он соскочил с коня, внимательно смотрел на орудующего жердью парня. Оценивал, прикидывал. Всадник с луком крикнул предостерегающе:
– Эй, парень!.. Кто бы ты ни был, не вмешивайся. Это Звенько!
– Ну и что? – осведомился Владимир.
И ощутил, что даже с высоты земли его голос звучит без дрожи. Наверное, потому, что за спиной могучий Добрыня с его отборным отрядом дружины.
– Звенько медведя ломает голыми руками!
– Я не медведь, – ответил Владимир с презрением. – Вмешиваться не сметь!
Голос его теперь прозвучал жестко, словно кто ударил молотом по наковальне.
Он прыгнул вперед, выждав, когда край оглобли пронесся мимо. Проскочил мимо и Звенько. Следующим оборотом жердь достала его лишь серединой, не опасно, лишь сбила оземь, но Владимир ухватил Звенько за ногу, дернул. Оба покатились по земле, жердь унеслась со свистом. Послышался глухой удар, кто-то ойкнул.
Голоса кричали, чтобы не вмешивались, дружинники оттеснили конных новгородцев. Владимир вспрыгнул на ноги раньше противника, выждал. Они оказались грудь в грудь, и Владимир ощутил невольный трепет. Он сам был рослым и крепким, но парень оказался почти на голову выше, плечи раздались, как горный хребет, а грудь была широка и выпукла, как стоведерная бочка. Он протянул руку к груди Владимира, и тому показалось, что к нему тянется бревно с огромными пальцами.
Он нырнул под эту руку, захватил ее крепко, резко дернул, заворачивая за спину. Парень был чудовищно силен, но своя же тяжесть усилила боль. Он побледнел, завалился лицом на землю. Владимир подержал чуть, чтобы не сомневались в его полной победе, вскочил на ноги.
Звенько с перекошенным лицом ринулся на него, как дикий тур. Владимир дрогнул, увидев бешеные глаза, но с великим трудом заставил себя драться, как учили его Сувор и Добрыня. Слабый воин, искусный в занятиях, обычно побеждает сильного, но неумелого. Что с того, что медведям спины ломал? Медведь не человек…
Он мотнул головой, чтобы кровь с рассеченной брови не мешала видеть. Нанес еще два сильных удара. Звенько шатался, лицо его распухло. Всего один раз он задел Владимира по лицу – всего лишь задел! – иначе тому пришлось бы распрощаться с жизнью…
Владимир сделал быстрый скользящий шаг. Кулак его был сжат, глаза держали окровавленное лицо Звенька. Он знал, что сейчас этот могучий парень упадет, как бык, оглушенный ударом. Внезапно он перехватил взгляд из-под разбитой брови. Звенько тоже знал, что уже побежден, сейчас после удара свалится незнакомцу под ноги, но держался лишь на упорстве и силе духа…
Владимир заставил себя усмехнуться. Кулак разжался, он протянул открытую ладонь противнику:
– Мир!.. Ты молодец, дерешься здорово.
Парень тупо смотрел на протянутую ладонь. Лицо его было разбито, губы вспухли. Кровь текла из носа и рта, он поминутно сплевывал. Земля вокруг него покрылась красными комочками, что быстро сворачивались шариками, пряча сгустки крови, чтобы ее не увидело нещадное небо, бог Сварог.
Наконец он искривил лицо в гримасе. Его ладонь с маху ударила по ладони Владимира.
– Куда там… Я думал, что дерусь… Теперь я вижу, что такое драться на самом деле!..
Сзади раздался довольный хохот. Добрыня с дружинниками весело ржали, бряцали оружием. На их молодого князя, которого и князем никто еще не звал, смотрели с интересом. Всякий ли утерпит, не собьет супротивника в грязь для победы окончательной? Да еще не походит вокруг, гордо подбоченясь, пока тот ползает под ногами, роняя кровавые сопли и слюни?
К Владимиру подъехал грузный сумрачный мужик. Весь заросший черной бородой в крупных кольцах, в меховой шапке, несмотря на лето, одетый добротно, богато, на холеном коне.
– Это наш беглый холоп, – сообщил он гудящим басом. – Виновен в самовольном заселении. Платить отказывается. Мол, земли вольные…
– Они и есть вольные, – прохрипел Звенько. Он все еще стряхивал кровь горстями с разбитого лица.
– Были вольные, а теперь там стоит знамено тиуна Курбата!
– И это все? – спросил Владимир, кончиком пальца вытер кровь с брови, дыхание восстанавливалось быстро. – Такой зверюга мог бы натворить чего-то и похлеще…
Парень начал осторожно продвигаться в сторону леса. Владимир сделал знак уже своим дружинникам. Те заступили беглецу дорогу. Парень уронил голову на грудь.
Мужик оглянулся через плечо. Там укладывали на голой раскисшей земле всадника, которого Звенько снес с коня.
– Теперь на нем еще и вира за калецтво, – сообщил чернобородый, голос был злорадным. – Если не за убивство!
Владимир чувствовал на себе взгляды дружинников. Он покачал головой:
– И только за это гнались с мечами?.. И если бы не мы, засекли в капусту? Видать, насолил еще чем-то. Но не сказываете…
Добрыня захохотал гулким басом, от которого вздрогнули кони:
– Наверное, он жену этого Курбата… ох-хо-хо!
– И полюбовниц! – добавил другой дружинник, и все захохотали, забряцали оружием.
– И Курбатову собаку! – выкрикнул сквозь слезы третий, все захохотали еще громче.
Парень стоял опустив голову. С тех пор как его окружили дружинники Владимира, он стих, перестал бросать взгляды в сторону близкой стены деревьев.
– Земли теперь занятые, – огрызнулся чернобородый. Он без нужды поправил меховую шапку, выпрямился, люто посмотрел на Владимира. – И река, и луг, и лес… С этой стороны все принадлежит Курбату!
Владимир оглянулся на дружину. Воины смотрели на него, чего-то ждали. Их глаза стали серьезными, смешки угасали. Добрыня сопел и туже затягивал пояс. Лицо богатыря побагровело от натуги.
– Ладно, – сказал Владимир, он чувствовал, что голос дрогнул. – Виру за покалеченного выплачу я… А вот покон отцов наших нарушать никому не велено. Тут Звенько виноват.
Парень вскинул голову:
– Какой покон? Именно по покону эти земли – общинные!
Новгородские мужики уже подошли с веревками к Звенько. Владимир сказал резко:
– Когда сяду в Новгороде, буду лучше знать местные обычаи. Сейчас же, Звенько, даю тебе серебряную гривну. Заплати за самовольство! А с покалеченным погодим. Будет жив – одна вира, умрет – другая.
Среди дружинников нарастал гул голосов. Владимир среди возгласов удивления уловил и одобрение. Звенько изумленно смотрел в лицо молодого парня, с которым только что дрался:
– Спасибо!.. Спасибо, добрый человек!.. Не знаю, как звать-величать тебя…
Владимир молча отступил на шаг в сторону. Добрыня как чуял, медленно выдвинулся на своем громадном как гора коне, проговорил голосом густым и могучим, как довольный рев сытого медведя:
– А победил тебя и подал руку… князь новгородский Владимир, сын Святослава!
За спиной зашумели еще довольнее, ибо челюсти у новгородцев отвисли, грязь скребут с земли. А Звенько как стоял, вытаращив глаза вроде глупого сома, так и рухнул на колени. Новгородцы помялись, нехотя слезли с коней.
Владимир дружески хлопнул Звенько по плечу, отвернулся, как птица взлетел в седло своего коня. Жеребец взыграл, готовый пуститься вскачь. Владимир дал ему сделать два шага, потом рассчитанно повернулся, бросил небрежно:
– Слушай, Звенько… Селиться тебе все одно негде… Или есть?
– Нету…
– Хочешь ко мне в дружину?
Звенько, который с мукой в лице смотрел вслед удаляющемуся молодому князю, подбежал, припал к его сапогу:
– Княже!.. Жизнь отдам!.. Кровь всю возьми до капли, люб ты мне!.. Никто со мною так… Други были, но покинули все…
– Вот и ладно, – произнес Владимир спокойно, хотя внутри все прыгало и скакало. – Дайте ему запасного коня. Оружие получишь потом. Ну, тронулись!
Он пустил коня вперед, не дожидаясь, когда Звенько взберется в седло. Спину сверлил тяжелый взгляд, налитый угрюмой злобой. Управитель новгородского тиуна Курбата выглядит опасным, надо узнать его имя. Еще не войдя в Новгород, уже нажил себе врага! Да и другие новгородцы чувствуют себя посрамленными. Это над ними откровенно скалят зубы чужаки, дружинники киевского князя! Словом, нажил одного врага и пятерых недоброжелателей…
Конь пошел галопом, чувствуя неспокойствие всадника. Нарушены новгородские законы, думал Владимир тоскливо. Нарушены права тиуна, галопом поскачут жалобы великому князю. Слава Сварогу, тот уже выступил в поход, догнать непросто. Да, он играет с огнем. Ведь ни Стойгнев, ни Добрыня ему не опора. У каждого свои собственные цели. Его хотят использовать только для себя. И для Стойгнева, и для Добрыни он только имя, им будут пользоваться кто как лопатой, кто вместо веника, а кто и заместо скамеечки для ног.
Да, хотят и будут, что он может сделать? Сейчас – ничего. Ему нужны люди, что будут верны именно ему, юному новгородскому князю. Звенько первый, здесь ему просто повезло. Впрочем, почему повезло? Он сам завоевал сердце и душу этого холопа. Не так просто завоевал, голова до сих пор кружится, а в ушах будто комар звенит! Теперь надо находить и завоевывать умелых из холопов. У них нет ни земель, ни богатства – это может по крохам давать им он, новгородский князь. Только по крохам, у него самого одни крохи, но они будут счастливы и тем, будут держаться за него. Только за него, ибо другие их будут ненавидеть. И сразу все отнимут, ежели с ним, их защитником, что стрясется…
Ладно, сказал себе сердито. Надо волю в кулак, а сопли и слезы – в тряпочку. У кого нет врагов, тот ничего не стоит! Тот вообще не человек.
Копыта стучали грозно, заставляя сердце биться чаще. Дорога бросалась навстречу, исчезала под конским брюхом. Серая стена из неошкуренных бревен приближалась, темным пятном выступили ворота. Сзади неслась молчаливая дружина, в первых рядах Добрыня и Стойгнев. Позади неумело скакал Звенько на огромном и черном как ночь жеребце, влюбленно и преданно глядя в спину юного князя.
Глава 13
Добрыня очень умело, надо отдать должное, сразу по приезде взял ничего не подозревающего посадника в клещи. Для того и гнали коней, объяснил позже он Владимиру, чтобы тот не успел припрятать награбленное. И не продал, а деньги сложил в калиту.
Терем был богат, хотя и не чета киевским, с подвалами с добром, складами, амбарами, конюшнями, пристройками. Хороша была и зброярня, где оружие висело на стенах, блестело начищенным железом в углах комнат, лежало целыми связками на свободных лавках. Мечи особой закалки, что так ценятся в западных странах и вызывают зависть у ромеев, висели так плотно, что касались рукоятями. Харалужные шоломы блистали на лавке и на подоконнике, выставленные рядком как на показ или продажу, а кольчуги висят на бревенчатых стенах распятые, сразу видно все размеры, есть и с нашитыми железными бляшками, есть с длинными рукавами, есть с воротниками и без, грудами свалены в углах железные наплечники, нарукавники, поножи, богатырские рукавицы из толстой кожи с железными шипами, возле кадки с водой для умывания стоит связка длинных луков, над ними на стене висят широкие пояса из двойного слоя кожи и с нашитыми булатными бляхами.
Владимир тут же поменял свое вшивое снаряжение на добротное, выбрал для Звенько подходящий доспех, кольчугу, одел с головы до ног, вручил ему настоящий меч, кованый пояс с кольцами для ножа и баклажки, шолом из настоящего булата.
Разъяренного боярина всего на трех подводах отправили обратно в Киев. Добрыня деятельно взялся изучать Новгород и новгородскую землю, окрестные племена, с которыми то дружба, то вражда, а Владимир, к удивлению Добрыни, но и облегчению, окунулся в непривычный мир, когда можно есть и пить вволю, задирать дворовым девкам подолы, выбирать себе любого коня на посадской, а ныне княжьей конюшне.
Даже в разгар лета северный ветер проедал до костей. Терем посадника был невелик, стоял на продуваемом со всех сторон месте. Первую ночь Владимир зяб, укрывался на ночь теплыми шкурами. Челядь посмеивалась, князь-де тонкокожий, неженка. Не приживется, а то и захворает от здешней сырости да холода.
Владимир, стиснув зубы, начал приучать себя ходить одетым столь легко, что даже привыкшие к холоду новгородцы уважительно покачивали головой. А сам Владимир выяснил вскоре, что местные больше бахвалятся, чем в самом деле столь уж привычны к холоду.
Звенько как верный пес ходил следом, смотрел влюбленно. Владимир наконец ощутил неудобство:
– Звенько… Ты сам видишь, у меня пока что ни земель, ни денег. Но когда-нибудь ты получишь за свою верность сторицей.
Звенько вспыхнул до корней волос. Редкие веснушки утонули под волной прилившей крови.
– Княже!.. Да разве ж я за деньги? Не все деньгами меряется. Ты – настоящий князь. От тебя пойдет правда и справедливость по всей земле Русской. А я жизнь готов положить, только бы тебе все удалось.
– Ну-ну, – сказал Владимир в еще большем неудобстве. – Спасибо… Но все-таки я воздам всем, кто был со мной. Когда-то мы будем делить огромный пирог, именуемый Русью!.. Звенько, ты знаешь Новгород и его людей. Присматривай еще изгоев, недовольных своими хозяевами. Я назначаю тебя своим старшим дружинником. Подбирай людей, коими будешь распоряжаться.
– Княже! Я ж даже мечом не владею, как воин!
– Мне нужен верный человек. А воинов на Руси и так хоть пруд пруди.
Глаза Звенько из умоляющих стали серьезными. Юному князю в самом деле в этом городе опереться не на кого. Если подумать, то ему еще тяжелее!
– Есть такие люди, – сказал он, подумав. – Если возьмешь под свою руку, у тебя не будет более верных псов!..
Когда Добрыня, взяв с собой всю дружину, отбыл на границу Новгородщины, что-то зашевелилась ижора, Владимир вовсе повел себя непривычно. Звенько не понял, почему Владимир, воздержанный в еде и питье, начал задавать в своей единственной комнате, а затем и во всем тереме пиры. А при доброй погоде столы выносили во двор, из подвалов выкатывались бочки с вином, доставленные из заморских стран и накопленные посадником для собственных нужд, выносили окорока, а на кухнях челядь сбивалась с ног.
Радушный и довольный, он угощал лучших бояр, тысяцких, купцов, старшин торговых рядов. Пригласил и старейшин иудейской общины, а также знатных свеев, что ехали через Русь в южные страны. Вино лилось рекой, ели за троих. Здесь он был не князем, а у равных: уважительно выслушивал старших, лучшие блюда предлагал гостям, гридням велел сперва услуживать степенным боярам, а потом уже ему, молодому. Это льстило старикам, о молодом князе быстро пошла слава как о молодом да разумном, что чтит старших и слушает их советов.
Он приблизил к себе Тавра, молодого сына боярского, худого телом, сутулого, непригодного для жаркой схватки, но разумного и наблюдательного. В его серых глазах светился ум, словно всю силу, не доставшуюся телу, боги вложили ему в голову.
Они разговаривали всего трижды, но оба остались довольны, словно бы скрещивали мечи в невидимом поединке, когда оба сумели показать свое великое умение, незримое для других. Тавр льнул к юному князю, и Владимир скоро убедился, что никакого расчета у того нет. Он князь только по названию, тряпичная кукла на столе новгородском, его слово ничего не значит, взять или выпросить у него нечего…
– Ты тоже пей, – велел Владимир однажды, когда они остались одни. – Что глазами лупаешь? Пей, да ума не пропивай. Пей да слушай. Что у трезвого на уме, у пьяного – на языке. Здесь мне любой может резать правду-матку, хоть вроде бы спьяну, хоть нарочито. Это не пиры, понял?
– А… что?
– Пир – это для дураков. А мы с тобой и на пиру – на поле бранном. Это не пир, а военный совет. Я всех слушаю, и ты слушай. Здесь не только языки развязываются, но и рыла их свинячьи по-другому смотрятся. Ты заметил, что здесь спорят без опаски, свои резоны ставят поперек, дерзят? Я не случайно прихожу сюда в простой рубахе!.. Здесь я не князь, а такой же витязь, который с ними на равных обсуждает, как жить дальше.
Тавр кивнул, глаза его странно блеснули. Знал ли юный князь новгородский, что такие же пиры задавал римский Цезарь, где называл себя первым среди равных, а потом и Артур британский, что даже стол велел соорудить круглым, чтобы все рыцари, допущенные на пир, чувствовали себя равными с королем? И тот и другой остро нуждались в поддержке, ибо Цезарь захватил власть хитростью и силой, став величайшим императором, как и король Артур, которому пришлось брать трон мечом, а затем отстаивать всю жизнь. Правда, оба пали от острых ножей убийц, но пожить и оставить след в песнях успели…
– Спасибо, княже, – сказал он, скаля зубы. В его серых глазах было уважение. – Теперь я понимаю, зачем был выструган Круглый стол на самом деле…
– Какой стол?
– Как-нибудь расскажу, – пообещал Тавр. – Если у нас будет свободное время.
– Свободное, – засмеялся Владимир, но горечи в его словах не было, – разве что в могиле… Да и зачем свободное время, если мы не дураки и не лодыри?
Он огляделся по сторонам. Они были только вдвоем в горнице, гридни унесли столы вниз. Тавр чувствовал напряжение, князь был словно стянут тугими веревками.
– Ладно, – сказал Владимир вдруг. – Чего ходить вокруг да около… Я давно приметил тебя, сын боярский. Не прост, хотя простецким рядишься. Пьешь мало, но пьяным прикидываешься… Больше слушаешь, чем говоришь. Понравиться умеешь, влезть в душу могешь… Даже ворога окрутишь, тот и не опомнится.
Тавр стоял, побледнев. Владимир с усмешкой рассматривал его. У Тавра появилось ощущение, что князь, хоть много моложе, видит его насквозь, как видел в свое время дед, бывший волхвом.
– Ну… – только и сказал он в растерянности.
– Вот что, Тавр, – сказал Владимир медленно, давая словам падать как удары молота на наковальню, – согласен служить мне?
– Я и так служу тебе, княже!
Владимир отмахнулся:
– Тавр, теперь понимай меня с полуслова, как умеешь понимать других. Если говорю: служить мне, то именно мне. Остальные и знать не должны о твоей особой службе. Понятно?
Тавр стоял молча. Предложение Владимира было опасным. Сам князь едва держится на столе новгородцев, просто непонятно, как сумел его заполучить, может и свалиться в любой день. А с ним полетит и его голова.
Владимир кивнул понимающе:
– Подумай. Не спеши. Если не хочешь, то забудем разговор. Живи спокойно. И я забуду.
Тавр поднял голову, их глаза встретились и сомкнулись. Несколько мгновений смотрели друг на друга.
– Принимаю, – ответил Тавр наконец. – А что мне терять? Я ведь не живу… а смотрю, как живут. Да и чую в тебе силу. И ты не прост, каким стараешься казаться. Я буду служить тебе… хотя тем самым сую голову в петлю.
– Будем висеть вместе… боярин!
Да, он пожаловал Тавра званием боярина. Как Святослав, назначая Добрыню посадником новгородским, дал боярство за долгую честную службу. Не всякий сын боярский становился боярином, как не все даже в старшей дружине были боярами. И Тавр, хоть слово Владимира пока что мало весило, был польщен.
Когда Добрыня вернулся, Владимир напросился в новый объезд по своим владениям. И снова Добрыня понял по-своему: уже перепробовал все вина, всех молодых челядниц познал, тянет на новенькое. Тут сам еле сдерживаешься, чтобы не грести под себя всех встречных девок: мужская плоть требует насыщения, но и дел невпроворот. Сейчас потеряешь день, завтра окажется потерянным год. А кто теряет год, тот теряет жизнь.
«Сейчас потеряю час, – думал Владимир, глядя в спину Добрыни, – завтра потеряю день». А что такое день в короткой жизни? Вон Добрыня, богатырь и умом быстр, терял дни, потому в свои тридцать лет, а это уже почти старость, все так же на побегушках у великого князя!..
И даже в быстрой скачке, пригибаясь под быстро проносящимися над головой суковатыми ветвями, шептал, закрепляя в памяти, имена знатных бояр, их жен и детей – в разговоре сгодится любая мелочь, прозвища именитых купцов, старейшин торговых рядов, старост кварталов Ляшского, Жидовского, Чешского, Немецкого…
На пятый день пути дружина сбилась с дороги. Лес был дремучий, а тропинки, пробитые человеком, незаметно перешли в звериные тропы. Трижды выходили по следам кабаньих стад к водопою, стреляли молодых подсвинков на ужин и поили коней, но Добрыня ярился: не за тем ехали!
Еще два дня проплутали, потом наткнулись на весь, настолько затерянную в дремучем лесу, что и наречье там было древлянское не древлянское, вятическое не вятическое, а уже свое, обособленное. Когда-то в дальнее время, гадали дружинники, мужику с бабой удалось убежать в лес, спасаясь от какой-то беды, там выжили, развели детей, те пошли плодиться, хоть большая часть и гибла от голода и холода… И вот уже новое племя, что смотрит дико, живет в землянках-берлогах, сами похожи на отощавших медведей, топят по-черному, моются тоже по-черному все вместе: мужики, бабы и дети, спят вперемешку. Голая худоребрая детвора возится под полатями вперемешку с козами, свиньями и собаками. От чужаков забиваются в темноту, оттуда зыркают глазенками, как лесные зверьки…
Они не верили, что в лесу есть еще веси, где живут люди. Не верили, что лес – еще не весь свет, что за ним есть свободное от деревьев место, очень большое, где обитает великое множество народу…
Добрыня собрать с них ничего не собрал, но велел к первому снегу наготовить лисьих и горностаевых шкур. А ежели не наготовят, то с ними будет вот что…
Он выбрал немощного старика, дети вот-вот отвезут подальше в лес на смерть, свирепо взмахнул мечом. Голова старца покатилась по утоптанной земле. Люди смотрели тупо, еще не понимая. Добрыня погрозил кулаком, повторил:
– Не наготовите – всех порублю вот так! И детей ваших.
Когда их берлоги остались позади, Владимир зябко передернул плечами:
– Как они так живут?
– А что? Человек может жить по-всякому.
– Может, – согласился Владимир, вспомнив свою жизнь золушника, а перед глазами встало великолепие палат дворца базилевса, как воочию увидел маленькую принцессу, роскошь ее одежд. – Но как жить, если видел жизнь лучше?
– Они ж не видели, – сказал Добрыня резонно.
– Да, они нет, – повторил он вслух.
Добрыня с усмешкой покосился на племянника:
– А если бы, то что? Разве челядь не зрит, как обедает князь, каких девок в постель тащит? Но так богами заведено, что есть князья, а есть рабы.
Владимир не стал напоминать про Фому Славянина, Юстина, Юстиниана и прочих, что родились рабами, а умерли императорами. Добрыня противоречит сам себе. Боги установили иное: есть слабые, а есть сильные. Слабые сидят да сопят в тряпочки, а сильные берут все. Слабым же бросают от щедрот крохи со своего стола.
Очертания рек и границ земель начали расплываться перед глазами. Он тряхнул головой, поднялся. Спина заныла, а когда потянулся, суставы затрещали. Он зевнул сладко, с завыванием. Воздух был теплый и неподвижный, как парное молоко. За окнами была глухая ночь.
Услышав во дворе шаги, он выглянул в окно. Через двор воровато перебегала молодая девка. Платок сбился набок, темные волосы были распущены.
– Эй, – крикнул он негромко, – остановись! Ты кто?
Девка испуганно вскинула голову, обмерла, заприметив князя. Тот смотрел из окна второго поверха грозно и требовательно.
– Я? Меня? Я из челядной, дочь истопника…
Владимир велел:
– Дуй сюда ко мне.
– Зачем? – ахнула девка.
– Ясно зачем, – буркнул он раздраженно.
Она повесила голову, но покорно свернула к крыльцу. Владимир прошелся по комнате, разминая застывшее за часы сидения за столом тело. Дверь отворилась, девка появилась испуганная, растерянная, дрожащая. Ей было не больше семнадцати весен, полногрудая, тонкая в поясе, но с широкими бедрами. Губы ее потемнели и распухли, то ли от жгучих поцелуев, то ли даже от укусов. Платье на груди измято, а на коленях измазано в зелени, словно долго ерзала по траве коленями.
– Иди сюда, – велел он.
Ее тело теплое и мягкое. Едва начал щупать, как пробудилась мужская сила. В нетерпении он задрал ей подол, развернул к себе задом. Ягодицы ее белые и мягкие, еще с красными следами от грубых пальцев. Он грубо ухватил их, так что она охнула, рывком подгреб к себе, чувствуя наслаждение и от своей животной мощи, и от полной власти над девкой, которую только что мял кто-то другой.
Она теплая и покорная, молча упиралась в край ложа, ждала. Когда он шумно выдохнул, освободился, она суетливо оправила подол, повернулась и стояла перед ним, опустив глаза.
– Как зовут? – спросил он.
– Осинка…
Ее голос такой же теплый и мягкий, как и ее тело. Он кивнул:
– Сладкая ты девка, Осинка… Беги, скоро утро.
Она бочком скользнула к двери, исчезла. Даже шагов не слышно было, и он, чувствуя некоторое просветление в голове, изгнав на время из плоти зверя, вернулся к столу и сразу увидел, как лучше наладить вывоз полюдья из земель ижоры и халутичей: не через замерзшие реки, а прямиком через озеро…
Для памяти он вырезал на дощечке прозвища вождей, кои могут поспособствовать, услышал, как без скрипа открылась дверь. На пороге в свете факелов появился немолодой человек в одеянии волхва. Сизые шрамы так стянули кожу, что лицо волхва было мертвенной маской. За его спиной маячила могучая фигура Звенька.
Сильно припадая на правую ногу, чем напомнил Сувора, волхв пошел к столу, за которым трудился Владимир. Владимир насторожился. Тяжелый взгляд этого волхва в последнее время он замечал все чаще. Тот присматривается к нему, словно мясник к бычку, оценивая упитанность. Сейчас обеими руками волхв держал большую глиняную чашку. Владимир уловил сильный незнакомый запах. Из чашки поднимался легкий парок.
– Княже, – сказал волхв еще издали, – у тебя силы на исходе.
Владимир ответил все так же настороженно:
– А что у тебя, одолень-трава? Или трава-сила?
Волхв, сильно качаясь набок, как только не расплескал по всей горнице, поставил чашку перед Владимиром. Запах пошел по всему помещению, щекотал ноздри. В нем была непривычность, но и какая-то бодрящая горечь.
Владимир заглянул в чашку, поморщился:
– Что за гадость?
Настойка была черная как деготь, которым смазывают втулки колес, чтобы не скрипели, да дверные петли. А вблизи пахла уже не бодряще, а настолько гадостно, что его перекривило, когда вообразил только, насколько горькая.
– Кава, – объяснил волхв терпеливо. – Выпей, сразу станет легче.
Владимир отрицательно качнул головой:
– Хмельная? Это для слабых духом, отче.
– Не хмель, – ответил волхв, не обидевшись. – Мы, волхвы, сразу начали присматриваться к тебе. Знаем и то, что ты и в Киеве склонность к ведовству имел, старых людей об истине спрашивал. Хмельную бы тебе не предложили! Это вроде нашенской силы-травы, что росла в здешних лесах, а потом вся вывелась. А в чужих краях трава стала кустами… а то и деревьями. Говорят, ее первыми нашли козы. Когда возвращались с пастбища, то срывали на ходу листья с кавы-дерева, жевали, начинали подпрыгивать, веселиться. Пастухи попробовали, им тоже стало легче таскать ноги… А много позже додумались срывать зерна, обжаривать и толочь, а потом заваривать вместо травяного настоя.
– Кава, – повторил Владимир. Он покачал головой. – Чудите, волхвы… Если там козы умнее пастухов, то разве вы, волхвы, можете чему-то у них научиться?
– Княже, нет народов настолько диких, чтобы даже самые мудрые не могли у них чему-то научиться.
– Гм… Сам узнал или в мудрых книгах вычитал? А я вот все на своих боках. Почему человек так устроен, что учится только на своих ошибках?
– Не всегда. Иной раз даже у козы.
Владимир осторожно отхлебнул глоток. Кава была горячей, но горечь смягчалась добавленным медом. Странно, в этой горечи было что-то отвратительно-притягательное.
– Горько…
– Горьким лечат, сладким калечат.
Он допил, прислушался к ощущениям. Сердце начало стучать сильнее, кровь горячим потоком пошла по измученному телу. В голове прояснилось.
– Ну как? – спросил волхв.
– Дикие племена, говоришь? Да, стыдно брать чужие вещи, чужие табуны, чужие земли… хотя берем, заветы богов рушим… Но не стыдно брать чужую мысль, ибо огонь не гаснет, если от него зажигаются другие!
Волхв переспросил осторожно:
– Ты о чем, княже?
– Помогает твоя настойка, благослови ее боги!.. И не так уж дик тот народ, если на нашей земле сила-трава вовсе захирела, а на той – боги позволили вымахать ей до куста. А если не врешь, то и с дерево! Чем-то они лучше нас. Готовь эту настойку, нет, отвар, каждый вечер…
Волхв сказал предостерегающе:
– Когда сила играет, сна не жди! А утром будешь как мокрая курица.
– Да? Жаль… Я думал, сила из травы берется, а она меня самого, как дрова в печи, сжигает? Ладно, жизнь все одно коротка. Готовь утром, днем и вечером. Или научи моего отрока.
Волхв покачал головой:
– Зерна дорогие. За морем телушка – полушка, да куна – перевоз. Ромейские купцы продают, плату берут куницами да чернобурками!
– Может, в самом деле такие дорогие?
– Наши калики ходят за моря, знают те края как свои пять пальцев. Эти зерна растут на деревьях, никому не потребные… Рви кто хошь и сколько хошь.
Владимир встал, с наслаждением потянулся. Суставы сладко затрещали. Сердце стучало мощно, голова прояснилась.
– Дивны дела богов… Как будто не скакал всю ночь, не сидел днем за грамотами да картами! Своих купцов туда послать, что ли? Да новгородцы и в преисподнюю сыщут дорогу, ежели за гривну им пообещают две! А за три и в вирий взберутся… Тебя как кличут?
– Борисом. Я в бору родился, когда дула бора, наш северный ветер. Потому и назвали. Я тебе сам буду готовить каву. Что понадобится в деле… помимо ратного, только кликни!
Так Владимир обрел еще одного человека. Не слепо верного и преданного пса, как Звенько, не примкнувшего из дальнего расчета, как Тавр, а помогающего по каким-то тайным мотивам. Но дареному коню в зубы не смотрят. Тем более когда в конюшне пусто.
Глава 14
Новгород платил Киеву нелегкую дань, давал крепких молодых парней в княжескую дружину, отправлял отряды плотников, каменщиков, дикарщиков. Все это растворялось безвозвратно, но Владимир лишь стискивал зубы. Русь надо крепить общими усилиями. А что все силы в одной руке, так велено великим князем Святославом. Выживают лишь те, кто все по зову князя идут на врага, копают или строят, стоят заодно.
Дабы укрепить связи с новгородским боярством, он взял в жены дочь богатейшего Третьяка. Девка была смирная, робкая, он поселил ее в доме за две улицы от княжьего терема, дал челядь, велел блюсти верность и вскоре забыл. Затем взял второй женой роскошную красавицу, дочь старейшины Ляшского квартала, тем самым обеспечив себе поддержку ляхов и жителей окрестных улиц. К этой иногда заходил, благо лишь перейти в другой конец терема. Потом взял третью, ее тоже поселил в тереме, хоть и не на своей половине.
Он чувствовал свою растущую мощь, но тревожное предчувствие не покидало. И вот однажды утреннюю рань Новгорода взорвал бешеный конский топот.
По улице, распугивая прохожих, летел на взмыленном коне всадник. Конь шатался, всадник был серым от пыли и усталости. Струйки пота проложили дорожки по грязному лицу.
На полном скаку ворвался во двор княжеского терема, соскочил, упал на колени. Двое гридней подхватили под руки. Он с усилием поднялся, голос был едва слышным:
– К князю… важная весть…
На крыльце появился рослый молодой мужик в расстегнутой рубахе поверх кольчуги. Он ковырялся в зубах, смотрел с неудовольствием. День начался хорошо, а тут явно неприятности. Сказал сумрачно:
– Князь занят. Говори, я Звенько, княжий дружинник. Передам, коли что важное.
– Узнаете после князя, – сказал гонец пересохшим ртом. – Но не прежде!
Он с усилием пошел на крыльцо, отпихнул дружинника с дороги. Тот переменился в лице, кивнул гридням. Те взялись за топоры, пошли следом.
Владимир был в горнице. На столе и на лавках лежали карты. Отрок прилежно расстилал их, придавливал по краям тяжелыми ножами с золотыми ручками. Владимир оглянулся на топот, гонец вошел в сопровождении вооруженной стражи.
Мгновение они смотрели друг другу в глаза. Владимир махнул рукой:
– Все свободны. Я буду с ним говорить один.
Звенько, войдя следом, проронил с некоторым беспокойством:
– Княже, снять бы с него оружие.
– Я тоже не гол, – коротко сказал Владимир.
Звенько с деланым безразличием пожал плечами, дал стражам знак отступить. Владимир увидел в этом невысказанную похвалу его воинскому умению. Другого князя Звенько не оставил бы наедине с рослым и быстрым с виду человеком в запыленной одежде.
Гонец притворил за ними дверь. Владимир поманил пальцем, провел в маленькую глухую комнатку, без окон. Сам зажег светильник, кивнул:
– Сядь, на тебе лица нет. Говори.
– Княже, – сказал гонец. – Тебе тоже лучше сперва сесть… В Киеве получены вести из ромейских земель. Нет больше Святослава.
Владимир, что уже садился, подскочил. Глаза стали дикими.
– Как? Где?
– Возвращаясь из ромейских земель, шел по Днепру. Войско оставил позади, а сам с малой дружиной торопился в Киев. В самом узком месте, где стрела перелетает с берега на берег, попал в засаду… Печенеги! Раньше их Хазарский каганат закрывал от нас, а когда Святослав там все порушил… Словом, сеча была великая, наш Святослав погиб. Говорят, печенежский каган Куря тут же велел сделать из черепа Святослава чашу, оковать ее златом и заявил, что отныне будет пить только из нее…
Владимир сел, кулаки были сжаты, лицо стало каменным. Так бывало лишь в часы, когда мысль работала как рабыня под ударами бича, когда он был весь в себе и не мог позволить выказать истинные чувства.
– Ты, – сказал он медленно, видно было, что мысли его в другом месте, – помойся, поешь и отдыхай. Плохо, что открылся, но весть того стоила… Отныне ты – беглый холоп, убивший кого-то и где-то… Сам придумаешь. Прибежал ко мне, просясь в дружину. Все знают, что я охотно беру изгоев. Воин ты отменный, потому я и взял. Кто усомнится – докажешь в поединке.
Гонец усмехнулся замученно, вышел, зацепившись за косяк. Владимир минуту сидел молча, потом вышел в горницу, крикнул зычно:
– Тавра ко мне!
Заглянул гридень, огляделся:
– Боярина Тавра к князю новгородскому!
За его спиной послышалось многократно повторяемое: «Тавра к князю…», «Тавра к князю…» Владимир поморщился, вернулся в тайную комнатку.
Тавр, для всех – молодой боярин и друг по застольям, а для Владимира – тайный управитель делами скрытого дозора, прибежал встревоженный:
– Я здесь, княже.
– Сядь, не торчи у порога, – бросил Владимир отрывисто. – И дверь прикрой плотнее. Князь Святослав погиб.
Тавр раскрыл рот, но тут же губы с плямканьем захлопнулись. Мгновение смотрел на Владимира в упор, сказал отрывисто:
– Великокняжеский стол… Киевское княжество!
Владимир кивнул:
– Понимаешь. Великого князя нет. Осталось трое просто князей. Равных.
Тавр покачал головой:
– Эх, если бы не твое происхождение… И то диво, что ты получил Новгород!
Он отвел взгляд, а Владимир жестко усмехнулся. Как ему удалось получить Новгород, это умрет с ним. Правда, теперь хранить стыдную тайну вроде бы нет нужды, но осторожность никому не мешает, а попусту похваляться ловкостью – удел слабых.
– Три князя на Руси, – сказал он невесело. – А Русь не что-то особенное… И здесь, как везде, начнется собачья свара. Ярополк захочет подмять нас с Олегом под свою руку. Олег встанет на дыбки, да и мне не больно хочется снова в холопья… Готовь гонца к Олегу. Надо, чтобы он узнал о гибели Святослава от меня первым.
– Олег на брата не пойдет, – сказал Тавр предостерегающе. – Хоть и не любит, а не пойдет. Князья на Руси – это не пьяные мужики, что дерутся прилюдно. Сор из избы не выносят. Да и хорошо Олегу в древлянской земле. Города у него богатые, с Искоростенем за славу спорят. Олег завел себе жен и наложниц, сыт и пьян, уже забыл, за какой конец меча браться…
– О Святославе пусть узнает от меня, – повторил Владимир. – Любви ко мне не прибавится, верно. Зато задумается, почему Ярополк скрывает смерть отца. Не потому ли, чтобы успеть собрать больше сил, застать врасплох? Не забудь невзначай упомянуть, что к нам эта весть дошла давно!
Отпустив Тавра, он снова призвал гонца, расспрашивал долго и придирчиво. Тот пересказал, что ромейский император Цимихсий, одолев Святослава в страшной битве, но все равно убоявшись его, подкупил за большие деньги печенегов, дабы те тайно напали на дружину Святослава. Так погиб Святослав на обратном пути домой…
– Отдыхай до утра, – велел он. – Я буду думать.
Выпив кавы, он задумался. Гонец пересказал то, о чем говорили в Киеве. А говорили то, что услышали из княжьего терема. Пересказывали, нимало не задумываясь, что слова и дела расходятся. До чего же не любят думать, шевелить мозгами! Или это так трудно? Разве не странно, что Иоанн Цимихсий, одержав убедительную победу, заключив мир и снабдив дружину Святослава продовольствием и лекарствами, зачем-то тратил огромные деньги на подкуп печенегов? Да Цимихсий с его тремястами боевыми кораблями с легкостью бы сжег греческим огнем израненные и потрепанные ладьи с русскими дружинниками, не потеряв ни единого человека и не истратив ни одной монеты!
А печенеги, оставив важнейшую для себя заготовку сена, кочевья, без которых у них нет жизни, с осени до весны караулили возвращение Святослава? Но он мог вернуться через земли тиверцев или другие земли, куда печенегам не пройти, и все усилия степняков пошли бы коту под хвост. Нет, кочевники точно знали, как будет возвращаться дружина Святослава. И знали, где устроить засаду. А направили их в самом деле злейшие враги Святослава!
У стен Доростола, защищая отход русских войск Святослава, пал герой похода, друг и соратник князя, Икмор. Разъяренный поражением Святослав, как тут же стало известно на Руси, велел казнить попов, что шли с его войском, напутствуя дружинников-христиан, добил раненых христиан своего войска, сжег церкви в Доростоле и поклялся, что, вернувшись в Киев, сделает там то же самое. Именно этим он и подписал себе смертельный приговор!
Его злейшие враги сидят не в Царьграде, не в Степи и даже не в Саркеле, а… в Киеве. Эти враги тесной толпой окружали княгиню Ольгу, после ее смерти сгрудились вокруг Ярополка. Это их разгневанный князь обещал истребить по возвращении, детей отдать в жертву богам, а церкви сжечь! Их – самых богатых и влиятельных, самых сильных и умелых, на чьих плечах держится любое княжество, королевство!
Воевода Свенельд и уцелевшие христиане бежали от Святослава. Печенеги их пропустили и даже помогли добраться до Киева, ибо с Русью не враждовали, а были в союзе. Киевская верхушка, в ужасе, что вот-вот явится разъяренный князь-язычник со своим озверевшим от неудачи войском, сделала все, чтобы князь не дошел до Киева. Это они, за неимением своего войска, бросили на Святослава печенегов. Хан Куря всего лишь выполнил свои обязанности союзника Киевской Руси!
Киевские князья всегда старались не выносить сор из избы. Когда Святослав силой вырвал власть у матери, народу это преподнесли как добровольное отречение престарелой княгини Ольги в пользу подросшего сына. Сейчас же убийство великого князя вместе с его дружиной свернули на подлых ромеев. Тем за дальностью отпираться трудно. Ромеи – подлые, печенеги – продажные и ненадежные, простой народ в это поверит охотно, а доводы разума от него отскакивают, как от стенки горох. Простой люд руководствуется не умом, а чувствами, как козы, коровы, волки или птахи.
«Но я не волк и не овца, – подумал он зло. – Я сам из тех, кто за овечьей шкурой прячет свои волчьи зубы!»
До поры.
Не так велики расстояния меж городами славян, сколько недоступными те города делают непроходимые леса да болота. Вся Европа – сплошной и дикий лес, а отвоеванные у него распаханные поля не больше листков клевера, прилипших на спину гигантского тура.
К тому же каждую весну любые дороги в половодье размывает, на месте тверди образовываются болота, приходится дороги мостить бревнами заново, перебрасывать мостки… Намного проще посадить на ладьи рать и уйти в морской набег на далекий Царьград, еще более далекую Севилью, чем дойти до отказавшегося платить дань соседа, окопавшегося в лесной глуши!
Ярополк отписал грамоту осенью, но гонец прибыл в Новгород, когда мороз укрепил землю. По дороге он пересел с коня сперва на телегу, потом и вовсе на сани. Морозы крепчали, а когда сани въехали в ворота Новгорода, гонец лежал поверх вороха медвежьих шкур в тяжелой дохе на собачьем меху, лихую тройку сменила пара крепких коней, запряженных необычно, переняли у свеев или немцев, их в Новгороде полно, как гуси, ходят стаями, гогочут по-своему, языка не понимают, только мычат и руками разводят, за что их и прозвали немцами, хотя среди них тоже много своих языков и разных кровей.
Гонец отдыхать не стал, прямо заявился в княжий терем. Гридни пытались остановить, но не могли: гонец проламывал дорогу грозным именем великого князя. Владимир разъярился: Ярополк еще не был великим, задаст трусливой страже… Выручил Звенько. Прикинулся тупым и нерасторопным, чуть слюни не пустил, выказывая себя дурнем, задержал, а Владимир тем временем выбрался через окно, пробежал, пригибаясь под окнами, на задний двор, вывел коня и ускакал созывать бояр и знатных мужей.
На улице поймал еще своих дружинников, погнал искать Тавра, велел привезти верховного волхва Новгорода, а также собрать и доставить в терем старейшин купеческих кварталов.
Лишь к полудню он осторожно выехал на улочку, ведущую к терему. Выглянул, ощутил себя чуть увереннее. Перед воротами уже с десяток нарядных повозок, а со двора доносится ржание коней. Заметно суетится челядь, голоса звучат громкие, возбужденные.
Гридень у ворот вытаращил глаза:
– Княже!.. А мы думали… мы думали, ты в тереме!..
– Индюк думал, – буркнул Владимир. – Так-то охраняете? Ладно, сегодня я ночевал в другом месте. У одной из своих новых жен. Или не своих, не упомню. Но с завтрашнего дня чтоб комар мимо не пролетел!
Гридень бросился отворять ворота, на ходу выкрикивая:
– Княже!.. Там к тебе посол от великого князя!
– От какого великого? – спросил Владимир злобно.
Гридень ощутил, что ляпнул что-то не то, но не понял, где допустил промашку, заорал преданно:
– Да от Ярополка, от кого ж исчо? Не от Мечислава же польского! Сказывают, грамоту тебе привез!
– Ладно, – сказал Владимир, стиснув зубы. Что сердиться на дурака, если все считают, что великокняжеский стол по праву принадлежит Ярополку. – А что за народ здесь? Почему понаехали?
Страж пожал плечами:
– А хрен их знает. Видать, как-то дознались о приезде гонца. Вот и набежали. Народ больно любопытный! И чо им не спится? А исчо бояре…
Владимир въехал во двор, потеснив стража конем. У коновязи два десятка коней, во дворе три повозки: Кресана, Стойгнева и Годовита. Кресана пропустили во двор из почтения к старости, Годовита на днях конь выбросил прямо на угол колоды, а Стойгнева пропускали всегда, к нему у Владимира было особое благоволение. Ближе к крыльцу Владимир узнал статного жеребца Звенька и смирную, но резвую кобылу Тавра.
Отрок выбежал навстречу, ухватил коня за узду. Владимир неспешно направился в терем. Добрыню бы сюда, подумал тоскливо. Как недостает крепкого плеча могучего дяди! Но Добрыня неустанно объезжает рубежи земель новгородских, крепит мир с окрестными племенами, кого-то склоняет на свою сторону, кого-то примучивает…
В главной палате бояре и старейшины купцов стояли кучками, переговаривались вполголоса, бросали острые взгляды по сторонам. Чувствовалась близкая гроза.
Тавр от порога бросился навстречу. Лицо его было белым как мел.
– Уже знаешь, что он хочет?
– Знаю.
– И что ответишь?
– А ты бы сунул голову в петлю сам?
Тавр отступил, давая дорогу. Дыхание перехватило, когда переступил порог в главную палату, а сердце забилось часто-часто, нагнетая тяжелую кровь в голову и кулаки. Пальцы непроизвольно поползли к поясу, где висел короткий меч.
На его княжеском столе, или троне, как именовали северные соседи, сидел огромный… Варяжко! Он за эти годы, со дня той позорной для Владимира драки, чудовищно раздался в плечах, грудь была широка, а кольчуга из толстых булатных колец так плотно облегала налитое силой тело, что казалась рыбьей чешуей. Поверх кольчуги были приклепаны широкие булатные пластинки, широкий пояс был в сплошных железных бляхах. Варяжко и раньше весил больше, чем двое мужиков, но в доспехе перетянул бы и троих.
В мертвом молчании все перестали двигаться, лишь глазами следили за приближающимся князем. Владимир вышел на середину палаты. С огромным усилием он заставил голос прозвучать ровно:
– Кто ты, осмелившийся сесть на княжеский стол?
Варяжко оглядел его нагло с головы до ног. Ответил неспешно, с рассчитанным оскорблением:
– Где здесь княжеский стол?
Ему никто не ответил, а Владимир очень медленно опустил ладонь на рукоять меча. Их взгляды скрестились, глаза Варяжко смеялись. Он тоже положил огромную ладонь на свой меч, длинный и широкий. В глазах был триумф, он знал свою мощь. И помнил, как однажды уже заставил этого сына рабыни наесться грязи.
Тавр сказал что-то коротко, и, оттеснив бояр, из коридора ворвались старшие дружинники. Опытные, вооруженные до зубов, они выставили копья и с двух сторон молча пошли на Варяжко. Тот сразу посерьезнел. Никакая чудовищная сила или умение не спасет от удара копьем между лопаток.
– Стойте!.. – рявкнул он свирепо. – На кого руку подняли? Я воевода великого князя Ярополка!.. А в Новгороде отныне нет князя. Будет посадник, как и всегда. И нет здесь, как бы кому-то ни хотелось… княжеского стола!
Дружинники остановились сами, без команды Тавра. Тот сам пребывал в нерешительности, оглянулся на Владимира. Тот исподлобья смотрел на Варяжко:
– Потому-то ты, как свинья, и залез в отсутствие хозяина на его место? Как бы его ни назвать, хоть простой лавкой?
Среди бояр и гостей послышался сдержанный говор. По тону Варяжко понял, что новгородец этот спор выиграл. А он просчитался, думая, что байстрюка презирают и в Новгороде, где уже немало родовитых бояр и вообще знатных родов.
С неохотой он слез с трона:
– Ладно, это шутка. Вот наказ великого князя: Владимиру отбыть в Киев, там ему найдется работа. А терем и все здесь передать княжескому посаднику… которым Ярополк назначил меня!
В молчании Владимир смотрел в смеющиеся глаза своего врага. Слышно было, как во дворе фыркали кони, высоко в небе громко прокричала ворона. А в палате было тихо, как в могиле.
– Найдет работу, – повторил Владимир тихо, но в этой тиши услышали все. – Да, я покорился бы воле брата, если бы он объединил силы Руси, повел бы на брань супротив врагов… Я стал бы у него тысяцким, сотником, десятником… Даже пешим ратником пошел бы за Русь, за земли наши! Я с гордостью шел бы под его знаменами, если бы он… шел дорогой отца!
Его слушали внимательно как свои, так и Варяжко. Юный князь новгородский говорил взволнованно, чистым ясным голосом, глаза блестели, а руки прижимал к сердцу.
– Но… – продолжил он другим голосом, – брат мой проводит время в прелюбодеяниях и разгулах. Он позорно замирился с печенегами, убившими нашего отца, великого Святослава!.. Хуже того, он отдал им исконно русские земли по Днепру, в самом сердце земли Русской!.. Можно ли такое терпеть? Но Ярополк не только терпит, но и принимает послов ромейских, что натравили печенегов на войско отца нашего, что уплатили златом за убийство князя Святослава!.. Он пьет и прелюбодействует, что приличествует только рабу, попавшему на волю. Это недостойно князя. Потому я признаю его великим князем всей Руси… но не принимаю единственным князем!
Варяжко напрягся, пальцы стиснули рукоять меча. Владимир закончил:
– Я не ищу брани с братом. Я буду исправно присылать ему дань, как платил прежде великому князю Святославу. Буду давать ему людей в войско, строить для него корабли, посылать для него обозы. Он – великий князь Руси, я – малый князь Новгорода. На том и передай.
Варяжко смотрел в упор. Глаза метали молнии.
– Ты знаешь, что отныне ты, подлый раб, преступник и надлежишь наказанию?
Среди бояр послышался грозный ропот. Посланец великого князя в который раз оскорбляет их князя. А кем тогда считает их, вольных новгородцев, если подлый раб у них князем?
– Так и передай, – повторил Владимир. – А за то, что ты вел себя недостойно послу, а как драчливый пес аль петух, то и честь тебе будет оказана как петуху… В смолу его! А затем в пух и перья!
Варяжко выхватил меч. Он был так страшен, что к нему не осмелились приблизиться. Выругавшись страшно, он бросился из палаты. Это была его ошибка: предусмотрительный Тавр велел захватить веревки, одну успели протянуть поперек. Варяжко зацепился, грохнулся с разбегу всем громадным телом. Терем содрогнулся от удара.
Тут же угостили обухом по голове, скрутили руки и ноги, потащили во двор. Там, под гогот мужиков и смешки девок, его раздели догола, щедро вымазали горячей смолой, затем вываляли в перьях. Кипящая смола накрепко приварилась к телу, отодрать можно только с мясом, а теперь еще и перья облепили так, что грозный воевода в самом деле походил на огромного петуха.
С веселыми воплями, радуясь неожиданному развлечению, молодые мужики, накрепко связав воеводе руки за спиной, посадили на две толстые жерди, связали ноги и вытащили на мороз.
– Кукарекни, воевода!
– Ты в перьях, тебе тепло…
– Слушай, а петухом тебе краше!
– А кур топтать могешь?
День был на редкость ясный, солнечный. На улице поднялся веселый крик, народ сбегался навстречу, хохотал, тыкал пальцами. В Варяжко полетели снежки, сосульки. Когда он зарычал и попытался вырваться, его шарахнули палицей. К тому же по бокам бежали гридни, острые копья смотрели в покрытые перьями бока. Кое-где перья уже закрасило кровью. И Варяжко видел по быстро звереющим лицам, что им только дай повод, чтобы заточенное острие вошло поглубже и достало сердце.
Он молчал, люто скрипел зубами. Перья лезли и в рот, смолой мазали густо, лицо тоже было покрыто перьями так плотно, что узнать его было бы трудно. Горланы бежали впереди, орали:
– Воеводу Ярополка прут!.. Умора!
– Гляньте на Варяжко! Бросил воеводство, к нам петухом идет!
– Оборотня пымали!.. Оборотня пымали!
– Кто купит петушка на палочке?
Распевая непристойные песни, его понесли через весь город. Парни и девки швыряли комья снега, легкий ветерок румянил им щеки. Снег под сапожками скрипел весело. Варяжко сперва не ощущал холода, толстый слой перьев укрывал даже от ветра, затем мороз пробрался под кожу, застудил тело. Ярость выветрилась с холодом, он чувствовал только тупое оцепенение.
– Я расплачусь, – прошептал он твердыми, как деревяшки, губами. – На палю всех… За ребра на крюки вдоль всей городской стены… А из этого… что князем себя… кишки буду вытаскивать медленно-медленно…
Он начал представлять, каким изощренным мукам подвергнет своего врага, сердце застучало чаще. Он ощутил, что кровь начала разогреваться, будто он уже стоит возле багровых углей, где раскаляются крючья, щипцы, прутья, иглы…
И только эти горячечные мысли не дали ему замерзнуть, ибо раззадорившиеся новгородцы таскали его по всем улицам, сменяя плечи, до самого вечера.
Глава 15
Владимир поклонился боярам, поблагодарил за поддержку, хотя те за весь спор с посланцем Ярополка молчали и только сопели, затем сослался на неотложные дела, кивнул Тавру.
Оставив главную палату, они уединились в небольшой комнатке Владимира. Там было тесно от книг и карт, сильно пахло кавой, но для тайных переговоров место было как никуда лучше.
– Ну, что скажешь?
– Ты говорил хорошо, – одобрил Тавр. – Меня чуть слеза не прошибла!.. Еще чуть, сам бы поверил, что ты такой.
– Политика, – отмахнулся Владимир. – Я это слово услышал в Царьграде. Оно значит много! Видел, как бояре переменились?
– Да, сперва были на его стороне, – признался Тавр. – Меня холодный пот прошиб. Я уже чувствовал острый крюк под ребрами… Но ты озлобил Ярополка!.. Думаешь, сойдет с рук?
– Я озлобил его еще в детстве, – ответил Владимир с горечью. – Что бы я ни ответил Варяжко, в Киеве меня бы все равно скарали на горло. А так я хоть часть бояр привлек на свою сторону дерзостью да удалью. Семь бед – один ответ!
– Тебе не тягаться с Ярополком, – осторожно напомнил Тавр. – При нем все великокняжеское войско! Там и печенеги, верные псы Ярополка. И деньги ромеев. И подвластные племена. Он прихлопнет весь Новгород, как муху, и не заметит того!
Владимир покачал головой:
– Зимой не воюют, а весной долго ждать, пока дороги подсохнут. К тому же придется мосты мостить, гати класть, иначе войску в наш болотистый край не пройти. А мы к тому времени что-то да придумаем.
Тавр с сомнением покачал головой:
– Придумаем ли?
Улыбка Владимира была недоброй.
– Когда мы взяли посадника прямо в постели, я принял меры, чтобы точно так же не взяли меня! Как видишь, сработало.
Остаток зимы прошел в тревожном ожидании. Владимир усиленно собирал вокруг себя людей незнатных, вызывая ропот, раздавал деньги, земли. Особенно привлекал тех, кто когда-то в молодости решился стащить задницу с печи, побывал в дальних странах.
Из Царьграда и подвластных ему городов, из сел империи возвращались единицы из тех сотен тысяч славян и тысяч русов, кто в юности ушел искать славы и денег в блистательную империю ромеев. Большинство гибло, счастливчики приживались, иные поднимались до невообразимых высот, а богатств скапливали столько, что на всей Руси вместе с Польшей и Чехией не собрать, но бывали неустроенные чудаки, что и там не находили места, возвращались – кто под старость, кто в расцвете годов.
Именно эти немногие удивляли, поражали, будоражили умы, заставляли задумываться суровых, но простодушных славян. Они приносили на Русь рассказы про ослепительные города, дворцы, сады, про богатства и чужие красоты, приносили с собой привычку сладко спать и красиво есть, знание поэзии, религии, отточенную в спорах речь, виртуозное владение словом. Все это поражало, ошеломляло, но редко кого отталкивало. Славянин все способен переварить, усвоить, растворить в себе, обратить в пользу. А что не в силах, то отскакивает от его крепкого лба как горох от стенки, не причиняя вреда.
Возвращались зодчие, умельцы, виртуозы красной лжи, художники и поэты, но Владимира интересовали только знатоки военного дела. Он видел, что не один так делает. Везде на Руси вернувшихся сперва спрашивали, что могут сделать для укрепления дружины, а уж потом какие там храмы и обычаи… Да и вряд ли только на Руси.
Объезжая села и веси, старался подружиться с местными вождями, войтами, старостами. Ему, как князю, на ночь приводили девственниц, тем самым улучшали свое племя. Обычно утром он покидал ложе без сожаления, уже на пороге забывал милые личики. Лишь двух нарек женами, да и то не за красу или кротость, а дабы скрепить узы с вождями племен.
Один и другой владели быстро растущими городами на реке, при случае могли загородить ее челнами, на берегах выставить лучников. Родство с князем льстило лесным вождям. Тот был первым и единственным князем, которого видели в этом дремучем краю.
Добрыня посмеивался:
– Племя улучшают? Ишь, нашли племенного бычка… Может, оставить тебя здесь с бабами? Глядишь, лет через сто новое племя выйдет из леса, а через двести – новый народ!
Он хохотал, но Владимир чуял в словах могучего воина и затаенную угрозу. Истинная власть пока что в его руках, но княжич матереет не по дням, а по часам. Девок под себя грести и дурень может, этот же не распускает пояс ни на миг, спит в седле, а с девками управляется, не снимая сапог. Пока что не вмешивается в его дела, на все дает добро, но его, Добрыню, показным смирением и охоткой к пирам да потехам не обманешь…
Пришла весна, но о Ярополке слышно не было. А в начале лета пришла тревожная весть, что киевские войска вошли в древлянскую землю. Князь Олег вышел с дружиной навстречу, но был разбит, бежал, а в бегстве погиб и был завален трупами людей и коней.
Ярополк прилюдно горевал о погибшем родном брате, но в тот же день упразднил древлянскую землю как княжество. В стольном граде Искоростене отныне должен сидеть его управитель, а князя древлянам да не иметь больше!
Тавр ходил мрачнее тучи. Он разослал людей во все концы, те должны были упредить загодя о приближении войск. Новгород – не Искоростень, что под боком Киева. До Новгорода сперва должна пройти армия плотников, сбивая плоты на реках и болотах, замащивая трясины, разбирая завалы. Их увидят за сто верст, успеют приготовиться!
Однажды к Владимиру напросился на прием епископ. Он ехал в Киев из западных стран, задержался на недельку в Новограде, вызнавал, как распространяется вера Христа среди славян Киевской Руси.
Владимир велел гридням провести гостя в комнату, которую облюбовал для чтений и занятий. Там он поставил ложе, где ненадолго забывался коротким сном, иногда мял девок, не делая различия между боярскими дочерьми или простолюдинками. Епископ, худой и со строгим лицом, понравился, в глазах та же страсть, жажда большой работы, которую Владимир чуял в себе.
Епископ, в свою очередь, изумился, увидев вместо зала простую комнатку, а в ней вместо варварской роскоши – стопки манускриптов, рулоны карт, свитки, даже свертки бересты, на которой пишут местные жители.
Владимир с силой потер ладонями лицо, словно разгоняя застывшие на одном месте мысли, поднялся навстречу. Он так и не научился сидеть как личит князю, вставал в присутствии старших. Добрыня постоянно на это указывал, даже посмеивался, но пусть смеются, пусть. Зато в народе уже пошел слух о молодом князе, что завсегда вежлив со старшими, чтит мудрость, слушает советов.
– Кавы? – предложил Владимир.
– Что? – не понял епископ. Потянул носом, засмеялся: – А, и к вам добрался этот божественный напиток… Благодарствую. Честно говоря, не отказался бы. Если можно, конечно…
– Сувор! – крикнул Владимир. – Свари еще на две большие кружки!
Он видел, что епископ уже ощутил себя с ним легко и просто. Сел, сразу сообразив, что церемонии надо оставить для большой палаты, смотрит с любопытством. Одет в черное, но в лице жизни на троих, а в сухом теле чувствуется сила и жажда деятельности.
– Что привело к нам? – спросил Владимир.
Епископ покосился на манускрипты, все дивился, что варварский князь грамотен. В Европе почти все короли вместо подписи ставят крестики.
– Меня направили к великому князю… Ярополку. Миссия моя важна, мы везем книги, святые реликвии. С нами два десятка священников для храмов Киева и соседних городов.
– Неужто вера Христа так уж укрепилась? – не поверил Владимир.
Епископ усмехнулся:
– С гибелью неистового воителя Святослава многое поменялось. Его сын Ярополк принял послов от Его Святейшества, начал строить храмы в Киеве и городах Руси… На Русь пошла культура!
Он настороженно смотрел на князя, знает ли такое слово, тот кивнул, но сразу же возразил:
– Наши соседи ляхи приняли вашу веру! И что же? Им тут же запретили свою письменность, свои книги. Хорваты приняли веру Христа, тут же папа запретил им вообще пользоваться славянскими письменами.
Епископ смотрел в удивлении. Князь слишком молод и силен, чтобы интересоваться вопросами веры, морали или грамотности. Да и рассказывали о нем только как о витязе, что хоть и незаконнорожденный сын Святослава, но упорно старается во всем походить на отца. Но теперь он уже сомневался, что о новгородском князе ему доложили верно.
– Так и было, – признал он. – Но зато христианский мир един! Читает одни и те же мудрые книги, не надо перекладывать с одного языка на другой, заново переписывать сотни томов… Подумай, князь! Вера Христа пытается убрать стены между разными народами. Слить его в единый! Чтобы все понимали друг друга. А если каждое племя будет пользоваться своей письменностью, то стены между народами станут только выше. И снова будет брань, вражда, недоверие, прольется кровь…
– Здорово, – согласился Владимир. – Если бы так получилось, сам бы голову отдал!.. Но даже я, еще не став седым и немощным, зрю это как благородные мечты.
Он скалил зубы, внезапно ощутил себя старше. Епископ горячится, такие бойцы обычно проигрывают. Но горячие люди всем любы. Вся жизнь начинается со страсти.
– Почему? Разве это так уж невыполнимо?
Владимир покачал головой:
– Не знаю… Я всегда хотел стать волхвом.
Он заметил недовольство на лице епископа, засмеялся:
– Да будет тебе!.. Что такое волхв? У вас же культура только в монастырях и спасается от войн и разора. Только там и сохраняются грамотные, там книги не горят… Волхвы – те же монахи. Они собирают знания, передают их новым поколениям.
Епископ спросил все так же сухо:
– И что же помешало?
– А кто меня кормить будет? И у вас война иной раз так монастырь зацепит, что одни камни остаются.
Он горько махнул рукой. Епископ сказал с сочувствием, но и с новой надеждой:
– Но если мир станет единым, войны прекратятся!
– Поживем – увидим.
Епископ отвел глаза. Такие яростные в жизни долго не живут. Как Александр Великий, что умер в тридцать лет, как Христос, как тысячи и тысячи других, которым бы только жить и жить, но Господь их забирает рано, а оставляет зачем-то всякую погань, которую ни войны, ни болезни не берут…
Он перекрестился, отодвинул пустую чашку. С князем говорить восхитительно. Забываешь, что он так молод. Видно, пришлось пережить немало, только от горестей люди взрослеют так быстро.
– Спасибо за прием, – сказал он, поднимаясь. – Разреши на обратном пути навестить тебя?
– Будь моим гостем, – пригласил Владимир. – Как зовут тебя?
– Брат Мартин.
Каждое утро он с небольшой дружиной объезжал окрестные веси. Отряд верных людей расширялся, но все равно это был только отряд, а не войско. Звенько не отходил ни на шаг, чуял близкую беду. Все свободное время он до изнеможения упражнялся с боевым топором и щитом, бился с опытными дружинниками. Те его уже избегали, проклиная за настырность. Бьется до изнеможения, уже язык на плече, а все упражняется, готовится защищать князя, который сам не промах, дерется как рассвирепевший тур, но голову теперь сохраняет ясной, как небо в червне, у самого князя научился…
По дороге к одной веси увидели одинокого всадника. Крепко сбитый мужчина с непокрытой головой, но в кольчуге поверх рубашки, ехал на таком же нескладно скроенном, но крепко сшитом невысоком коне. Увидев загородивших дорогу вооруженных людей, он правой рукой вытащил меч, левой достал из-за спины щит и укрыл левую сторону груди.
– Не дури! – крикнул Тавр. – Нас пятеро. А на дороге еще и дружина.
Мужчина остановил коня, меч в его руке блестел. Глаза изучающе смотрели на богато одетых всадников. Его спокойствие и оценивающий взгляд выдавали опытного воина.
– Кто таков? – крикнул Тавр.
– А вы кто такие?
– Отвечай! – крикнул Тавр раздраженно. – Или тебя обязательно нужно сбросить с коня?
– Если сумеете, – ответил мужчина сильным низким голосом.
Тавр фыркнул, Владимир перехватил его за рукав. То, как держался незнакомец, странно кого-то напоминало. И меч вытащил без торопливости, и щитом укрылся без единого лишнего движения, и стал так, чтобы солнце светило им в глаза, а сам даже коня остановил на пригорке, чтобы в случае надобности усилить натиск. Все бывалые воины становятся чем-то похожи. Как похожи между собой ковали, сапожники или бортники.
Владимир сказал звонко:
– Я – князь новгородский Владимир. Этого довольно?
Мужчина, поколебавшись, бросил меч в ножны. Конь его, повинуясь незаметному приказу, тронулся вперед осторожным шагом. Владимир с интересом всматривался в широкое, исполосованное белесыми шрамами и все равно красивое лицо незнакомца. Был он немолод, но все же выглядел как высеченный из камня, а кольчуга литые плечи обтягивала плотно. Глаза были синие, как васильки.
– Ездиют тут всякие. – Он подъехал к Владимиру и всматривался изучающе. – Ворье, разбойники…
– Одному небезопасно, – заметил Владимир.
Незнакомец беспечно отмахнулся:
– Что с меня взять? За версту видно, не купец я… А кто позарится на моего коня да меч, попробует лезвие на своей шее.
– А если их окажется двое или трое? – спросил Владимир, глядя в упор. У него было ощущение, что этого человека он уже встречал. И эта встреча была не из приятных.
Незнакомец отмахнулся снова:
– И такое было… Во-о-он за тем леском у ручья лежат четверо. Хотели шутки со мной шутить! Больше не пошутят.
Подъехали всадники из дружины. Владимир и незнакомец оказались в кольце. Тот лениво оглядывался, но в синих глазах страха не было.
– Как зовут тебя, витязь? – спросил Владимир. – И куда путь держишь?
– Зовут меня Войдан, – ответил мужчина, – или, как германцы кликали, Водан. Значит, воевать дан, войне дан… Батя как в воду глядел, когда нарек. С четырнадцати лет с коня не слезаю, саблю не выпускаю… Правда, сперва с луком не расставался, потом копейщиком был, затем с мечом носился, а после службы у хазар к сабле приохотился. Но куда иду, ответить трудно. Иду в дальние страны поступать на службу. Сперва в Царьград, хотя там насчет войны как раз затишье, а зазря оружие я таскать не люблю… Может, где у арапов война какая? Так к ним наймусь, у арапов я еще не бывал…
– У арапов! – воскликнул Тавр возмущенно. – Тут… тут такое творится, а он к арапам собирается!
Войдан окинул молодого боярина насмешливым взором. Голос был хладнокровным:
– Это вам в вашем болоте кажется, что творится. Тут даже князья как пьяные мужики дерутся. А я в Царьграде службу нес, в Риме гвардию водил, полк в бой бросал!.. Малую Азию истоптал, в Иверии крепости брал! Там я человеком был. А сюда вернулся, так каждый пузатый дурак норовит в холопы обратить либо в челядь взять! Тьфу!
Владимир спросил быстро:
– Мне будешь служить? Плату с сегодняшнего дня и – за месяц вперед.
– Княже, – вырвалось у Тавра, – да пусть благодарит, что не унянчили сразу! И будет служить, как другие.
Войдан скалил зубы. Похоже, он не умел служить, как другие. Его голубые глаза посерьезнели, когда он остановил взгляд на Владимире.
– Ты не похож на князя при деньгах.
– Тавр, – велел Владимир, – дай кошель. Но я должен честно предупредить тебя, Войдан. Мне сейчас тяжко. На Руси началась кровавая распря, брат идет на брата…
Войдан хмуро кивнул:
– Не обижайся, княже. Свое горе всегда ближе. Но такая распря идет по всему свету. Везде кровь льется. И льется ее не меньше. Но если я поступаю на службу, то служу честно. Это и есть этика наемника, как говорят в Риме. Профессионального воина.
Владимир метнул ему кошель. Войдан поймал на лету, все так же небрежно, словно вынул из воздуха, заглянул внутрь и, не считая, бросил в седельную суму.
– Договорились? – спросил Владимир.
– Можешь располагать мною, княже.
– Тогда езжай с нами.
Далеко впереди маячили силуэты верховых. Дружинники прощупывали дорогу через лес. За каждым пнем мог таиться лучник, а то и умелец с самострелом. Тавр незаметно отстал и куда-то исчез. Владимир скакал бок о бок с Войданом, присматривался. Где-то видел эти голубые, как лед, глаза, и встреча была не из приятных, все верно. Но в то же время наемник держится с достоинством, честью явно дорожит. Не похоже, что такой обманет или предаст.
Даже конь Войдана, с виду неказистый, спокойно шел наметом там, где кони дружинников уже запалились, храпят, роняют пену. А этот сухой, еще и на кобыл на скаку поглядывает. Жеребца Панаса, еще одного доверенного боярина, так хватил, что тот завизжал поросячьим голосом, едва не стряхнул хозяина, теперь идет в сторонке, косится пугливо.
Тавр догнал отряд уже на привале. Бросив повод отроку, подошел к Владимиру. Оглянулся на Войдана, бросил вполголоса:
– Пятерых.
– Что? – не понял Владимир.
– Пятерых, говорю, встретил он у ручья, а не четверых. Я смотался лично. Надо же проверить? Пятый уполз, раненый, там остался кровавый след по траве.
Глава 16
В пути Войдан догнал Владимира, пустил коня рядом. Владимир помалкивал, видя, что наемник хочет что-то сказать, выбирает момент.
– Послушай, княже, – сказал он вдруг, – ты разве не помнишь меня?
Владимир всмотрелся в суровое лицо, где даже шрамы словно бы разгладились от сдержанной усмешки.
– Разрази меня Перун!.. Что-то знакомое, но никак не соображу.
– Эх, княже… Знал бы ты, с кем говоришь, то, может быть, нанял бы меня и без денег.
Владимир насторожился:
– Кто ты?
– Помнишь Царьград? Ты не стал на колени перед дочерью императора!
Лицо Владимира опалило жаром. В сумрачном небе словно сверкнула ветвистая, как корни дерева, молния. Он увидел нечеловечески прекрасное лицо девочки, огромные понимающие глаза, услышал звуки небесных арф…
Тело его внезапно ослабело. Он спросил чужим охрипшим голосом:
– Ты был… телохранителем?
– Начальником дворцовой стражи.
Владимир вспомнил синие, как васильки, глаза, блеснувшие из-под раззолоченного шлема. Начальник стражи был в дорогих доспехах, шлем украшен павлиньими перьями, седло в искусной вышивке и усеяно драгоценными камнями. Он казался полубогом перепуганному и разъяренному мальчишке.
– Ого, – сказал он невольно, – высоко ты бывал!.. Но как тебя признать, если я слышал только твой голос? Ты ж в золоте купался, за что же тебя изгнали?
– Ну вот, сразу изгнали… Таких не изгоняют! Дурь стукнула, захотелось посмотреть родные края. Даже мудрец раз в жизни такое творит, что и на голову не налезет… А я ж себя к мудрецам не причисляю, могу и два раза ошибиться. Словом, тут у меня родня, то да се. Бросил все, мне не впервой, приехал… Неделю пожил, взвыл. Живут как земляные черви! Рассказывают им про великанов-людоедов, что живут в соседнем лесу, – верят, а когда рассказываю про дальние страны – смеются. Брешу, мол. За лесом вообще конец света. Плюнул я, отдал деньжата, что привез, и был таков.
Владимир не слышал: в ушах снова звучал сладостный голос маленькой принцессы, падали ее музыкальные слова. Они проникали в кровь, в сердце. Там становилось больно и горячо.
– А как эта, – выдавил он с трудом, заставляя голос выкарабкаться из хрипоты, – ну та… которую арапы в носилках перли?
Войдан покосился удивленно. Перемену в голосе новгородского князя заметил. Пожал плечами:
– Принцесса Анна? Ей везет. Стала еще краше. Во всей империи нет такой красавицы. Тут я согласен с певцами, что славу ее красоте поют… Но не то главное!
– А… что?
– Посмотрит на кого – ты видел ее глаза? – насквозь зрит. Читает в его душе, как в открытой книге. Конечно, их при дворце дни и ночи натаскивают, лучшие учителя и мудрецы своей мудрости обучают, но почему же и у самого мудрого воспитателя порой дурни выходят? Ее старшим братьям, Василию и Константину, хоть кол на голове теши, хоть орехи раскалывай – все одно норовят ускользнуть от учебы. Кстати, Цимихсий, что с твоим отцом воевал, помер недавно… В той самой постели, в которой он зарезал предыдущего императора Никифора. Говорят, его отравили. Теперь в Царьграде сразу два базилевса, но за них пока что правит евнух Василий… А вот она как солнышко после дождя…
Владимир ощутил, что становится трудно дышать. Кровь прилила к лицу, уши защипало, будто на них капали расплавленным воском. Он рванул ворот, раскрывая грудь встречному ветру, прохрипел:
– Ладно… Ты пошел ко мне лишь потому, что узнал меня?
Войдан оскалил зубы:
– Меня охотно взяли бы в обеих столицах мира. Как в Риме, так и в Константинополе. Там меня знают, там служат мои боевые други. Не в самых низах!.. Что мне этот медвежий край? Но ты глянулся мне еще там, в Константинополе. Я тебя приметил. Из таких выковываются вожаки боевых дружин, что трясут мир… если не гибнут раньше. Ты уже князь, но ведь это не конец?
Владимир мотнул головой:
– Еще не конец… Но он близок. Рука Ярополка с ножом уже подле моего горла!
Гамаил ехал, покачиваясь в повозке, погруженный в думы. Хазарин на облучке тянул бесконечную песню, солнце жгло и через войлочный полог повозки, а дорога тянулась бесконечная, как мудрость Создателя.
Гамаил задернул полог, пусть будет еще жарче, но удушливая пыль перестанет забивать легкие. Сзади слышался топот копыт, повозку сопровождал десяток всадников. Сперва орали удалые песни, устраивали даже гонки, метали стрелы в пробегающих зайцев, теперь притомились, и Гамаил мог сосредоточиться на своих невеселых мыслях. Завтра к утру пересекут владения Новгорода. Предстоит тяжелый разговор с молодым князем этого северного объединения…
Трудность была в том, что отцом нынешнего новгородского князя является неистовый воитель Святослав. Тот самый, что двумя страшными ударами сокрушил Хазарский каганат. Причем второй нанес руками союзных ему печенегов. Бог наказал князя, вскоре он погиб в засаде, которую устроили сами печенеги. Славяне склонны винить и в этом хазар, их старых заклятых врагов, которым совсем недавно еще платили дань. Так что разговор о мире и дружбе начинать будет непросто…
А вторая трудность в том, что у князя сейчас гостят еще два крупных посольства. Одно из Константинополя, другое из Рима. Заклятые враги, что вцепились друг другу в горло за обладание Русью, они тут же повернутся и совместно накинутся на него, посланника веры, из которой они оба вышли.
Он ощутил тянущую пустоту внутри. Ну почему, почему в давние времена стряслась нелепая ошибка, которая так трагически меняет лицо мира даже сейчас? Ведь нет на свете иудея, который не согласился бы со всеми речами Иисуса и первыми тремя Евангелиями его учеников! Так почему же получилось так, что Христос был распят? Почему народ кричал: «Распни его, распни!»?
Мало кто знает, что Христос выступал против образа жизни фарисеев, то есть раввинов, но не против их учения: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте: ибо они говорят, но не делают». Да и в Талмуде часто говорится то об одном, то о другом раввине-фарисее: nach doresch weeino nach mekajjem, то есть «он хорошо учит, но не хорошо делает».
Как объяснить тем, кто не хочет слушать, что одни фарисеи одобряли учение Христа, впускали в свои синагоги, приглашали к себе и предупреждали об опасности, а другие выступали враждебно и даже соединялись против него со своими врагами, иродианами?
Почему случилось так, что Христ был осужден в резком противоречии с правилами судопроизводства? К тому же раввинский уголовный кодекс вовсе не знает казни распятием на кресте!
О, человеческое тщеславие, ослепление! Сколько горя ты принесло, сколько еще принесешь… Все раввины принадлежали к партии фарисеев, и они, естественно, желали уверить себя и других, и сейчас желают, что их власть неизменна, непоколебима, что их всегда было большинство, что они руководили в синедрионе всегда. Но слабость, простительная человеку невежественному, непростительна в тех, от чьего мнения что-то зависит. Что вы наделали, раввины? Теперь весь христианский мир ненавидит фарисеев! Само это имя стало бранным.
Но вовсе не фарисеи тогда правили страной, а саддукеи! Во времена Христа еврейские праздники определялись не по фарисейским, а по саддукейским вычислениям. Даже пасхальный агнец приносился не во время, определенное фарисеями, а согласно мнению саддукеев.
Та священнически-аристократически-саддукейская партия распоряжалась в храме и в синедрионе. Распоряжалась жестоко, немилосердно. Все помнят, как саддукей первосвященник Анна, который имел четыре магазина, где продавались голуби для жертвоприношения, поднял цену обязательного жертвенного голубя до золотого динария. Только фарисей Симеон, поклявшись в святом храме уничтожить зло, добился в синедрионе, чтобы число обязательных голубиных жертв было уменьшено настолько, что голубь стал стоить всего четверть серебряного динария. А какие уловки саддукеи придумывали, чтобы не отдавать на храм десятину от своих полей?
Эти кровопийцы держались, пока держались их покровители – римляне. Как только захватчики были изгнаны, ярость восставшего народа обратилась против них. Весь род Анны, как и вся партия саддукеев, присудившая к смерти Христа, была истреблена, а торговые лавки, которые в храмах опрокидывал Христ, были разрушены и сровнены с землей.
Да, это именно саддукеи велели под покровом ночи схватить Христа, торопливо произнесли над ним приговор, вопреки всем фарисейским предписаниям… Суд над преступником, которому может быть вынесен смертный приговор, должен производиться только днем, ни в коем случае ночью! Христ же был судим и осужден ночью. Никакой приговор не может быть произнесен в тот же день, в какой суд начался. А только на следующий день! Таким образом, смертный приговор должен был последовать только после двух заседаний, произведенных последовательно в два дня. Христ же был осужден в одном коротком заседании!
Что еще? Христ был осужден за мнимое богохульство, но по фарисейским законам только тогда можно было приговорить к смерти, если богохульник при этом клялся, произносил неизреченное божественное имя, чего Христ не делал.
Даже когда вели осужденного на казнь, то судебный исполнитель, с платком в руке, оставался у дверей судилища. На расстоянии от него другой сидел на коне, чтобы осужденного можно было скорее привезти обратно с места казни, если кому-либо из судей вздумается что-либо сказать в пользу осужденного. В этом случае суд должен был начаться сначала.
Перед осужденным должен был идти человек, который громко кричит: «Такой-то будет казнен за такое-то преступление! Кто может сказать в его пользу, иди и сообщай суду!» Даже если сам осужденный говорил, что он хочет что-то сказать суду в свое оправдание, то его немедленно возвращали в суд, чтобы выслушать. Пять раз он мог так проделать!
Проделал ли это суд? Даже перед самой казнью не дали напиток забвения, который снимает у осужденного как боль, так и сам страх смерти!
Проклятые саддукеи, что, воспользовавшись властью, казнили Христа, навлекли на себя проклятие всех будущих христиан, но и вызвали ненависть всех иудеев. Вместо того чтобы отстаивать национальное дело или хотя бы межнациональное, как делал Христ, они жадно заботились лишь о своей десятине. Униженно старались удержать благосклонность Птолемеев, потом – Селевкидов и, наконец, римлян. Через шестьдесят шесть лет после распятия Христа вспыхнуло страшное восстание против римлян. Те были разбиты, и тогда-то фарисеи образовали в своих недрах отряд зелотов, истребили всех членов семейств Анны и Киафы, которые вынесли смертный приговор Христу.
По словам Иосифа Флавия, зелоты ходили из дома в дом, отыскивали саддукеев и сразу убивали, а тела бросали обнаженными собакам, не предавая земле, что, по понятиям иудеев, составляет величайший позор, ибо тело даже казненного преступника должно быть предано земле в день казни.
Но время стирает события, вина одного ложится на всю его семью, вина одной партии ложится на весь народ. И вот христиане не могут простить уже всем иудеям смерти их великого пророка Христа! А сами фарисеи, нынешние раввины, совершили ужасную ошибку, порожденную тщеславием: везде говорили и писали, что они и тогда целиком и полностью правили страной, народом и судами!
И вот теперь он, раввин, значит – проклинаемый вдвое, будто собственноручно распинал их пророка, встретится завтра в тереме сына их злейшего врага Святослава с двумя еще более лютыми врагами… послами из Константинополя и Рима! Трудно быть на земле иудеем…
Владимир принял раввина не в главной палате, как тот ожидал, а в небольшой комнатке, заваленной картами, книгами, толстыми манускриптами. Он склонялся над столом, что-то рассматривал на широком желтом листе пергамента. Не глядя, нащупал чашку, отхлебнул шумно. Гамаил услышал сильный аромат крепкого кофе.
– Приветствую тебя, князь…
Владимир оглянулся, приветственно помахал рукой:
– Давай заходи. Звенько, пусть Сувор сварит еще кавы.
Огромный воин одарил Гамаила хмурым взором, нехотя вышел, плотно прикрыв дверь. Слышно было, как он взревел, отдавая распоряжения. Донесся топот ног.
Гамаил медленно приближался к столу, лихорадочно вырабатывая новую линию поведения. Похоже, князь принял здесь не от презрения к нему, иудею, а от пренебрежения правилами. Здесь его рабочая комната, и прием здесь можно рассматривать как доверие…
Приободрившись, он поклонился еще:
– Славный князь новгородский, я прислан к тебе от нашей общины…
– Ага, добро, – ответил князь рассеянно. – Слушай, от Ловати до Березайки сколько верст?
Гамаил взглянул на карту. Грубо сделанная, очертания нанесены небрежно, но можно понять, что там изображено. Всмотрелся, сказал неуверенно:
– Судя по этой карте, верст семьдесят… Но на самом деле там не меньше ста. Да и вот здесь не пустое место, а река выдает петлю…
Он осторожненько указал длинным ногтем. Князь всмотрелся, кивнул хмуро:
– Верно. А что делать, когда я сам рисовал!.. Каждый знает только свое село, купцы знают только дороги, а уже на шаг в сторону – для них неведомые земли со Змеями Горынычами, великанами… А я князь, мне нужно видеть все княжество целиком!
Вошел сильно прихрамывающий старик. Поставил на край стола две чашки с парующим кофе. Что-то буркнул неодобрительное, удалился. Князь рассеянно указал гостю, чтобы взял чашку, спросил, не оборачиваясь:
– Ну и о чем просят ваши купцы?
– Ни о чем, – ответил Гамаил.
Князь от неожиданности чуть не подпрыгнул, даже каву слегка плеснул на пол. Обернулся, смотрел подозрительно:
– Как это? Все чего-то просят.
– У нас все есть, – сказал Гамаил скромно. – При твоем княжении торговля расцвела, на дорогах мир и покой. Мы построили новые склады в городе, у нас теперь свой причал, а наши корабли ходят в самые дальние страны. Но мы услышали, что твой брат собирает войска…
Он видел, как потемнело лицо молодого князя. Но тот совладал с собой, только голос стал глуше:
– Да, это так.
– И что ты собираешься делать?
Владимир ощетинился:
– А какое ваше собачье дело?
Гамаил сперва поклонился, отхлебнул горячей кавы, снова поклонился:
– Нам бы не хотелось здесь войны… Это большие убытки для торговли. Но если ты соберешься нанять войско и выступить навстречу, то мы могли бы одолжить тебе денег…
Он умолк на полуслове. Владимир насторожился. Впервые ему кто-то предлагал помощь. Понятно, они прежде всего о собственной шкуре пекутся, но и ему такое выгодно.
– Сколько? – спросил он в упор.
Гамаил печально опустил глаза:
– Времена сейчас трудные, ибо мы как раз вложили большие деньги в товары… К тому же сильная буря разметала и потопила большой флот с товарами из Севильи… Но мы собрали бы достаточно, чтобы ты мог снарядить десять тысяч воинов. Или же нанять пять тысяч варягов. Ты очень способный полководец, мы за тобой наблюдаем, тебе этого будет достаточно для победы!
Владимир заставил себя подавить вспыхнувшую радость, скривил губы в злой усмешке:
– Да? Или достаточно, чтобы два огромных войска посекли одно другое насмерть? А вам осталось только подобрать наших детей и продать в рабство в южные страны?
Гамаил раскинул руки в обиженном жесте:
– Княже!.. Разве мы больше продаем русских детей и женщин, чем продаете вы сами?
– То мы, – проворчал Владимир, – а то вы. Мы своих продаем! Да и не свои они, а вятичи, тиверцы, а то и вовсе уличи!.. Они наших тут же в колодки и на багдадские базары. Ладно, оставим это. На каких условиях дадите?
Гамаил протестующе выставил ладони:
– Никаких условий!.. Ты волен делать с этими деньгами что захочешь. А нам их вернешь… с небольшим процентом. Киев город богатый, ты даже не заметишь уплаты долга.
Владимир смотрел пристально:
– А ежели я не смогу одолеть Ярополка?
– Ты одолеешь, князь.
– А вдруг?
Гамаил печально улыбнулся:
– Ну что ж… Будем считать еще одной бурей, разметавшей наши корабли.
– Но у вас этих кораблей немало, верно?
– Княже, горький опыт моего народа научил многому. Например, не перевозить все ни на одном корабле, ни на одном осле. Какими бы надежными они ни казались.
Владимир кивнул:
– Понятно. У вас должны быть ослы и помимо меня. А расходы и потери включаете в стоимость нового товара? Я наверняка заодно оплачу и потерю Хазарского каганата, и пленение иудеев в Самарии, и даже разрушение храма Соломона…
Гамаил скромно улыбнулся, показывая, что понимает грубоватую шутку варварского князя:
– Пожалуй, разрушение храма можно в счет не включать… Если ты, княже, готов к разговору с нашими старейшинами, то я покорно прошу назначить встречу. Я только посланец!
Владимир сказал сдержанно, по-прежнему изо всех сил скрывая радость:
– А чего тянуть кота за хвост? Завтра после обеда. Сумеют собраться?
– На все твоя воля, – поклонился Гамаил. И понял, что можно ответить такой же откровенной шуткой-насмешкой над стремлением единоверцев к наживе. – Если пахнет хоть медной монеткой, мои люди эту ночь не лягут спать, а завтра по твоему слову взберутся на любую гору!
Он ушел, провожаемый Звенько. Владимир подумал все с той же щенячьей радостью, что здесь пахнет уже не медной монеткой. Киев – город богатый. Похоже, солнце всходит и над его воротами!
Глава 17
Небо было черным как сажа, а звезды собрались в рои, как огненные пчелы. Никогда их столько не слеталось вместе, никогда не были такими яркими. Воздух был теплый, как молоко в печи, такой же тяжелый и густой. Неслышно пролетел крупный кожан, только звезды на миг гасли по его тайной дороге.
– Звезды – к удаче, – сказал он, стискивая зубы. – Все к удаче! Нет, даже к успеху.
Старый волхв в его детстве учил, что у каждого человека есть путеводная звездочка, которая его ведет по жизни. Когда человек умирает, то и звездочка падает, гаснет. Но есть люди, над которыми небо не властно. Эти люди сами двигают звездами!
Тогда он поклялся, что будет именно таким человеком. И вот сейчас, похоже, чуть-чуть сдвинул свою звездочку. Приход раввина – это успех, а не удача. Сказали, что присматривались. А князь – не холоп, весь на виду. Раскусили, как он раскусил Тавра. Поняли его потому, что они всем народом во всех странах и племенах все еще челядинцы, каким он был в Киеве. Потому хитрые, скрытные, себе на уме, потому что тоже хотят выжить, как хотел и выжил он.
Может быть, потому даже и решились помочь? Нет, это его занесло. Эти люди знают только выгоду, им не до прекрасных чувств. Не случайно раввин упомянул, что Киев богатый город. Постараются выжать за великокняжеский стол все, что возможно. Понимают, что готов платить самую высокую цену!
Он поставил на багровые угли жестяную кружку с водой. Пусть Звенько подремлет, каву умеет готовить и сам. Пристрастился к этому черному пойлу хуже пьяницы. Но в отличие от хмеля голова не дуреет, а наоборот – прочищается. Сон же вовсе гонит прочь…
Звонко щелкали о бревна стены тяжелые, как камни, жуки. Один залетел через окно, грохнулся на середину стола, как подстреленный гусь. Скребся, шуршал, скрипел жесткими крыльями, барахтался на спине, сердито дрыгая всеми лапами. Когда копнул одним пальцем под толстый зад, перевернул, тот небрежно отряхнулся, фыркнул презрительно, мол, мог бы помочь сразу, дубина, откуда такой взялся, а еще князем пригласили, приподнял жесткие крылья, из-под них выбрызнули нежнейшие прозрачные крылья, явно краденые – не могут у такого толстого и грубого жука быть крылышки из чего-то нежнейшего, словно сотканного из лунного света!
Костер, едва тлеющий, вдруг замигал багровыми глазами, сухо и звонко щелкнул перекаленным камешком, внезапно швырнул в его сторону горсть угольков, сам по себе выпустил оранжевые огоньки, лизнул близкую щепочку, запылал крохотным костром.
– Знамение, – сказал Владимир вслух, он ощутил холодок на спине, вдруг да впрямь знамение. – А любое знамение, любая примета бывает только к работе!
Он жадно вдохнул ароматный запах, но переборол себя и отставил кружку с кавой. Нет, надо заставить себя заснуть. Завтра будет победный день, но торговля за каждый процент будет жестокой. Надо голову иметь свежей. Потом, когда он возьмет Киев, можно от щедрот своих подбросить им пару каких-либо льгот. Хоть и сами хорошо на нем заработают, но и ему помогли. А каких льгот, придумает позже…
Он долго лежал, прислушиваясь к ночным звукам. Небо начало сереть, когда сердце начало успокаиваться, а дыхание пошло глубже. Руки и ноги наконец отяжелели, по ним разлилось тепло. Он ощутил, как наконец-то проваливается в сон…
В сенях раздались крики, лязг оружия. Владимир вскочил, рука мгновенно метнулась к мечу. Тот чернел у изголовья в ножнах, но с таким наклоном, чтобы выхватить одним движением.
Дверь с грохотом распахнулась. В комнату ввалился живой ком из тел, из середины раздался задыхающийся голос Звенька:
– Беги, княже!.. От Ярополка… убивцы…
Перепрыгнув через борющихся, в комнату ворвались двое: в панцирных доспехах поверх кольчуг, с мечами наголо и нелепыми в ночной резне щитами.
Владимир швырнул им в лица меч, сорвал со стены клевец, ударил как можно быстрее, понимая, что второго раза не будет, отпрыгнул и повернулся ко второму. Сбоку он слышал хлюпающие звуки, потом послышалось падение грузного тела.
Оставшийся воин с опаской косился на клевец, смертельно опасный даже для доспеха, но все же надвигался на голого до пояса и босого князя. Владимир страшно закричал, пугая противника, затрясся, делая вид, что превращается в берсерка, пустил пену изо рта, начал теснить, обрушивая яростные удары, но тут ворвались еще пятеро и, толкаясь и мешая друг другу, бросились на Владимира с мечами и дротиками.
Он похолодел – это была смерть. За спинами нападавших загремело, там поднялся огромный, как медведь, Звенько, оставив на полу раздавленных и стонущих, оторвал от себя последнего, ударил об пол:
– В окно… В окно, княже!
Владимир отступал, пока не уперся спиной в глухую стену. Где-то дверца во внутренние покои, он уже дрался обеими руками, мечом и клевцом, руки гудели от усилий, каждый удар отражался в костях болью. Наконец голая пятка ощутила гладкое. С силой ударил ногой, споткнулся и упал навзничь, ввалившись в совсем темное помещение.
Над головой пролетели два дротика. Невидимая стена сзади отозвалась глухим ударом. На голову посыпалась труха.
Он извернулся, как кошка, и встал на ноги, но тут в дверной проем влетел огромный человек. Владимир в последний миг повернул меч, тот задел Звенько по плечу плашмя… А дружинник захлопнул дверь и мгновенно подпер ее колом, которым дрался. С той стороны навалились, закричали в несколько голосов, начали бить тяжелым.
В слабом лунном свете, что падал в окошко, Звенько выглядел чудовищем. От рубашки остались клочья, волосы слиплись от крови и стояли дыбом, как у лесного зверя. Темные струйки стекали по лицу, темнели на груди, на лохмотьях. Дышал он часто, с хрипами, словно копья пробили ему легкие. Глаза вылезали из орбит. Вид у него был отчаянный, полный стыда и злости.
– Возьми меч и щит, – велел Владимир сдавленно. Он откинул крышку сундука. – Вот этот принадлежал воинам Гостомысла… А то и ему самому!
Сам он, не выпуская оружия, осторожно выглянул в окно. Двор внизу был залит багровым светом факелов. Чужие дружинники бегали с обнаженными мечами, нещадно рубили не только тех, кто оказывал сопротивление, но и просто неосторожно выскакивающих во двор.
Горечь от поражения была такой едкой, что хотелось открыть дверь и прыгнуть на обнаженные мечи. Всего час назад в мечтах уже казнил и миловал по всей Руси!
– Как… – хрипел Звенько, – как… они?..
В огромной груди булькало сильнее. Изо рта бежали струйки алой крови. Даже в слабом свете светильников кровь казалась слишком светлой.
– Захватили как сонных кур!
Выходит, Ярополк вовсе не посылал огромное войско. Понимая, что сын рабыни еще не успел в Новгороде укрепиться, стать до конца своим, он отправил малую дружину из бывших воинов Святослава. Те взбирались на стены Семендера, прыгали со скал в Болгарии, врывались в горящие дома Севильи. Они сумели без шума проникнуть в терем. А без князя Новгород противиться воле Ярополка не будет.
– Все потеряно… – выдавил он с отчаянием.
Залитый кровью Звенько, даже по ногам бежит и оставляет за ним лужи, прохрипел, булькая, выплевывая кровавые пузыри:
– Я тоже однажды так думал… Но в последний миг явился ты!
– К нам никто не явится.
– А мы сами? По малой лестнице не спуститься?
– Уже нет. Они рассыпались по всему двору.
Дверь трещала, одна из досок проломилась, там мелькнуло перекошенное лицо. При всей горечи в душе руки воина делали свое: он схватил дротик, их в углу целый пучок. Острие ударило точно в пролом. Там послышался крик, в дверь колотить перестали, затем после воплей боли и ярости стали бить еще мощнее и жестче.
Владимир, подталкиваемый верным гриднем, вылез в окно, завис на руках. Когда ноги уперлись в карниз, он медленно двинулся вдоль стены, молясь богам, чтобы снизу не догадались взглянуть наверх, с этой стороны терем – глухой, без окон. Щекой он терся о шероховатую поверхность бревен, слышал горький запах смолы. Какая лакомая цель для лучников! Еле двигается, почти голый. Мощно пущенная стрела может приколоть его к стене, как жука.
Он почти добрался до угла, там уже легче будет спускаться, хватаясь за торцы, когда из окна раздался яростный крик в несколько глоток. Зазвенело железо. Слышались мощные разящие удары, Звенько многому научился у своего юного князя. В какой-то миг его прижали спиной к окну, Владимир увидел широкую спину, всю в буграх мышц, уже без остатков рубахи, Звенько отбивался от невидимых противников, затем оттолкнулся и оттеснил врагов, все так же нанося быстрые и разящие насмерть удары.
– Пусть Перун примет тебя, – пробормотал Владимир, в душе было горько. – И в его небесной дружине будешь не последним витязем…
Он чувствовал боль, ибо Звенько сейчас погибает, спасая князя, давая уйти от погони. Погибает единственный человек, преданный лично ему без остатка. Погибает тот, кто вверил себя и жизнь ему, князю. Жизнь, которую он, Владимир, не уберег, а напротив – бросил в пасть погоне, чтобы всего лишь задержать ненадолго!
Он спрыгнул на землю. Крики и свет факелов остались за углом терема. Невдалеке двое незнакомых дружинников, обнажив мечи, стерегли черный выход. Оба вытянули шеи, ловили шум схватки. Кони их стояли рядом, поводья были наброшены на кол.
В это время наверху раздался страшный крик. Владимир узнал голос Звенька, сердце сжалось. Это был предсмертный крик боли и ярости. Кричал молодой и сильный, который не верил в свою смерть, но уже видел ее.
Дружинники заинтересованно вытянули шеи. Владимир увидел по их лицам, что последнего изрубленного защитника князя готовятся выбросить из окна, переваливают грузное тело через подоконник, подталкивают, кричат сами…
Он вылетел из-за угла как зверь, почти не помня себя от ярости и горя, страшный и озверевший, с пеной у рта. В этот миг он в самом деле был берсерком, и воины в ужасе попятились.
Один упал с рассеченной головой, другой успел закрыться щитом и умер с половинкой щита в руке и разрубленной головой. Владимир сдернул поводья, вспрыгнул на ближайшего коня, ухватил повод второго, сильно ударил пятками под бока.
Когда он несся через двор, вдогонку раздались вопли как сверху, так и со всех сторон: «Держи!», «Имай!», «Руби, живым не брать!», но он страшно взвизгнул по-печенежьи: тонко и пронзительно, отчего мурашки бегут по коже, а душа леденеет, помчался к распахнутым воротам.
Трое пытались выбежать навстречу, но в последний миг шарахнулись в стороны. Он вырвался на все еще темную и сонную улицу, помчался во весь опор, пригибаясь от стрел. Рядом скакал второй конь, привычный к долгой скачке, настоящий дружинный конь. Вот так, одвуконь, можно скакать долго. Скакать, на ходу пересаживаясь с одного на другого.
Но куда?
Часть третья
Глава 18
Море грозно обрушивало на берег тяжелые серые волны. Голые скалы, блестящие как тюленьи спины, холодно блестели под низким свинцовым небом. Владимир продрог, едва держался на ногах. Только что в бурю пересек Варяжское море, ледяные волны захлестывали драккар, поднимали так высоко, что мачта распарывала тучи, а потом бросала в пучины, и Владимир видел в пропасти между серыми волнами острые камни на дне.
Сейчас он, оставив корабль, карабкался по крутой тропке между скалами. Пронизывающий ветер обледенил одежду, а все члены застыли, отказывались повиноваться. Когда он наконец увидел маленькое селение, не осталось сил на горькую улыбку. Это и есть крупнейший город, откуда вылетают свирепые викинги? Понятно, почему с такой легкостью захватывают на юге богатые города и даже целые страны. В этих голых и холодных скалах только и остается, что умереть от голода и холода. Прокормиться здесь и малому числу трудно, вот и выплескиваются отсюда все новые отряды. Все равно голодная смерть, так не лучше ли умереть с оружием в руках?
Цепляясь за камни, он потащился вверх, отыскивая едва заметную тропинку. Сердце снова сжалось в тоске, как было при захвате его терема дружиной Ярополка, как сжималось на море в разгар бури. Как-то примет конунг?
Страшны викинги! У народов Запада есть особая молитва от самой грозной беды: «Боже, спаси нас от норманнов!» Ее каждодневно с мольбой произносят по всему побережью Британии, Франции, Испании, Италии, по всей-всей Западной Европе и даже в далеком Царьграде.
Крохотные отряды яростных викингов вдрызг разбивают вдесятеро более крупные ополчения местных жителей, врываются в города и нещадно грабят, убивая всех, кто попадается на пути.
Привычные к морю, бороздят по всем направлениям, а не плавают трусливо в виду берегов, как мореплаватели других стран. Они совершают малые походы на десятках боевых кораблей, а в большие уходят на сотнях. Богатые приморские области как ни сопротивляются, но викинги всякий раз легко разбивают их отряды, собирают золото, драгоценности, накладывают тяжелую дань.
А вот в глубь Русской земли, Владимир это перепроверил у разных волхвов, попасть не могли. От моря далеко, а чтобы добраться до Киева, нужно долго плыть вверх по реке против течения. Но если от стрел и копий с берега еще можно как-то защититься, то как перетащить ладьи посуху из одной реки в другую? Тут-то пешая рать славян, что вдоль берега проследит путь норманнов, возьмет в кольцо, порубит героев, пока они, как быки, еще в широких лямках… А союзные им берендеи или торки, а ныне печенеги, помогут конными отрядами!
Любому киевскому князю достаточно поставить на волоках крепкую заставу, чтобы преградить варягам путь хоть в свои земли, хоть через них дальше на юг.
Потому путь «из варяг в греки» совсем не тот, что «из грек в варяги». Если сладкоязыкие ромеи поднимаются по Днепру беспрепятственно, дальше перетаскивают волоком до Ловати – местные помогают за плату, – из Ловати попадают в Ильмень, а оттуда по Волхову через Ладожское озеро и по Неве уже в море Варяжское, то варяги вынуждены огибать земли славян с незапамятных времен. Из Варяжского моря идут вокруг всей Европы в Средиземное море к Риму и варяжским владениям в Сицилии и Неаполе, дальше на восток по тому же морю к Царьграду, а затем и в Черное, более привычное как Русское море. Вот такой длинный круг.
Сто лет тому варягам впервые удалось взять с русичей дань. Огромное войско, кровавые затяжные бои, и вот чудь и словене предпочли откупиться, а потом весь и меря… Но чудь живет на открытом для морских набегов берегу, словене на большой реке, оттуда рукой подать до моря, весь и меря как раз на пути варягов, когда те вынуждены огибать владения Руси с северо-запада…
А еще через два года, в следующий поход варягов, по словам стариков, словене «изгнаша варяги за море и не даша им дани…».
Новгород уже много лет уплачивает варягам дань-откуп, чтобы избежать опустошительных набегов. Правда, еще большую дань ежегодно выплачивает Константинополь Киеву, чтобы избежать разрушительных походов славянских, а ныне русских войск на империю и сам Царьград.
Закрепиться варягам удалось в Британии, Франции, Италии, но не на Руси. Там охотно нанимают их отряды, щедро платят, но в мирное время не держат. Более того, изгоняют. Аскольд, этот прямой потомок древнейших сколотских царей – если волхвы не брешут, – нанимал варягов для похода на Царьград, князь Игорь посылал за море за варягами… Правда, киевские князья нанимали для боя или охраны своих границ и диких печенегов, но для честного землепашца все едино – грабитель-варяг или грабитель-печенег.
По дороге от моря заблудился, попал в тупик между скалами. Измученный, он хотел опуститься на камни, и будь что будет, лучше умереть здесь, как вдруг в вое северного ветра услышал далекий зов боевой трубы. Скорее всего, это звучал охотничий рог, но ему упрямо чудился призыв медной трубы. Со стоном он поднялся, ухватился за край выступа, подтянулся, встал ногами, снова нащупал едва заметные выступы, пополз, как ящерица, наверх. Измученное тело одеревенело, но пока звучала труба, он чувствовал, как в его теле живут небесные силы, посланные богами, и эти силы не дают ему распустить слюни как простому смертному.
Когда голова наконец поднялась над краем, он увидел далеко внизу замкнутую отвесными стенами долину. Два десятка крохотных домиков из серых глыб, а также дом конунга, похожий на отесанную со всех сторон гору, мрачный и угрюмый, обнесенный высоким забором. У каждого свиона дом – маленькая крепость, никто не защищен от кровной мести, что обрушится на тебя нежданно-негаданно: кто-то где-то из твоей родни убил кого-то из его родни, теперь придут и убьют тебя и твою семью, но на кресло конунга посматривают еще и мятежные ярлы, а всякий ярл становится мятежником, когда видит так близко богатство и власть!
Божественная сила покинула тело, он ощутил себя опустошенной оболочкой. Но теперь и без тропинки видел, куда спускаться, а ледяной ветер остался грызть камни наверху. От домов его заметили, в его сторону побежали ребятишки. Вышли мужчины – все рослые, крепкие в кости, иным в этом краю не выжить, но одетые бедно. Так не одевались на Руси даже обельные холопы и рабы.
– Я с миром, – объявил Владимир хриплым голосом. – Я гость Эгиля Тригвасона!
Его рассматривали без враждебности, но холодно и неприветливо. Никто не двигался, стояли как прибрежные скалы, провожали взглядами светлых, как вода у берега, или с недоброй голубизной глаз.
Владимира встретили в сенях стражи, не удивились, и он вспомнил горластых ромеев, что тут же наполнили бы весь двор восклицаниями, расспросами, теребили бы, предлагали меняться одеждой, оружием, обувью, спрашивали бы, как плыл, что видел, какие новые песни слышал…
Кто-то пошел искать конунга, а ему велели ждать в большом зале. Он опустился на лавку у стены, с наслаждением вытянул гудящие ноги. Сладкая усталость охватила все тело. В двери с двух сторон входили крепкие белокурые молодцы, играли могучими мускулами, врывались крупные лохматые псы. Рычали враждебно, но Владимир не двигался, и псы о нем быстро забывали. Но не люди.
Появлялись молодые женщины, жены или дочери конунга, откровенно глазели на гостя. Весть про сбежавшего князька из Хольмграда, везде распри, распространяется быстро. Владимир видел, как иные здоровяки с голодными глазами уже хищно потирают руки, любовно хлопают по рукоятям боевых топоров.
За помощью прибыл, ха-ха! Будет кровавая сеча, будет много злата, серебра, драгоценных камней. Конунг потребует и дани с русских городов, а этому князьку ничего не останется делать, как покорно склонять голову. Раз уж уцелел от меча брата своего, то все отдаст, только бы сесть обратно на свой стол, пытать и казнить соперников…
Вечером был пир в доме конунга. Владимир терпеливо выдержал все, пиры для него не в новинку, пил и ел, осушал кубки за конунга и знатных гостей, улыбался, терпеливо ждал конца.
После пира его провели в верхнюю комнату. Стены были из толстых глыб, воздух был сырой, хотя в открытом очаге полыхал жаркий огонь. Вдоль стены горели светильники, однако даже они не могли наполнить комнату запахом масла и благовоний. Маленькие узкие окна были забраны толстыми решетками, узкие струи холодного и влажного воздуха моря изгоняли все запахи жизни.
Владимир окинул быстрым взглядом мечи, алебарды, щиты на стенах. Все знакомо, только и разницы, что в теремах это все висит на стенах из толстых бревен, а здесь на стенах из массивных камней.
Конунг Эгиль Тригвасон вошел в сопровождении двух стражей. Они остались по обе стороны двери. Конунг кивнул на стол с двумя лавками:
– Садись. У тебя был трудный путь.
– Да, легче вскарабкаться к гнезду орла, – согласился Владимир.
Блаженное тепло прокатилось по ногам, лавка показалась мягче ромейских кресел. Тригвасон сел напротив, его серые глаза внимательно рассматривали молодого хольмградского князя. Владимир чувствовал за этими глазами холодный и беспощадный мозг, что уже рассчитывает, прикидывает, оценивает, собирается выдрать из загнанного в угол беглеца деньги, душу и печень. А сам предаст так же легко, как и заключит договор. Это не печенег, тот даже не представляет, как можно нарушить слово.
По знаку конунга перед гостем поставили блюдо с едой, затем внесли наполненные до краев кубки. Владимир по запаху уловил хмельной мед. Тригвасон подчеркивал, что принимает его как знатного гостя, согласно его обычаям, хотя мог бы наполнить кубки вином или даже свейским пивом.
– С чем прибыл, князь?
– Великий князь Святослав погиб, – сообщил Владимир. – Остались мы трое, его дети. Ярополк уже убил брата своего Олега, теперь хочет убить меня. У меня есть новгородское войско. Оно на моей стороне. Но за Ярополком стоят печенежские войска, с ним дружинники Святослава. Я пришел за помощью. Если с вами я разобью Ярополка, то щедро заплачу за помощь.
– Чем? – спросил конунг скептически. – Дашь города?
Владимир покачал головой:
– Города дать не могу, сам знаешь. Прошли времена Рюрика! Все племена поднимутся, нас сметут вместе. Но Киев – город богатый. Я могу собрать с него плату.
– Богатый, – согласился конунг. – Однажды я побывал там.
– С того времени он стал намного богаче, – заверил Владимир.
Конунг неспешно рассматривал молодого князя-изгнанника. Могучие руки викинга двигались по столу, бесцельно трогали кубки, металлические блюда, в рассеянности сворачивали железный поднос в трубку, распрямляли и выравнивали неровности с такой легкостью, словно мяли сырую глину.
– Я не могу дать воинов, – сказал он наконец. – И никто в здешних краях не даст. Скажу больше, юный конунг… Никто тебе не поможет! Ни в моей стране, ни в Британии, ни на островах, ни в польских или чешских землях.
Владимир побледнел. Тон конунга был обрекающим. Хуже всего, он сам понимал, что в Свионии вряд ли помогут. Но резкий отказ услышал слишком быстро. И такой, что уже нет смысла разговаривать еще, торговаться, обещать деньги и земли, которые еще не являются его собственностью.
Он поднялся:
– Благодарю, конунг, за прием, за ласку.
Тригвасон кивнул:
– Не за что. Что будешь делать?
– Буду пробираться на острова. На Буяне живут люди нашего языка. Они могучие воины и свирепые викинги. На Готланде – готовые к походам готы. Еще буду говорить с вождями тех племен, через чьи земли пойду.
Тригвасон покачал головой:
– Дорога опасная. Ты один?
– Нет. С надежным другом.
– С кем?
Владимир молча хлопнул по ножнам меча. Конунг улыбнулся:
– Да, этот не предаст…
Он продолжал смотреть на молодого воина изучающе. Таких встречал в своей полной опасностей жизни. Именно из этих вырастают вожди отрядов, что захватывают целые страны, раздают города своим сотникам, а каждый простой воин у них получает земли с деревнями, становится знатным господином и получает право первой брачной ночи! Как жаль, что оба его сына не такие. Свирепые и яростные, но нет в них расчетливости, нет чувства опасности, а в пирах напиваются до бесчувствия, и тогда их могут одолеть даже дети. А третий сын совсем еще мал…
– Никто не сможет тебе дать войско, – сказал он. – Да и не захочет. Твои шансы на возврат престола чересчур малы. Кто пойдет с тобой, когда погибнуть слишком легко, а надежда на успех ничтожна? И награда так мала?
– Я все понял, конунг, – ответил Владимир. Он был смертельно бледен, но спину держал прямой, а взгляд темных глаз был твердым. – Но мы еще не мертвы, верно?
Он повернулся к дверям, но конунг бросил резко:
– Сядь.
Владимир повернулся, брови поднялись в удивлении:
– Конунг, я не хочу у тебя отнимать зря времени…
– Сядь, – повторил конунг. – Я не закончил говорить. Так просто никто войска не даст, но я мог бы… при одном условии.
Владимир насторожился. В суровом голосе конунга появилось нечто новое. Словно собирался признаться в чем-то стыдном.
– Какое? – спросил он.
Они сели напротив друг друга. Конунг сказал изменившимся голосом:
– Мой старший сын Олаф через два дня уходит. Ему тесно здесь, тут только суровое море и голые скалы. Его манят южные моря, богатые города. Он пытался собрать викингов, но сейчас не время для похода. И он уходит один…
– Куда?
– Сперва идет в Царьград. Простым наемником, какой позор для сына конунга! Но я боюсь, что его необузданный нрав там накличет беду. Здесь ему многое сходит с рук. Когда как отважному и сильному воину, а когда, надо признаться, как сыну конунга… А там немало могучих воинов, и там он не сын конунга, а наемник, каких в империи тысячи… Да что там, сотни тысяч!
Владимир смотрел непонимающе. Конунг опустил взор, голос стал хриплым:
– Он старше тебя… но ты взрослее. Я понимаю людей, князь. Ты – уже князь, хотя, как я слышал, ты не рожден был князем, а сделался им. У нас не стыдись этого, этим гордятся!.. Викинги ценят и почитают тех, кто становится правителем благодаря уму и силе, а не по благородному рождению. Я наблюдал за тобой на пиру. Ты не пил, а только ел, ты всех слушал, а говорил мало, ты успел понравиться лучшим людям, а враги не сумели к тебе придраться и вызвать на ссору. Ты видишь не только то, что спереди, с боков и даже сзади, но умеешь заглядывать далеко вперед, а мой сын не видит и того, что перед носом!
Владимир слушал внимательно, но лицо держал почтительно удивленным. Конунг закончил совсем упавшим голосом:
– Я хочу, чтобы ты поехал с ним.
Владимир поднялся, в глазах был гордый отказ. Он поклонился:
– Спасибо за прием, конунг.
– Не спеши. – Голос был не конунга, а усталого и терпящего поражение воина, который нуждается в помощи, но слишком горд, чтобы ее просить. – Если поедешь с ним, то тебе легче удержать его от дурости… Ты моложе, но ты смог бы присмотреть за ним. А за год я соберу для тебя большое войско!
Владимир поколебался, сел. Сердце снова забилось с надеждой.
– А если… он не захочет вернуться?
– Я думаю, ты сумеешь убедить.
Владимир покачал головой:
– А все-таки?
– Вернешься один, – сказал конунг неохотно. – Если выживет первый год, то может и дальше. Пробудь с ним год, и я дам тебе войско! Мое слово твердо.
Глава 19
Они вышли на крыльцо, когда хриплый тянущий звук охотничьего рога прорвал безмолвие. Сырой холодный воздух задрожал, над головой с сиплыми криками пронеслись странные птицы. Вдали на изгибе горной тропы показались трое охотников. Передний нес на плечах оленя.
Даже издали было видно, как он велик и силен, а когда они, обогнув скалу, вышли к дому, у Владимира перехватило дыхание. Старший сын конунга Олаф Тригвасон был рожден стать викингом. Высокого роста и могучего сложения, он был по-мужски красив. Отвага и жажда приключений были написаны на его лице. Он был обнажен до пояса, несмотря на холодный ветер, на запястьях и предплечьях блистали широкие железные браслеты.
Он приблизился к крыльцу, небрежным движением стряхнул добычу, словно листок дерева, прилипший к плечу. Тяжелая туша грохнулась о ступеньки, дерево затрещало. Олаф засмеялся, показывая белые ровные зубы. Золотые волосы, перехваченные на лбу железным обручем, трепетали на ветру. Плотно обтягивающие ноги портки были из плотной шкуры морского зверя, на широком поясе висел нож, а рукоять огромного меча хищно выглядывала из-за спины.
– Отец, – сказал он сильным мужественным голосом, – я видел на дальней скале гнездо орла! Позволь, я добуду из него птенца?
Конунг сказал сдержанно:
– Сын мой, на той скале не побывал еще никто. Даже Эгиль Легконогий, что обгонял кошку на дереве… помнишь, что с ним стряслось?
Олаф беспечно рассмеялся. Двое траллов с трудом подняли тушу, понесли в дом. Синие глаза Олафа остановились на молчаливом Владимире.
– Он многое делал хуже меня, – ответил он уверенно. – У тебя гость, отец?
– Это конунг из Гардарики, – ответил Тригвасон. – Зовут его Вольдемар, он явился к нам за помощью. Ты мог бы повести наше войско… если мы с Вольдемаром сговоримся о цене.
Олаф с холодным презрением оглядел Владимира с головы до ног:
– Мужчина должен заботиться о себе сам. Я бы никогда ни к кому не побежал просить помощи!
Владимир стиснул зубы, молчал. Конунг покачал головой:
– В жизни часто бывают случаи, когда помощь нужна.
– Только не мне, – ответил Олаф гордо.
– Таких людей нет, – сказал конунг.
Голос его звучал непривычно мягко, словно рыкающий лев пытался разговаривать с котенком.
– Он перед тобой, – возразил Олаф гордо.
Завидев конунга и его сына, к ним неспешно подходили мужчины, женщины, дети. Олафа приветствовали веселыми возгласами. Он вскидывал могучие руки, улыбался, с боков к рукам поднимались могучие мышцы, делая его похожим чуть ли не на летучую мышь. От широченных глыб плеч он выглядел треугольным клином, поставленным острием на узкие бедра. Даже сквозь шкуру морского чудища было видно, что его сильные ноги приспособлены для долгого бега с тяжестью на плечах.
Владимир чувствовал себя загнанным в угол. Конунга приветствуют меньше, чем его сына. Тот одарен той редкой мужской красотой, что бросает ему под ноги сердца женщин и не вызывает злобы у мужчин.
Тригвасон встретил взгляд хольмградца, нахмурился:
– Олаф, я готов отпустить тебя на службу в Царьград. Ты многое увидишь, многому научишься. Даже если не заработаешь денег… никто еще не привозил оттуда ничего, кроме ран и увечий, то все же повидаешь дальние страны, узнаешь сильные стороны и уязвимые места. Будешь знать, куда направить удар наших жадных до славы и крови героев!
Олаф слушал подозрительно. Отец слишком неожиданно переменил мнение, это настораживало.
– Но у меня есть одно условие, – продолжил конунг, и Олаф едва заметно улыбнулся. – С тобой поедет русский конунг. Он тоже хочет попытать счастье на службе императора. Вам двоим будет легче… Мое условие в том, что из вас двоих старшим будет он. Ты будешь подчиняться ему!
Олаф покачал головой:
– Отец, я поеду с твоим разрешением или без него. Мне не нужен спутник. Тем более старший.
– Он конунг, – напомнил ему Тригвасон.
– А я сын конунга, – ответил Олаф насмешливо. – Отец, я могу поехать только во главе отряда, пусть даже самого маленького… пусть даже в нем будет один человек, или же еду сам. Я подчиняюсь тебе, конунгу Свионии, а не конунгу из далекого и чужого Хольмграда!
В мертвой тиши было слышно тяжелое дыхание конунга, Олафа, в то время как остальные затаили дыхание. Напряжение было такое, что кто-то мог хлопнуться на пол мертвым, когда Владимир сказал осторожно:
– Великий конунг, позволь мне слово?
– Говори, – сказал конунг, слова его пришли чересчур быстро, он тоже жаждал как-то выйти из этой схватки с сыном, которой не желал.
– Твой сын – отважный воин, – сказал Владимир, и только конунг уловил оскорбительный смысл, который вложил в свои слова хольмградец. Уловил, но смолчал: тот прав. – А воины редко подчиняются более умному или знающему… они признают лишь более сильного.
Этими словами он вовсе низвел Олафа до уровня лесного волка, однако конунг лишь кивнул, его сын и сейчас не поймет, процедил сдавленно:
– Продолжай.
– Мы не станем состязаться, кто грамотнее… или кто лучше знает, как воевали македонцы, – сказал Владимир громче, – хотя сыну конунга это знать бы не мешало… Мы просто решим все в поединке. Можем драться либо до первой крови… либо тупым оружием… либо на бревне… Проигравший да подчинится!
Конунг перевел взгляд на Олафа:
– Согласен?
Олаф широко улыбнулся:
– Зачем мне тралл? Я не стыжусь даже черной работы. И все умею делать сам.
– Ты зря так уверен, – сказал отец многозначительно.
Олаф вспыхнул:
– Отец, ты же знаешь меня!.. Я даже не могу гордиться шрамами, полученными в битвах, потому что сражал врага раньше, чем тот успевал меня даже поцарапать!
– Конунг Вольдемар тоже чист кожей, – напомнил конунг.
– У него могут быть другие причины!
– Так проверь, – предложил конунг. – А проигравший да подчинится!
Олаф сжал зубы, под кожей вздулись рифленые желваки.
– Добро. Но не пожалей.
Собравшиеся задвигались, заговорили. Кто бы ни вышел победителем, но окончательная ссора отца с сыном предотвращена. Пусть ненадолго, когда-то кровь прольется, но сейчас схватка будет другая…
Владимир видел, что конунг посматривает на него с сомнением. Конечно, хольмградский конунг умеет владеть оружием, но и его сын – лучший из викингов, в поединках нет равных, в морских набегах первым вступает в бой и последним выходит, бьется яростно и весело, всегда полон сил! Или хольмградец, в чьих глазах видна не только отвага, а ему, конунгу, виден также и острый ум, что-то задумал?
Двое сошлись в круге. Олаф смеялся и потрясал топором. Скупое северное солнце рассыпало блестки по могучим мышцам. Плечи широки, грудь необъятна, как у тура, живот в тугих валиках мускулов. Руки толстые от обвивших их мышц, ладони как весла с большого драккара.
– Еще не передумал, конунг? – крикнул он весело.
За его спиной смеялись громко и победно. Владимир молча расстегнул пряжку, отшвырнул плащ, а затем, подумав, стянул через голову вязаную рубашку-свитер.
Смех собравшихся стал сдержаннее. Хольмградский конунг был со смуглой кожей, его мышцы выступали не так рельефно. Пальца на два ниже Олафа, явно легче, но наметанные глаза наиболее знающих воинов сразу определили, какие мышцы хольмградца развиты упражнениями с тяжелым мечом, какие вздулись от бросания копья, какие появились от бега с мешком камней за спиной. Он был настоящим воином, викинги с такими сталкиваться не любили.
Владимир сделал два шага вбок, оставив солнце за спиной. Олаф усмехнулся, слабые лучи не затмят ему взор, но предусмотрительность противника понятна. Отец, в старости ставший осторожным, говорил, что в поединке не бывает мелочей…
Щит он взял небольшой, из бука, обтянутый кожей и с набитыми железными полосками. Вообще предпочел бы обойтись без щита, это для трусов, но иначе не допустят даже к поединку. Зато боевой топор любовно поворачивал перед собой, любовался отблесками света. Сердце начало стучать чаще, горячая кровь пошла по всему телу, ударила в голову. Что может быть лучше на свете, чем держать в горячей ладони рукоять тяжелого топора?
Владимир нагнулся к камню, где сбросил одежду и обе перевязи. Мышцы рельефно перекатились под смуглой кожей, тугие как канаты на баллистах ромеев. Когда он разогнулся, в руках блеснуло по мечу.
По кругу пробежал уважительный шепот. Хольмградец повернулся к конунгу, ждал. Глаза были холодными. Он молчал, не двигался.
– Оберукий, – сказал конунг, усмешка раздвинула губы, но тревога в глазах стала глубже. – Надеюсь, ты знаешь, как ими пользоваться.
Владимир уловил скрытый смысл, кивнул. Отец знал нрав сына и теперь уже боялся потерять наследника.
Олаф поворачивался перед ревущей толпой друзей, вскидывал в приветствии руки. Его мышцы перекатывались под белой кожей, как морские валуны. Он весь был из этих тяжелых глыб, а когда раскидывал руки, видно было, какая тяжелая масса мышц на плечах, спине и груди, в поясе был тонок, хотя и там бугры вспучивали кожу, заросшую рыжеватым мехом.
Конунг властно поднял ладонь. Шум смолк.
– Поединок до первой крови, – объявил конунг властным голосом. – Или до победы… понятной каждому!
Олаф смерил хольмградца недобрым взглядом, внезапно отшвырнул топор. В протянутую ладонь ему вложили меч. Топор – оружие воина, даже богатыря, но меч – прежде всего признак власти. Конунги сражаются мечами!
Держа меч обеими руками, он прижал его к груди, вскинул к небу, призывая Вотана. Лицо озарилось хищной улыбкой, глазами цепко держал лицо противника.
Владимир терпеливо ждал. Оба лезвия поблескивали в руках, как мокрые змеи. Олаф наконец подобрал щит, небрежно прикрыл левую сторону груди и шагнул вперед.
– До первой крови! – предупредил конунг строго.
По его знаку двое дюжих воинов встали за спиной Владимира и вдвое больше – за Олафом. В их руках были толстые веревки.
Конунг резко взмахнул рукой:
– Начали!
Олаф не бросился вперед, как ожидал Владимир. Бой был бы слишком короток, показать себя не удастся, собравшиеся будут разочарованы. С широкой улыбкой, играя мышцами, он без нужды пошел по кругу, зато давал всем полюбоваться его рельефной спиной, где одни молодые мышцы, ни капли жира, широко и мощно разводил в стороны длинные мускулистые руки.
Владимир, который сам вел бы себя так же, сразу же инстинктивно выбрал роль тихого и незаметного бойца. Не делая лишних движений, не напрягая без нужды мышцы, он отодвигался от наступающего Олафа, делая ритуальный круг, пока снова не оказались каждый на прежнем месте.
В толпе кричали, подбадривали. Олаф торжествующе улыбнулся, внезапно вскрикнул весело и страшно, взвился в воздух, одним прыжком преодолев расстояние до хольмградца. Владимир поспешно сделал шаг назад и в сторону, его мечи распороли воздух.
Зазвенело железо. Олаф ловко принял удар серединой щита, где блестела широкая бляха, Владимир отбил меч викинга. Оба отступили на шаг, удары были не в полную силу.
В толпе орали, подбадривали Олафа. Крики становились все злее, кто-то уже вопил исступленно, требовал крови. Владимир быстро зыркнул по сторонам, поймал озабоченный взгляд конунга.
Олаф подбадривающе кивнул Владимиру:
– Держись!.. Я иду.
– Жду, – ответил Владимир.
Олаф шагнул, красивый и напряженный, чуть пригнувшись, меч в правой руке, щит в левой, шагнул еще… и тут хольмградец словно взорвался. Оба меча заблистали с такой скоростью, что слились в две сверкающие полосы.
Вместо хольмградского конунга заметалось четырехрукое чудовище с четырьмя, а не двумя мечами. Конунг даже вспомнил такую статуэтку восточного купца, видел в Царьграде, бог разрушения. И мелькали мечи хольмградца с такой скоростью, что он был, как червяк в кокон, закутан в сверкающий шар из полос закаленного железа.
Не успела замершая толпа перевести дыхание, как этот вихрь из металла надвинулся на грозного викинга. Лязг железа превратился в сплошной звон. Олаф пытался вскинуть меч, но с ним словно бы дрались три противника: удары сыпались справа и слева.
Звон неожиданно оборвался. Хольмградец отпрыгнул, а Олаф стоял потрясенный, смотрел дико. В левой руке была зажата ременная петля щита, а тот, раскрошенный на щепки, усеивал землю на три шага вокруг. Меч был выщерблен в трех местах, да так сильно, что крепкий удар оставит в ладони викинга лишь рукоять. Но главное, что на груди и плечах Олафа кровоточили надрезы!
Молчание было полным. Все застыли, словно вмороженные в лед. Конунг первым совладал с потрясением. Сказал хрипло, в голосе был стыд и в то же время великое облегчение:
– Бой окончен. Победил хольмградский конунг Вольдемар.
В толпе молчание все еще длилось, победа хольмградца была полной, даже чересчур, но Олаф, похоже, только сейчас осознал глубину поражения. Он провел ладонью по груди, слизнул кровь. Синие глаза налились кровью. Голос стал яростный:
– Что царапина? Мы все возвращались из походов и не с такими ранами! Но возвращались победителями!
Он отшвырнул иззубренный меч, пошел на Владимира, раскидывая огромные руки. Конунг не успел сделать знак людям с веревками, как Владимир разом отшвырнул мечи. Взгляд, который метнул на конунга, был требовательным.
Мышцы на руках Олафа вздулись, как сытые змеи. На спине обозначились и застыли в каменной твердости две широкие, как щиты, пластины мускулов, их разделяла выемка хребта. С боков поднялись и застыли крылья тяжелых мускулов. Даже шея стала толще, голова как бы врастала в могучий торс. В глазах было обещание скорой и жестокой смерти.
Владимир в последний миг отступил на шажок, избегая захвата. Олаф тяжелее, полагается на звериную силу. Но зверь побеждает лишь того, кто не воспитан в борьбе с неведомым врагом. Олаф сильнее, но ему не приходилось бегать с мешком, набитым камнями, не стискивал ногами бока коня, чтобы трещали ребра, викинги все еще не знают коней, сын конунга привык побеждать среди таких же, как и он сам!
Он еще раз избегнул захвата, затем, перехватив за кисть, дернул, сам ушел в сторону и небрежно дал подножку. Олаф как падающая скала обрушился на каменистую землю, проехал на животе, обдирая лицо и локти, вскочил – яростный, с искаженным ненавистью лицом.
Владимир снова избежал захвата, опрокинул еще и еще, а на третий раз Олафу удалось захватить его обеими руками. Владимир ощутил, как затрещали ребра, в глазах потемнело. Зрители затаили дыхание, криков уже не было.
С трудом применив способ, которому учил еще Сувор, Владимир услышал, как вскрикнул от боли викинг, выскользнул из его мокрых от пота рук, внезапно ударил под ложечку. Викинг схватил ртом воздух, лицо побледнело. Владимир отступил на шаг, опустил руки. Пусть видят, что опять мог бы сразить надменного сына конунга!
Олаф судорожно вздохнул, наполнил грудь воздухом, взревел и бросился на противника. Владимир видел, как морщился конунг. Старый воин понимал, что сейчас его сын проиграл бой бесповоротно. Ярость хороша только против ярости.
Еще дважды Владимир опрокидывал взбешенного викинга. Тот был весь в царапинах и ссадинах, правую сторону лица расцвечивал кровоподтек, изо рта текла кровь. Когда поднялся в последний раз, изо рта вместе с кровью пошла пена. Он дико вращал глазами, трясся, в вытаращенных глазах было безумие.
– Берсерк! – раздались крики среди собравшихся. – Он стал берсерком!
– Олаф? Он не был…
– Берегитесь!.. Он всех…
Конунг взмахнул рукой. Веревки взвились в воздух, на ревущего в ярости викинга набросились и те, кто стоял за его спиной, и те, кто готовился вязать хольмградца. Олаф бешено сопротивлялся, катался по земле, две веревки лопнули, он орал и впивался в них зубами, один воин вскрикнул и затряс окровавленной кистью, разбрызгивая красные капли.
Владимир старался не смотреть на конунга. Берсерки всегда были позором семьи. Их брали в набеги, но в мирное время изгоняли из селений под страхом немедленной смерти. Им разрешалось жить, как зверям, только в дальних пещерах, куда не позволяли остальным гонять скот и охотиться. Даже само слово «викинг» является бранным, как на Руси – тать, или разбойник, а уж берсерк – это не просто разбойник, а порченый разбойник, который в припадке может убить и лучшего друга, как во сне, так и наяву.
– Я не знал, – сказал он, выравнивая дыхание, – что Олафу хочется достать птенцов орла. Я, чтобы сократить дорогу, пошел напрямик как раз через ту скалу… Твои люди меня увидели рядом с гнездом! Они и провели к твоему дому.
Ужинали в мрачном молчании вдвоем. Двое хмурых траллов обслуживали стол, бросали боязливые взгляды на гостя конунга. Тускло поблескивали широкие ошейники с именами владельцев. У обоих на лбу были выжжены тавра. Даже траллы знали, что гость оказался великим воином, одолел в поединке неистового Олафа, сына конунга. И что Олаф, к великому стыду отца, внезапно стал берсерком.
В дверь боязливо заглядывали, слышалась возня, сопение. Под окнами тащили что-то тяжелое, слышался стук топоров. Конунг наконец поднял тяжелый взгляд на тралла:
– Пусть войдет.
Тот исчез, вскоре за дверью послышались голоса. Появился Олаф, из-за плеч выглядывали стражи. Конунг раздраженно повел дланью, те с облегчением исчезли.
Олаф приблизился к столу. Мокрые волосы прилипли ко лбу, он зябко вздрагивал, потирал распухшие от веревок кисти рук. Лицо было бледное, вытянулось, как у коня. С Владимиром старался не встречаться взглядом.
– Садись, – велел конунг, – ешь.
Снова ели в молчании, уже втроем. Олаф держался непривычно смиренно. Даже ростом стал как будто меньше. Владимир не уловил той неистовой злобы, которой сын конунга полыхал совсем недавно.
Когда трапеза кончилась, конунг налил себе пива, спросил внезапно:
– Ну, что скажешь теперь?
Олаф пробормотал, не поднимая глаз:
– Я не знаю, что на меня нашло… Словно красная пелена упала на глаза! Я ничего не помнил.
Конунг кивнул:
– И проиграл с треском. Теперь понимаешь, почему старшим должен быть Вольдемар? Туда, куда ты едешь, все так бьются. Ну, пусть не все, но многие. Там правильному бою обучаются в особых школах!.. И те, кто их прошел, умеют побивать быков и покрупнее тебя.
Олаф бросил быстрый взгляд на Вольдемара, опустил глаза в тарелку. Владимир сказал серьезно:
– Олаф дрался очень здорово! Не многие и в Царьграде сумеют его побить.
Глаза Олафа исполнились горячей благодарности. Конунг побагровел, стукнул кулаком по столу:
– Не защищай!.. Ты же вредишь ему! Он только-только начинает понимать…
Олаф сказал поспешно:
– Отец, я не самый последний дурак на свете!.. Я жаждал убить твоего гостя за тот позор, на который он меня выставил. Но когда на меня вылили половину нашего моря – я и не знал, что в нем столько воды, – я понял твой подлый замысел… Ты опять прав, но когда же, наконец, я начну быть правым?
В его голосе было столько горечи и детской обиды, что конунг засмеялся, а на сердце Владимира тяжесть стала меньше. Олаф угрюмо рассматривал его через стол, внезапно протянул руку. Его ладонь была чуть шире, чем ладонь Владимира, но у хольмградца, как Олаф заметил теперь, желтело больше твердых мозолей от рукояти меча.
Владимир пожал руку. Еще не взял Киев, не отомстил, даже не побывал в Царьграде, но тяжесть на сердце в самом деле стала чуть-чуть рассасываться.
Глава 20
Конунг и Владимир, сталкиваясь головами, рассматривали расстеленную по столу карту. Конунг водил корявым пальцем, следуя по возможным дорогам. Владимир вздохнул, выпрямился:
– Вокруг всей Европы!..
– Но путь «из варяг в греки» вам заказан, – напомнил конунг. – Люди Ярополка тебя поймают и посадят на кол либо все-таки отпустят, но сперва привяжут за ноги к пригнутым к земле вершинкам деревьев… А заодно с тобой и Олафа.
– А он при чем?
– Он дурак и тебя не оставит.
– Из него получится хороший конунг, – сказал Владимир. – Таких воины любят. Но если плыть этим кружным путем, то сколько у нас на пути удивительных и богатых стран, городов, портов, таверн? Я могу вытащить Олафа из первой, могу из второй, третьей… Но вся жизнь уйдет на то, чтобы дотащить его до Царьграда!
Конунг хмуро молчал. Тралл принес холодного мяса и пива. Эгиль порезал длинным ножом, молча ел, запивал, разливая пиво на грудь.
– А что предлагаешь ты?
– Рискнуть коротким путем через Русь.
Глаза конунга предостерегающе сощурились.
– В тебе говорит нетерпение. Но так легче потерять голову.
– Конунг, – сказал Владимир тоскливо, – мне волхвы рассказывали, что однажды отец Юлия Цезаря застал его плачущим над книгой о подвигах Александра Великого. Отцу объяснил, что ему уже двадцать лет, а еще ничего не сделано для бессмертия! А ведь Александр, о котором читает, уже в восемнадцать лет вел свои войска завоевывать мир!
– Ну-ну, – подтолкнул конунг.
– Мне сейчас восемнадцать, когда вернусь, будет двадцать. Но и тогда я еще буду так же далек от трона, как и сейчас. Мне в самом деле надо торопиться, конунг! Для чего рождаемся и живем, как не для ярой жизни и славной гибели?
Далеко-далеко зазвучали боевые трубы. Или обоим показалось, в их душах они звучали часто.
Конунг наклонил голову:
– Прости, во мне заговорила слабость. Я шел через огонь и кровь, но сына пытаюсь уберечь! Но он такой же викинг, как и я. Нет, я могу гордиться сыном – он будет великим викингом и станет, может быть, станет… конунгом!
Они шли через леса, переправлялись через реки и озера, обходили болота, пробирались через луга и свободные от леса места, защищали жизнь и калитки от разбойников, при случае грабили сами, жгли дома и посевы, задерживая погоню.
В одной из малых весей Владимир купил двух коней. Олаф все еще не бывал в седле, и Владимир подвел к нему толстую спокойную лошадь:
– Пробуй. Я подержу.
Олаф огляделся по сторонам, прошипел зло:
– Выйдем за околицу.
– Ты чего? – удивился Владимир. Из-за плетней на них смотрели бабы и любопытные детишки. – А-а, соромишься… Ну, разве ты с ними когда-то встретишься?
Олаф сказал еще злее:
– Ты сможешь вывести коней из села?
Но и за околицей Олаф все мялся и, только когда с двух сторон потянулись деревья, надежно отгородив его от веси, сказал нервно:
– Ладно. Только если засмеешься – убью.
Голос его был холодным, а лицо словно окаменело. Владимир отступил на шажок:
– Олаф… В драккаре, что скачет по волнам, стоять труднее, чем сидеть на коне! Я бы не смог, клянусь. Ты уже почти все умеешь лучше.
Олаф смотрел недоверчиво, у хольмградца чересчур честное лицо, но уже и конь поглядывает с некоторым удивлением, пришлось браться за седло, вставлять ногу в стремя. Владимир замедленно сел на своего буланого, слез, снова сел, показывая каждое движение, и викинг наконец решился оттолкнуться от такой надежной земли.
Седло под ним крякнуло, заскрипело. Он замер, оказавшись высоко над землей, да не на скале, твердой и надежной, а на живом и теплом, что двигается само, уже прядает ушами и переступает копытами. Внезапно конь под ним шагнул в сторону, остановился, шагнул снова вбок, почти вломившись в кусты.
– Что с ним? – спросил Олаф шепотом.
– Не дави коленом, – посоветовал Владимир, он изо всех сил держал лицо неподвижным. – Не дави! Он же не знает, что это ты так… от радости.
Олаф бросил злой взгляд, но колени заставил застыть. Конь тоже застыл, спокойный и ждущий приказа. Олаф легонько коснулся его пятками, как делал Владимир, и конь тут же двинулся вперед. Олаф, замерев, смотрел, как мимо проплывают деревья, как далеко внизу уползает земля, и внезапно дикое ликование наполнило его от ушей до пят. Он едва не завизжал в восторге, подавил дикое желание вскочить на коня с ногами, запрыгать там, как ребенок под летним ливнем: устрашился, что конь тоже поймет как некую команду.
– Влад, – сказал он хриплым от волнения голосом. – Я могу ездить!
– Сможешь и скакать, – бросил Владимир одобрительно. В его голосе звучало облегчение. – А то все пыль, пыль, пыль из-под шагающих сапог! Ведь идем по Руси. Все просто, когда попробуешь.
Олаф все еще держался на коне как столб, напряженный и страшащийся сделать лишнее движение, но голос дрожал, едва не срываясь на ликующий визг:
– Боги Асгарда! О степных народах говорят, что едят и пьют на конях и все остальное тоже ухитряются делать, не покидая седла… Как это великолепно!
– Гм… лучше не пробуй. Ручей далеко, да и стираешь ты паршиво.
– Остряк! На коне, говорю, хорошо.
– Ты ползешь как улитка, – сказал Владимир беззлобно. – Но ты еще не скакал, обгоняя ветер. Ты не мчался так, что догонял бы выпущенные тобой же стрелы. А та радость, что еще впереди, намного хмельнее.
Два дня Олаф осваивал езду, повороты, учился седлать, затягивать подпруги, а на третий день, когда собрался было попробовать себя в лихой скачке, оба услышали конский топот.
Навстречу по лесной дороге ехали пятеро. Увидев Владимира и Олафа, чуть придержали коней, подали в стороны, так что перегородили дорогу. Тот, что ехал впереди, грузный и с роскошной черной бородой, прогудел, как раздраженный медведь:
– Клен, что тут за народ неведомый топчет нашу землю?
Второй, подвижный и с широкой улыбкой на лице, ответил услужливо:
– Да пусть топчут! Лишь бы пошлину платили.
Чернобородый впервые зыркнул на двоих встречных. Глаза были узкие, прятались под мощными надбровными дугами.
– Слышали?
Олаф напрягся, бросил руку на меч. Владимир ответил холодно:
– Нас пока никто не спрашивал.
Чернобородый надулся, проревел:
– Я говорю! Здесь земли принадлежат Черному Беркуту! И всякий, кто шастает здесь, платит. За топтание его земли, за то, что гадит и сморкается.
Владимир смотрел мимо него, как и Олаф. Чернобородый, он явно тиун, пыжится и сотрясает воздух, но слаб как телом, так, похоже, и духом. В нем нет твердости, он чувствует сам, потому злится и пыжится еще сильнее. Но сзади на конях двое настоящих, их видно по глазам, посадке, по тому, как держат руки вблизи рукоятей, а каблуки чуть отведены от боков коней, чтобы в нужный момент сильным толчком послать в галоп. Трое просто всадников, пусть и при оружии, и двое воинов, которые чего-то стоят.
Олаф, он тоже все видел, хмыкнул и неспешно потащил из-за спины меч. Его мускулистая рука напряглась, мышцы играли и перекатывались, как сытые змеи, а меч все выдвигался и выдвигался, наконец со вздохом облегчения покинул ножны. Олаф весело смотрел на чернобородого, но еще веселее был блеск его меча.
– Я слышу, ты хочешь заплатить нам за топтание?
Владимир буркнул с укоризной:
– Олаф… ты так давно не зрел девок, что готов топтать эту тучную свинью?
Олаф прорычал, скаля зубы:
– Ну, раз обещает еще и заплатить…
Владимир опустил ладони на швыряльные ножи. Глаза его не отрывались от двоих, которые выглядели наиболее опасными. Оба сидели спокойно, в глазах одного мелькнули веселые искорки.
Чернобородый задыхался, глаза стали как у совы. Он вытянул вперед палец, но Владимир перевел прицельный взор на его горло, расстегнутый ворот, и вдруг взгляд чернобородого протрезвел. Пока его люди бросятся на этих чужаков, швыряльный нож вонзится в плоть быстро и смертельно. Этот с черными глазами выглядит сущим бесом, в глазах смерть, а плечи уже напряглись для броска.
– Вы, – прохрипел он, сдавливая самого себя, – вы еще услышите обо мне…
Он подал коня назад, но Владимир, ощутив его страх, пустил буланого следом. Он все время держал глазами обнаженную грудь в разрезе рубахи. Всадники расступились, кони вовсе сошли с дороги. Олаф ехал следом, он надулся, как жаба перед дождем, и выглядел свирепо, готовый бить и рубить во все стороны.
Наконец тиун догадался подать коня на обочину. Чужаки проехали мимо, не удостоив его взглядом. Владимир слышал, как он орал и бранился им в спину, но пустые угрозы позорят говорящего больше, чем того, на кого обращены. Тиун этого не знает, но знают те, настоящие, и Владимир впервые ощутил, что значит поговорка «брань на вороте не виснет».
Олаф оглянулся:
– Смотри, так и остались!
– А чего ты ждал?
– Ну, погонятся… Я бы не стерпел.
– Олаф, он торгаш, а не боец. Что получит, даже убив нас? Этот Черный Беркут его заживо съест, что с нас ничего не взял, а троих потерял.
– Троих? – оскорбился Олаф. – Да я их один всех! Ладно, готов вон до той березы наперегонки?
Звездное небо колыхалось в такт конскому шагу. Владимир ощутил приступ тоски. Невидимые пальцы сжали сердце. Что за яркие костры в небе? Вон на ту, самую большую, волхвы говорят, что это небесный камень, которым заперта дыра в куполе. Если отвалить, то вода зальет землю. Но Сувор говаривал, что это золотой кол небесной коновязи, к которой боги привязывают своих коней. Ее ковали девять небесных кузнецов, она будет стоять до скончания мира. А вот ему кажется, что это нестерпимо блестит вершина далекой горы, самой высокой на свете. И всякий раз в груди разливается щем от жажды достичь, добраться хотя бы до подножия… А потом, передохнув, попытаться забраться как можно выше.
Олаф ехал залитый лунным светом, красивый и мрачный, как бог смерти. Золотые волосы в лунном свете блестели серебром, казались седыми, а его неподвижное лицо заострилось, как у мертвеца.
– Что это так сияет? – спросил Владимир негромко.
Олаф ответил, не поворотя головы:
– Золотые яблоки.
– Яблоки?
– Да. Золотые яблоки Асгарда, – сказал Олаф мрачно, – их охраняет богиня Идунн. Только они дают богам вечную молодость.
– А, – сказал Владимир. – А наши молодильные яблоки где-то на земле. Но только в тридевятом царстве.
В полночь стреножили коней, поспали у костра, а с рассветом уже снова были в седле. Когда впереди на берегу речушки показалось с десяток домиков, Олаф сказал живо:
– Заедем?
– Стоит ли, – поморщился Владимир. – У нас пока есть еда, воду пьем из ключей. Что тебе еще надобно?
– Да так… Интересно живут у вас.
Уже в двух весях Олаф ухитрился поучаствовать в обычной забаве славян: стенка на стенку. Две веси сходились на границе, схватку начинали два признанных бойца, потом в общую драку бросались все мужики и парни. Олаф всякий раз бил и крушил, показывая невиданное в деревенских весях воинское умение, но во второй раз Владимир уже привязал ему левую руку за спину, и Олаф дрался только одной правой. Соблазнившись легкой добычей, на него наседали больше всего, и снова Олаф расцветал от свирепой радости, слыша, как под его кулаком хрустят челюсти, а бойцы выплевывают с кровью и крошево из зубов.
– Только купим овса коням, – предупредил Владимир, – сыра и мяса. К полудню надо одолеть верст сорок.
– Одолеем, – согласился Олаф легкомысленно. – Сколько уже проехали? Не может же Царьград быть дальше, чем еще за пару весей?
Дорога петляла, тонкая и непробитая, по такой ездили явно мало. Судя по всему, весь жила замкнуто, сюда если и приезжали, то лишь за княжескими поборами раз в год, да и то по зиме.
На околице Олаф внезапно остановил коня так резко, что сам едва не сверзился через голову. Владимир встревоженно посмотрел по сторонам:
– Что стряслось?
– Погоди, – прошептал Олаф испуганно, – дай ему пройти…
Дорогу пересекал важный кот, черный, как будто купался в дегте, хвост трубой. Когда лениво посмотрел в сторону всадников, зеленые глаза предостерегающе блеснули. Владимир шикнул, пустил коня вперед. Кот даже не ускорил шаг, важно подошел к изгороди, протиснулся в щель и пропал.
Олаф нерешительно тронул коня, еще не уверенный до конца, пересек ли его друг кошачьи следы. Владимир покачал головой. Олаф спросил, защищаясь:
– Ты не веришь в беды от черных котов?
– Для мышей – да, – сказал Владимир. – А ты кто?
Олаф, доказывая, как быстро освоился на Руси, потащил Владимира вперед. Его нос подергивался, и Владимир сказал насмешливо:
– Ежели корчму ищешь, то зазря.
– Почему?
– Да кто в такой крохотной веси корчму держит? Поедем к войту. У него наверняка есть не только сыр для продажи, но даже бочка пива. Правда, с утопшими крысами и тараканами, но сколько там они выпили?
Избу войта он уже видел, самая добротная, а когда подъехали ближе, Олаф указал на крупного мужика в глубине двора. Тот обтесывал на колоде заостренный кол, острое лезвие снимало стружку почти любовно, и обычный кол, явно для изгороди, выглядел как игрушка.
Мужик поднял голову. Серые глаза внимательно смотрели из-под седых бровей. Он молчал, Владимир сказал дружески:
– Боги в помощь! Мы проезжаем мимо. Можно воды холодной напиться? Еще мы могли бы сыру и мяса купить на дорогу.
Мужик ответил замедленно:
– Спасибо на добром слове. Мы таких крепких ребят на конях не видывали уже много лет. А теперь вот за одну неделю уже второй раз…
Владимир окинул его быстрым взглядом. Он почувствовал этого человека сразу. Упорный работник, честный, не боится ни божьего гнева, ни мокрых лап ночных упырей. Поручи любую работу – сделает, к тому же всегда лучше, чем ожидаешь, а когда нет работы, то не сидит на завалинке, а что-то копает, тешет, строгает, точит, и всегда либо с усмешкой в глазах, либо вовсе с широкой улыбкой на лице. Таких он встречал в Киеве, Новгороде и уже понял, что на таких стоит любое племя.
– Да, – ответил он спокойно, хотя на затылке зашевелились волосы, – это в самом деле удивительно.
Из дома выбежали двое мальчишек, с восторгом ухватили коней, едва не подрались, увели к колодцу. Мужик широким жестом указал на дом. Ладонь была широкая, в мозолях, привычная к рукояти топора.
Владимир уже в сенях обронил как будто невзначай:
– А кто они, эти крепкие ребята?
– Княжьи дружинники, – ответил войт спокойно. – Кто же еще? Самые крепкие туда идут, там им задурно деньгу дают.
– Разве задурно? – засмеялся Владимир. – Голову кладут!
– Да сейчас вроде бы ни с кем не воюем.
Олаф первым припал к ковшику, его подала юная хозяйская дочь, и Олаф пил, пожирая ее глазами поверх края ковша, пока у девушки румянец не залил щеки, а потом перетек и на шею.
– Да, – согласился Владимир, – что ж их сюда занесло? Тут вроде ни князья на охоте не бывают, враг не показывается, непокорных бояр нет…
Войт опустился на лавку, Олаф с готовностью сел к столу. Из хозяйской половины пришла женщина, молча и деловито засуетилась у печи.
– Кто их знает, – ответил войт с расстановкой. – Я ж говорю, крепкие ребята… Кого-то ищут. Вроде должны перехватить! Ребята подобрались дубки, один к одному. А их вожак так вообще велет. Настоящий велет! Сам здоровый как бык, мечом орудует почище чем ложкой. Я сам видел, как разрубил трехгодовалого быка одним ударом!
Владимир спросил с ленивой насмешкой:
– А у быка тоже был меч?
Олаф весело скалил зубы. Огромные руки выложил на столешнице, кулаки с детскую голову, большой палец одобрительно оттопырил вверх.
Женщина поставила на стол дымящуюся овсяную кашу с молоком. Олаф выждал, пока хозяин скажет слова благодарности богам, потом с Владимиром наперебой ухватились за ложки. Расписные, легкие, и выделаны так любовно, что в руке лежат так, будто там и были всегда.
Олаф глотал горячую кашу, фыркал как кот на горячее молоко, он еще ничего не чуял, а по спине Владимира уже побежала липкая струйка пота. Проклятый викинг накаркал со своим черным котом. Эти дружинники киевского князя здесь проехали неспроста.
– Как называли их вожака? – спросил он между делом.
Он чувствовал на себе взгляд войта. Этот взгляд стал тверже, хотя ответил войт с некоторой заминкой:
– Я сам не слышал… Проехали не останавливаясь. Но моя Златка узнала от девок, что его кликали не то Збаражко, не то Валяшко…
– Варяжко! – вырвалось у Владимира.
Олаф уронил ложку, а войт кивнул удовлетворенно:
– Похоже. Ты его знаешь?
– Слыхал, – пробормотал Владимир. Он наклонился над миской, пряча глаза. – О сильных да могучих везде рассказывают.
– Это верно, – согласился войт. – О таких парнях и здесь долго будут помнить. Только мимо проехали, но для россказней много ли надо? В наших краях одни медведи да волки. Сегодняшний день похож на вчерашний, и так из года в год. Пожар когда случится, и то вроде праздника.
Со двора донеслись детские голоса. Войт выглянул, погрозил пальцем. Там заверещали веселее. Войт снял со стены кнут и, кивнув гостям, вышел.
Владимир пересел так, чтобы видеть двери. Да и рукоять скифского акинака теперь торчала из-под руки, едва не задевал, когда работал ложкой. Олаф проследил за его взглядом:
– Ты слишком подозрительный!
Владимир пожал плечами:
– Зато еще жив.
В молчании ели, прислушиваясь к голосам. Похоже, войт с помощью кнута разбирал детскую ссору. Но мог и послать мальчишку вдогонку за дружинниками великого князя. Добротный надежный мужик, опора любого княжества, он и должен помогать князю крепить порядок, покой, ловить беглых преступников!
Глава 21
За спиной осталось верст двести-триста, а они сменили коней лишь дважды. Правда, в последний раз попросту украли, не успев и не желая общаться с хозяевами.
Олаф повеселел, глупо покупать, когда можно украсть. Не в деньгах дело, но при покупке равняются с торговцами, а в краже есть героическое, неразрывное с риском, опасностью, блеском холодного булата.
Владимир мрачнел. Пастухи, что брели за огромным стадом, с восторгом рассказали о княжеских дружинниках на невиданных здесь конях – злых и огромных. Сами дружинники, все как один, – богатыри, в железной чешуе, в железных шапках, красные сапоги на двойной подошве из свиной кожи, уздечки на конях с серебряными бляшками.
Ищут кого-то, объяснили пастухи простодушно. Выспрашивают местных, а всем войтам объявили о награде за поимку двух особо опасных преступников. Их велено схватить и держать до их прибытия…
Тут только пастух прикусил язык, глаза выпучились, как у совы. Его напарник уже пятился, пока не уперся спиной в коня Олафа. Викинг нагнулся, ухватил за волосы:
– Зарежем?
Голос его был будничным, деловитым. Владимир заколебался. Пастушок смотрел жалобными глазами, побелел, из чистых синих глаз медленно покатились слезы.
– Пусть идет, – сказал он нехотя.
– Выдаст, – предостерег Олаф.
Он все еще держал за волосы, а лезвие ножа приложил к горлу. Пастушок боялся даже вздохнуть, чтобы нож не опустился ниже.
– Если зарежем, – бросил Владимир нехотя, – все равно догадаются. Тут, поди, отродясь никого не убивали. Разве что кольями в пьяной драке.
Олаф широко ухмыльнулся:
– Тогда я пошел за колом?
Но пальцы разжал, пастух на ватных ногах без сил опустился на землю. Олаф хохотнул:
– Вольдемар! Не думаю, что твой Варяжко так уж страшен.
Они поворотили коней. Владимир бросил через плечо:
– Зря не болтайте. Только когда спросят о нас, тогда уж… А сами не спешите. А то мы вас и после смерти отыщем.
В его хриплом страстном голосе было столько силы, что даже Олаф ощутил подобие страха. А пастухи со всех ног бросились к стаду, что уже выбрело на дорогу к селу.
– Не сам Варяжко страшен, – сказал Владимир тоскливо. – Хотя и он не подарок… Но против нас он поднял весь народ. Мы теперь два беглых изгоя! А как пройти через всю Русь… а она намного больше, чем ты думаешь, и не попасть на глаза? Ни в поле, ни в весях, ни в лесу?
Олаф сказал беспечно:
– А что нам еще остается?
– Да вроде ничего.
– Повернуть назад нельзя?
– Ты что, – испугался Владимир. – Лучше уж звон мечей, кровь и гибель в чистом поле.
– Тогда вперед! – сказал Олаф сильным звонким голосом. Он гордо и красиво выпрямился в седле. Камень в обруче на лбу рассыпал солнечные искры, но еще ярче блестели синие, как небо, глаза викинга. – У мужчин – мужская судьба. А женских могил и не должно быть в поле. Ну, попробуем во-о-он до того дерева наперегонки?
В малой веси, через которую Владимир и Олаф проехали сутки тому, войт стоял перед Варяжко. Дружинники окружили старика плотным кольцом, Варяжко сидел на огромном коне, в котором чувствовалась дикая сила. Сам Варяжко свирепо сверлил глазами седобородого старца. Тот поклонился явно из вежества, власть как-никак, а страха не видать в тщедушном теле.
– Владимир, – повторил войт в задумчивости, – видать, чем-то крепко насолил вам этот удалец, ежели целое войско мчится по его следу…
– Дед, – сказал Варяжко предостерегающе, – ты не умничай. Ты скажи только, раз уж он тут проехал, в какую сторону подался? Что говорил? Что собирался делать?
Один из дружинников с готовностью вытащил плеть с вплетенными в кожу свинцовыми жилками. Замахнулся, глядя на Варяжко.
Войт покачал головой. Старческие глаза смотрели без страха.
– Я бы на вашем месте оставил это дело.
Варяжко подал знак, плеть обрушилась с силой, послышался хлопок, будто лопнул бычий пузырь. Рубаха сползла с плеча, на грудь коня Варяжко брызнула кровь.
Войт дернулся, в глазах застыла боль.
– Бей, раз такая у вас власть. Но я о вас заботился, молодежь вы удалая! Деньгу вам обещают большую, но разве своя голова не дороже?
Варяжко зло засмеялся:
– Нас две дюжины богатырей. И все мы давно забыли, как пахать землю. А звон мечей слышим часто. Если ты видел двоих, чьи приметы совпадают, ты обязан сказать княжеским людям.
Войт сказал смиренно:
– Да. Проезжали тут двое. Разговаривали мало, держались мирно. Но когда один посмотрел на меня своими синими глазищами, меня продрала дрожь, будто я голый стоял на зимнем ветру!..
– Это викинг, – сказал дружинник с плетью возбужденно, – ну-ну, дальше.
Войт вздрогнул, сказал внезапно охрипшим голосом:
– Потом я взглянул в глаза другого…
– Ну?
– Лучше бы меня голым бросили в костер! В его черепе бушует пламя, перед которым раскаленная болванка в горне покажется сосулькой. Он едва не сжег меня своими коричневыми глазищами, а когда ушли, я был счастлив, что по телу не пошли волдыри от ожогов. Даже ведунью вызывал… Кого-то он мне напомнил! Но кого? Он совсем молод, а мне чудятся времена юного князя Игоря, когда тот через наши земли вел дружину богатырскую на Царьград…
Варяжко зло оскалил зубы. Дружинник с плетью еще раз с наслаждением обрушил ее на худые плечи, старик пошатнулся, во дворе за плетнем взвыли и запричитали бабы. Как хищные волки, киевские дружинники гуськом понеслись в ту сторону, где последний раз видели беглецов.
Пастухи ли сказали, еще как-то Варяжко узнал, но на другой день Владимир и Олаф уже сами ощутили погоню. Сперва донесся трубный звук, кто-то созывал остальных, будто обнаружил следы, затем рог прозвучал трижды, указывая направление.
Наткнувшись на крохотную весь, Владимир, уже не скрываясь, выбрал двух свежих коней, оставил своих, и они понеслись по дороге в лес.
Конечно, Варяжко с людьми сменил коней тоже. Похоже, они меняли их чаще, ибо звуки рога Владимир слышал все отчетливее.
Олаф облизал губы, на них выступили белые разводы соли. Владимир терпел, он не пил со вчерашнего вечера. От жажды кружилась голова, а слабость охватывала с головы до ног, прокатывалась пугающей волной все чаще.
Лай собак послышался ближе. Владимир хлестнул коня, тот перешел на дряблую рысь, но Владимир чувствовал, как простой рабочий конь покачивается под его весом. Справа скакал Олаф, и Владимир услышал его сдавленный возглас:
– Проклятие!.. Почему мы такие… крепкие ребята?
Викинг тоже был не рад своему росту, своим широким плечам и своей мощи, упрятанной в крупное тело с толстыми костями, тугим мясом и толстыми сухожилиями. Раньше в любой толпе смотрел поверх голов, раздвигал народ, как бык раздвигает стадо молодых телят, а теперь его груда костей и мускулов убивает коня, а с конем сгинет и он сам!
Владимир на скаку вытащил лук, кое-как натянул тетиву, сунул обратно в берестяной лубок слева от седла. Олаф мчался, пригнувшись к конской гриве, похожий в скачке на степняка, которым завидовал. Золотые волосы трепало ветром, из-за плеча выглядывал и просился на волю двуручный меч.
Дорога расширилась, по обе стороны мелькали ухоженные деревья, нарядные и светлые. Земля отзывалась под копытами стонущим гулом. В версте впереди показался одинокий дом. Двуповерховый, первый не видно за высоким забором, а второй весело блестит под солнцем новенькой крышей, бревна еще не потемнели, по обе стороны зеленеют кроны невысоких деревьев…
– Туда? – выкрикнул Олаф.
– Там все-таки забор, – ответил Владимир.
Конь под ним тоже увидел домик. Владимир чувствовал, как бедный зверь затрусил быстрее, догадываясь, что придет конец его мучениям, там переведет дыхание, а потом напьется так, что брюхо достанет до земли.
– Мой конь уже падает! – донесся из-за спины крик Олафа.
– Но ты не конь! – крикнул Владимир жестко.
Оглянувшись, он увидел исхудавшее лицо Олафа, красные глаза. В следующее мгновение Олаф тяжело соскользнул на землю, побежал, держа коня в поводу. Лай гончих псов слышался совсем близко, вот-вот выметнутся из-за поворота, тогда увидят и припустят еще быстрее.
– Хватайся за мое стремя!
– Твой конь… – прохрипел Олаф на бегу, – твой конь… еще дохлее…
Владимир бросил себя с седла в последний миг. Олаф догнал, побежали плечо к плечу, дыхание вырывалось с хрипами, но домик постепенно рос, а оба знали, что никакой конь на свете не сможет бежать ни так долго, как человек, ни так же быстро.
Ворота со скрипом открывались с той стороны. Владимир успел увидеть клинышек двора. Прямо напротив фыркали и выгибали шеи два коня. За ними виднелась повозка.
– Гони!
Они ворвались во двор, Олаф тут же бросился закрывать ворота, а Владимир сорвал с крюка на седле лук и туго набитую тулу. Во дворе прозвучал испуганный крик, женский визг. Кони в повозке испуганно попятились, едва не опрокинули седоков.
Конский топот нарастал. Владимир успел вскочить на приступку, а из леса выметнулись всадники. Впереди мчался на белом в яблоках коне всадник в развевающемся плаще, в поднятой руке рассыпал солнечные искры меч. За ним неслись всего трое, но из леса выплескивались все новые всадники.
За спиной слышались голоса, женский крик, но там пусть управляется Олаф, а здесь пальцы заученно выхватили стрелу, наложили на тетиву, Владимир задержал дыхание и начал оттягивать тугую жилку к уху. Первый выстрел может быть неспешным, особо прицельным, а потом уже придется не стрелу оттягивать, а сам лук выбрасывать на вытянутую руку и вжикать стрелами.
Он выждал мгновение, учитывая вялое движение воздуха, скорость скачущей лошади, картинную посадку всадника – жаль, не Варяжко, тот не бахвалится и меч зря не вынимает, – мысленно взмолился к богам, затем пальцы разжались…
И тут же начали хватать за концы стрел, бросать на тетиву, он чувствовал болезненный щелчок по руке, тело жило как бы само по себе, он только выполнял то, над чем долго и упорно упражнялся еще в Киеве, а потом в Новгороде.
Первую стрелу он целил в грудь вожака, пусть там даже доспех, но дальность ли велика, всадник ли успел заметить и начал пригибаться, но Владимир не увидел, куда тот делся вместе с конем, а другие его стрелы обрушились на скачущих железным градом, били булатными клювами, но дружинники еще неслись вперед, вскрикивали от боли, затем начали замедлять бег куда раньше, чем оказались перед воротами.
Владимир видел обозленные бородатые лица. Двое соскочили с коней, бросились с топорами к воротам. Он быстро достал их тремя стрелами. Один сел у ворот, другой с проклятием убежал, зажимая шею. Из-под пальцев текла кровь, но стрелы Владимир не увидел.
– Отворяй! – донесся дикий крик. – Отворяй, именем великого князя!
Еще пятеро всадников кружились возле ворот. От стрел теперь закрывались щитами. Из леса, как с великим облегчением увидел Владимир, всадников больше не было.
– Кто такие? – крикнул он.
– Дружинники Ярополка! – свирепо гаркнул один, матерый и толстый, весь в кожаном панцире, поверх которого блестели широкие пластины железа. – Сдавайся!
Владимир вскрикнул, стараясь, чтобы голос звучал как можно испуганнее:
– А что мне будет?
– Дурень, – рявкнул воин, – ничего!
– Ну да, а пошто гнались?
– По приказу Ярополка. Тебя велено доставить в Киев. Только в Киев, ничего больше!
Голос был мощный, но чересчур уверенный. Явно подсказывает, понял Владимир угрюмо, чтобы не понадеялся бежать по дороге, до Киева еще ехать и ехать, и чтоб отдался в их руки сейчас.
– В Киев? – переспросил он недоверчиво. – Это верно?
– Клянусь Перуном! – сказал воин громко.
Владимир потребовал:
– А вдруг ты из торговцев? Поклянись Велесом.
Воин оглянулся на остальную четверку, те улыбались, а щитами загораживались от стрел уже не так тщательно.
– Не веришь, – сказал воин с укором. – Клянусь Велесом, клянусь великим Сварогом, Ярилой, клянусь Белбогом и самим Родом, что не видеть мне вирия и своих родителей, если не доставлю тебя целым и невредимым в Киев к твоему брату Ярополку!
Клятва прозвучала страшная, воины даже переглянулись, один побледнел, чуточку подал коня назад. Но бородач смотрел уверенно, сидел гордо, голос звучал властно.
Это не рус, подумал Владимир, холодея. И не славянин. Ни один рус, ни один славянин не произнесет такую клятву. Даже варяг не скажет такое, дабы не оскорбить богов земли, по которой ходит. Уже хотя бы потому, что пленник может умереть в дороге от хвори и тем самым клятва повергнет давшего ее в подземный мир в когти Ящера.
– Добро, – сказал он с облегчением, – я сейчас открою ворота… Только пообещайте не трогать моего друга. Он сильно ранен, истекает кровью. Не глумитесь над ним! Пусть умрет своей смертью.
– Договорились, – ответил воин поспешно.
Владимир соскочил на землю. Олаф с обнаженным мечом затаился у ворот, а на крыльце толпились челядинцы. В окнах мелькали испуганные лица. Кони, разогретые скачкой, кружили посреди двора.
– Все понял? – шепнул Владимир.
Он выдернул засов, створки подались. Олаф пятился, скрываясь за ними, Владимир быстро взял меч в правую, а левой тянул створку, показавшись наполовину.
Широкая улыбка бородача внезапно стала жестокой. Он пришпорил коня, тот ринулся в открытые ворота. Воины поспешно погнали коней следом, и Владимир перехватил меч обеими руками.
Глаза бородача расширились, но он не узнал, что обрушилось слева, а Олаф отпрыгнул и занес меч для страшного удара уже по другому. Конь внес страшно разрубленное тело во двор, следом вскочил еще один, этого достал Владимир, а затем поспешно выбежали из ворот. Всадников все еще трое, и они на конях!
– Один! – страшно вскрикнул Олаф.
– Перун! – крикнул Владимир еще звонче.
Всадники поспешно хватались за мечи, но те мгновения, когда верили в сдачу беглеца, расслабили их руки, чужие мечи быстро поразили двоих. Третий наконец выхватил саблю, завертелся в седле, с двух сторон подступили страшные, как боги войны, люди-великаны, их руки забрызганы кровью, а в глазах ярость.
– Нам не нужна твоя голова! – крикнул Владимир. – Опусти топор. Где сам Варяжко?
Воин, бледный и с расширенными от пережитого страха глазами, огрызнулся:
– Скоро узнаешь!
– Слезай, – велел Владимир.
– Ты еще меня не убил, – бросил всадник.
На Владимира смотрело совсем юное лицо, безбородое, с голубыми испуганными глазами. Но голос отрока не дрожал, а щит и саблю он держал крепко и правильно.
– Ты в самом деле из дружины Ярополка? – спросил Владимир недоверчиво. – Ты ж на соплях еще скользаешься!
– Я из его лучшей сотни, – ответил молодой воин гордо. – И ты это узнаешь!
Неожиданно быстро он обрушил сильный удар. Владимир едва успел отпрыгнуть, лезвие чуть не отсекло ухо. Воин напирал конем, снова и снова замахивался, рубил, Владимир то подставлял меч, тот звенел и едва не выпрыгивал из рук, сабля оказалась тяжела, но владел ею молодец умело и сноровисто.
– Ты сам напросился… – процедил Владимир.
Но воин рубил с коня сильно, Владимир пятился, чувствовал, как смерть все ближе и ближе, но вдруг воин вздрогнул, выпрямился всем телом. Мгновение смотрел на Владимира остановившимися глазами, изо рта плеснула алая струйка. Затем завалился лицом вниз.
Владимир сквозь грохот в ушах услышал голос:
– Знаю, ты хотел сам, но нам пора убираться.
Олаф уже бросил меч в ножны, ловил коней. Владимир на подгибающихся ногах обошел павших, только двое стонали и пытались ползти, раненные тяжело, остальные так и лежали в лужах крови. Торопливо собрал калиточки с монетами, поснимал золотые перстни. Судя по кольцам, все пятеро из старшей дружины. Только старшим дружинникам дозволено носить золотые кольца на большом пальце левой руки.
Он распахнул рубашку на груди бородача. В глаза блеснула толстая серебряная цепочка, но вместо оберега тускло мерцал золотой крест. Так и есть: не рус и не славянин, а из подлых христиан. Потому и клялся так легко чужими для него богами.
Олаф нетерпеливо покрикивал. Владимир сорвал крест, золото и в аду золото, вырвал из уха серьгу с крупным рубином, а большой палец, с которого не снималось кольцо с зеленым, как молодая травка, изумрудом, хладнокровно отрезал. На досуге снимет, за такой камешек можно табун добрых коней купить.
Дальше всех лежал, раскинув руки в луже крови, молодой красивый воин. Из горла торчала стрела. Лицо было бледное, без кровинки, глаза смотрели недвижимо в небо. Но даже у мертвого на лице застыла надменная гордость, даже перед лицом богов не забывал о своем знатном роде. Доспех на нем был дорогой, искусно подогнанный, украшенный серебром и золотом. Кольца и перстни снялись легко, но один палец все же пришлось отхватить, Олаф коней удерживал с трудом, они храпели и вздымались на дыбы, чуя кровь хозяев, викинг изнемогал в непривычной схватке.
Владимир помахал челяди:
– Собирайте добычу! Оружие, доспехи – ваши.
Он с разбегу запрыгнул на коня. Олаф вскрикнул завистливо. Один молодой мужик решился выйти к воротам. Глаза быстро и жадно пробежали по добротной одежке дружинников.
– А что сказать, когда приедут… остальные?
– Мы все забрали, – бросил Владимир. Он кивнул на убитого бородача: – А этого закопай быстрее. Вместе с собаками! Это христианин.
Мужик сказал деловито:
– В такую жару этот бугай провоняет все окрест.
Глава 22
Кони, еще не остывшие от скачки, пошли резво, ровным галопом. В поводу скакали следом трое заводных коней. Олаф скалил зубы, викинг всегда наслаждается настоящим, Владимир пугливо прислушивался, приподнимался в стременах, заглядывал через верхушки кустов.
И жаль, что не Варяжко привел этих: можно бы сразу избавиться от лютого врага, и хорошо, что не Варяжко: при нем народу побольше, да и сам Варяжко не даст себя сшибить стрелой, да и не попадется так глупо в воротах.
Олаф скакал, судорожно впепившись в коня, как клещ, бледный и напряженный. Конь чужой, к тому же наконец-то настоящий конь, а не рабочая кляча, которых они покупали или меняли раньше. Этот конь в самом деле рожден для скачки, для схватки грудь в грудь, под коленями чувствуются настоящие тугие мышцы боевого коня…
– Семеро! – воскликнул он внезапно.
– Что? – не понял Владимир.
– Семеро, говорю! – крикнул Олаф снова, он не поворачивал головы, пугливо пригибался под проносящимися над головой толстыми сучьями. – Мы вдвоем срубили семерых! Об этом будут говорить и петь.
Владимир оглянулся, вслушался в крики лесных птиц:
– Восьмерых.
– Что? – теперь не понял Олаф.
– Не хвастай, говорю. Раз повезло, не повезет в другой. Их вожака я сшиб первым. Растерялись, бородач стал за старшего, с этого и пошла дурь. Его хитрости не хватило бы обмануть пень в глухом лесу.
Деревья подступили к тропке ближе. Ветви опускались ниже, воздух стал влажным, плотным, как в наглухо закрытом амбаре с сеном. Тропка сузилась, часто петляла. Владимир пустил коня шагом. Сзади стучали копыта коня Олафа, заводные тянулись позади как гуси.
Когда лес сомкнулся со всех сторон, Владимир остановил коня:
– Придется пешком.
Олаф подъехал бледный, мокрый от пота, будто вынырнул из ливня. Грудь ходила ходуном, словно это он нес коня.
– Пеш… ком? Ни за… что.
– Какой же ты викинг? – укорил Владимир.
– Я прирожденный викинг, – ответил Олаф, он жадно хватал воздух ртом как рыба на берегу, – но я не дурной викинг… мы тоже не ситом море черпаем. Вон от того дуба с дуплом идет тропка…
Владимир сказал с горечью:
– Лесная. Звери протоптали.
– Если лось проходит, – возразил Олаф, – почему не мы?
– Да, – сказал Владимир, – такой лосяра, как ты, пройдет. Но вот кони…
Олаф похлопал коня по влажной шее. Тот шатался под могучим викингом, вздрагивал. На удилах повисла желтая пена.
– А что кони? Кони тоже люди. Завалы обойдем, под зависшими валежинами проползем. Надо попробовать, Вольдемар.
Владимир прислушался – везде обычные лесные шорохи, – соскочил на землю. Он все еще вздрагивал, даже пригибал голову, когда с дерева падал сучок, сбивая в падении листья, а лицо было изнуренное и озабоченное.
– Мне тоже жаль бросать коней. Ладно, выбери одного. Нет, двух. Попробуем провести. Остальных придется оставить. Авось люди их найдут раньше, чем отыщут волки.
Олаф слез нехотя, долго осматривал коней. Те как чуяли, что останутся в темном и страшном лесу, дрожали и тянулись к викингу, который раньше их побаивался, а теперь чуть не плакал, что таких добрых зверей разорвут волки.
Полдня пробирались через чащу. Наткнулись на ручей, попробовали идти по руслу, но слишком много деревьев лежало поперек. На земле можно переступить, а здесь комель на одном берегу, вершинка на другом – пригибайся, ползи под стволом чуть ли не на четвереньках, а он тебя норовит ухватить за шиворот острыми сучьями.
Олаф крепился, Владимир слышал только яростное сопение и стук железа по дереву. Викинг старался идти впереди, сбивал топором ветки. Человек протиснется везде, но конь не для леса, и Владимир ожидал, что викинг вот-вот сдастся, признается, что зря тащат коней, когда спереди донесся его сдавленный возглас:
– Или мне мерещится…
– Что там?
– Деревья вроде бы светлеют.
– Мерещится, – отмахнулся Владимир. – Тебе уже мерещилось.
Олаф заспешил, стук топора и нетерпеливый голос зазвучали чаще. Владимир тащил усталого коня почти силой, под ногами сырой мох сменился травой, деревья в самом деле стали словно чище, а впереди возник свет.
Олаф радостно повизгивал, как огромный щенок. Толстые корявые стволы расступались, лесная тьма оставалась за спиной. Валежин уже не попадалось, под ногами чисто, только трава, даже сушин нет – явно сюда захаживают за дровишками, хворостом, сухими сучьями. Даже на березах видно, как драли бересту, Олаф таких примет не замечает.
Олаф ждал Владимира у крайних деревьев. Дальше расстилалось поле, большей частью засеянное. А еще дальше белели хатки с соломенными крышами.
– Можно было и остальных взять, – сказал Олаф с укором.
Владимир опешил:
– Других? Да ты едва с этим не помер! Ладно, собирай сучья, готовь костер. Заночуем здесь.
Олаф вскрикнул:
– Да вон же хатки! Там теплые постели, молодые девки. Настоящая еда!
– Это я слышу от викинга? – удивился Владимир.
– Я могу перенести больше, чем ты, – огрызнулся Олаф. – Но почему терпеть, когда можно есть мясо, а не грызть черствый сухарь? Спать на мягком, да еще с теплой девкой?
– Потому… что в весях вблизи могут быть люди Варяжко. Разве он не разослал всюду, чтобы вызнавать о нас? И вот кто-то пошлет тайком мальчонку с весточкой, что двое беглых разбойников бесчинствуют в хате его соседа…
Олаф разочарованно отмахнулся:
– Ладно. Лишь бы добраться до Царьграда. Там я отыграюсь! Ох и отыграюсь же…
Небо уже окрасилось в красные цвета, тени пробежали вдоль поля. В лесу темнело быстрее, пришлось отступить в глубь леса, прикрываясь деревьями. Олаф, выказывая, что и он знает немало воинских уловок, разжег огонь в яме. Пусть даже случайно забредший в лес не узрит багровых отблесков.
За деревьями просматривались две крупные поляны с сочной травой, стреноженные кони тяжело заковыляли в ту сторону. Олаф погрыз сухари, воду взяли из ручья, и тут же заснул на голой земле. Даже ветки не срубил на постель. Владимир заметил, как по лицу блуждает счастливая улыбка. Похоже, уже отыгрывается в богатом и распущенном Царьграде.
В лесу было еще темно, но Владимир потряс Олафа:
– Вставай! Кони отдохнули, надо уйти как можно дальше.
Олаф раскрыл глаза, прорычал:
– Ты что? Еще ночь!
– Птицы поют, – возразил Владимир. – Им сверху виднее.
Когда выехали из леса, рассвет в самом деле окрасил белый свет в нежные розовые цвета, словно румянец на щеках молодой и чистой девушки. Воздух был холодный, как вода из ручья, и Олаф чертыхался без остановки, пока не оседлал коня.
Деревья остались позади, ехали вдоль опушки. Суровая стена высоких стволов тянулась слева, справа расстилались поля, луга, хатки показались только однажды, но Владимир проехал вдалеке: люди Варяжко могут шнырять всюду. А если за их голову объявили еще и награду, почему бы и нет, то охота развернется нешуточная.
«Я бы объявил», – подумал Владимир мрачно. Силами одних дружинников все дороги не перекрыть. Если же пообещать снижение подати, а холопам – свободу, то даже дети начнут высматривать и выслеживать.
Олаф косился с любопытством, когда хольмградец, все еще хмурясь, достал из берестяного колчана лук, набросил тетиву на рог. Ехали вдоль чащи, птицы беззаботно пели, а в поле верещали кузнечики, но вдруг руки хольмградца взметнулись, звонко щелкнула тетива. В зелени зашуршало, посыпались листья.
– Что-то заметил? – спросил Олаф.
– Мяса хошь? – ответил Владимир вопросом на вопрос.
– Кто откажется…
– Тогда шкуру сдирать тебе.
Олаф направил коня в кусты. Тот заупрямился, пришлось слезть и пробираться пешком. За кустами открылась поляна, посреди рос могучий дуб. Желуди были частью разгрызены, часть втоптали мелкие копытца, а кровавый след вел в кусты напротив. Олаф вломился по следам капель крови, почти сразу Владимир услышал довольный вопль.
Олаф вернулся с подсвинком поперек седла. Стрела торчала из левого бока.
– И шкуру сдеру, – пообещал Олаф, – и разделаю по всем правилам, а не так, как у вас, невежд… Это ж целое искусство – разделывать дичь благородно! А вы только стрелять умеете, дикий народ… Правда, стреляешь неплохо, неплохо. Ты еще стреляй по дороге, учись.
Владимир скалил зубы. Викинги не умеют метко бить из лука и ездить на конях, а бушующее море все как-то не попадается по дороге. Ну никак не показать себя во всей мужской красе!
К полудню подшиб еще рябчиков. Только одна стрела не отыскалась. Олаф умолк, посматривал задумчиво. Придется учить и стрельбе, понял Владимир.
После обеда, дав отдых коням, ехали все еще вдоль опушки. Проехали мимо веси, а когда были уже далеко, Олаф сказал вполголоса:
– Оглянись.
Далеко-далеко вздымалось небольшое пыльное облачко. Кто-то скакал во весь опор по пыльной дороге, куда уже недели две не падало ни капли дождя.
– Конь не рабочий, – определил Владимир. – Движется чересчур быстро.
– Уйдем в лес?
– Стоит ли… Похоже, скачет один.
– Думаешь, кто-то из людей конунга Ярополка?
Владимир повернул коня поперек дороги:
– Скачет младший дружинник.
Олаф хмыкнул:
– Тебе отсюда видно? А если старший?
– Младший, – определил Владимир уверенно. – Пусть догонит.
Олаф возразил уже с раздражением:
– Ты уж не ври, что видишь так далеко! Тогда у тебя глаз должен быть как у орла. Круглый.
– Сам ты круглый, – сказал Владимир хмуро. – Видишь, поблескивает искорка? Только младшие, получив шолом, носят его днем и ночью. Гордятся, чистят, перед девками бахвалятся. А старшие надевают только перед битвой, а так возят в обозе.
Олаф выругался. Он тоже видел искорку, что ползла по их следу. Даже очень отчетливо. И помнил, как бахвалился сам, когда впервые получил меч и щит, а железный шлем не хотел снимать даже во сне.
– Сколько тебе лет, Вольдемар?
– В дороге взрослеем быстрее, – ответил Владимир глухо.
Уже было видно скачущего всадника. Олаф сказал негромко:
– Он просто повернет и убежит.
– Ты бы убежал?
Олаф хмыкнул, отъехал на другую сторону дороги. Владимир видел, как поводья переложил в левую руку, а правой потянулся за дротиком. Это из лука викинги не стреляют, а копья научат бросать кого угодно!
Всадник несся галопом, за спиной развевался синий плащ. Когда приблизился, Владимир и Олаф разглядели юное лицо, сияющее и розовощекое. Конь перешел на шаг, уже когда оказался на расстоянии броска дротика, чего не сделал бы опытный воин.
