Смерть должна умереть. Наука в борьбе за наше бессмертие
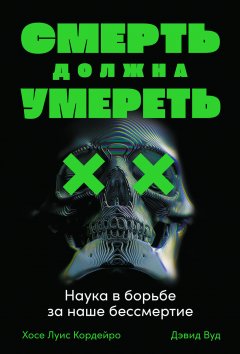
Перевод Матвея Окунева
Научный редактор Алексей Безымянный, врач-терапевт высшей категории, соавтор книги «Биохакнутый», лауреат премии Правительства Москвы в области медицины
Редактор Анна Туровская
Главный редактор С. Турко
Руководитель проекта О. Равданис
Корректор А. Кондратова
Компьютерная верстка А. Абрамов
Дизайн обложки Д. Изотов
© Jose Cordeiro, 2018
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2021
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Отзывы
Хочу поблагодарить Хосе Кордейро и Дэвида Вуда за долгосрочную стратегию борьбы со старением – главным источником страданий и убийцей номер один сегодня, – представленную в этой книге. Старение часто воспринимается как нечто неизменное в силу, как говорят психологи, выученной беспомощности. Однако по мере развития науки появляется все больше возможностей продления жизни и профилактики смертности и заболеваемости. Книга Хосе и Дэвида может помочь многим открыть новые горизонты мировоззрения.
Дарья Халтурина,член правления Международного альянса за продление жизни (International Longevity Alliance)
Сейчас вы прочитаете самые главные слова в своей жизни. Вы можете не умереть! Живущие сейчас могут стать первыми победившими старение и получившими шанс жить неограниченно долго, перейдя на следующую ступень эволюционного развития, или последними, кто умрет от старения перед самым восходом новой эры человечества. Эта прекрасная книга про то, как дожить до восхода и приблизить его.
Максим Холин,сооснователь Gero.ai, разрабатывающей терапии, направленные на фундаментальные механизмы старения, с помощью искусственного интеллекта
Вы держите в руках замечательную книгу замечательных авторов. И эта книга – без шуток – может открыть вам лично просто невероятные перспективы. Возможно, прочитав ее, вы откроете для себя жизнь длиной не в 70–90 лет, а в сотни лет, возможно – практически бесконечную жизнь. И об этих новейший технологиях (в том числе и о крионике – замораживании людей и животных непосредственно перед смертью или после нее) рассказывает Хосе Кордейро, глубоко разбирающийся в них, один из мировых экспертов в трансгуманизме и радикальном продлении жизни.
Валерия Прайд (Удалова),генеральный директор «КриоРус»
Люди будущего будут ужасаться, вспоминая, как предыдущие поколения были заложниками своей биологии, обреченными на болезни и смерть по расписанию. Но человечество наконец-то подошло к тому моменту, когда нам больше не нужно принимать свою судьбу: теперь у нас есть инструменты, которые помогут нам избавиться от выученной беспомощности перед лицом старения и смерти и сбросить иго наших генов. В ближайшие десятилетия генная и молекулярная инженерия наконец-то позволят нам сделать смерть необязательной. Прочтите «Смерть должна умереть», чтобы узнать, какие научные прорывы осуществят древнейшую мечту человечества – жить неограниченно долго.
Юрий Дейгин,вице-президент фонда «Наука за продление жизни», основатель компании Youthereum Genetics
Хосе Кордейро и Дэвид Вуд – давние и очень последовательные сторонники глобальной повестки дня долголетия. Их работа в СМИ, на конференциях и даже в политике очень хорошо известна в сообществе Longevity и за его пределами. Одно то, как они формулируют название своей книги «Смерть должна умереть», примечательно само по себе.
Дмитрий Каминский,генеральный партнер Deep Knowledge Group
«Смерть должна умереть», вероятно, станет одной из самых важных книг, которые вы прочтете за свою жизнь. Хосе Кордейро и Дэвид Вуд блестяще смогли донести до читателя самую важную мысль XXI столетия: сегодня, когда наука в состоянии открыть перед нами до сих пор недоступные горизонты, самое время признать старение человека проблемой и перенести дискуссии вокруг старения из категории «философские вопросы бытия» в категорию «нерешенные инженерные задачи».
Алексей Кадет,биотехнологический предприниматель
Большинство читающих «Смерть должна умереть» ощутят смешанное чувство надежды на лучшее будущее и страха перед неизвестным – сродни тому, что чувствует стоящий у края скалы. Эта отличная книга расширяет кругозор читателей и заставляет их мыслить нестандартно.
Александр Соколов,профессор ВШЭ, директор Форсайт-центра и заместитель директора ИСИЭЗ
Радикальное продление полноценного периода жизни – долгожданная вершина научно-технического прогресса. Насколько это достижимо в ближайшем будущем? Во многих лабораториях мира уже выведены животные, которые могут жить дольше, чем позволяет видовой лимит. Известно несколько десятков геропротекторов – веществ, замедляющих старение. Были протестированы некоторые виды генной и клеточной терапии. Исследования клеток человека, геномов долгожителей и биомаркеров старения приближают момент перевода экспериментальных вмешательств из лабораторной практики в клиническую.
Алексей Москалев,заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН и лабораторией генетики продолжительности жизни и старения МФТИ
Интересный взгляд на долголетие и бессмертие. Вот что происходит, когда хороший инженер решает давнюю биологическую проблему.
Магомед Хайдаков,доктор молекулярной биологии, геронтолог, автор книги «Пессимистическое руководство по антивозрастным исследованиям: смерть бессмертна» (A Pessimistic Guide to Anti-aging Research: Death is Immortal)
«Смерть должна умереть» – своевременное напоминание о том, что возможно не только продление жизни, но и полная победа над смертью. Подобно легендарному «Фонтану вечной молодости», книга предлагает окунуться в море фактов и аргументов – от стволовых клеток до крионики и нанотехнологий, – обещая перевернуть ваше сознание, пусть пока и не обратить вспять старение вашего тела.
Данила Медведев,первый директор «КриоРус» и основатель проекта «НейроКод»
Желание управлять силами природы и искать бессмертие – неотъемлемая часть стремления человека расширить сферу собственной свободы. Эта тема сыграла важную роль в российской интеллектуальной истории – в работах Николая Федорова и философии космизма. Книга «Смерть должна умереть» мотивирует людей по всему миру искать эликсир молодости. Ее перевод на русский язык означает воссоединение традиций русского космизма и глобальной футурологии. В этом – безусловная заслуга авторов книги, футурологов, неустанных подвижников и оптимистов Хосе Кордейро и Дэвида Вуда.
Петр Казначеев,кандидат философских наук, доцент РАНХиГС, старший научный сотрудник Центра энергетической безопасности Королевского колледжа Лондона
Эта книга представляет собой важный шаг в освещении проблемы бессмертия. В ней показано, что достижение бессмертия требует многоуровневого подхода, который включает план Б – крионику. Смерть – это наш главный враг, и мы должны бороться с ней вместе.
Алексей Турчин,вице-президент фонда «Наука за продление жизни», основатель проекта Digital Immortality Now
«Смерть должна умереть» представляет собой глубоко обдуманное, аргументированное и прочувствованное видение, призыв к борьбе с дегенеративными процессами старения и за максимальное продление нашей здоровой жизни путем усиления научных исследований. Это идеал, степень реализации которого будет зависеть от всех наших интеллектуальных, материальных и моральных способностей, причем любое постепенное продвижение к этому идеалу принесет пользу и каждому человеку, и всему обществу. Авторы побуждают читателей принять этот идеал, включиться в работу и борьбу за его реализацию.
Илья Стамблер,председатель израильской ассоциации «Ветек (старшинство) – движение за долголетие и качество жизни», автор книги «История идей о продлении жизни в ХХ веке»
Книга Хосе Кордейро и Дэвида Вуда «Смерть должна умереть» – захватывающий и аргументированный обзор технологий и предпосылок для прорыва в области продления жизни, вплоть до условного бессмертия. Разумеется, многие аспекты могут и должны быть рассмотрены критически, однако как гонки «Формула-1» постоянно дают технологии для внедрения в массовый автопром, так и начавшаяся гонка за бессмертием будет постоянно давать технологии продления жизни.
Григорий Бубнов,изобретатель, предприниматель, экс-директор Высшей школы системного инжиниринга МФТИ
Эта книга критически важна для всех, кто жив и предпочел бы оставаться таковым. В ней понятно, подробно и занимательно рассказывается о ближайших перспективах использования технологий, предназначенных для устранения болезней и смерти. Я ожидаю, что эта книга на мировом уровне поможет осознать, как именно технологии будут устранять смерть и почему это хорошо.
Бен Гёртцель,председатель Humanity+ и генеральный директор SingularityNET
То, что наука о долголетии постепенно начинает соответствовать желанию большинства жить дольше и в добром здравии, – факт. И очень скоро это стремление станет реальностью, о чем блестяще написано в книге «Смерть должна умереть» – обязательном чтении для всех, кто интересуется развивающейся наукой сохранения молодости.
Джим Меллон,соавтор книги «Юность: Инвестиции в эпоху долголетия» (Juvenescence: Investing in the Age of Longevity);мультимиллионер, инвестировавший в исследования долголетия, основатель Juvenescence Ltd
Авторы пишут об одном из наиглавнейших на сегодня моральных приоритетов: замедлить и остановить старение и смерть. Чем яснее научное обоснование подобных действий, тем важнее их объяснение и понимание результатов. Книга выполняет эту важную функцию.
Андерс Сандберг,профессор Института будущего человечества Оксфордского университета, трансгуманист, футуролог
Эта замечательная книга убедительно повествует о поистине невиданном продлении жизни. «Смерть должна умереть» доказывает: наконец пришло то время, когда смерть отведает своего собственного зелья!
Терри Гроссман,соавтор книги «Фантастическое путешествие: От долгожительства к вечной жизни» и эксперт по долголетию
«Смерть должна умереть» рисует замечательную перспективу того, как захватывающие дух достижения в исследовании старения и других научных областях помогут отменить смерть, и объясняет, почему это правильный путь для всего человечества.
Жоао Педру де Магальяйнис,профессор Ливерпульского университета
«Смерть должна умереть» содержит важные исследования и откровения о будущем, в котором мы будем жить гораздо дольше, чем считаем возможным.
Джером Гленн,генеральный директор «Проекта тысячелетия»
«Смерть должна умереть» – это действительно великая книга, которую должен прочесть каждый, и особенно молодое поколение. Ведь именно оно сможет извлечь пользу из результатов исследований, которые, как чудесно описывается в книге «Смерть должна умереть», станут доступными совсем скоро. Пусть я уже и глубокий старик, мне чрезвычайно радостно узнавать о таких достижениях: теперь у моих внуков, если они того пожелают, появится прекрасная возможность прожить гораздо дольше!
Эйтор Гургулино де Соуза,президент Всемирной академии искусства и науки
Я умру, и полагаю, что все, кого знаю, тоже. Но это не должно умалять интерес к содержанию книги «Смерть должна умереть», так как последующие поколения, вероятно, проживут в среднем гораздо больше ожидаемого. Технологии развиваются семимильными шагами (если только вы не ждете немедленного излечения), и поэтому важно обсудить, что делать с все увеличивающимся количеством отпущенных дней. Прочтите книгу «Смерть должна умереть» и подумайте…
Хуан Энрикес,автор книг «Когда будущее тебя настигнет» (As The Future Catches You) и «Саморазвитие» (Evolving Ourselves)
Авторы – два главных светила мирового футурологического движения. Книга «Смерть должна умереть» рассматривает технологии и этические вопросы, благодаря которым она может стать справочником по человеческому долголетию для просветителей и политиков.
Мартина Ротблатт,основатель United Therapeutics и автор книги «Фактически виртуальный человек» (Virtually Human)
Последний рубеж, который нам осталось преодолеть, – это смерть. Книга «Смерть должна умереть» рассказывает обо всех нюансах этой битвы и реальных шансах на победу. В начале чтения я был настроен скептически, но, ознакомившись с информацией и аргументами, стал оптимистичен. Сейчас я считаю, что возможно и даже вероятно, что нынешнее поколение будет наблюдать за тем, как смерти наступит смерть.
Карлос Альберто Монтанер,эксперт по международной политике и соавтор «Пособия для идеального латиноамериканского идиота» (Guide of the Perfect Latin American Idiot)
Моей научной компетентности недостаточно, чтобы понимать, достижимо ли в реальности то, что описывается в книге «Смерть должна умереть», но я точно знаю, что в наши дни вряд ли найдутся более грозные провокаторы, мечтатели и возмутители умов, чем ее авторы. Эта превосходная книга, которая просто объясняет сложные вопросы, – сама по себе лучшее доказательство.
Альваро Варгас Льоса,эксперт по международной политике и соавтор «Пособия для идеального латиноамериканского идиота»
В последние годы мы наблюдаем невероятные успехи в изучении старения. Что мы увидим в ближайшие годы? Сможем ли вылечить старение? И если да, то когда? Если хотите узнать, то «Смерть должна умереть» – ваша книга.
Золтан Иштван,бывший кандидат в президенты США и автор книги «Трансгуманистическое пари» (The Tranhumanist Wager)
Чтение этой книги – лучший способ начать новый день, полный жизни и возможностей. Если омоложение скоро станет реальностью, то уже сейчас стоит начать задумываться о том продлении долголетия, которое авторы предлагают нам в книге «Смерть должна умереть».
Диего Аррия,бывший председатель Совета Безопасности ООН
С энтузиазмом рекомендую книгу «Смерть должна умереть» нашим последователям, а также скептикам, которые не понимают, насколько близка наука к тому, чтобы навсегда искоренить биологическое старение.
Билл Фалун,соучредитель Фонда продления жизни (Life Extension Foundation) и автор книги «Фармократия» (Pharmocracy)
Удлинение теломер может быть одним из решений проблем, связанных со старением и ухудшением здоровья. Прочтите «Смерть должна умереть» и узнайте, как можно остановить и обратить старение.
Билл Эндрюс,основатель Sierra Sciences и соавтор книги «Лечение старения» (Curing Aging)
Медицина становится информационной технологией, поэтому генетическая и клеточная терапии позволяют нам манипулировать клетками с возрастающей точностью. Благодаря экспоненциальному росту таких возможностей старение и, как следствие, смерть будут устранены. «Смерть должна умереть» объясняет детали этой кампании и то, как скоро человечество сможет дожить до бессмертия.
Элизабет Пэрриш,основатель BioViva и «нулевой пациент» теломеразных методик лечения
Старение – основная причина почти всех болезней и смерти. Поэтому ускорение прогресса биотехнологий долголетия – самое альтруистичное из занятий. Мы живем в наиболее волнующее время в истории человечества, так как можем существенно увеличить продуктивное долголетие уже при жизни. В книге приводится множество моральных и экономических аргументов в пользу устранения смерти в привычном ее понимании и анализирует последние тенденции в науке, которые смогут приблизить нас к этой цели. Прочтите книгу и присоединяйтесь к революции против старения – истинного императора всех недугов.
Александр Жаворонков,основатель компании Insilico Medicine и директор Фонда исследований биогеронтологии
«Смерть должна умереть» – это призыв к действию. Чем быстрее мы разработаем новые технологии долголетия, тем больше жизней будет спасено. Это важное гуманитарное послание, к которому должен прислушаться каждый.
Соня Аррисон,ассоциированный соучредитель Университета сингулярности и автор книги «Сто и старше» (100 Plus)
Неужели источник вечной молодости – несбыточная мечта? Возможно, таковым он был ранее. Но теперь, с появлением экспоненциально развивающихся технологий, его обретение лишь вопрос времени. «Смерть должна умереть» показывает, как и зачем наслаждаться бесконечной юностью.
Дэвид Кекич,президент Фонда Maximum Life Foundation и автор книги «Экспресс-продление жизни» (Life Extension Express)
«Смерть должна умереть» – книга провидческая. Она крайне важна, если мы действительно собираемся выиграть войну со смертью. У каждой битвы должен быть смысл, собственное «зачем» – и эта книга послужит нам вдохновением.
Джейсон Сильва,футуролог и ведущий шоу «Игры разума» на National Geographic
«Смерть должна умереть» содержит новаторское предложение отмены смерти и описания великих научных достижений в области исследований старения. Направленные на его преодоление, они открывают перед человечеством долгосрочные перспективы.
Исмаэль Кала,основатель Cala Enterprises и пионер концепции корпоративного счастья
«Смерть должна умереть» – восхитительная книга. Она предвосхищает новую парадигму человечества, которая, войдя в симбиоз с прорывными технологиями и искусственным интеллектом, позволит достичь невероятного долголетия.
Мануэль де ла Пенья,президент Европейского института здравоохранения и социального обеспечения в Испании
Мы направляемся в будущее, где смерть утратит силу. Почти никто в мире этого пока не понимает, однако авторы превосходной книги «Смерть должна умереть» осознают очень хорошо и, протянув нам руку, ведут за собой – сквозь судьбы и технологии к долгой и здоровой жизни.
Рэймонд Макколи,ученый, предприниматель и профессор-основатель Университета сингулярности
Хосе Кордейро и Дэвиду Вуду свойственна страсть, основанная на глубоких познаниях в области человеческого процветания. Сегодня она изучена недостаточно, но завтра станет одной из фундаментальных основ цивилизации. Если планируете жить в будущем – а вы будете жить в будущем, – то должны прочитать эту книгу!
Дэвид Орбан,инвестор и основатель Network Society Ventures
Вступительное слово к русскому изданию
Мы в самом разгаре исторического кризиса, но он принес с собой не только опасность. Он открыл перед нами возможности. Вирус COVID-19 – результатом чего бы он ни был – глобальная проблема, которая нуждается в глобальном решении. И если общий враг и нежданная беда нас не разделят, у нашей маленькой планеты появится сказочный шанс – все мы сумеем выступить единым фронтом. Определенно, COVID-19 – одна из самых страшных пандемий, случившихся за то столетие, что прошло со времени «испанского гриппа» 1918–1920 гг. (по оценкам, он унес до 100 млн жизней[1]). Тогда человечество пережило ужасную трагедию: жертвами испанки стали 10 % мирового населения. Фактически от нее умерло больше людей, чем погибло в Первой или даже Второй мировых войнах.
К счастью, благодаря стремительному прогрессу науки и техники мы оказались лучше подготовленными к разрешению глобального кризиса. Люди и общество в целом достойно ответили на грандиозный вызов, брошенный крохотным коронавирусом и всеми его возможными мутациями. Правительства, крупные компании, небольшие стартапы, университеты и даже отдельные люди приложили все возможные усилия, чтобы научиться контролировать, лечить и ликвидировать COVID-19. Как и в большинстве кризисных ситуаций, затраты были неимоверными, но позже они окупятся через массовое внедрение лучших методов лечения по всему миру.
Давайте вспомним. Когда появились ВИЧ и СПИД, на секвенирование вируса ушло более двух лет, и еще несколько лет у нас вообще не имелось методов лечения. СПИД, разрушая иммунную систему, по сути, подписывал человеку смертный приговор – даже считался идеальной болезнью. В ходе многолетних международных исследований были разработаны первые методы лечения ВИЧ, однако любой из них обходился в миллионы долларов. Сегодня же ВИЧ лечится как хроническое заболевание при помощи противовирусных препаратов, которые стоят сотни долларов в богатейших странах и десятки в более бедных, типа Индии. И, к счастью, весьма вероятно, что уже в этом десятилетии будет наконец открыта вакцина для лечения и окончательной ликвидации ВИЧ.
Невероятно, но в эти тяжелые времена благодаря тому, что достижения науки и техники растут в геометрической прогрессии, первые противовирусные препараты и вакцины были разработаны всего за несколько месяцев вместо обычных 5–10 лет. И потому страшная пандемия коронавируса запомнится невероятной скоростью ее преодоления, она станет великим уроком для человечества. Она показала, что мы должны работать вместе, потому что глобальные проблемы требуют глобальных решений. Случатся и новые пандемии, однако экспоненциально развивающиеся технологии помогут нам преодолеть их еще быстрее. Вполне вероятно, что следующий глобальный вирус будет секвенирован всего за два дня, а еще один – возможно, и за два часа (а не за две недели, как с COVID-19, два месяца, как 20 лет назад с SARS, или более двух лет, 40 лет назад потраченных на расшифровку СПИДа).
В геометрической прогрессии сокращается не только время борьбы с болезнями, резко снижаются и затраты на лечение. Мир становится все лучше подготовленным к будущим пандемиям и новым глобальным вызовам, таким как, например, изменение климата, войны, терроризм, землетрясения и цунами, метеориты и прочие космические угрозы, а также многим другим. И, мы надеемся, эта пандемия станет последней из тех, что затронули человечество!
В то же время у людей имеются и главнейшие враги – старение и смерть. Долголетие всегда считалось одним из главных жизненных благ, и теперь – впервые в истории – у нас есть возможность одержать над ними победу. В ряде стран уже ведутся дискуссии, можно ли считать старение заболеванием, причем излечимым заболеванием. Сторонники долголетия активно действуют в Австралии, Бельгии, Бразилии, Германии, Израиле, Испании, России, Сингапуре, Соединенном Королевстве и США. Какая же из стран первой официально объявит старение болезнью? С 2018 г. ВОЗ начала признавать возрастные изменения заболеваниями, однако самого старения это не коснулось. Так какая же страна первой пойдет по пути работы со старением как с излечимым недугом?
Исцеление старения не только морально-этический императив. В ближайшие годы это станет также самой крупной возможностью для бизнеса. Антивозрастная и омолаживающая отрасли только зарождаются, а медицинские расходы стареющего общества продолжают расти. Некоторые исследования показывают, что расходы на здравоохранение к 2050 г. удвоятся – главным образом из-за увеличения количества пожилых людей[2]. Тенденция будет особенно заметной в развитых странах, где население не только быстро стареет, но и стремительно уменьшается из-за спада рождаемости. Для содержания все растущего количества стариков просто не хватит молодых.
Уже сейчас людей старше 65 лет больше, чем детей в возрасте до 5 лет, и такое соотношение будет сохраняться. Кроме того, во многих странах население начнет сокращаться, как это уже происходит, например, в Японии и России. Согласно исследованию, опубликованному в престижном британском медицинском журнале The Lancet, к 2100 г. население Китая может уменьшиться вдвое, всего до 732 млн человек[3]. К тому же, в то время как многие развитые страны разбогатели, прежде чем состариться, Китай начал стареть, не успев сделать этого. Если он ничего не предпримет, результаты окажутся катастрофическими. И все больше стран будут испытывать то же самое.
В ходе еще одного исследования, результаты которого были опубликованы в престижном американском журнале Science, подсчитано, что COVID-19 может обойтись человечеству более чем в 11 трлн долларов в пересчете на ВВП, а еще отмечается, что уже в этом десятилетии подобных пандемий можно будет избежать за счет ежегодных инвестиций в размере 26 млрд долларов[4]. Сейчас медицинские расходы составляют около 10 % мирового ВВП, но они – отчасти из-за старения общества – продолжают быстро расти. Давайте теперь подумаем, во сколько государству обходится старость и какова будет экономия, если ее предотвратить. Таковы некоторые идеи, лежащие в основе инициативы «Дивиденд долголетия»; они объясняются и в этой книге[5]. Так мы не только сэкономим триллионы долларов на лечение возрастных изменений, но и избежим невероятных мучений как стареющих людей, так и их близких, и всего общества в целом.
Возможно, COVID-19 поможет понять, что здоровье важнее всего на свете и что в приоритете право человека на жизнь. Будем надеяться, что кризис подарит нам шанс дополнительного финансирования лечения «матери всех недугов» – старения. Сможем ли мы наконец осуществить давнюю мечту человечества о «бессмертии»?
Вот наилучшая возможность действовать. Время и место – здесь и сейчас. Так кто же нас поведет?
Хосе Кордейро,Дэвид Вуд
Пролог
Старость, как и погода, не признает ни государственных, ни национальных границ и более-менее одинаково влияет на каждую группу и подгруппу людей. Неравенство – тема многих обсуждений, но, несмотря на то что расходы на здравоохранение на душу населения в Америке выше, чем в остальных странах мира, она даже не входит в число 30 государств с самыми высокими показателями долголетия. Однако статистические данные не должны вводить нас в заблуждение, поскольку разница не так и велика: ожидаемая продолжительность жизни в Соединенных Штатах всего на пять лет меньше, чем в Японии. Важнее, чтобы крестовый поход против старения не знал границ. Миру следует объединиться и направить все силы на решение этой задачи – важнейшей из стоящих перед человечеством.
Старость убивает чаще, чем что-либо другое. Возрастные изменения – причина более 70 % смертей, большинству из которых предшествуют невыразимые мучения, как самих пожилых людей, так и их близких. К сожалению, «война со старением» еще не достигла своей цели. Она набирает обороты в англоязычных странах: наибольшие силы сосредоточены в Кремниевой долине, но очаги также появляются в других частях Америки и еще в Великобритании, Канаде, Австралии. В авангард борьбы начинает выходить Германия, а вместе с ней и Россия, Сингапур, Южная Корея, Израиль. Однако другие государства осваивают поле действия гораздо медленнее. Особую тревогу вызывает Азия; в ее столь густонаселенных странах, по всей видимости, существуют серьезные трудности и с пониманием того, что старение – это медицинская проблема, и с тем, что оно поддается лечению.
«Смерть должна умереть» – провидческая книга, которая во всей полноте раскрывает нам чудовищную правду о старении; ее авторы знакомы с темой не понаслышке. За последние годы Хосе Кордейро сумел во многих частях света привлечь внимание к борьбе с возрастными изменениями, но в основном он сосредоточился, что вполне естественно, на знакомых сызмальства испано– и португалоязычных странах. Таким успехом Хосе обязан не только своему испанскому и латиноамериканскому происхождению (уроженец Венесуэлы, родители – испанцы), но и возросшему, по моим наблюдениям, в этих регионах интересу к победе над старостью.
Соавтор книги – британский технолог Дэвид Вуд, другой знаменитый рыцарь битвы со старением, предлагает собственную, предоставляющую дополнительный взгляд на проблему точку зрения. Побыв в свое время главой нескольких лондонских организаций, он преобразил мир британской прогрессивной технической мысли. Трудно представить себе более мощное партнерство, которое сумело бы придать книге о борьбе со старением и, надеюсь, неизбежной победе над ним должный вес!
Учитывая обширный международный опыт Хосе и Дэвида, можно сказать, что нет лучших авторов для повсеместного продвижения дела долголетия. Они много лет погружены в борьбу со старением, а потому прекрасно осведомлены не только о науке омоложения и ее последних успехах, но и об иррациональных опасениях и критике, которые так часто противостоят этой великой миссии. Авторам лучше остальных известно, как парировать возражения и убеждать в преимуществах радикального продления жизни как можно большее количество людей.
Первое издание вышло на испанском языке (La Muerte de la Muerte, Editorial Planeta, 2018) и быстро стало бестселлером сначала в Испании, а потом в ряде стран Латинской Америки. Второе, уже на португальском (a Morte da Morte, LVM Editora, 2019), тоже стало бестселлером – сперва в Бразилии, затем в Португалии. Сейчас «Смерть должна умереть» в исправленном и дополненном варианте публикуется сразу на многих языках, среди которых китайский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский и русский. Судя по предыдущему успеху этой книги, можно утверждать, что она, несомненно, произведет переворот во всем мире.
Я убежден, что в ближайшее десятилетие «Смерть должна умереть» сыграет важную роль в борьбе со старением. Еще мне верится, что авторитетное и исчерпывающее описание нашего крестового похода, приведенное Хосе и Дэвидом в своем замечательном труде, только ускорит этот процесс. В путь!
Обри ди Грей,соавтор книги «Отменить старение»[6] и соучредитель исследовательского фонда SENS Research Foundation
Посвящение
万事开头难。(Лиха беда начало.)
КИТАЙСКАЯ ПОСЛОВИЦА
Наука не знает, чем она обязана воображению.
РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН, 1876 Г.
Эта книга посвящается первому поколению бессмертных людей. Пока что человечество остается обреченным на гибель. Но, надеемся, в ближайшие десятилетия нас ожидает великий технологический прорыв, благодаря которому мы перейдем от последнего смертного к первому бессмертному поколению.
Текущим положением дел мы обязаны своим предкам, но уже скоро нашим потомкам станет доступно невозможное – они смогут продлевать годы своей жизни. Мы перенесемся в гораздо лучший мир, где срок жизни будет неограниченным, молодость – бесконечной, а люди забудут о нескончаемой старости и невольной смерти. От увеличения количества лет мы перейдем к их усовершенствованию, а также к приумножению своих способностей и возможностей – сначала на этой маленькой планете, а затем и далеко за ее пределами.
Эта книга посвящается и молодым и старым, и женщинам и мужчинам, и верующим и неверующим, и богатым и бедным, и всем, кто трудится ради достижения древнейшей мечты человечества – ради смерти самой смерти. Скоро мы на самом деле сможем управлять старением и омоложением человека. И наш моральный долг – как можно быстрее продвигаться к этой благородной цели.
Право на жизнь – наиважнейшее из прав человека, без которого теряют смысл все остальные. Болезни, связанные со старением, день за днем уносят более 100 000 жизней, и это величайшее преступление против человечества, против всех и каждого, независимо от его расы, пола, национальности, культуры, религии, географии или истории. Мы обязаны остановить эту нескончаемую человеческую трагедию. Мы способны на это. Мы должны. Это наши моральная ответственность, этическое обязательство и долг перед историей. Чтобы избавить людей от страданий, старения и самой смерти, мы обязаны сохранить жизнь.
Сегодня вопрос не в возможности избавления от возрастных изменений, а в сроках. И чем скорее это произойдет, тем лучше. Гонка началась, время пошло; наши общие смертельные враги – старение и смерть. Книга «Смерть должна умереть» посвящается первому бессмертному поколению, которое одолеет смерть.
Вступление
Величайшая мечта человечества
Смерть есть зло. Самими это установлено богами. Умирали бы и боги, если б благом смерть была.
САПФО, ОК. 600 Г. ДО Н.Э.
Путь в тысячу ли начинается с первого шага.
ЛАО-ЦЗЫ, ОК. 550 Г. ДО Н.Э.
Быть или не быть, вот в чем вопрос.
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР, 1600 Г.
Бессмертие было величайшей мечтой человечества с доисторических времен. В отличие от большинства других существ люди осознавали жизнь, а следовательно, и смерть. С тех самых пор, как в Африке появился Homo sapiens sapiens[7], наши предки изобрели всевозможные связанные с жизнью и смертью обряды и за тысячелетия миграции по планете придерживались не только их, но и множества других – вновь придуманных. Чествуя смерть, великие цивилизации древнего мира породили изощреннейшие ритуалы, которые зачастую становились важнейшей частью повседневной жизни. Давайте поразмыслим о детализированных и чрезвычайно продолжительных погребальных обрядах разных народов.
В своем бестселлере «Бессмертие: поиск вечной жизни и как он управляет цивилизацией» (Immortality: The Quest to Live Forever and How It Drives Civilization) Стивен Кейв, британский философ из Кембриджского университета, писал[8]: «Увековечить себя стремится все живое, но люди стремятся увековечить себя навсегда. Эта потребность, это желание бессмертия лежит в основе множества человеческих достижений: оно источник религии, муза философии, архитектор наших городов и порыв к творчеству. Оно заложено в нашей природе, а его следствие известно нам как цивилизация».
Египетские похоронные обряды были продуманными до мелочей. В важнейших из них использовались огромные пирамиды и саркофаги, предназначенные исключительно для фараонов. Древнейшие «Тексты пирамид» – набор заклинаний, песнопений и молитв, высеченных в проходах, притворах и погребальных камерах пирамид Древнего царства, – должны были помочь фараону в подземном мире, обеспечив тому возрождение и вечную жизнь. Эти древнейшие религиозные и космологические тексты, написанные иероглифами на стенах усыпальниц, применялись в похоронных церемониях с 2400 г. до н. э.
Столетия спустя египтяне составили «Книгу Мертвых» (современное название древнеегипетского погребального трактата, которым пользовались с начала Нового царства, примерно с 1550 по 50 гг. до н. э.). Сборник – он предназначался не только фараонам – состоял из серии магических заклинаний, призванных помочь умершим преодолеть суд Осириса (египетского бога смерти и возрождения) и содействовать им в путешествии по подземному царству в загробную жизнь. Хотя сегодня обеспечивающие бессмертие египетские обычаи и практики считаются мифологическими, их практиковали почти три тысячи лет, то есть они на многие века старше христианства или ислама[9].
В Месопотамии в виде глиняных клинописных табличек были обнаружены еще более древние тексты, созданные около 2500 г. до н. э. «Эпос о Гильгамеше», или поэма «О все видавшем», – шумерское стихотворное повествование о приключениях Гильгамеша, царя Урука, и древнейший известный человечеству эпос. Философский стержень поэмы – скорбь главного героя по Энкиду – тому, кто сначала был ему врагом, а затем стал добрым другом. Считается, что это первое литературное произведение, в котором был сделан акцент на человеческой смертности как на явлении, противоположном бессмертию богов. Также в поэму вошел вариант месопотамского мифа о потопе, позднее появившегося во многих других культурах и религиях[10].
Мысли о бессмертии, по всей видимости, владели умами и императоров Поднебесной. После завоевания последнего независимого царства в 221 г. до н. э. Цинь Шихуанди стал первым властителем централизованного китайского государства – на тот момент это было беспрецедентным явлением. Стремясь продемонстрировать, что он являлся не просто царем, Цинь Шихуанди придумал титул, выразивший его стремление объединить бескрайние просторы царств Поднебесной или, по сути, весь мир (древние китайцы, как и древние римляне, полагали, что их империя включала в себя всю Ойкумену)[11].
Он перестал говорить о смерти, не стал составлять завещание, а с 212 г. до н. э. повелел называть себя «Вечным»[12]. Одержимый идеей бессмертия, он отправил экспедицию к восточным островам (возможно, Японии) на поиск эликсира молодости. Та не вернулась: якобы не нашла желанного средства и убоялась «Вечного» императора. Считается, что Цинь Шихуанди умер, выпив ртуть, которой, как он полагал, надлежало сделать его бессмертным. Он был погребен в огромном мавзолее со знаменитой терракотовой армией из более 8000 солдат и 520 лошадей. Курган с захоронением нашли в 1974 г. неподалеку от города Сиань, однако погребальную камеру императора пока еще не вскрыли.
Тема легендарного эликсира бессмертия, зелья, дарующего вечную жизнь, пронизывает самые разные культуры. Многие алхимики преследовали цель найти панацею – лекарство для исцеления всех болезней и бесконечного продления лет, отпущенных человеку. В результате таких поисков некоторые из исследователей (например, швейцарский лекарь и астролог Парацельс) добились значительных успехов в фармакологии. Волшебное зелье упоминается и в связи с мифическим философским камнем, который был способен обращать металлы в золото и, предположительно, создавать эликсир бессмертия.
Но не только древние египтяне или китайцы считали возможным существование такого средства. Подобные мысли возникали у людей практически всех культур, причем независимо друг от друга. Например, в ведийской цивилизации также верили в связь между вечной жизнью и золотом. Эта идея, вероятно, была заимствована у греков после того, как в 325 г. до н. э. Александр Македонский завоевал Индийский полуостров. Не менее вероятно и то, что из Индии такие представления могли попасть в Китай или наоборот. Но индуизм, главная религия страны, исповедовал совершенно иные убеждения относительно бессмертия, и эликсир жизни утратил свою популярность.
Источник молодости – символ долголетия и бессмертия – другое предание, которое тоже напоминает нам о стремлении к вечности. Согласно предположениям, юность даровалась любому, кто пил воду из легендарного фонтана или купался в нем. Впервые этот миф встречается в третьей книге «Истории» Геродота, которая датируется IV в. до н. э. Евангелие от Иоанна повествует об иерусалимской купели Вифезда, где Иисус совершил чудо исцеления расслабленного, по всей видимости, калеки. Восточные версии «Истории Александра Великого» описывают «живую воду», которую царь искал вместе со слугой. Образ последнего взят из ближневосточных сказаний о Хизре, также вошедших в Коран. Эти версии пользовались широкой популярностью в Испании мусульманского периода и, скорее всего, были известны мореплавателям, отправлявшимся в Америку.
В историях коренных народов Америки в связи с целебным родником упоминался мифический остров Бимини – богатая и процветающая земля где-то на севере (возможно, в районе Багамских островов). Согласно легенде, испанцы узнали о нем от араваков Эспаньолы[13], Кубы и Пуэрто-Рико. В те времена о целительных водах Бимини говорили на всех Карибских островах. Испанский мореплаватель Хуан Понсе де Леон прослышал о фонтане молодости от коренного населения Пуэрто-Рико, когда завоевывал остров, и не удовлетворенный своим благосостоянием в 1513 г., предпринял экспедицию по поиску Бимини. Он обнаружил нынешний штат Флорида, но источника вечной юности так и не нашел[14].
В нынешних так называемых западных религиях, которые основаны на авраамическом монотеизме – иудаизме, христианстве, исламе и бахаизме (вере Бахаи), – путь к бессмертию лежит главным образом через воскрешение. И наоборот, согласно современным восточным верованиям, основанным на индийской ведической традиции – индуизму, буддизму и джайнизму, – вечности можно достичь через реинкарнацию. По западным традициям, чтобы умершие могли воскреснуть, их тела подлежат захоронению, в то время как в восточных религиях ради реинкарнации должны быть сожжены. Ни то, ни другое явление опытным путем не доказано и, очевидно, представляет собой часть древних донаучных мифических убеждений.
Тема бессмертия была подробно рассмотрена и Ювалем Харари, израильским историком из Еврейского университета в Иерусалиме, в двух его основных работах: «Sapiens. Краткая история человечества»[15] и «Homo Deus. Краткая история будущего»[16]. Первая книга описывает историю человечества с начала эволюции Homo sapiens до политических революций XXI в. Фундаментальный элемент этих великих событий – религии и смерть.
Во второй работе Харари задается вопросом, каким будет мир в ближайшее время. Перед нами встанут новые задачи, и автор пытается разобраться, как нам справляться с ними с помощью грандиозных достижений науки и техники. Он исследует идеи, сладкие грезы и ночные кошмары, которым суждено сформировать XXI век: от победы над смертью до создания искусственного интеллекта (ИИ). Непосредственно на тему бессмертия Харари высказывается в разделе «Конец смерти»[17]:
«Судя по всему, в XXI веке будет сделана серьезная заявка на бессмертие. Борьба со старостью и смертью получит эстафету от извечной битвы с голодом и болезнями. Борьба эта будет вестись во имя наивысшей ценности современной культуры – ценности человеческой жизни. О том, что во всей Вселенной нет ничего более священного, чем человеческая жизнь, нам напоминают постоянно. Это повторяют учителя в школах, политики в парламентах, адвокаты в судах, актеры на театральных подмостках. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН после Второй мировой войны (документ, наиболее близкий к тому, какой могла бы быть всемирная конституция), категорически утверждает, что “право на жизнь” есть главная из ценностей человечества. Поскольку смерть явно нарушает это право, значит, она – преступление против человечества, и мы должны объявить ей тотальную войну.
Ни религии, ни идеологии прошлого не считали жизнь священной. Они всегда обожествляли либо то, что ниже, либо то, что выше земной юдоли, и поэтому к смерти были сравнительно равнодушны. Некоторые даже симпатизировали Старухе с косой. Поскольку христианство, ислам и индуизм утверждали, что смысл нашего бренного существования в подготовке к загробной жизни, смерть воспринималась ими как важное событие и благо. Люди отходили в иной мир по воле Божьей, и момент их кончины был таинством, исполненным величайшего значения. К испускающему дух призывали священников, раввинов или шаманов, чтобы те взвешивали грехи и напутствовали в царство истины. Только представьте себе христианство, ислам и индуизм в мире, где нет смерти, – ведь там нет и рая с адом, и реинкарнации.
Современная наука и современная культура смотрят на жизнь и смерть совершенно иначе. Они не считают смерть метафизическим таинством и уж конечно не видят в смерти ключа к смыслу жизни. Для современного человека смерть – проблема техническая, которая может и должна быть решена».
За последние десятилетия все науки, в том числе и естественные, достигли впечатляющего прогресса. Открытие строения ДНК в 1953 г. стало одним из триумфов биологии. И дальнейшие находки, такие как эмбриональные стволовые клетки и теломеры, только ускорили этот процесс. Первая трансплантация сердца была проведена в 1967 г., оспа изжита в 1980 г., а сейчас семимильными шагами продвигаются регенеративная медицина, генная инженерия (например, редактирование генома при помощи методов CRISPR/Cas9), терапевтическое клонирование и 3D-биопечать органов.
Благодаря широкому применению новых сенсоров, анализу крупных массивов информации, известных как большие данные (Big data), а также использованию ИИ для улучшения интерпретации, обработки и анализа медицинских результатов в ближайшем будущем мы будем наблюдать все больший и быстрый прогресс, причем не линейный, а экспоненциальный. Яркий пример – скорость, с которой был секвенирован человеческий геном.
Проект «Геном человека» был запущен в 1990 г., однако к 1997 г. стал известен всего лишь процент от всего генокода. По этой причине некоторые «эксперты» предположили, что на расшифровку остальных 99 % уйдут столетия. К счастью, технологии развиваются в геометрической прогрессии, и в 2003 г. все было закончено. Как пояснил американский футуролог Рэй Курцвейл, с 1997 г. процент изученного ежегодно увеличивался приблизительно вдвое. В 1998 г. были закончены 2 % работы, в 1999 г. – 4 %, в 2000 г. – 8 %, в 2001 г. – 16 %, в 2002 г. – 32 %, в 2003 г. – 64 %, а спустя еще несколько недель секвенирование полностью завершилось[18].
Естественные науки оцифровываются быстро, и в ближайшие годы в них ожидается экспоненциальный прирост достижений. Роль искусственного интеллекта продолжит расти, и положительная обратная связь послужит дальнейшему прогрессу во всех областях, включая биологию и медицину. В свою очередь, уже начаты и проводятся опыты по продлению жизни и омолаживанию разных видов живых существ, таких как дрожжи, черви, комары и мыши.
Ученые по всему свету – от США до Японии, от Китая до Индии через Россию и Германию – уже изучают процесс старения и его обратимость. Исследовательские группы появляются и в Иберо-Америке[19] – от Испании до Колумбии, от Мексики до Аргентины через Португалию и Бразилию. Например, научный коллектив под управлением испанского биолога Марии Бласко, директора Национального центра раковых исследований в Мадриде, вырастил так называемых тройных трансгенных мышей, которые живут примерно на 40 % дольше обычных[20]. Хуан Карлос Исписуа, профессор Института биологических исследований Солка в Калифорнии, с помощью совершенно иных технологий тоже сумел омолодить грызунов на 40 %[21]. Опыты продолжаются, и весьма вероятно, что в будущем мы продолжим продлевать мышам жизнь.
Научно-исследовательские коллективы лучших международных университетов: Кембриджа, Гарварда, Массачусетского технологического института, Оксфорда и Стэнфорда – объединяются ради соискания MPrize – премии, учрежденной американским Фондом Мафусаила[22]. Награда уже вручалась ученым, сумевшим продлить жизнь мыши до эквивалента 180 человеческих лет[23], но главная цель – достичь аналога легендарного, почти тысячелетнего, ветхозаветного мафусаилова века.
У опытов над мышами много преимуществ: жизнь грызунов сравнительно коротка (год в естественных условиях, два-три в лабораторных), а геном весьма схож с человеческим (установлено, что у нас совпадает около 90 % генов). Ученые экспериментировали с различными видами воздействия, среди которых следует выделить ограничение калорийности рациона, инъекции теломеразы, лечение стволовыми клетками, генную терапию. Остается только гадать, какие еще открытия нам предстоят. Исследования проводятся вовсе не из большой любви к мышам и, как следствие, нашего желания продлить им жизнь. Ученые, пусть и не высказываются об этом публично, предвкушают реализацию достижений по продлению жизни и омоложению на практике – на людях. Как и все остальные, исследователи порой не могут быть откровенными (из-за страха потерять финансирование или по другим причинам), но область применения их работы очевидна.
Чтобы остановить и обратить процесс старения, с различными животными работает множество исследователей. Для примера упомянем об опытах двух известных североамериканских специалистов. Так, Майкл Роуз из Калифорнийского университета в Ирвайне в четыре[24] раза увеличил ожидаемую продолжительность жизни плодовой мухи дрозофилы, а Роберт Рейс из Университета медицинских наук Арканзаса продлил срок жизни нематоды C. elegans более чем в 10 раз[25]. (Еще раз: задача ученого – не получение долгоживущих мух или червей, а последующее правильное применение открытий на людях.)
Благодаря этим важным достижениям последних лет большие и малые компании готовы вкладывать миллиарды долларов в омоложение людей научными методами. Люди понимают, что эта возможность реальна, и день ото дня она становится все ближе и ближе. Вопрос уже не в вероятности, а во времени. Поэтому такие мультимиллионеры, как Питер Тиль (известный еще по PayPal), Джефф Безос (Amazon), Марк Цукерберг (Facebook), Ларри Эллисон (Oracle), Сергей Брин и Ларри Пейдж (Alphabet/Google) да и многие другие, инвестируют в противовозрастные биотехнологии. С целью «разгадать смерть»[26] Google в 2013 г. создала фирму Calico (California Life Company), Microsoft в 2016 г. объявила, что в течение 10 лет исцелит рак[27]. Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан сообщили, что готовы пожертвовать практически все свои средства на излечение и профилактику всех болезней в течение одного поколения[28]. Мы могли бы и далее перечислять примеры, однако прогресс не остановить, и каждый день будут появляться другие.
Лучшие научные умы открыто работают над технологиями омоложения. В качестве общеизвестного примера приведем американского генетика, молекулярного инженера и химика Джорджа Чёрча, профессора генетики Гарвардской медицинской школы, профессора здравоохранения и технологии Гарварда и Массачусетского технологического института, а также многих других должностей, как в науке, так и в бизнесе (поскольку идеи о жизни и смерти необходимо перенести из академического сообщества в производство). Чёрч, некогда пионер расшифровки человеческого генома, а сегодня признанный первопроходец персональной геномики и синтетической биологии, недавно заявил[29]:
«Вероятно, что в ближайшие пару лет мы увидим первые опыты на собаках. Если они сработают, то до начала экспериментов с людьми останется еще года два, а до их завершения – восемь. И когда несколько из них будут успешными, заработает цикл положительной обратной связи».
Правда в том, что не существует научных принципов, которые запрещали бы омоложение и навязывали необходимость смерти. Ни в биологии, ни в химии, ни в физике. Об этом в 1964 г. на своей лекции «В чем состоит и в чем должна состоять роль научной культуры в жизни общества»[30][31] говорил Ричард Фейнман, выдающийся американский ученый и нобелевский лауреат по физике:
«Одна из наиболее поразительных вещей – во всей биологической науке нет объяснения необходимости смерти. Если мы хотим создать вечное движение, то знаем, что это абсолютно невозможно, – на этот счет мы открыли достаточно много законов физики; в противном случае законы работали бы неправильно. Но ничего подобного не обнаружено в биологии, ничего, что свидетельствовало бы о неизбежности смерти. Мне кажется, что такой неизбежности просто не существует и что это только вопрос времени, когда биологи откроют, что именно вызывает наши беды, и сумеют победить и ужасные глобальные болезни, и бренность человеческого тела».
В последние годы появился ряд изданий, освещающих достижения в таких новых областях науки, как омоложение и борьба с возрастными изменениями. Одно из них – журнал Aging[32], который выходит с 2009 г. Первый номер издания сопровождался вступительной статьей «Старение: прошлое, настоящее и будущее» (Aging: Past, Present and Future) за авторством трех редакторов: американского ученого русского происхождения Михаила Благосклонного, американки Джудит Камписи и австралийца Дэвида Синклера, которые написали[33]:
«В цикле “Академия”[34], опубликованном в 1950-х гг., Айзек Азимов описал цивилизацию, способную колонизировать всю Вселенную. Подобный триумф едва ли осуществим. Поразительно, что автор изобразил семидесятилетнего человека стариком, доживающим свои дни. Таким образом, даже самый смелый литературный вымысел не сумел предсказать замедление темпов старения. Но, если учесть скорость развития современной геронтологии, подобное, способное превзойти фантастику достижение вполне может стать реальностью уже при нашей жизни.
ПРОШЛОЕС тех пор, как Август Вейсман разделил жизнь на бессмертную зародышевую и бренную соматическую[35], вторую стали рассматривать как расходный материал. В 1889 г. он писал: “Уязвимая, временная природа сомы – вот причина того, что природа не позаботилась наделить эту часть существа неограниченным сроком бытия”.
НАСТОЯЩЕЕПервые успешные поиски замедляющих и контролирующих старение генов начались в середине 1980-х гг. Невзирая на распространенные сомнения относительно их существования, Класс[36] произвел скрининг мутагенеза в тех нематодах C. elegans, что благодаря изменениям жили дольше, и выявил кандидатов, один из которых (ген age-1) был описан Джонсоном с соавторами. В 1993 г. Кеньон с коллегами, тоже обследуя долгоживущих особей, обнаружил, что мутации в гене daf-2 повышают продолжительность жизни гермафродитов C. elegans более чем в два раза по сравнению с нематодами немутантного типа. На тот момент было уже известно, что daf-2 отвечает за переход в состояние “дауэр” – недоразвитую личиночную форму, которую представители типа принимают из-за голода или высокой плотности населения в популяции. В группе Кеньона предположили, что продолжительность пребывания в состоянии “дауэр” регулируется механизмом, продляющим существование, и это открытие стало отправной точкой для понимания того, как мы могли бы добиться увеличения срока жизни».
Редакторы коротко рассказали о зарождении геронтологии, научных изысканиях конца XIX в. и великих открытиях, совершенных на протяжении XX в., особенно в течение двух последних его десятилетий. На самом деле гены, непосредственно связанные со старением клеток, были обнаружены в маленьких круглых червях-нематодах C. elegans только в 1980-х гг. С тех пор процессы возрастных изменений, их возникновение и даже способы обращения вспять стали куда более понятными и гораздо лучше изученными.
Тем не менее одно только доказательство этой концепции не означает, что нам известны способы ее реализации. Они нам неизвестны, но до поры до времени. Именно с целью выяснить, что и как устроено, и проводятся многочисленные опыты как со всевозможными терапевтическими методами и воздействиями, так и с разными типами организмов. Это отнюдь не просто и вряд ли станет проще, но нам уже точно известно, что это достижимо. На самом деле вопрос не в вероятности, а в сроках практической разработки и запуска в серийное производство первых научных технологий омоложения человеческого тела. Мы, конечно, не черви и не мыши, поэтому многие из открытий, совершенных благодаря им, вряд ли сразу же будут применимы к людям. Но в то же время они укажут на некоторые возможности, которые посредством таких достижений, как ИИ, большие данные и пр., помогут скорее найти лекарства от человеческого старения.
Благосклонный, Камписи и Синклер начали с рассказа о прошлом и настоящем, однако описали и вероятное будущее, а также некоторые вероятные методы лечения и терапии старения и возрастных заболеваний. Сейчас, тем более в этой ознакомительной, рассчитанной на массового читателя книге, необязательно вникать в детали (или сокращения вроде ДНК, АМФК, РНК, FOXO, ИФР-1, mTOR, НАД, PI3K, ОК, TOR и многие другие, еще более витиеватые). Тем не менее здесь, в общем обзоре грандиозных открытий сегодняшнего и завтрашнего дней, мы не можем не упомянуть о них. В своей статье авторы отметили:
«БУДУЩЕЕБольшой интерес и волнение вызывает тот факт, что старение, как выяснилось, по крайней мере частично регулируется путями сигнальной трансдукции, которыми можно управлять с помощью медикаментов. Прототипы тех препаратов, что предположительно способны замедлять возрастные процессы, уже доступны. Обнаружены модуляторы сиртуинов[37], которые имитируют ограничение калорийности и смягчают некоторые возрастные заболевания. Другая наша мишень – путь белка TOR. По иронии судьбы сам TOR в качестве мишени рапамицина был обнаружен в дрожжах. Клинически доступный рапамицин, который выпускается под названиями “Сиролимус” или “Рапамун” и допускается к применению в высоких дозах в течение нескольких лет, потенциально способен лечить большинство, если не все, возрастные заболевания. “Метформин” (антидиабетический препарат и активатор АМФК), задействующий сигнальный путь TOR, замедляет старение и увеличивает продолжительность жизни мышей.
Таким образом, недавняя революция в исследованиях старения вывела на первый план сигнальные пути (ускоряющие рост, реакции на повреждение ДНК, сиртуины) и установила, что возрастные изменения поддаются контролю и медикаментозному торможению.
В это благоприятное время и начинает выходить журнал Aging издательской группы Impact. Он оказывает поддержку новой геронтологии, недавний прорыв в которой обусловлен интеграцией различных дисциплин, таких как генетика и развитие модельных организмов, фармакология и патогенез многих возрастных заболеваний, а также изучение сигнальной трансдукции, контроля клеточного цикла, биологии раковых клеток и реакций на повреждения ДНК. Журнал будет посвящен путям сигнальной трансдукции (ИФР-, и инсулин-активированные пути, митоген– и стресс-активируемые протеинкиназы, а также репарация ДНК, белки семейства FOXO, сиртуины, PI3K, АМФК и mTOR) в норме и патологии. Его тематика охватит клеточную и молекулярную биологию, клеточные метаболизм и старение, аутофагию, онкогены и гены-супрессоры опухолей, канцерогенез, стволовые клетки, фармакологию и антивозрастные агенты, животные модели и, конечно же, такие смертельные заболевания и проявления старости, как рак, болезнь Паркинсона, диабет II типа, атеросклероз и макулярная дегенерация. В журнале также станут публиковаться статьи, посвященные возможностям и границам новой науки о старении. Несомненно, возможность отсрочить или излечить возрастные болезни препаратами общего действия и, как следствие, продлить срок здоровой жизни – давняя мечта человечества».
Во время публикации в 2009 г. этой пророческой статьи еще почти ничего не было известно об одной из самых мощных современных генетических технологий – знаменитой CRISPR. Ее открыли в конце 1980-х гг., но внедрять начали по истечении первого десятилетия XXI в. Официально секвенирование человеческого генома завершилось в 2003 г., однако овечка Долли была клонирована только в 2006 г. Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, впервые полученные в 2006 г., первых методик терапевтического применения дождались лишь в 2010-х гг. К своей десятой годовщине журнал Aging уже стал свидетелем огромных преобразований, а в следующее десятилетие его ожидают еще большие изменения. Чтобы осознать интенсивность прогресса, его стоит рассматривать в перспективе. Он продолжает наращивать темп, и потому аналогичный прирост стоит ожидать и в ближайший десяток лет, если не в два раза быстрее. Мы уверены, что уже через два-три года успехи будут настолько впечатляющими, что нам придется переписать некоторые главы этой книги.
Еще один превосходный журнал по этой тематике – Rejuvenation Research[38]; он выходит с 1998 г. и в настоящее время находится под руководством британского биогеронтолога Обри ди Грея. Вот уже на протяжении двадцати лет журнал освещает великие научные достижения, которые, как мы надеемся, продолжат экспоненциально прогрессировать и дальше.
Приложение к этой книге содержит подробную хронологию, которая позволит сопоставить скорость развития с нашим представлением о жизни на Земле. Кроме того, в ее рамках мы предпринимаем попытку предсказать появление некоторых потрясающих вещей. Возможностям, которые, по всей вероятности, могли бы открыться нам уже в ближайшие десятилетия, мы будем обязаны грядущему экспоненциальному прогрессу, суждению авторов и мнениям экспертов, вроде уже упоминавшегося выше знаменитого американского футуролога Рэя Курцвейла.
Мы уже рассказали об успехах в продлении жизни червей, мышей и прочих животных. Зачем мы экспериментируем с ними? Неужели ученым нужны вечно юные грызуны или нематоды? Разумеется, нет. Одна из целей – понять, как устроены старение и омоложение, чтобы в некотором обозримом будущем приступить к клиническим испытаниям на людях. Мы уже поясняли этот момент, однако далее на страницах этой книги продолжим утверждать то же самое.
Если принять, что научный прогресс способен продлить человеческую жизнь, то мы должны рассмотреть эту вероятность и с этической точки зрения. Наше мнение таково: это не только этично, но и является нашим моральным долгом. Тем не менее есть некоторые влиятельные люди (так называемые инфлюенсеры), например американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс, которые не убеждены в приоритете излечения старения. Когда в открытом общении на сайте Reddit Гейтса спросили, каково его мнение относительно исследований продления жизни и бессмертия, тот ответил[39]:
«Пока не изжиты малярия и туберкулез, финансирование богатыми людьми собственного долгожительства представляется весьма эгоистичным поступком. Хотя, конечно, признаю, что было бы приятно жить как можно дольше».
Аналогичным образом можно критиковать и множество исследовательских медицинских программ, направленных, например, на лечение рака или сердечных заболеваний. Исцеление последних также продлевает жизнь. Однако люди все еще умирают от малярии и туберкулеза (лечение которых сравнительно дешевле), а потому крупные вложения в онкологию или кардиологию могут показаться неуместными. Если критерий действительно состоит в том, чтобы за определенную сумму спасти как можно больше людей, то логично задать вопрос: «Не лучше ли тогда свернуть противораковые инициативы и, накупив на эти средства москитные сетки, распространить таковые по регионам, где продолжают страдать от малярии?» Очевидно, что нет, значит, не все столь однозначно.
На самом деле главная причина смерти на планете – не малярия, не туберкулез, а старение. Таким образом, успешный проект омоложения соответствовал бы всем вышеперечисленным требованиям. Стремление к этой цели вовсе не эгоизм и не нарциссизм. От этой программы выиграют не только ученые (и их близкие). Она окажется выгодной всей планете, включая граждан тех беднейших стран, что все еще подвержены вспышкам малярии и туберкулеза. В конце концов, жители этих государств мучаются и от возрастных изменений.
Главная причина мировых страданий – старение и сопутствующие ему смертельные недуги. Сегодня в мире ежедневно умирает около 150 000 человек[40]. Две трети этих смертей связаны с возрастными заболеваниями. В более развитых странах этот показатель намного выше. Там почти 90 % людей умирают от старости и связанных с ней серьезных болезней: нейродегенеративных, сердечно-сосудистых или онкологических.
Старость – трагедия, несравнимая ни с чем. Каждый день в мире от нее умирает вдвое больше людей, чем от вместе взятых малярии, СПИДа, туберкулеза, несчастных случаев, войн, терроризма, голода и т. д. и т. п. Обри ди Грей разъяснил это коротко и понятно[41]:
«Старение – это варварство, оно просто недопустимо. Мне не нужны этические аргументы, да и вообще никакие не нужны. Это интуиция. Позволять людям умирать – дурно. Я работаю над исцелением старости и полагаю, что это надлежит делать и вам, потому что, по моему мнению, спасение жизней – ценнейший из способов потратить время. И, поскольку ежедневно более 100 000 человек погибают по причинам, из-за которых молодежь вообще не должна умирать, помогая лечить старение, можно спасти больше людей, чем любым другим способом».
Величайший враг человечества – смерть от старости. Смерть всегда была нашим злейшим соперником. К счастью, смертность, вызванная войнами, голодом и такими инфекционными заболеваниями, как оспа и полиомиелит, в наши дни значительно снизилась. Главный недруг всего человечества – не религии, не национальные или культурные различия, не войны, не терроризм, не экологические проблемы, не загрязнение окружающей среды, не землетрясения, не распределение воды и пищи и не что-то еще. Страдания от всего вышеперечисленного несомненны, но в наши дни величайший враг человечества – это, конечно, старение и связанные с ним болезни[42].
Старение причиняет людям, их семьям и обществу в целом неисчислимые страдания – стоит заметить, куда большие, чем любые иные трагедии наших дней. Жизнь – святыня большинства религий, она – преимущественное право любого человека, так как без нее все обязанности и привилегии оказываются просто бессмысленными. Право на жизнь даровано каждому, и это право, которое защищает от лишения жизни другими. Закрепленное самим фактом жизни, оно считается основным правом каждого и не только включено во Всеобщую декларацию прав человека, но и ясно прописано в большинстве передовых законодательств.
С юридической точки зрения право человека на жизнь, несомненно, важнейшее из всех, поскольку является причиной существования всех остальных прав: нет смысла гарантировать собственность, религию или культуру мертвому субъекту. Оно относится к категории гражданских прав первого поколения и признано во многих международных договорах: Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Право на жизнь четко оговорено в третьей статье Всеобщей декларации прав человека[43]:
«Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность».
Поразительное произведение «Басня о драконе-тиране» сравнивает человеческое старение с исполинской рептилией-деспотом, которая каждый день пожирает тысячи жизней. Общество, приспособившись к неизбежному бедствию, тратит на него колоссальные средства и старается примирить нас с великой трагедией. Басня написана в 2005 г. Ником Бостромом, специалистом в области философии науки, директором Института будущего человечества, входящего в состав философского факультета Оксфордского университета, и соучредителем Всемирной ассоциации трансгуманистов (ныне известной как Humanity+)[44].
Мы уже выдвигали этот тезис и еще обсудим его в следующих главах: на самом деле главнейшая задача человечества – осуществление и моральное оправдание физического бессмертия. С момента появления первого Homo sapiens sapiens это всегда оставалось самой главной мечтой, но до сегодняшнего дня нам попросту не хватало технологий для ее реализации.
Даже дети понимают, что старение – это плохо и что смерть – наиболее ужасная потеря для людей и их семей. Геннадий Столяров, американский писатель белорусского происхождения и глава Трансгуманистической партии США, в 2013 г. написал детскую книгу «Смерть – это неправильно», в которой пояснил[45]:
«Мне хотелось бы в детстве иметь такую книгу, как эта, но не довелось. Однако теперь она существует, и вы менее чем за час можете узнать то, на что у меня ушли долгие годы. Вы можете потратить это время на борьбу с нашим главным общим врагом – смертью».
Столяров продолжил рассказ воспоминанием о своем разговоре с матерью, в котором та объясняла, что люди в конце концов «умирают», а он, тогда еще маленький мальчик, удивляется:
«Я спросил:
– Умирают? Что это значит?
– Значит, что перестают существовать. Пропадают, – ответила она.
– А почему умирают? Разве они сделали что-то плохое и были наказаны? – продолжил я задавать вопросы.
– Нет, это случается со всеми: стареют и умирают, – сказала она.
– Это неправильно! – воскликнул я, – люди не должны умирать!»
К счастью, нынешние дети могут оказаться первыми бессмертными, или «амортальными»[46], людьми. Если экспоненциальный рост продолжится, то первые методики омоложения не замедлят появиться. И чем скорее, тем лучше. Как сказала Мэй Уэст, американская актриса, певица, комик, сценарист и драматург: «Стать моложе можно в любом возрасте».
Мы должны понимать, что живем между последним бренным и первым нетленным поколениями. Так в каком из них вы хотели бы оказаться? Советуем присоединиться к революции против старения и смерти независимо от вашего возраста. Как сказано в Библии (Первое послание к Коринфянам, 15:26):
«Последний же враг истребится – смерть».
Глава 1
Жизнь появилась, чтобы жить
Все люди от природы стремятся к знанию.
АРИСТОТЕЛЬ, ОК. 350 Г. ДО Н.Э.
Ты чудом жив.
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР, 1608 Г.
<Видите, как легко это понять?> – Таковы все истинные положения, после того как они найдены, но суть в том, чтобы их найти.
ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ, 1632 Г.
Со времен описания первобытными культурами своих версий сотворения Вселенной мир сильно продвинулся. От донаучных мифических рассказов мы перешли к научным теориям, поддающимся проверке опытным путем. Однако происхождение жизни продолжает оставаться тайной, которую мы надеемся все же раскрыть со временем[47].
В 1924 г. в труде «Происхождение жизни» русский ученый Александр Опарин выдвинул на этот счет собственные идеи. Будучи убежденным эволюционистом, он обрисовал последовательность событий, в ходе которых находившиеся в первичном бульоне органические вещества постепенно преобразовывались в живые организмы.
Много лет спустя, в 1952 г., юный студент-химик Чикагского университета Стэнли Миллер вместе со своим профессором Гарольдом Юри попытался проверить эту теорию с помощью простого устройства, в котором были смешаны водяной пар, метан, аммиак и водород (тогда считалось, что именно из них и состояла атмосфера первобытной Земли), а электрические разряды имитировали грозы и молнии древних бурь. Таким образом моделировались условия, существовавшие до возникновения жизни. Поступавшая в систему электрическая энергия способствовала образованию аминокислот, некоторых сахаров и нуклеиновых кислот. Однако живую материю получить не удалось – лишь отдельные составляющие.
В 1953 г. английские ученые Фрэнсис Крик и Розалинд Франклин вместе с американцем Джеймсом Уотсоном открыли строение ДНК. Этому достижению было суждено повлиять на дальнейшие труды и теории о происхождении жизни. Затем, начиная с 1955 г., испанский ученый Хуан Оро, последовал за своим соотечественником Северо Очоа и попытался объединить достижения в области химии с генетическими исследованиями, значимость которых все увеличивалась. В 1959 г. в предположительных условиях первобытной Земли ему удалось синтезировать аденин (одно из оснований нуклеиновых кислот[48]). В своей книге «Происхождение жизни» (El Origen de la vida) Оро написал[49]:
«В общих чертах некоторые пребиотические процессы можно воспроизвести в лабораторных условиях, и водную или жидкую среду следует признать оптимальной для их проистечения. Поэтому почти наверняка все живое возникло из так называемого первичного бульона».
Бактерии покоряют мир
Независимо от того, как на самом деле возникла жизнь на планете (возможно, мы так никогда этого и не узнаем), истина заключается в том, что первым живым организмам надлежало быть очень маленькими, простыми и способными к размножению клетками. Эти примитивные микроорганизмы, вероятно, являлись бактериями или еще чем-нибудь подобным простейшим нынешним одноклеточным[50].
Бактерии – самые распространенные организмы на планете. Они вездесущи, встречаются в любой наземной или водной среде и растут даже в самых суровых условиях, будь то горячие или кислые источники, радиоактивные отходы, глубина морей или земной коры. Некоторые из них способны выживать даже в экстремальных условиях космоса, что было продемонстрировано учеными ЕКА[51] и NASA.
Эти микроорганизмы невероятно многочисленны. Установлено, что в миллилитре пресной воды содержится миллион бактериальных клеток, в грамме почвы их уже около 40 млн. В общей сложности в мире насчитывается примерно 5 × 1030 таких микроорганизмов. Это поистине впечатляющее число свидетельствует о том, что бактерии миллиарды лет успешно колонизировали нашу планету[52]. Однако в лабораторных условиях удалось вырастить пока менее половины известных бактерий; более того, считается, что бо́льшая часть существующих видов (возможно, даже до 90 %) еще не описана наукой.
Бактерий в человеческом теле примерно в 10 раз больше, чем собственных клеток (хотя последние гораздо крупнее), особенно на коже и в пищеварительном тракте. К счастью, большинство из них безвредны или полезны, но некоторые патогены могут вызывать инфекционные заболевания, подобные холере, дифтерии, проказе, сифилису или туберкулезу.
Это очень простые микроорганизмы. Ядра как такового у них нет, поэтому их называют прокариотами[53]. Хромосома обычно одна – кольцевая, без начала или конца, и потому не имеет теломер[54]. Но в эукариотических клетках[55], с незамкнутыми хромосомами, концевые участки есть. Формулировка «бактерии»[56] была придумана в 1828 г. немецким ученым Христианом Готфридом; в 1925 г. французский биолог Эдуар Шаттон предложил термины «прокариота» и «эукариота», чтобы различать организмы без ядра как такового (например, бактерии) и организмы с клеточным ядром (в том числе растения или животные).
Успешный естественный отбор позволил бактериям колонизировать все уголки планеты и породить бесчисленные разновидности, многие из которых неизвестны и по сей день. На самом деле эволюция этих организмов (как и остальных живых существ) все еще продолжается. Сначала считалось, что у них только одна, замкнутая, хромосома, но затем были обнаружены виды с бо́льшим количеством (среди них встречаются как кольцевые, так и линейные). Наблюдение за непрекращающимся экспериментом самой природы – занятие, которое поистине захватывает дух[57].
С точки зрения естественного отбора доядерные клетки появились раньше прочих. Существуют и другие микроорганизмы без ядра – археи; они менее распространены и, возможно, возникли позднее бактерий, однако вместе с последними образуют надцарство прокариот. На эволюционном уровне также установлено, что около 4 млрд лет назад существовал последний универсальный общий предок – LUCA[58], от которого произошли все имеющиеся формы жизни: сначала прокариоты (бактерии и археи), а потом эукариоты (включая существующих животных и растений). В основном генетическом материале всех живых существ присутствует как минимум 355 изначальных геном от ДНК прародителя, которые составлены из четырех азотистых оснований: аденина (A), цитозина (C), гуанина (G) и тимина (T)[59].
На рис. 1.1 показано так называемое филогенетическое древо жизни, в котором четко прослеживаются две большие группы, называемые доменами, надцарствами, или империями. Это прокариоты (главным образом, одноклеточные организмы: бактерии и археи) и эукариоты (в основном, многоклеточные, представленные грибами, животными и растениями).
Биология очень сложна, эволюция длилась миллионы лет, и поэтому стоит отметить, что существуют как многоклеточные доядерные, так и одноклеточные ядерные организмы. Тем не менее большинство крупных эукариотов являются многоклеточными и содержат линейные хромосомы с теломерами на концах. И все они являют собою части великого филогенетического древа жизни, растущего от общего корня – LUCA.
Рис. 1.1. Филогенетическое древо жизни
С позиции воспроизведения при идеальных условиях выращивания бактерии могут считаться биологически «бессмертными». В наилучшей ситуации, когда при симметричном делении клетка производит две дочерние, новые возвращаются в молодое состояние. То есть при таком симметричном бесполом размножении каждое потомство эквивалентно юному родителю (за исключением некоторых вероятных мутаций при делении). Другими словами, микроорганизмы, которые используют подобный способ репродукции, можно считать практически вечными. Как мы увидим позже, в точно таком же ключе допустимо говорить о стволовых клетках и гаметах[60] многоклеточных.
Испанские микробиологи из Барселонского университета Рикардо Герреро и Мерседес Берланга объяснили прокариотическое «бессмертие» следующим образом[61]:
«Как ни странно, но конечные пункты назначения человека – старение и смерть – не были необходимы на заре жизни, и так продолжалось сотни миллионов лет. Классическое определение живого существа как того, кто “рождается, растет, размножается и умирает”, нельзя применять к доядерным организмам в той же мере, как к ядерным.
По мере роста прокариота ДНК закрепляется на мембране и транспортируется через нее, пока родительская клетка не расщепляется на две идентичные дочерние. Если позволяет окружающая среда, доядерные организмы будут расти и, не старея, размножаться. У бактерий это обычно происходит путем “бинарного деления” и приводит к двум одинаковым клеткам, хотя отклонения от общей картины все же случаются».
Однако не всем бактериям свойственно симметричное деление с интеркалярным[62] ростом, результатом которого являются одинаковые, не стареющие при размножении, клетки-потомки. Герреро и Берланга уточнили:
«Теоретически, при интеркалярном росте клетки не погибают. Однако очевидно, что бактерии, как и прочие формы жизни, могут “умереть” от голода (отсутствия питательных веществ), жары (высокой температуры), повышенной концентрации соли, высыхания, обезвоживания и т. д.».
Отметим, что подобный процесс размножения присущ не всем бактериям, например, те из них, что делятся асимметрично, с полярным ростом, производят неодинаковое и способное к старению и смерти потомство.
Хотя многие подробности происхождения и развития всего живого нам неизвестны, с определенной точки зрения мы можем заявить, что жизнь возникла, чтобы жить, а не умирать. По крайней мере, это утверждение будет верно для тех бактерий, что размножаются симметрично и в идеальных условиях не стареют.
Очевидно, что смерть существовала всегда, но первые формы жизни сумели эволюционировать таким образом, чтобы, возможно, в идеальных условиях оставаться вечно молодыми. Однако суровые реалии – болезни или недостаток пищи – приводили к гибели все организмы без исключения.
От одноклеточных прокариот к многоклеточным эукариотам
Ученые считают, что первые организмы с истинным ядром, то есть эукариоты, появились около 2 млрд лет назад. Они являлись такими же потомками общего предка LUCA с тем же типом ДНК, как и все последующие формы жизни на Земле. Первые ядерные организмы тоже были одноклеточными. К ним принадлежали грибы и особенно первые дрожжи, которые также считаются биологически «бессмертными».
В исследовании, опубликованном в 2013 г. в научном журнале Cell, группа ученых из США и Великобритании сообщила о следующих результатах опытов по размножению так называемых делящихся дрожжей[63]:
«Многие одноклеточные стареют: с течением времени начинают делиться медленнее и в конце концов умирают. При почковании дрожжей асимметричная сегрегация клеточных повреждений приводит к старению материнских клеток и омоложению дочерних. Мы предполагаем, что организмы, в которых подобная неравномерность отсутствует или поддается настройке, могут вовсе не подвергаться возрастным изменениям.
Увеличение срока жизни также наблюдается у видов, развивших более эффективные механизмы устойчивости к стрессу, и мутантов с повышенной способностью справляться со связанными с ним травмами. В организмах, которые не подвержены старению, его может запустить перенапряжение – как за счет ускоренного возникновения повреждений, так и из-за изменения способа их распределения.
Современная модель научной деятельности в области геронтологии гласит, что износу подвержены все организмы. Но, не обнаружив того в клетках делящихся дрожжей S. pombe, которые были выращены в благоприятных условиях, мы усомнились в данной точке зрения и доказали, что асимметричная сегрегация большого количества повреждений запускает в S. pombe переход от нестарения к старению. Дальнейшие исследования прояснят механизмы, лежащие в основе этой трансформации, и ее зависимость от условий окружающей среды.
Соматические клетки человека проявляют возрастные изменения после определенного количества делений in vitro[64], тогда как раковым, половым и самообновляющимся стволовым клеткам, наоборот, согласно предположениям, свойственно репликативное бессмертие. ‹…› Сравнительные исследования стареющей и нестареющей жизненных стратегий у одноклеточных помогут прояснить, что определяет потенциал размножения и износа клеток в высших эукариотических организмах».
Авторы исследования сделали следующие выводы:
● клетки делящихся дрожжей не стареют при благоприятных условиях роста;
● отсутствие старения не зависит от симметричности деления;
● старение происходит после вызванной стрессом асимметричной сегрегации повреждений;
● после стресса совокупные наследуемые показатели связаны со старением и смертью.
Одноклеточные дрожжи были одними из первых ядерных организмов, и предполагается, что они сохранили возможность деления без старения при идеальных условиях. В ходе эволюции, примерно 1,5 млрд лет назад, появились первые многоклеточные эукариоты. Позднее, около 1,2 млрд лет назад, они обзавелись герминативными[65] и соматическими клетками и приобрели способность к половому размножению. (Здесь, как и везде в биологии, имеются исключения: не все ядерные многоклеточные организмы размножаются именно так.)
В конце XIX в. ученые стали исследовать клетки зародышевой линии так, как если бы те полностью отличались от остальных. В основном многоклеточные организмы состоят из множества соматических клеток, но для сохранения и выживания вида фундаментальное значение имеют малочисленные гоноциты[66], производящие необходимые для размножения гаметы (яйцеклетки и сперматозоиды). Кроме того, гоноциты считаются биологически «бессмертными», и это означает, что они, в отличие от смертных соматических клеток, не знают старости, хотя и умирают вместе со всем организмом.
Как правило, соматические клетки, давая начало большинству клеток тела, делятся митозом (геноматериал в потомстве распределяется аналогично родителю). Гоноциты делятся мейозом (половым путем) и таким образом производят яйцеклетки или сперматозоиды с половиной хромосом, которые сливаются во время оплодотворения гамет.
У полового размножения много преимуществ (например, оно позволяет ускорить эволюцию), но и недостатков не меньше: так, скажем, выживание требуется только клеткам зародышевой линии. С биологической точки зрения при половом размножении соматические клетки идут в расход, в то время как бессмертные, не стареющие гоноциты, передают генетический материал из поколения в поколение.
Согласно идеям английского натуралиста Чарльза Дарвина, половая селекция эукариотических организмов – такой тип естественного отбора, при котором одни особи за счет выбора самок размножаются успешнее других. Половое размножение можно рассматривать как эволюционную силу, не присущую бесполым популяциям. В то же время прокариотические организмы, клетки которых могут нести дополнительный материал или в результате мутаций преобразовываться с течением времени, размножаются путем симметричного или асимметричного агамогенеза[67]. (В особых случаях, таких как горизонтальный перенос генов, могут происходить процессы, называемые конъюгацией, трансформацией или трансдукцией, которые в чем-то похожи на половое размножение.)
Бессмертные или «пренебрежимо» стареющие организмы
Биология и эволюция настолько увлекательны и полны сюрпризов, что позволяет нам утверждать: жизнь появилась для жизни, и на это указывает пример бактерий, симметрично размножающихся в идеальных условиях. Помимо подобных им прокариотов, существуют также способные к биологическому бессмертию эукариоты, например дрожжи. Важнейшие для развития части организмов, подверженных старению, также обладают этим свойством. Так, гоноциты и стволовые клетки ядерных не меняются с возрастом, то есть являются биологически «бессмертными». Соматические клетки, напротив, стареют, и вместе с их смертью, в свою очередь, приходится погибать как зародышевой линии, так и плюрипотентным стволовым клеткам тела.
Благодаря постоянному научному прогрессу сегодня нам известно, что существуют также многоклеточные эукариоты, у которых биологически «бессмертны» не только гоноциты, но и соматические клетки. Прекрасный пример способности не стареть и регенерировать – гидры. Их название происходит от одноименного легендарного существа, у которого взамен одной отрубленной головы вырастали две. Возможно, древние греки, описывающие в известных мифах огромных чудовищ, что-то знали об этих животных.
Гидры – вид пресноводных стрека́ющих величиной всего в несколько миллиметров. Существа ведут хищный образ жизни, захватывая мелкую добычу щупальцами, полными жалящих клеток, и обладают удивительной способностью к регенерации. Будучи гермафродитами, они размножаются как бесполым, так и половым путем. Благодаря непрерывному делению клеток все книдарии[68] могут восстанавливаться, залечивая таким образом свои раны. В новаторской статье американского биолога Даниэля Мартинеса, опубликованной в 1998 г. в научном журнале Experimental Gerontology[69], говорилось[70]:
«Одряхление (процесс распада, который по мере хронологического старения увеличивает вероятность смерти организма) было обнаружено у всех более-менее тщательно исследованных многоклеточных. Однако потенциальное бессмертие гидр – одиночного пресноводного представителя типа стрекающих и одного из самых ранних ответвлений многоклеточных – вызывало противоречия. Ученые предполагали, что гидра, постоянно обновляющая ткани тела, способна избежать возрастных изменений. Но подтверждавших эту гипотезу публикаций не существовало. Чтобы удостовериться в наличии или отсутствии нестарения, были проанализированы показатели смертности и репродуктивности для трех когорт гидр в течение четырех лет. Полученные результаты не предоставили свидетельств возрастных изменений: смертность оставалась крайне низкой, явных признаков снижения репродуктивных показателей не было. Вероятно, гидры действительно избежали старости и оказались потенциально способными стать вечными».
Различные виды медуз также можно считать биологически «бессмертными». Например, Turritopsis dohrnii, или Turritopsis nutricula, – некрупные животные, которые после полового размножения некоторым образом трансдифференцируют собственные клетки. Цикл может повторяться бесконечно, из-за чего существа делаются биологически «бессмертными». В этом им подобны медузы Laodicea undulata и сцифоидная Aurelia. Научное исследование, проведенное в 2015 г., отмечало[71]:
«Род Aurelia – немаловажный виновник бурного расцвета медуз в прибрежных водах. Возможно, отчасти это происходит, по гидроклиматическим и антропогенным причинам, но нельзя забывать и о высокоадаптивной репродуктивной системе этих животных. Несмотря на пластичность жизненных циклов стрекающих – в особенности наиболее изученных некоторых видов класса гидроидных – известные модификации образа жизни аурелий в основном ограничивались полиповой стадией. Но настоящее исследование задокументировало образование полипов непосредственно из эктодермы дегенерирующих молодых животных. ‹…› Это первое свидетельство обратного превращения половозрелых медуз в полипы (Aurelia, образец 1). Последовавшая в результате принципиальная перестройка схемы жизнедеятельности аурелии показала, что ранее недооцененный потенциал обращения жизненного цикла сцифоидных может получить применение в биологии и экологии».
Молекулярные процессы, происходящие в аурелиях во время этой примечательной трансформации, способны стать основой для новых методов лечения людей. Японский ученый Шин Кубота, который провел тщательные исследования так называемых бессмертных медуз и стал экспертом мирового уровня по этим животным, возлагает большие надежды на дальнейшие изыскания исследований. В статье в газете The New York Times он изложил свое видение таким образом[72]:
«Применение Turritopsis на людях – удивительная мечта человечества. Как только мы определим механизм самоомоложения медузы, то непременно достигнем великих открытий. Считаю, что мы начнем эволюционировать и становиться бессмертными».
Трехветвистых планарий (трикладид) можно разрезать на части, каждая из которых регенерирует до целого животного. Размножаются они как половым, так и бесполым путем. Исследования показали, что плоские черви, оказывается, восстанавливаются (то есть заживают) бесконечно, а бесполые особи благодаря непрерывному росту теломер обладают, по всей видимости, неограниченной способностью к регенерации, что обеспечивается обилием пролиферативно активных необластов[73]. Вот как это было описано в научной статье 2012 г.[74]:
«Некоторые существа могут быть потенциально бессмертными или, по крайней мере, живущими крайне долго. Понимание тех эволюционных механизмов, за счет которых какие-то животные оказываются способными к вечной жизни, может пролить свет на перспективы смягчить старение и возрастные фенотипы человеческих клеток. Эти существа, должно быть, умеют замещать старые, поврежденные или больные клетки и ткани и, исходя из этого, задействуют популяцию (или популяции) пролиферативных стволовых клеток.
Трикладидов следовало бы охарактеризовать как “бессмертных под лезвием ножа”. Возможно, они обладают способностью к неограниченному обновлению дифференцированных тканей, используя набор взрослых, потенциально вечных стволовых клеток планарии».
Другие исследования показывают, что у омаров с возрастом плодовитость не утрачивается и даже не ослабевает – старые особи могут быть фертильнее молодых. Подобная продуктивность, возможно, обусловлена теломеразой – ферментом, который восстанавливает длинные повторяющиеся участки последовательности ДНК на концах хромосом, или теломерах. У большинства позвоночных экспрессия теломеразы обычно происходит на эмбриональных стадиях развития и с возрастом прекращается. У омаров же, напротив, она экспрессирована в большинстве взрослых тканей, с чем предположительно и связано их долголетие[75]. Впрочем, они тоже не вечны, поскольку растут путем линьки, которая требует усилий, пропорциональных размеру сбрасываемого панциря. Со временем омары, скорее всего, умирают во время смены панциря от истощения. Известно также, что старые особи перестают линять, а значит, оставшаяся оболочка неминуемо повредится, инфицируется или разрушится, что повлечет за собой смерть ее хозяина.
Американский биогеронтолог Калеб Финч, почетный профессор Университета Южной Калифорнии, один из экспертов мирового уровня по проблемам старения и сравнительному межвидовому анализу, чтобы описать те виды, у которых «нет свидетельств физиологических нарушений в пожилом возрасте, увеличения темпа смертности после созревания и признанного характерного ограничения продолжительности жизни»[76], ввел термин «пренебрежимое старение».
Пренебрежимое старение не означает полного бессмертия, поскольку для смерти всегда найдутся причины: нападение хищников, несчастные случаи или энергетические и физические ограничения, скажем, линька или разрушение панциря у омаров. Как мы могли уяснить, бактерии – очень хрупкие существа, но и они в идеальных условиях способны жить бесконечно долго, как индивидуально, так и в группах.
Существуют клональные колонии, или совокупности генетически идентичных особей: растений, грибов или бактерий, которые выросли в одном месте из общего предка путем вегетативного размножения. Некоторые из них существуют тысячи лет. Самое крупное из известных на сегодня подобных образований – гигантское водное растение, обнаруженное в 2006 г.[77] в проливе между островами Ибица и Форментера:
«Образующая морской луг трава посидония пустила корни 100 000 лет назад, в то время, когда наши прапращуры расписывали в Южной Африке древнейшую из известных “художественных галерей”. Колония охраняется ЮНЕСКО».
Другой кандидат на самое долгоживущее клональное формирование мира – Дрожащий гигант, или Пандо. Роща, расположенная в американском штате Юта, выросла из одиночного мужского тополя осинообразного (Populus tremuloides). По генетическим маркерам установлено, что вся колония представляет собой единое существо с массивной системой подземных корней, которые считаются одним из старейших организмов в мире (их возраст около 80 000 лет). Также определено, что растение в совокупности весит более 6600 тонн и может претендовать на звание самого тяжелого из известных живых существ[78].
Были обнаружены и другие клональные организмы возрастом более 10 000 лет – различные колонии растений и грибов, которые растут и размножаются вегетативным способом. Из отдельных особей дольше всего живут, вероятно, эндолиты[79]: археи, бактерии, грибы, лишайники, водоросли или амебы, обитающие внутри камней, кораллов и экзоскелетов или в порах скал, между зернами минералов. Многие из них – экстремофилы, они живут в местах, некогда считавшихся негостеприимными для любого вида жизни. По преимуществу эндолиты изучаются астробиологами, которые разрабатывают теории об эндолитических условиях Марса и других планет как потенциальных убежищах внеземных микробных сообществ. В 2013 г. международная группа ученых сообщила о крупном научном открытии, связанном с морскими эндолитами[80]:
«Обнаружены бактерии, грибы и вирусы, живущие в двух с половиной километрах под океанским дном. Этим особям, скорее всего, миллионы лет, а размножаются они раз в 10 000 лет».
Существует несколько видов долгоживущих наземных и водных животных, в том числе некоторые кораллы и губки. Что касается деревьев, то наиболее точно известен возраст знаменитого Прометея, срубленного в 1964 г. для проверки срока его жизни, который составил почти пять тысячелетий, и его современного родственника Мафусаила, которому, по оценкам, 4845 лет. Кроме того, существует еще одно безымянное дерево (во избежание повреждений его местоположение не раскрывается). Согласно общедоступной информации от 2012 г., растению около 5062 лет[81]. Все эти долгожители являются представителями вида сосна остистая межгорная (Pinus longaeva). Это самые долговечные из известных на сегодня отдельных организмов. Чтобы объективно представить возраст этих деревьев, задумаемся о том, что они появились, например, задолго до строительства египетских пирамид[82].
В Уэльсе, в городе Ллангернив, в церковном саду растет тис ягодный (Taxus baccata) – Ллангернивский тис, возраст которого, по оценкам, составляет от четырех до пяти тысячелетий[83]. Подобные долгожители: хвойные и оливковые деревья, которые растут две, три, а то и четыре тысячи лет, есть и в других частях света – от Чили до Японии.
В Анурадхапуре (Шри-Ланка) растет священная фига вида Ficus religiosa – ее называют Джая Шри Маха Бодхи. Растение было посажено в 288 г. до н. э. Таким образом, ему более 2300 лет: это древнейшее из известных посаженных человеком деревьев. Джая Шри Маха Бодхи – прямой потомок того самого индийского дерева Бодхи, под которым Сиддхартха Гаутама, известный как Будда, сев медитировать, достиг «духовного просветления»[84].
Португальский микробиолог Жао Педро де Магалхас ведет «Базу данных старения и долголетия животных» (Animal Aging and Longevity Database). Любопытный список организмов с пренебрежимой скоростью старения вместе с предполагаемым сроком жизни в дикой природе содержит максимальные значения возраста, известные для этих видов[85]:
● Циприна исландская (Arctica islandica) – 507 лет.
● Алеутский морской окунь (Sebastes aleutianus) – 205 лет.
● Красный морской еж (Strongylocentrotus franciscanus) – 200 лет.
● Каролинская коробчатая черепаха (Terrapene carolina) – 138 лет.
● Европейский протей (Proteus anguinus) – 102 года.
● Американская болотная черепаха (Emydoidea blandingii) – 77 лет.
● Расписная черепаха (Chrysemys picta) – 61 год.
Список можно дополнить описанными выше гидрами, медузами, планариями, бактериями и дрожжами в идеальных условиях. Кроме того, недавно было установлено, что гренландская полярная акула (Somniosus microcephalus) способна прожить 400 лет. В будущем нам будет чему поучиться у всех этих видов с пренебрежимым старением[86].
Люди в этом плане не так сильно отличаются от животных: несмотря на то, что по преимуществу наши тела состоят из подверженных старению соматических клеток, у нас тоже имеются не подверженные старению гоноциты и плюрипотентные стволовые клетки.
Рекордсмен среди людей – Жанна Луиза Кальман, человек с самой большой официально зарегистрированной продолжительностью жизни в 122 года 164 дня. Сверхдолгожительница родилась 21 февраля 1875 г. и умерла 4 августа 1997 г., проведя все свои дни в городе Арль на юге Франции. Знакомая с Винсентом Ван Гогом, она стала единственным человеком в истории, который, без сомнения, достиг 120-, 121– и 122-летнего возраста. Кальман была очень активной: до 85 лет занималась фехтованием, до 100 – ездила на велосипеде[87].
В попытках выяснить о старении человека как можно больше, начиная с генетики и заканчивая питанием и факторами окружающей среды, долгожителей и сверхдолгожителей исследуют целые научные коллективы. Однако люди продолжают стареть и дряхлеть, поэтому необходимо учиться у организмов с пренебрежимым старением.
«Бессмертные» клетки Генриетты Лакс
Генриетта Лакс, при рождении получившая имя Лоретта Плезант, появилась на свет в Галифаксе (штат Вирджиния) в бедной афроамериканской семье 1 августа 1920 г., была табаководом и прежде, чем переехать в Балтимор (штат Мэриленд), вышла замуж за двоюродного брата Дэвида Лакса. Умерла от рака 4 октября 1951 г.
История Генриетты была рассказана научным журналистом Ребеккой Склут в книге «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс»[88][89], которая вышла в 2010 г. и продержалась в списке бестселлеров два года:
«Афроамериканка Генриетта Лакс была матерью пятерых детей и в 1951 г., в возрасте 31 года, умерла от рака шейки матки. Лечащие врачи из госпиталя Джонса Хопкинса, без ведома пациентки взяв для исследования образцы опухолевых тканей, создали первую жизнеспособную, невероятно продуктивную и бессмертную клеточную линию, известную как HeLa. Эти клетки помогли совершить такие медицинские открытия, как вакцина против полиомиелита и лекарство от СПИДа».
1 февраля 1951 г. Лакс обратилась в госпиталь Джонса Хопкинса с жалобами на болезненные ощущения в шейке матки и вагинальное кровотечение. В тот же день ей диагностировали рак шейки матки с опухолью, которая показалась гинекологу, что проводил обследование, непохожей на виденные им ранее. Перед началом лечения клетки карциномы в исследовательских целях были удалены, причем без уведомления или согласия пациентки (в то время это считалось нормой). Восемь дней спустя, во время второго осмотра, доктор Джордж Отто Гай, взяв еще один образец тканей, сохранил его часть. В последнем и находились так называемые клетки HeLa (по первым буквам имени Генриетты Лакс).
Больную несколько дней лечили лучевой терапией – обычным для 1951 г. методом лечения онкологических заболеваний – после чего направили на рентгенотерапию, однако состояние Лакс ухудшилось, из-за чего 8 августа ее положили в госпиталь Джонса Хопкинса, где она оставалась до самой смерти. Несмотря на уход и переливания крови, 4 октября 1951 г. женщина скончалась от почечной недостаточности. Последующее частичное вскрытие показало, что рак метастазировал в другие части тела.
Опухолевые клетки Генриетты были тщательно изучены доктором Гаем. Он обнаружил, что HeLa обладают невиданными свойствами: оставались живыми и росли в клеточной культуре. Они стали первыми биологически «бессмертными» (не погибающими после нескольких делений) человеческими клетками, пригодными для выращивания в лаборатории, а потому могли быть использованы во множестве экспериментов. Это принесло колоссальный прогресс медицинским и биологическим исследованиям.
Врач и вирусолог Джонас Солк применил HeLa при разработке вакцины от полиомиелита: чтобы протестировать ее, он запустил процесс быстрого массового размножения «бессмертных» клеток (сегодня это считается первым «промышленным выпуском» человеческого биоматериала). Поскольку HeLa допускали серийное воспроизводство, их разослали ученым по всему миру для исследований рака, СПИДа, воздействия радиации и токсичных веществ, генетического картирования и других бесчисленных научных целей. Также клетки HeLa применялись для изучения чувствительности человека к липкой ленте, клеям, косметике и многим другим продуктам повседневного использования.
С 1950-х гг. было произведено более 20 тонн HeLa; в 1955 г. они стали первыми клонированными человеческими клетками. По связанным с ними продуктам выдано более 11 000 патентов; по всему миру проведено более 70 000 научных опытов. При помощи этих клеток разработаны новые методы генной терапии и препараты для лечения таких недугов, как болезнь Паркинсона, лейкемия, рак молочной железы и прочие онкологические заболевания[90].
HeLa – старейшая на сегодня лабораторно выращиваемая человеческая клеточная линия – используется чаще остальных. В отличие от нераковых, в лабораторных условиях эти клетки могут культивироваться постоянно, поэтому их и называют «бессмертными». Благодаря им стало известно, что прочие виды злокачественных опухолей тоже являются биологически «бессмертными», то есть не стареют.
Клетки HeLa чрезвычайно пригодились и в онкологии. Они разрастаются аномально быстро, даже для раковых клеток, и во время деления в них присутствует активная теломераза – фермент, который предотвращает постепенное, связанное с клеточным старением и отмиранием укорачивание теломер. Как мы увидим в следующей главе, линии HeLa удалось избежать предела Хейфлика (ограниченное количество делений, на которые способны большинство нормальных клеток в культуре).
В отличие от всех прочих болезней, великая трагедия рака заключается в том, что его клетки непрерывно размножаются и не стареют. Вот почему рак необходимо ликвидировать, и чем скорее, тем лучше. Сам по себе он не погибает, а напротив, продолжает расти и распространяться по всему телу. Можно сказать, что пока метастазы не разрастаются, и больной не умирает, «пищей» рака становится все тело пациента.
Возможно ли биологическое «бессмертие»?
Мы видели, что фактически неувядающие организмы (то есть с пренебрежимым старением) существуют. Мы также отметили, что в наших телах не стареют как «худшие» (раковые), так и «лучшие» (герминативные) клетки. Поэтому не стоит задавать вопрос: «Возможно ли биологическое бессмертие?» Оно существует.
Как мы уже успели обсудить, задать следует другой вопрос: «Когда мы сможем остановить возрастные изменения человеческого организма?»
В статье «Научное завоевание смерти» (The Scientific Conquest of Death)[91] Майкл Роуз, американский биолог из Калифорнийского университета и специалист по теориям старения, объяснил, каким образом можно достичь биологического «бессмертия»:
«Универсально ли старение? Конечно, нет. Если бы ему было подвержено все, то было бы невозможно продолжительное, в течение миллионов лет, выживание “зародышевой линии” (клеток, ответственных за производство наших гамет). Все те бананы, что вы съели, в большинстве своем выросли из бессмертных клонов.
Даже у млекопитающих, чья генеративная часть отделяется от соматической чрезвычайно рано, выживание и репликация клеток, ответственных за производство гамет, длились сотни миллионов лет. Жизнь может продолжаться неограниченно долго.
Но, пусть даже она и способна к вечному размножению, существуют ли нестареющие биологически «бессмертные» существа? По поводу смерти нужно сразу прояснить такой момент: неправда, что для уничтожения подопытных экземпляров необходимы возрастные изменения. Гибель представителя вида в лаборатории не означает, что теоретически он не вечен. Случайные механические травмы смертельно опасны для многих мягкотелых растений, животных и микроскопических созданий. Смертельные мутации могут убить в любом возрасте и в любое время. Равно как и невозможно неограниченно долго оберегать живое существо от всех болезней.
Отмена старения не подразумевает полную неспособность к смерти. Таковая свойственна и “вечным” видам, просто те уходят из жизни не из-за систематического, эндогенного и неотвратимого процесса саморазрушения, а по иным причинам. Гибель – не старение. Биологическое бессмертие не освобождает от летального исхода.
Для доказательства бессмертия будет достаточно вывода о том, что в темпах выживания и размножения отсутствуют признаки старения. У растений и простых животных, например актиний, подобные закономерности, бывало, подмечались случайно. Однако самые лучшие количественные данные были представлены Мартинесом, изучавшим смертность гидр – водных животных, некогда служивших основой уроков биологии в средней школе. Исследователь обнаружил, что выживаемость подопытных не снижалась в течение очень продолжительного времени. Гидры действительно умирали, но не по схеме, предполагавшей возрастные изменения. Другие ученые собрали сопоставимые данные о мелких животных: некоторые из них, размножавшиеся бесполым путем, оказались бессмертными, некоторые нет.
Кроме того, если учесть эволюционное бессмертие всего живого, апеллировать к законам термодинамики, ограничивающим срок жизни, явно некорректно. В любом случае подобные утверждения откровенно непрофессиональны, поскольку законы применимы только к замкнутым системам, а жизнь планеты к таковым не относится: на Землю постоянно и обильно поступает энергия от Солнца.
Таким образом, некоторые из самых глубоких предрассудков относительно бессмертия, безусловно, ложны. Старение не универсально. Биологически «вечные» организмы существуют».
Роуз – пионер в исследовании долголетия на плодовых мухах Drosophila melanogaster, которым он сумел продлить жизнь в четыре раза. В 1991 г. он опубликовал книгу «Эволюционная биология старения» (Evolutionary Biology of Aging), в которой выдвинул гипотезу о том, что старение вызывается генами, положительный эффект которых проявляется в раннем возрасте, побочный, старение, – значительно позже. Из-за преимуществ, которые гены предоставляют в юности, эволюция выказывает к ним благосклонность. Автор также утверждает, что, как показали его эксперименты, благодаря которым жизнь модельного организма Drosophila melanogaster была продлена в четыре раза, возрастные изменения можно остановить на поздних этапах жизни.
Как и Роуз, мы думаем, что старение можно замедлить, остановить и, конечно же, обратить вспять. Доказательство концепции уже было получено на других организмах. Вопрос в том, чтобы достичь того же, но применительно к людям. Пора переходить от теории к практике.
Глава 2
Что такое старение?
Далее рассмотрим, почему у одних жизнь долгая, а у других короткая, и в целом причины долготы и краткости жизни.
АРИСТОТЕЛЬ, 350 Г. ДО Н.Э.
Старость наша есть болезнь, которую нужно лечить, как всякую другую.
ИЛЬЯ МЕЧНИКОВ, 1903 Г.
Старость неестественна.
МАРИЯ БЛАСКО, 2016 Г.
Старение есть нечто пластичное и управляемое.
ХУАН КАРЛОС ИСПИСУА БЕЛЬМОНТЕ, 2016 Г.
Старение – это болезнь, самая распространенная болезнь, которую необходимо интенсивно лечить.
ДЭВИД СИНКЛЕР, 2019 Г.
Старость начали изучать сравнительно недавно, а возвращение юности – и того позже. Если говорить грубо и с некоторым преувеличением, то современной науке о старении всего несколько десятилетий, учению об омоложении считаные годы. Оба они едва начали проходить стадию лабораторных испытаний, причем на животных моделях, чтобы потом – в нужный момент – перейти к человеческому организму. К счастью, все больше людей в академическом сообществе и вне его осознают, что научные методики замедления и обращения возрастных изменений, равно как и способы восстановления молодости, уже не за горами.
Одним из первых изучать старение растений и животных в IV в. до н. э. стал древнегреческий философ Аристотель. Во II в. до н. э. древнеримский медик греческого происхождения Гален предположил, что процессы распада начинаются уже с юных лет. В XII в. английский монах и философ Роджер Бэкон выдвинул идею об изнашивании. В XIX в. мысли его соотечественника Чарльза Дарвина открыли дверь эволюционным теориям о природе возрастных изменений, а также серьезным дискуссиям о программируемом и незапрограммированном старении[92].
Виды старения, больше старения и без старения
Как очевидно из главы 1, бывают и организмы, и клетки (в том числе и в человеческом теле), которые не подвержены возрастным изменениям. Существуют животные, способные к полному восстановлению любой части собственного тела, в том числе и мозга[93]. Иными словами, старость нельзя считать процессом, общим для всех: встречаются формы жизни, которые к ней либо вовсе не склонны, либо подвержены в незначительной степени.
Еще нам стало известно, что в зависимости от типа воспроизводства особи одного и того же вида могут стареть либо нет. В общих словах в отличие от существ, для которых свойственно половое размножение (в том числе и для гермафродитов), организмы, размножающиеся бесполым путем, не склонны к старению.
Кроме того, имеются различия в скорости старения между мужскими, женскими и обоеполыми организмами. Ожидаемая продолжительность жизни у самок выше, чем у самцов, и такая же тенденция наблюдается у видов с гермафродитными особями. Также прослеживается существенная разница в темпах возрастных изменений у членов колоний общественных насекомых, например срок жизни трутней, маток и рабочих пчел будет значительно отличаться.
Климатические условия также сильно влияют на продолжительность жизни (что главным образом верно для насекомых и беспозвоночных, неспособных контролировать температуру тела): так, у мух и червей она в значительной мере зависит от количества тепла и пищи. Другим видам продлевают жизнь похолодание и ограничение калорийности.
Обнаружены некоторые гены, частично контролирующие процесс старения, например у нематод C. elegans это age-1 и daf-2, у плодовых мух Drosophila melanogaster – FOXO; имеются и другие, открытые позже. Аналоги есть и у млекопитающих. И поскольку мы уже сегодня понимаем, что старение поддается генетической модификации, нам так важно понять принцип действия генов. Тогда мы сможем управлять ими.
Общеизвестно, что каким-то организмам отпущен долгий срок существования, каким-то – короткий (хотя время – понятие относительное). Одна крайность – это некоторые примитивные насекомые, например так называемые эфемерные[94], живущие день или даже меньше, другая – люди, способные прожить век и более, или животные с пренебрежимым старением. Сегодня также известно о существовании видов, отдельные представители которых прожили века и тысячелетия, и предел их жизни неизвестен.
Аристотель еще много веков назад подметил, что растения и животные тоже старятся по-разному. Значительные различия в их клетках влияют на модели возрастного изменения, вплоть до полного нестарения или пренебрежимого старения (скажем, у таких многолетних, как секвойя). Бактерии, одноклеточные ядерные и грибы, к примеру, способны и стареть, и не стареть, что зависит от способа их размножения, симметричности деления, типа клеток и хромосом.
Даже в одном и том же организме могут существовать коротко– и долгоживущие клетки. Так, человеческие сперматозоиды живут три дня (в то время как производящие их гоноциты не старятся вообще), клетки прямой кишки – обычно четыре дня, клетки кожи – две или три недели, эритроциты – четыре месяца, лейкоциты – больше года, а нейроны неокортекса[95], как правило, погибают только вместе с телом. Сегодня, вопреки тому, что нам было известно до недавнего времени, мы также знаем следующее: благодаря стволовым клеткам, которые все-таки присутствуют в некоторых областях мозга, нейроны последнего способны к регенерации[96].
Клетки с кольцевыми хромосомами (как у большинства бактерий) в идеальных условиях, как правило, биологически «бессмертны», тогда как с линейными (как в большей части соматических клеток многоклеточных организмов) – обычно смертны, если в них не разовьется рак и не прекратится старение. Теперь нам уже известно, что в результате мутаций подверженных старению соматических клеток раковые способны стать биологически «вечными». Чтобы выявить секрет бессмертия, изучают стволовые клетки опухолей. То есть, даже несмотря на злокачественность, те тоже могут помочь раскрыть тайну старения.
Раковые клетки производят фермент теломеразу. Соматические, как правило, у взрослых особей ее не продуцируют. Исключение составляют некоторые случаи, когда этот процесс способствует постоянной регенерации на клеточном уровне, как у планарий и некоторых амфибий.
Вышеприведенные примеры демонстрируют: за миллионы лет, что имелись в распоряжении у природы, она успела поэкспериментировать с различными формами жизни, видами организмов, способами воспроизводства, типами полового размножения и клеток, паттернами роста и моделями возрастных изменений, в том числе и с нестарением.
Румынская врач-гериатр Анка Иовицэ в 2015 г. выпустила книгу «Межвидовая пропасть старения» (The Aging Gap Between Species). Автор начала с поиска «леса за деревьями»[97]:
«Старение – загадка, которую необходимо разгадать.
Этот процесс обычно изучают на нескольких биологических моделях: плодовых мушках, червях или мышах. Все эти виды подвержены быстрому старению, что благоприятно сказывается на лабораторных бюджетах и приходится кстати в качестве краткосрочной стратегии, поскольку у кого есть время на изучение видов, живущих десятки лет?
Однако межвидовая разница в долголетии – величина куда большего порядка, чем любое продление жизни, достигнутое в лабораторных условиях. Именно поэтому при попытке собрать узкоспециальные исследования в легкий для понимания труд мне пришлось изучить бесчисленные источники информации. Данная книга и есть попытка достичь этой цели.
Старость неизбежна – или, по крайней мере, так говорят. Но я никогда не принимала что-либо на веру лишь по причине авторитетности источника, поэтому подвергла сомнению межвидовую схожесть возрастных изменений. И в ходе поисков с удивлением обнаружила, что геронтологии не хватает разнообразия биологических моделей. В глубинах самых смутных и невразумительных научных трудов я неутомимо искала ответ на вопрос: «Как же стареют все остальные виды и чем они могут в этом различаться?»
Если вы когда-нибудь держали домашнее животное, то наверняка заметили, что все живут по-разному. Вы за 10 лет ничуть не изменились, а ваш пес или кот уже начал страдать от возрастных болезней. Продолжительность жизни широко варьируется как между самими видами, так и между их отдельными представителями. Какие же механизмы лежат в основе этой межвидовой пропасти старения?»
В своей книге Иовицэ дала прекрасный обзор современных научных знаний о возрастных изменениях и, среди прочего, сообщила об огромных различиях между разными видами (от бактерий до китов), привела разнообразные теории старения, неотении[98] и прогерии[99], а также осветила такие основные темы, как стволовые клетки, рак, теломераза и теломеры. В заключение она написала:
«Старение – явление пластичное. Я стремилась разглядеть за деревьями лес, изложить разницу в старении различных видов в доступной логической последовательности и записать ответы на эти вопросы простым языком. Изучение старения слишком важно, чтобы прятать его за закрытыми дверями формального научного жаргона.
Геронтология как наука может развиваться, изучая не только недолговечные виды, вроде мышей с червями, но также постепенно и более пренебрежимо стареющие, к примеру, губок, голых землекопов, морских ежей, протеи и тысячелетние деревья. Если возрастные изменения – это повышение темпа смертности и снижение фертильности, то существование вышеперечисленных видов неявно намекает на то, что старость – случайная ошибка природы.
Благодаря продолжающейся во взрослых соматических тканях экспрессии теломеразы долгоживущие виды иногда способны хотя бы частично восстанавливать органы. При этом онкологические заболевания встречаются у них не чаще, чем у остальных. Возможно, такие организмы развили альтернативные механизмы сдерживания рака, увеличив непосредственный контроль над клетками. Несмотря на активную экспрессию теломеразы в соматических стволовых клетках, голый землекоп считается животным, устойчивым к раку.
Из-за масштаба проекта эта книга постоянно пребывает в стадии написания. Еще столько бесчисленных видов предстоит открыть. Еще столько опытов предстоит провести и столько теорий – разработать. Старость – ошибка природы, а геронтология – наука о старости – создана, чтобы разрешить загадку старения».
Истоки научного исследования старения
В конце XIX в., а именно в 1892 г., когда революционные идеи Дарвина об эволюции еще только-только завоевывали признание научного мира, немецкий биолог Август Вейсман разработал теорию наследственности, основанную на бессмертии зародышевой плазмы (гермоплазмы). Согласно его гипотезе, новые клетки организма образуются вокруг субстанции, полученной в результате соединения сперматозоида с яйцеклеткой; она являет собой источник первичной, не прерывающейся поколениями преемственности[100].
Теория, предвосхитившая развитие современной генетики, в то время была известна как «вейсманизм». Она гласила, что наследственная информация передается исключительно через зародышевые клетки гонад (яйцеклеток и сперматозоидов), но не посредством соматических клеток. Идея о невозможности передачи информации от соматических клеток зародышевым (вопреки популярной тогда теории французского биолога Жана-Батиста Ламарка) получила название «барьер Вейсмана».
Вейсман допустил бессмертие зародышевой плазмы и, наоборот, бренность сомы. Еще он утверждал, что смерть не обязательно присуща жизни, а скорее является следующим биологическим этапом, необходимым для эволюции (избавления от непригодных и низших организмов)[101]:
«Смерть следует рассматривать как благоприятное для вида событие, как уступку внешним условиям, а не абсолютную изначальную данность существования. Будучи завершением жизни, она отнюдь не присуща, как принято считать, всем организмам.
Сама смерть, как и долгий либо короткий срок жизни, всецело зависит от адаптации. Гибель не представляет собою непременное свойство живой материи; она не обязательно связана с размножением и не является его необходимым следствием».
Вскоре после этого, в 1908 г., Илья Мечников, русско-французский биолог и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, высказал схожие идеи об эволюции и бессмертии. Он утверждал, что вечны не только клетки зародышевой линии, вечными способны стать многоклеточные организмы. (В то время считалось, что бессмертными могут быть только одноклеточные.)
Именно тогда Вейсман изложил теорию о биологическом «бессмертии» зародышевых и смертности соматических клеток, а также о роли смерти, несмотря на отсутствие прямой необходимости в таковой, с позиций эволюции.
Мечников, работавший с французским биологом Луи Пастером, придумал термин «геронтология»[102], поэтому его принято называть «отцом» этой науки. Ученый соглашался с Вейсманом в том, что смерть не обязательна (поскольку одноклеточные и клетки зародышевой линии потенциально бессмертны), однако в эволюционное преимущество естественной гибели и обычных возрастных изменений не верил. По его словам, в природе эти явления не встречаются почти никогда. Ослабленные организмы погибают по естественным причинам (хищники, болезни, несчастные случаи, конкуренция), и их шансы на естественные старение и смерть минимальны. Если же таковые почти никогда не происходят в природе, то каким образом на сохранившиеся для естественных старения и смерти организмы сможет воздействовать эволюция? И тем более отбирать их для получения конкурентного потомства[103].
Несколько лет спустя, в 1912 г., Алексис Каррель, франко-американский биолог и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, провел эксперименты, которые показали, что соматические клетки тоже могут жить вечно. Изучать долголетие, бессмертные клетки, культуры тканей и трансплантацию органов он продолжал вплоть до своей смерти в 1944 г. Через некоторое время, в 1961 г., американский микробиолог Леонард Хейфлик открыл, что соматические клетки многоклеточных за все существование делятся определенное количество раз, и доказал, что зародышевые клетки (и раковые, что подтвердилось работой с HeLa) биологически «бессмертны», но соматические – нет. Они погибают после некоторого количества делений (не больше 100 на каждую клетку), которое зависит от их разновидности и типа организма. Это открытие сегодня известно как предел Хейфлика[104].
История достижений в области изучения старения на протяжении XX в. поистине изумительна. Мы прошли путь от преимущественно концептуальных теорий до реальных опытов (пусть некоторые из них и были ошибочными и непродуктивными). Ведущими исследователями старения прошедшего века были, среди прочих, специалисты из Германии, России, Франции и США. Израильский ученый русского происхождения Илья Стамблер подробно описал это в книге «История идей о продлении жизни в двадцатом столетии» (A History of Life-Extensionism in the Twentieth Century). В самом начале своего обширного труда, опубликованного в 2014 г., автор обозначил его четыре основные части[105]:
«Данный труд исследует историю идей продления жизни на протяжении XX в. Термин “экстенсионизм”[106] подразумевает систему мировоззрения, согласно которой радикальное (то есть гораздо большее, чем сейчас) увеличение долголетия представляется желательным по этическим соображениям и достижимым с помощью сознательных научных усилий. В хронологическом порядке я продемонстрирую основные направления экстенсионистской мысли XX в., причем основное внимание уделю центральным и основополагающим для каждого направления и периода работам таких авторов, как Илья Мечников, Бернард Шоу, Алексис Каррель, Александр Богомолец и др.
Вышеупомянутые труды представлены в социальном и интеллектуальном контексте как части более широкого современного общественно-идеологического дискурса, связанного с масштабными политическими волнениями и социально-экономическими структурами. Таким образом, описаны национальные особенности следующих стран: Франция (часть I), Германия, Австрия, Румыния и Швейцария (часть II), Россия (часть III), США и Великобритания (часть IV).
Эта работа преследует три цели. Первая – выявить и изучить некоторые общие методы биомедицины, разработка или применение которых на протяжении века считались самыми обнадеживающими и перспективными для продления жизни. Однако, как утверждается в данном труде, стремление значительно увеличить срок жизни не только надежда, но зачастую значительная, хотя и редко признаваемая, мотивация к исследованиям и открытиям в данной области. Будет продемонстрировано, что новые направления в биомедицинской науке часто берут начало в масштабных исканиях радикального продления жизни, и указано на динамическую дихотомию между редукционистскими и холистическими методами.
Вторая цель состоит в том, чтобы исследовать идейную и общественно-экономическую подоплеку мышления сторонников радикального продления жизни, определить, каким образом идеология и материальные условия мотивировали экстенсионистов и влияли на их научно-исследовательскую работу. С этой целью в работе рассматриваются биографии и ключевые труды нескольких выдающихся сторонников долголетия. Чтобы выяснить, какие условия поощряли или препятствовали развитию экстенсионизма, будут изучены их идейные предпосылки (отношение к религии и прогрессу, пессимизм или оптимизм в отношении совершенствования человека, а также этические требования), равно как и социально-экономические обстоятельства (способность проводить и распространять исследования при том или ином общественном устройстве).
Третья, более общая, цель – создание обширного списка работ по продлению жизни с целью выявить на фоне разнообразия методик и идеологий единые направления и цели экстенсионизма – оценку жизни и постоянство. Данный труд поможет понять пределы ожиданий от биомедицины, вряд ли в должной мере освещенные в прошлом».
Теории XXI века о старении
Несмотря на великие достижения XX в., единой общепринятой теории старения пока нет. На самом деле существует несколько конкурирующих концепций, и классифицировать их можно по-разному.
Например, в ходе одного из курсов Калифорнийского университета в Беркли по этой теме рассматривались четыре основные группы теорий, по три и более в каждой. Это теории молекулярные (ограничения кодона, катастрофы ошибок, соматических мутаций, дедифференцировки и генной регуляции), клеточные (изнашивания, свободнорадикальная, старения клеток в результате утраты теломер или стресса, а также теория апоптоза), организменные (скорости жизни, нейроэндокринная и иммунологическая) и эволюционные (одноразовой сомы, антагонистической плейотропии и накопления мутаций)[107].
Вышеупомянутый Жао Педро де Магалхас делит концепции на теории о повреждениях либо о запрограммированном старении, что тоже представляет собой стандартный способ классификации[108]. Одни биологи проводят границу между генетическими и негенетическими теориями, другие говорят об эволюционных и физиологических концепциях (последние, в свою очередь, делятся на запрограммированные и стохастические, то есть случайные). Однако дело в другом – в том, что все больше и больше специалистов осознают необходимость систематического изучения старения. Об этом свидетельствует и приведенное ниже «Открытое письмо ученых по исследованию старения» (Scientists’ Open Letter on Aging Research), подписанное в 2005 г. несколькими уважаемыми исследователями со всего мира[109]:
«У некоторых животных моделей (нематод, дрозофил, карликовых мышей Эймса и пр.) удалось замедлить старение и увеличить продолжительность здоровой жизни. Таким образом, если предположить существование общих основополагающих механизмов, можно сказать, что старение человека тоже поддается сдерживанию.
Расширение знаний позволит лучше справляться с разрушительными патологиями, связанными со старением: онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и болезнью Альцгеймера. Для борьбы с ними пригодились бы методики лечения, направленные на базисные механизмы старения.
Таким образом, это письмо – призыв к увеличению финансирования и количества исследований основных механизмов старения и методов его отсрочки. Подобные изыскания могут принести куда большую выгоду, чем такие же усилия по борьбе с возрастными заболеваниями. По мере того, как механизмы наступления старости будут становиться все понятнее, станет возможной разработка все более эффективных мер воздействия, которые помогут продлить здоровую и продуктивную жизнь огромного количества людей».
Дискуссия по проблемам старения набирает силу и приобретает глобальный характер – от Китая через Россию и до США. Например, в 2015 г. в научном журнале Acta Naturae российские ученые опубликовали статью «Теории старения: неустаревающая тема»[110] (Theories of Aging: An Ever-Evolving Field), где написали[111]:
«Интерес к теме старения не ослабевает на протяжении многих веков. Хотя современная медицина добилась значительного увеличения средней продолжительности жизни человека, старение остается во многом загадочным и, к сожалению, неизбежным процессом. Мы постарались кратко рассмотреть существующие теории и подходы к его изучению».
В другой части света Куньлинь Цзинь, американский ученый китайского происхождения, доктор из Центра медицинских наук при Университете Северного Техаса, в 2010 г. в научном журнале Aging and Disease[112] разместил статью «Современные биологические теории старения» (Modern Biological Theories of Aging), в которой утверждал[113]:
«Несмотря на недавние успехи молекулярной биологии и генетики, тайны управления сроком человеческой жизни все еще предстоит раскрыть. Для объяснения процесса старения было предложено множество гипотез, опирающихся либо на эволюционную запрограммированность, либо на ошибки в развитии, но оба объяснения пока что не представляются полностью удовлетворительными. Теории, как существующие, так и новые, могут взаимодействовать между собой сложным образом, и их понимание и исследование поспособствует более благоприятному старению».
Столкнувшись с таким потоком старых и новых концепций, Обри ди Грей с конца XX в. стал тщательно и планомерно собирать всю существующую информацию и сводить ее во всеобъемлющую систему по проблемам старения. Опыт изучения информатики и вычислительной техники в Кембридже позволил ему взглянуть на проблему скорее с инженерно-технической, чем с биолого-медицинской точки зрения. Его подход к продлению жизни был назван SENS, или стратегии достижения пренебрежимого старения инженерными методами (англ. – Strategies for Engineered Negligible Senescence). В 2002 г. ди Грей представил свои идеи в статье, подготовленной вместе с известными врачами и биологами, такими как Брюс Эймс, Джулия Андерсен, Анджей Бартке, Джудит Камписи, Кристофер Хьюард, Роджер Маккартер и Грегори Сток[114].
Смысл концепции SENS – в возможности разработать медицинские методики, чтобы обратить вспять человеческое старение и сохранить биологическую молодость на многие годы. С этой целью ди Грей тщательно изучил имеющиеся научные работы и пришел к выводу, что существует семь основных типов повреждений, связанных с процессом старения. Также он обнаружил, что все они известны, по крайней мере, с 1982 г., то есть уже несколько десятилетий.
С тех пор биология безмерно продвинулась, но, по словам ди Грея, новых типов повреждений ученые не обнаружили. Это свидетельствует о том, что нам уже известны ключевые проблемы, которые в совокупности становятся причинами слабости и уязвимости к болезням, по нашему представлению, связанными со старостью. Новый комплексный подход состоит в том, чтобы бороться с повреждениями посредством биоинженерии, попутно воздействуя геронтологическими методами на метаболические, а гериатрическими – на патологические процессы. На рис. 2.1 показана стратегия, известная как SENS.
Рис. 2.1. SENS: стратегии биотехнологических исследований для омоложения
Каковы же эти семь смертельных причин старения? Все они происходят на микроскопическом уровне, внутри и снаружи клеток. Небольшие повреждения не причиняют вреда, но с годами они накапливаются все быстрее и быстрее, и поэтому люди слабеют и умирают. В своей книге «Отменить старение: Прорывы в науке омоложения, способные обратить человеческое старение при нашей жизни» (Ending Aging: The Rejuvenation Breakthroughs That Could Reverse Human Aging in Our Lifetime), ди Грей так описал эти семь причин[115]:
1. Внутриклеточные отходы.
2. Межклеточные отходы.
3. Мутации в ядре.
4. Мутации в митохондриях.
5. Потеря стволовых клеток.
6. Рост количества стареющих клеток.
7. Рост межклеточных белковых сшивок.
Когда ди Грей опубликовал свои идеи, многие назвали его шарлатаном и даже сумасшедшим. Были «эксперты», что, нападая на ди Грея, называли его концепцию научно необоснованной. Дискуссия дошла до престижного журнала MIT Technology Review[116], и в 2005 г. ее редактор, поставив стратегии метода SENS под сомнение, пообещал 20 000 долларов первому, кто докажет, что те «настолько ошибочны, что недостойны научных дебатов». Чтобы оценивать критику, которая, несмотря на публичность и деньги, в результате представляла собой скорее личные нападки, чем последовательные аргументы, было создано жюри из пяти авторитетных ученых и врачей (Родни Брукс, Анита Гоэль, Викрам Кумар, Нэйтан Мирволд и Крейг Вентер). После нескольких месяцев и многочисленных попыток премию отозвали, поскольку никто так и не смог доказать ложность идей ди Грея. Однако это не помешало некоторым «экспертам», исходя из их собственных убеждений, продолжить атаковать концепцию SENS[117].
С 2005 г. мир сильно изменился. В последние годы наука достигла больших успехов, которые скорее подкрепляют изначальные идеи Обри ди Грея. В работе, в 2017 г. опубликованной в научном журнале Smithsonian[118], упоминалась одна из статей против ди Грея, которая прошла в MIT Technology Review под названием «Псевдонаука продления жизни и план SENS» (Life Extension Pseudoscience and the SENS Plan)[119]:
«Девять соавторов, все маститые геронтологи, решительно выступили против позиции ди Грея. “Он блестящий ученый, но у него нет опыта в исследованиях старения, – высказывается подписавшая статью Хайди Тиссенбаум, профессор молекулярной, клеточной и онкологической биологии Медицинской школы Массачусетского университета. – Мы были встревожены, так как он утверждал, что знает, как предотвратить старение, основываясь на идеях, а не на строгих научных экспериментальных результатах”.
Прошло больше 10 лет, и Тиссенбаум стала относиться к SENS гораздо лучше. “Честь и хвала Обри, – дипломатично заявляет она. – Чем больше людей заговорят об изучении старения, тем лучше. Я отдаю ему должное за то, что он привлек к этой области внимание и деньги. Когда мы писали ту статью, кроме его самого и его идей не было никакой научной работы и вообще ничего. Но сейчас, как и любая другая лаборатория, они проводят множество фундаментальных исследований”».
Хотя некоторые продолжают называть ди Грея сумасшедшим шарлатаном, его ранние заявления подтверждаются все большим и большим количеством положительных результатов. В 2003 г. ди Грей стал одним из основателей Фонда Мафусаила, который учредил в поддержку научной работы над радикальным замедлением старения и даже его обращением вспять премию «Мышь Мафусаила», или MPrize. Своим названием она обязана библейскому патриарху Мафусаилу, согласно предположениям, прожившему почти тысячу лет. Эта награда, как и другие способы стимуляции, позволили значительно продлить жизнь грызунам. Например, жизнь животных, которые в естественной среде обитания существуют всего год, а в лаборатории два-три, после разнообразных воздействий продлилась почти до пяти лет.
При помощи разных видов терапии ученым удалось увеличить срок жизни мышей на 40, 50 и даже более процентов. Хочется надеяться, что премия продолжит свое существование, и вскоре мы сможем поговорить об особях с двойным или тройным сроком жизни.
Также в 2009 г. ди Грей стал соучредителем Фонда исследований SENS (англ. – SENS Research Foundation), цель которого – «переосмыслить мировые способы изучения и лечения возрастных проблем со здоровьем». Новый метод SENS способствует «местному восстановлению живых клеток и внеклеточного материала», что разительно отличает его от традиционных гериатрических приемов к конкретным заболеваниям и патологиям, а также биогеронтологического подхода к вмешательству в процессы метаболизма.
Чтобы ускорить различные научные программы в области регенеративной медицины, фонд SENS финансирует исследования и способствует обучению и распространению информации. Согласно SENS, на каждое из семи основных видов повреждений можно воздействовать с помощью одной из конкретных стратегий лечения, известных как RepleniSENS, OncoSENS, MitoSENS, ApoptoSENS, GlycoSENS, AmyloSENS и LysoSENS. Некоторые из этих методов были внедрены, некоторые использовались для стимулирования стартапов, разрабатывающих противовозрастные и омолаживающие терапевтические методики[120].
В своей статье «Отмена старения при помощи молекулярного и клеточного восстановления» (Undoing Aging with Molecular and Cellular Damage Repair), которая вошла в книгу «Следующий шаг: Жизнь по экспоненте» (The Next Step: Exponential Life), изданную в 2017 г. проектом BBVA OpenMind, ди Грей пояснил[121]:
«SENS – это радикальный отход от прежней тематики биомедицинской геронтологии, вместо простого торможения он предполагает подлинное обращение старения вспять. В настоящее время метод признан жизнеспособным вариантом возможного управления возрастными изменениями. Это произошло благодаря вдумчивому обмену знаниями между биогеронтологией и регенеративной медициной. И я убежден, что, по мере развития основных технологий последней, доверие к SENS будет расти».
Во время первого Международного саммита по долголетию и криоконсервации, организованного в Мадриде Высшим советом по научным исследованиям (CSIC), ди Грей дал интервью, в котором провел обзор грандиозных изменений, происшедших за последнее десятилетие, и подытожил достижения стратегии SENS по состоянию на 2017 г.[122]:
«Есть много поводов для оптимизма. Идеи, выдвинутые SENS, в прошлом обширно критиковались, а теперь активно изучаются, поскольку становится все более очевидным, что процессы старения поддаются вмешательству. Данные в поддержку восстановительного подхода к проблемам старости продолжают накапливаться, и то, что высмеивалось всего лишь десять с небольшим лет назад, сейчас становится общепринятым подходом к лечению возрастных заболеваний.
Однако, чтобы перейти к клиническим испытаниям на людях, нам все еще требуется больше знаний о некоторых возрастных повреждениях. Именно поэтому поддержка фундаментальных исследований основных механизмов старения должна оставаться общественным приоритетом номер один».
Причины и столпы старения
В дополнение к концептуальным, революционным работам Обри ди Грея другие ученые тоже пытаются систематизировать текущее понимание старости и способов ее лечения. В 2000 г. два американских онколога Дуглас Ханахан и Роберт Вайнберг опубликовали в престижном научном журнале Cell[123] статью с провокационным названием «Ключевые признаки рака» (The Hallmarks of Cancer), которая помогла упорядочить наши знания об онкологии. Авторы утверждали, что все виды рака имеют шесть общих черт (причин, или ключевых признаков), заведующих превращением нормальных клеток в злокачественные или опухолевые. К 2011 г. эта статья стала самой цитируемой в истории журнала, и авторы подготовили новую версию, вмещающую четыре дополнительные причины.
Опираясь на успех вышеупомянутой статьи, группа из пяти европейских ученых (испанца Карлоса Лопес-Отина из Университета Овьедо, Марии Бласко и Мануэля Серрано из испанского Национального центра изучения рака (CNIO), англичанки Линды Партридж из Института биологии старения общества Макса Планка в Германии и австрийца Гвидо Крёмера из французского Университета Декарта) опубликовала в 2013 г. в том же журнале статью под названием «Ключевые признаки старения». В ней было написано следующее[124]:
«Старость характеризуется постепенной потерей организмом физиологической целостности, что приводит к нарушению функций и повышению риска смерти. Подобная деградация является главным фактором риска для развития основных патологий, включая рак, диабет, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания. В недалеком прошлом, особенно после того, как была установлена некоторая зависимость генетических и биохимических процессов, сохранившихся в процессе эволюции, от скорости старения, ученым удалось добиться беспрецедентных успехов. В данном обзоре перечислены девять потенциальных ключевых признаков – общих для старения различных организмов, но с акцентом на млекопитающих. К ним можно отнести: нестабильность генома, укорочение теломер, эпигенетические альтерации, нарушение протеостаза и распознавания питательных веществ, митохондриальную дисфункцию, клеточное старение, истощение пула стволовых клеток и изменение межклеточных взаимодействий. Основной задачей является определение взаимосвязи между потенциальными ключевыми признаками и их относительным влиянием на старение. Это нужно, чтобы установить мишени для фармацевтического вмешательства. Тогда с минимальными побочными эффектами мы сможем улучшить здоровье стареющего человека.
Старение, которое в общих чертах определяется как зависимое от времени снижение функций, затрагивает большинство живых организмов. И хотя прошло всего 30 лет с начала новой эры в его исследованиях – получены первые долгоживущие линии Caenorhabditis elegans (C. elegans), – оно вызывает любопытство и будоражит воображение на протяжении всей истории человечества.
В наши дни старение – предмет тщательного научного изучения, основанного на расширяющихся знаниях о молекулярных и клеточных основах жизни и патологии. Можно провести множество параллелей между нынешней ситуацией в исследованиях старения с состоянием, сложившимся в изучении раковых заболеваний в прошлые десятилетия».
Девять основных причин старения ученые разделяют на три основных категории, как показано на рис. 2.2. Вверху указаны основные признаки (нестабильность генома, укорочение теломер, эпигенетические альтерации и потеря протеостаза), из-за которых, как полагают, в основном и происходят повреждения клеток. В центре – антагонистические признаки (нарушение распознавания питательных веществ, митохондриальная дисфункция и клеточное старение); их считают частью компенсаторных (или антагонистических) реакций на повреждения. Первоначально они смягчают ущерб, но, если носят хронический или острый характер, могут стать пагубными. Внизу приведены интегративные признаки (истощение пула стволовых клеток и изменение межклеточного взаимодействия), которые являются отдаленным результатом двух предыдущих групп и причинами, в конечном счете ответственными за связанное со старением снижение функций.
Рис. 2.2. Функциональные взаимосвязи между ключевыми признаками старения
Статья заканчивалась выводами и прогнозами:
«Определение ключевых признаков старения может помочь выстроить основные принципы будущих исследований его молекулярных механизмов и создать терапевтические методики, которые позволят увеличить продолжительность здоровой жизни человека. ‹…› Мы предполагаем, что более продуманные подходы поспособствуют окончательному разрешению имеющихся вопросов, и надеемся, что комбинирование таковых позволит детально понять механизмы, лежащие в основе ключевых признаков старения, и разработать основные принципы терапии, направленной на увеличение продолжительности здоровой жизни и долголетия человека».
Через год после вышеприведенной статьи группа американских ученых при поддержке Национальных институтов здравоохранения США в том же научном журнале Cell опубликовала статью «Старение: общая движущая сила хронических заболеваний и мишень для новых вмешательств» (Aging: a common driver of chronic diseases and a target for novel interventions). Авторы объяснили, что лучше непосредственно бороться с самим старением, которое и есть причина всех сопутствующих заболеваний, чем «атаковать» болезнь за болезнью[125]:
«Старение млекопитающих можно отсрочить генетическим, диетическим или фармакологическим подходом. Учитывая, что численность пожилого населения постоянно растет и для большинства хронических заболеваний, приводящих к болезни и смерти, главный фактор риска – именно возраст, крайне важно развивать и поддерживать геронтологические исследования, направленные на продление здоровой жизни человека.
Замедление старения увлекало человечество на протяжении тысячелетий, но всеобщий интерес привлекло недавно. Открытие того, что старость млекопитающих можно отсрочить, повысило вероятность продления срока жизни человека. Геронтологи почти единодушны во мнении, что это возможно, но только при наличии ресурсов для достижения целей в различных областях – от фундаментальной биологии до трансляционной медицины.
Современный метод лечения хронических заболеваний неадекватен и фрагментарен: к моменту их диагностики значительный, трудно устранимый ущерб обычно уже нанесен. Хотя осознание уникальных особенностей каждой отдельно взятой болезни не только похвально, но и потенциально имеет терапевтическую ценность, исключительно важен подход к пониманию общей причины – старения. Если мы сможем понять, как оно приводит к патологиям, нацелиться на общий компонент станет проще (и гораздо легче). Появится возможность раннего вмешательства и предотвращения ущерба, а также поддержания энергии и активности. К тому же можно будет компенсировать экономическое бремя разрастающегося пожилого населения, которому мешают бесчисленные хронические заболевания».
Авторы также описали то, что они назвали «семью столпами» старения. Согласно чилийско-американскому ученому Фелипе Сьерра, директору Отдела биологии старения Национального института по проблемам старения США, эти столпы таковы[126]:
1. Воспаление.
2. Адаптация к стрессу.
3. Эпигенетика и регуляторные РНК.
4. Метаболизм.
5. Структурные повреждения макромолекул.
6. Протеостаз.
7. Стволовые клетки и регенерация.
Другой автор статьи, американский биолог Брайан Кеннеди, в то время президент Института исследований старения Бака в Калифорнии, пришел к выводу, что[127]:
«Результатом нашей работы стало глубокое понимание взаимосвязи между факторами, приводящими к старению, необходимостью комплексного подхода к здоровью и болезни, а также возрастного изменения биологических систем».
С другой стороны, испанский биолог Хинес Мората, специалист по плодовым мухам Drosophila melanogaster из Центра молекулярной биологии имени Северо Очоа в Мадриде, в 2018 г. во время интервью заявил[128]:
«Смерть не неизбежна. Бактерии не умирают, полипы тоже: они растут и размножаются. Часть наших зародышевых клеток сохраняется в наших детях и так далее. Вот почему каждый из нас частично бессмертен.
Один из видов червей, а именно нематоду, посредством манипуляции с отвечающими за старение генами заставили жить в семь раз дольше. Если бы такая технология была применена к нам, мы смогли бы прожить 350 или 400 лет. Конечно, на людях нельзя ставить опыты, но не исключено, что однажды мы достигнем подобного долголетия. Через 50, 100 или 200 лет возможности станут настолько огромными, что результаты трудно представить. Возможно, у нас будут крылья, и мы сможем летать, а может, вырастем до четырех метров… Человечеству самому решать, каким быть его будущему».
С этим согласился и американский биогеронтолог Майкл Уэст, специалист по стволовым клеткам и теломерам, автор нескольких книг о старении и возможном омоложении организма[129]:
«В человеческом теле до сих пор живут потенциальные наследники сокровищ нашего бессмертного прошлого – клетки из линии, называемой зародышевой, которые способны не оставлять мертвых предков и обновляться вечно. Свидетельством служит тот факт, что дети рождаются молодыми и имеют возможность когда-нибудь сделать своих собственных детей, и так далее в бесконечность…»
Мы рассмотрели множество различных теорий, стратегий, причин и столпов. Так что же это такое – старение? Давайте сверимся с авторитетным источником – «Британской энциклопедией». Определение начинается со слов[130]:
«Старение – последовательные или прогрессирующие изменения в организме, которые приводят к повышенному риску немощности, болезней и смерти. С. происходит в клетке, органе или целом организме с течением времени. Это процесс, который продолжается на протяжении всей взрослой жизни любого существа…»
Вне зависимости от используемого определения, по основным терминам и идеям в основном наблюдается единодушие. Также понемногу приходят к согласию и по двум другим важным вопросам:
● Старение происходит постепенно, то есть в течение значительной части жизненного периода организма. По существу, это динамический и последовательный процесс, и ради систематической борьбы с повреждениями его можно разбить на такое количество этапов, какое потребуется.
● Старение сегодня не считается чем-то биологически «неизбежным» или даже «необратимым». Скорее, нам известно, что это «пластичный» и «гибкий» процесс и им можно манипулировать. «Руководство по биологии старения» также не упоминает о «неизбежности» старения и отдельно признает существование нестареющих клеток и организмов. Не называет оно этот процесс и «необратимым», поскольку говорит о возможности восстановления повреждений[131].
Мы еще многого не знаем о процессе старения, что, впрочем, не мешает нам продвигаться к его излечению. Порой в это сложно поверить, но для решения проблемы необязательно понимать ее целиком. Например, английский врач Эдвард Дженнер разработал первую эффективную вакцину против оспы в 1796 г. – более чем за столетие до того, как в 1898 г. голландский ученый Мартин Бейеринк открыл первый вирус и основал вирусологию.
Другой известный пример – американские братья Орвилл и Уилбер Райты, которые в 1903 г. всего при трех законченных классах старшей школы сумели совершить первый полет. Большинство «экспертов» считали это невозможным, а законы аэродинамики были не вполне осознаны даже более учеными людьми, чем братья Райты, которые едва ли могли похвастаться формальными знаниями. Но как сказал бы Галилео Галилей: «Eppur si muove» – «И все-таки она вертится».
Старение как болезнь
В последние годы наши познания о старении серьезно перестраиваются: ученые все чаще считают его заболеванием. К счастью, оно излечимо, и, хотя все зависит от общественной и политической поддержки исследований, в ближайшие годы мы надеемся найти лекарство.
В 1893 г. на сессии Международного статистического института в Чикаго французский врач Жак Бертильон представил первую Международную классификацию болезней. Изначальная «Классификация причин смерти» была основана на принятом в то время во Франции способе кодификации и содержала только 44 «причины». К первой Международной конференции по классификации причин смерти в 1900 г. их число возросло почти до 200. Первые попытки классификации были предприняты Лигой Наций и ВОЗ после Первой и Второй мировых войн соответственно[132].
Шестой, вышедший в 1948 г. пересмотр классификации, который впервые включил также причины заболеваемости, ВОЗ взяла на себя. В настоящее время перечень называется Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, или Международной классификацией болезней (МКБ).
МКБ определяет классификацию и кодификацию заболеваний, а также широкий спектр их признаков, симптомов, социальных обстоятельств и внешних причин. Система предназначена для содействия международному сопоставлению сбора, обработки, классификации и представления вышеприведенных статистических данных.
Самый последний, одиннадцатый, пересмотр МКБ – МКБ-11 – вышел в июне 2018 г.[133] До него, на протяжении 20 лет, признанным на международном уровне действующим списком (с изменениями в некоторых странах) являлась МКБ-10. В 2017 г. в ответ на предложение ВОЗ несколько активистов, включая авторов этой книги, высказались за то, чтобы старение вошло в перечень заболеваний или хотя бы научных стартапов. Благодаря вкладу наших сторонников ВОЗ согласилась включить понятие «здоровое старение» в общую программу работы на период 2019–2023 гг., хотя формально старость до сих пор не считается болезнью[134].
В течение прошедшего века некоторые расстройства, которые ранее причислялись к болезням, перестали быть таковыми, а другие, которые ими не были, наоборот, вошли в список заболеваний. Международная группа исследователей (бельгиец Свен Бультерийс, швед Виктор Бьорк, англичане Рафаэлла Халл и Ави Рой) в 2015 г. опубликовала в научном журнале Frontiers in Genetics[135] статью «Пора классифицировать биологическое старение как болезнь» (It is time to classify biological aging as a disease), где заявила[136]:
«Отличия между нормой и патологией зависят от исторического контекста. Некоторые состояния, которые ранее рассматривались как заболевания, в настоящее время не считаются таковыми. Например, побеги черных рабов с плантаций считались проявлением драпетомании (стремления к бродяжничеству), для борьбы с которой применялись даже медикаменты. Аналогичным образом как болезнь рассматривалась мастурбация, лечившаяся путем удаления или прижигания клитора. Наконец, еще не так давно – всего лишь в 1974 г. – патологией считалась гомосексуальность.
В дополнение к социальному и культурному влиянию на определение болезни к пересмотру того, что является патологией, а что – нет, приводят новые научные и медицинские открытия. Например, когда-то лихорадка выделялась в самостоятельное заболевание, однако понимание того, что к ее развитию могут привести различные причины, перевело таковую в статус симптома. И наоборот, целый ряд состояний, в настоящее время признанных заболеваниями, в том числе остеопороз, изолированная систолическая гипертензия и старческая болезнь Альцгеймера, в прошлом считались присущими нормальному старению. ВОЗ официально признала остеопороз болезнью только в 1994 г.
Старение традиционно рассматривалось как естественный процесс и, следовательно, не считалось заболеванием, что, возможно, произошло из-за выделения исследований старости в независимую научную дисциплину. Некоторые авторы заходят настолько далеко, что проводят черту между внутренними возрастными процессами («первичным старением») и заболеваниями преклонного возраста («вторичным старением»). Например, дерматологи рассматривают солнечную геродермию – ускоренное разрушение кожи под действием ультрафиолетового излучения – как состояние, ведущее к развитию патологии. В то же время возрастное старение кожи считается нормой.
Старение не просто анализируется отдельно от заболеваний, но и причисляется к факторам риска их развития. Интересно, что такие расстройства ускоренного старения, как синдром Хатчинсона – Гилфорда (детская прогерия), синдром Вернера или врожденный дискератоз, относятся к болезням. Прогерия признается заболеванием, однако, когда характерные для нее симптомы развиваются у 80-летних людей, это рассматривается как норма и не требует медицинского вмешательства».
Исследователи упоминают конкретный случай прогерии – чрезвычайно редкого детского генетического заболевания, характеризующегося преждевременным ускоренным старением между первым и вторым годами жизни. Этой болезнью страдает один из семи миллионов новорожденных. Поскольку она представляет собой генетическое расстройство (из-за мутаций в гене LMNA), есть надежда, что когда-нибудь благодаря генной терапии появится ее лечение. Однако в настоящее время от нее нет ни лекарства, ни терапевтической методики, и больные прогерией живут в среднем 13 лет (некоторые пациенты могут жить чуть более 20 лет, но выглядят почти на 100).
Продолжая статью, Бультерийс, Бьорк, Халл и Рой ссылались на несколько успешных исследований и опытов на модельных животных, а также на высокие издержки отсутствия тестов на людях (как на уровне отдельного человека, так и общества в целом):
«Если говорить коротко, то старение не просто прекрасно соответствует описанию заболевания. Преимущество его рассмотрения в этом ключе состоит еще и в том, что, отвергнув мнимую неизбежность ярлыка естественности, легче признать целесообразными медицинские вмешательства, направленные либо на его отмену, либо на устранение связанных с ним нежелательных состояний. Цель биомедицинских исследований – предоставить людям возможность сохранять “здоровье как можно дольше”.
Причисление старения к заболеваниям стимулирует грантодателей на увеличение финансирования исследований и разработки биомедицинских процедур, направленных на его замедление. Энгельхардт действительно утверждает, что признание чего-либо болезнью подразумевает необходимость медицинского вмешательства. Это важно и для возмещения затрат на лечение страховыми компаниями.
За последние 25 лет исследователям в области биомедицины удалось путем воздействия на процессы, лежащие в основе старения, улучшить здоровье и продолжительность жизни модельных организмов – от червей и мух до грызунов и рыб. Сегодня мы способны стабильно продлевать жизнь червей C. elegans более чем в 10 раз, дрозофил и мышей – в два раза, а крыс и карпозубых – на 30 и 50 % соответственно. Возможности воздействия на процессы, влияющие на старение человека, в настоящее время ограничены. Но, если учесть прогресс в разработке геропротективных препаратов и методов регенеративной и точной медицины, скоро мы сможем замедлить старение. И, наконец, следует отметить, что признание его заболеванием автоматически изменит нормативы, которые применяются Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) к соответствующим терапевтическим методам, с косметических на лечебно-профилактические, то есть на более строгие.
Мы считаем, что старение следует рассматривать как заболевание, пусть оно и представляет собой универсальный и мультисистемный процесс. Современная система здравоохранения не признает его основополагающей причиной развития хронических заболеваний у пожилых людей. Это дает обратный эффект, и в результате около 32 % от всех затрат государственного медицинского страхования в США уходит на лечение хронических заболеваний в течение двух последних лет жизни пациентов без значительного повышения ее качества. Подобное положение вещей несостоятельно как с финансовой точки зрения, так и с позиции здоровья и благополучия. Даже минимальное облегчение процесса старения посредством стимуляции исследований в данной области, разработки геропротективных препаратов и методов регенеративной медицины может значительно улучшить здоровье и благополучие пожилых людей и спасти неработоспособную систему здравоохранения».
Несколько месяцев спустя для того же журнала другие ученые подготовили статью «Классификация старения как болезни в контексте МКБ-11» (Classification of Aging as a Disease in the Context of ICD-11), в которой пояснили[137]:
«Старение – сложный непрерывный многофакторный процесс, приводящий к потере функций и порождающий множество возрастных заболеваний. В связи с предстоящей 11-й Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11), которая, как ожидается, будет завершена ВОЗ в 2018 г., мы приводим аргументы в пользу классификации старения как болезни. Мы предполагаем, что классификация старения как заболевания с “немусорным” (то есть адекватным и пригодным для использования) набором кодов МКБ послужит появлению новых подходов и бизнес-моделей, которые начнут рассматривать его с позиции излечимого расстройства. Это способно привести как к экономическим, так и к медицинским выгодам для всех заинтересованных сторон. Действенная классификация старения как болезни способна еще эффективнее распределять ресурсы, позволяя финансирующим органам и другим субъектам использовать “годы жизни с поправкой на качество” (QALY) и “эквивалент здоровых лет жизни” (HYE) в качестве показателей при оценке как научных, так и клинических программ. Для разработки междисциплинарной основы, которая позволит классифицировать старение как заболевание и выделить под него несколько кодов, что облегчит терапию и профилактику, мы предлагаем создать группу специалистов для взаимодействия с ВОЗ.
Признание расстройства или хронического процесса болезнью – важная веха для фармацевтической промышленности, академического сообщества, медицинских и страховых компаний, законодателей и отдельных людей, поскольку присутствие в номенклатуре и классификации значительно влияет на способы лечения, изучения и компенсации. Однако получение удовлетворительного определения – сложная задача, главным образом из-за расплывчатых формулировок состояний здоровья и болезни. Но тут мы исследуем возможные преимущества признания старения заболеванием в контексте с современными социально-экономическими вопросами и последними достижениями биомедицины».
Классификация старения как болезни в значительной степени поспособствует излечению самой болезни. Кроме того, это привлечет огромные ресурсы к причинам старения вместо его симптомов. Государственные и частные средства должны быть направлены на профилактику, а не на результат заболевания. Здоровье и молодость каждого из нас умножат благосостояние всего общества. В целом выгоды могут быть огромны. Лечение старения как болезни позволит также определить четкую цель для медицины, фармацевтики и страхования, и вместе с этим повысить уровень исследований и финансирования. Прекрасные возможности ждет и индустрию омоложения и борьбы со старением, которая в ближайшем времени может стать крупнейшей отраслью мировой экономики.
Глава 3
Величайшая индустрия мира?
Вот почему в бюджет, который я направлю Конгрессу в понедельник, включена новая Инициатива по точной медицине. Она приблизит Америку к исцелению таких болезней, как рак и диабет, и обеспечит возможность всеобщего доступа к персонализированной информации, жизненно необходимой для улучшения здоровья – как нашего, так и наших семей.
БАРАК ОБАМА, 2015 Г.
Современная наука движется вслед за мечтой о продлении жизни, поэтому деньги текут невиданной доселе рекой.
Мы на пороге революции долголетия. В ближайшие три десятилетия ожидаемая продолжительность жизни возрастет до 110–130 лет, и это не научная фантастика.
ДЖИМ МЕЛЛОН, 2017 Г.
Если кто-то сделает таблетку, способную продлить жизнь на два года, – у него будет стомиллиардная компания.
СЭМ АЛЬТМАН, 2018 Г.
На протяжении всей истории человечества технологии, прежде казавшиеся невозможными – многие из них громили и дискредитировали тогдашние «эксперты», – после реализации порождали целые производства. К счастью, эти отрасли быстро развивались и становились основополагающей частью мировой экономики.
Путь от невозможности до необходимости прошли многие некогда служившие поводом для насмешек важнейшие технологии и нужнейшие сегодня индустрии. Рассмотрим в качестве примеров следующие изобретения и открытия:
1. Железнодорожный транспорт.
2. Телефоны.
3. Автомобили.
4. Самолеты.
5. Атомная энергетика.
6. Космические полеты.
7. Персональные компьютеры.
8. Мобильные телефоны.
От невозможного к незаменимому
Мир меняется, и мы вместе с ним. Давайте обратимся к становлению каждой из вышеперечисленных отраслей и «послушаем» мнения некоторых «экспертов» того времени.
1. Железные дороги многим казались невероятными: хотя представители высших классов имели доступ к гужевому транспорту (на суше) и водному (на воде), большинство людей, как правило, передвигались пешком. Другими словами, самым быстрым наземным транспортом считались лошади и экипажи. В первой половине XIX в. английские новаторы приступили к проектированию поездов. И в 1825 г. журнал The Quarterly Review[138] напечатал[139]:
«Что может быть абсурднее идеи локомотивов, движущихся вдвое быстрее дилижансов?»
2. Телефоны тоже представлялись фантастикой, пока во второй половине XIX в. в Бостоне шотландский изобретатель Александр Белл не начал свои эксперименты. Однако и после них многие полагали невозможной и невыполнимой реализацию технологии, о чем свидетельствуют два комментария 1876 г.: от Western Union (на тот момент крупнейшей телеграфной компании мира) и сэра Уильяма Приса, главного инженера британской почты, соответственно[140]:
«У “телефона” слишком много изъянов, чтобы всерьез рассматривать его как средство связи. Как таковое устройство не представляет для нас никакой ценности».
«Американцы нуждаются в телефоне, мы – нет: у нас предостаточно посыльных».
3. Автотранспорт появился в Европе и Соединенных Штатах в первой половине XX в., но на первых порах считался продукцией для богачей. До того, как американский бизнесмен Генри Форд начал массовое конвейерное производство, механики различных специализаций собирали автомобили едва ли не поштучно.
Благодаря знаменитому Ford Model T (с большой иронией названному самым массовым автомобилем любого возможного цвета, если тот был черным) выпуск машин увеличился. Результатами стали снижение цен и демократизация доступа к транспортным средствам. Тем не менее Форду приписывается следующее высказывание:
«Если бы я спрашивал у людей, чего они хотят, они ответили бы: “Лошадь побыстрее”».
4. Самолеты тоже были невозможными, пока не стали возможными. Невозможность полетов комментировали все и вся, начиная с авторитетной газеты The New York Times и заканчивая маститыми учеными. Например, в 1902 г. шотландский физик и математик Уильям Томсон, известный как лорд Кельвин, сказал[141]:
«На практике не будет успешен ни один аэроплан. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны».
Это было уже не первое его заявление на подобную тему: например, еще в 1896 г. он в качестве бывшего президента престижного Лондонского королевского общества уже подтверждал свое «научное» убеждение в немыслимости самолетов:
«У меня нет ни молекулы веры ни в какую аэронавигацию, кроме полетов на воздушном шаре. ‹…› Я не имею желания быть членом общества воздухоплавания».
К счастью, американские братья Орвилл и Уилбер Райты проигнорировали все «научные» комментарии и сумели взлететь. Хотя первый полет длился всего несколько секунд и пилоты были подняты на смех, все последующее – уже история.
5. С научной точки зрения атомная энергия считалась невозможной вплоть до первой половины XX в. Действительно, слово «атом» означает «неделимый»[142]. Американский физик Роберт Эндрюс Милликен, лауреат Нобелевской премии 1923 г. по физике, заявлял в 1930 г. в журнале Popular Science[143]:
«Ни одному “плохому мальчишке от науки” никогда не удастся взорвать мир, высвободив атомную энергию».
Немецкий физик Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской премии 1921 г. по физике, также ошибочно предсказывал в 1932 г.:
«Нет ни малейшего намека на то, что ядерную энергию удастся получить хоть когда-либо: это означало бы намеренное разрушение атома».
Первые эксперименты по расщеплению ядра, показавшие неправоту обоих нобелевских лауреатов (как и многих других ученых), были проведены в Германии в 1938 г. Однако первые атомные бомбы – оружие, изменившее ход истории и положившее конец Второй мировой войне в Тихом океане, – появились в 1945 г. уже в Соединенных Штатах, в рамках секретного «проекта Манхэттен».
6. Космические полеты казались, пожалуй, даже более невозможными, чем авиация и атомная энергия, вместе взятые. В начале прошлого века на планете Земля вообще не летали и, поэтому выход из атмосферы представлялся чем-то совсем невероятным. В первой половине XX в. несколько коллективов, главным образом в Германии, США и России, от любителей до ученых, поставили перед собой задачу достичь немыслимого. Критики, однако, продолжили атаковать «помешанных» на полетах в космос, что иллюстрирует передовица The New York Times 1920 г.[144]:
«[Об идеях Роберта Годдарда, пионера ракетостроения] профессор не знает о взаимосвязи между действием и противодействием, не понимает, что для получения реакции нужно что-то получше вакуума. Подобные заявления попросту абсурдны».
Спустя годы после окончания Второй мировой войны, в 1957 г., в разгар холодной войны, Советам удалось запустить первый искусственный спутник Земли, в 1961 г. последовал первый орбитальный полет, пилотируемый советским космонавтом Юрием Гагариным. Полтора месяца спустя президент Америки Джон Кеннеди объявил, что Соединенные Штаты отправят первого человека на Луну до конца десятилетия. Это казалось совершенно невозможным. Недостаток как научных, так и технологических знаний о космических путешествиях был огромен. Тем не менее всего через восемь лет американский астронавт Нил Армстронг стал первым ступившим на Луну человеком. Тогда он произнес незабываемую фразу, которую многие из нас, будучи детьми, могли наблюдать в живой трансляции: «Это маленький шаг для человека и гигантский скачок для человечества».
7. Персональные компьютеры стали еще одной технологией, экспоненциально развившейся за XX в. Их родословная идет от скромных первых счетов – абака, изобретенного в Месопотамии 5000 лет назад. Американский бизнесмен Томас Уотсон, президент IBM (International Business Machines), по утверждениям, в 1943 г. заявил:
«Полагаю, на мировом рынке есть спрос примерно на пять ЭВМ».
Вряд ли он сказал так на самом деле, но тогдашние компьютеры и правда были ошеломительно громоздкими и дорогими. Вот что писал в 1949 г. журнал Popular Mechanics[145] в материале о первой большой американской ЭВМ – ENIAC[146]:
«Сегодня ЭВМ типа ENIAC оснащена 18 000 вакуумных ламп и весит 30 тонн, но компьютеры будущего будут иметь всего 1000 ламп и, возможно, весить всего полторы тонны».
ЭВМ не предназначались для индивидуального использования, и концепция персональных компьютеров была трудна для понимания даже такими предпринимателями, как американский инженер Кен Ольсен, соучредитель и президент DEC (Digital Equipment Corporation), который в 1977 г. публично заявил:
«Нет ни одной причины иметь дома компьютер».
К счастью, вследствие закона Мура (названного в честь американского ученого и бизнесмена Говарда Мура) сегодня мы наблюдаем, что компьютеры удваивают мощность каждые два года или чаще, в то время как их цена продолжает падать.
8. Мобильная связь появилась на свет благодаря слиянию нескольких предшествующих технологий: стационарным телефонам, радио и персональным компьютерам. Сегодня почти каждый желающий может завести себе мобильник. В свое время наличие сотового казалось событием на грани фантастики, но теперь таковой есть у всех – от детей до стариков, при этом модель может быть как дешевой, китайской или индийской, ценой в десять долларов, так и весьма изощренной, стоимостью в тысячу долларов.
Мобильные телефоны больше не просты и не глупы – всего за десять лет они поумнели. Однако еще в 2007 г., когда только-только появился iPhone от Apple, который позднее помог популяризировать смартфоны, американский бизнесмен Стив Балмер, тогдашний президент Microsoft, по сообщению газеты USA Today, заявил на конференции следующее[147]:
«У iPhone нет шансов завоевать хоть какую-нибудь значимую долю рынка».
Вследствие все того же закона Мура новые версии мобильников продолжают умнеть. Современные модели способны чрезвычайно на многое, и звонки – лишь малая толика их возможностей. Благодаря новым приложениям, устройствам и датчикам смартфоны приобрели разнообразные функции и могут быть как простой камерой, так и сложным медицинским помощником. Пройдет еще несколько лет, и за счет новых телефонов и постоянного бесплатного (или почти бесплатного) подключения к высокоскоростному интернету человеческое знание не будет иметь границ. Мы стремительно движемся к всеобщей доступности той мудрости, что была накоплена от начала цивилизации. Впечатляющие достижения прогресса найдут разнообразное применение – от коммуникаций до медицины. В футуристической статье о многочисленных возможностях BBC рассказывала[148]:
«Летнее утро 2040 г. Интернет повсюду, и все, что вы собираетесь сделать в течение дня, непременно случится благодаря летящим по сети потокам данных. Общественный транспорт города в динамическом режиме с учетом задержек корректирует расписание и маршруты движения. Купить детям идеальные подарки на день рождения проще простого, ведь служба заказа товаров осведомлена об их предпочтениях – данные говорят сами за себя. Но что лучше всего – вы живы, несмотря на катастрофу в прошлом месяце, потому что врачи в отделении неотложной помощи легко получили доступ к вашей истории болезни».
Сегодня можно сказать, что, по мнению большинства, все эти отрасли промышленности – важные и существенные части современной цивилизации, хотя есть целые группы людей, которые ими не пользуются и даже не приветствуют, поскольку живут другим временем и другими идеями. Например, эти технологии не нужны как североамериканским общинам амишей, так и южноамериканскому племени яномама. Наряду с традиционными сообществами в Папуа – Новой Гвинее и других частях света они предпочитают жить прошлым. Они имеют право жить так, как хотят, однако не могут навязывать собственные идеи всему остальному миру. Еще им не по силам остановить прогресс научных достижений: он проистекает из врожденного любопытства, которое было присуще нам, Homo sapiens sapiens, с того самого момента, как мы покинули африканский континент, где эволюционировали на протяжении миллионов лет.
Новая индустрия: была «невозможна», а скоро станет незаменима
Мы уже видели, какое множество «экспертов» на протяжении всей истории человечества ошибалось насчет железных дорог, телефонов, автомобилей, самолетов, атомной энергии, космических полетов, персональных компьютеров и мобильных телефонов. Мы можем привести бесчисленное множество других примеров: по поводу радио, телевидения, роботов, ИИ, квантовых компьютеров, наномедицины, наноассемблеров, космических баз, ядерного синтеза, вакуумных поездов Hyperloop, интерфейсов мозг – компьютер, выращенного неживотного мяса, трансплантации органов, искусственных сердец, терапевтического клонирования, криоконсервации клеток и тканей, 3D-органов и еще огромного списка технологий, разработанных с начала XXI в. Самое изумительное из всего этого (чему и посвящена данная глава) – появление индустрии омоложения человека.
Благодаря достижениям науки, которые помогли лучше понять процессы старения и борьбы с ним, в начале текущего столетия зародилась новая отрасль. Это индустрия омоложения, которая до XX в. была с точки зрения науки невероятной, а в первой половине XXI в. наконец может стать реальной и с учетом того, что главнейший враг человечества – старость, еще и крупнейшей. Возрастные болезни причиняют наибольшее страдание наибольшему числу людей, особенно в развитых странах, где около 90 % населения становятся жертвами кошмара старения. Такова была печальная реальность, но сейчас уже существуют надежные доказательства – на примерах клеток, тканей, органов и модельных организмов: дрожжей, червей, мух и мышей – возможности управления старостью и омоложения.
Мы живем в исторический момент: у нас появилась научная возможность, а с ней и моральная обязанность положить конец величайшей трагедии человечества. Сегодня нам известно, что старение излечимо. Мы также знаем, что это нелегко: нам еще многое предстоит узнать и открыть, потребуются огромные ресурсы всех типов (человеческих, научных, финансовых и т. п.). Но, несмотря на все предстоящие проблемы, многие из которых пока даже нельзя предсказать, в конце туннеля, наконец, появился свет.
Британские предприниматели Джим Меллон и Эл Чалаби в 2017 г. опубликовали провидческую книгу под названием «Ювенесценция: Инвестирование в эру долголетия» (Juvenescence: Investing in the Age of Longevity). В ней авторы указали, что в течение последующих двух десятилетий средняя продолжительность жизни увеличится до 110–120 лет, после чего станет быстро возрастать. Старую парадигму, включавшую рождение, учебу, работу, выход на пенсию и смерть, сменит концепция долгой жизни, согласно которой мы будем постоянно перестраивать и заново изобретать самих себя. Сайт издания гласит[149]:
«Итак, вкратце, эта книга посвящена трем вещам. Во-первых, описанию современных или вскоре доступных методов лечения, которые позволят людям жить гораздо дольше, чем предполагают сегодняшние таблицы смертности. Во-вторых, рассказу о потенциальных технологиях продления жизни, таких как генная инженерия и терапия стволовыми клетками. И наконец, в-третьих, тем трем кейсам, что были тщательно подготовлены Джимом и Элом для заинтересованных инвесторов».
В предисловии «Взлет долголетия», с которого начинается книга, Меллон и Чалаби сравнили сегодняшнюю индустрию омоложения с авиационной промышленностью столетней давности:
«Как и авиация сто лет назад, наука о борьбе с возрастом вот-вот взлетит…
Прошло немногим более века с тех пор, как мистер Боинг построил свой первый двухместный гидросамолет, и всего лишь около 120 лет – с тех пор, как братья Райты вошли в историю со своим первым полетом в Китти-Хоке. Кто из живших в 1915 г. мог предположить, как спустя всего один короткий век будут выглядеть самолеты? Наверняка почти никто. Но что по-настоящему важно, так это то, что к тому году уже была открыта механика полета, и потому конструкция и возможности летательных аппаратов могли только улучшаться.
Знание, однажды полученное, обратно уже не отдать. И, несмотря на случайные перерывы в принципиальном прогрессе общества (войны, голод и эпидемии), просто замечательно, что сегодня мы располагаем таким огромным хранилищем информации – знанием, которое, если не качественно, то количественно, каждый второй год возрастает вдвое. Следует признать, что не все части этого “знания” одинаково полезны, но нет никаких сомнений, что интернет поспособствовал значительному улучшению передачи и использования научных данных на благо всего человечества.
Та же картина накопленных знаний в области авиации проявляется и применительно к исследованиям возраста и долголетия. До Второй мировой войны наука о старении была в лучшем случае несущественной, потому что очень немногие за пределами научной фантастики могли представить себе множество людей, живущих по 100 и более лет.
Благодаря расшифровке генного набора человека, законченного на рубеже XXI в., и открытию строения ДНК, совершенному примерно за полвека до этого, ученые имеют хорошее представление об основном составе человеческого генома. В настоящее время исследователи старения занимаются двумя ключевыми проблемами:
1. Как лечить или укрощать болезни, которые с возрастом берут верх и становятся все разрушительнее?
2. Каким образом исследовать старение как собственно заболевание, или, другими словами, тип болезненного состояния?
Основные способы работы наших клеток изучаются с целью понять, как замедлить и остановить приход старости или даже обратить ее вспять. Пути старения многообразны, и наука, способная их обнаружить и изменить, все еще пребывает в зачаточном состоянии, однако переживает взрывной рост».
Возникновение среды для индустрии научного омоложения
Наука омоложения и борьбы со старением появилась недавно. К сожалению, уже долгое время существует и другая индустрия – псевдонаучная, которая держится на плаву десятки, сотни, тысячи лет и даже более того. Чудодейственные зелья, фантастические пилюли, удивительные лосьоны, волшебные кремы, сверхъестественные заклинания и духовные молитвы имелись с незапамятных времен и, вероятно, продержатся еще долгие годы. Однако экспоненциальный прогресс технологий дает надежду, что свет науки рассеет лженаучную тьму.
Поэтому так принципиально важно поддерживать труд ученых, которые упорно работают над достижением самой главной и величайшей человеческой мечты – бессмертия (или, точнее, «амортальности»). Возможно, они и не твердят об этом постоянно, но их цель – научная и этическая победа над величайшим врагом человечества и, безусловно, наиболее существенной причиной его нынешних страданий, а именно – над старением.
Один из наиболее известных специалистов по этим вопросам – уже упоминавшийся нами Джордж Чёрч. Он участвовал в важных проектах «Геном человека» и «Инициатива по изучению мозга путем передовых инновационных технологий BRAIN» (англ. – Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies), а также во многих других, среди которых, например, было копирование генов мамонта в геном азиатского слона. Чёрч работает над омоложением животных: в рамках проекта Rejuvenate Bio проводит опыты, в том числе, и на собаках, чтобы, изучив проблему, применить открытия к людям[150]. В статье о борьбе со старением, опубликованной в газете The Washington Post в связи с ожидаемым успехом генетических методов воздействия, таких как CRISPR и др., он, среди прочего, заявил[151]:
«План таков: генной терапии для лечения не только редких заболеваний, вроде муковисцидоза, но и таких всеобщих недугов, как старение, подвергнутся все.
Одна из крупнейших на сегодня экономических катастроф – старение населения. Отказавшись выходить на пенсию и выиграв пару десятков лет, мы сумели бы привести мировое хозяйство в порядок. Если бы все старшее поколение, почувствовав себя молодым и здоровым, вернулось бы к работе, можно было бы предотвратить одно из величайших бедствий в истории.
Вам на смену придет кто-то, кто будет моложе душой, и этим кем-то должны стать вы сами. Мне и самому хотелось бы этого. Хотелось бы помолодеть. Я и сейчас стараюсь перестраиваться каждые несколько лет».
Чёрч – соучредитель, акционер и консультант многих компаний, в том числе Veritas Genetics (исследования генома), Warp Drive Bio (натуральные продукты), Alacris (системная терапия рака), Pathogenica (вирусная и микробная диагностика), AbVitro (иммунология), Gen9 Bio (синтетическая биология), Rejuvenate Bio (омоложение животных), EnEvolv (генная инженерия) и др. Также, наряду с популяризатором науки Эдвардом Реджисом, он является автором книги «Регенезис» (Regenesis), предполагающей зарождение Homo sapiens 2.0. Ее подзаголовок – «Как синтетическая биология заново откроет природу и нас самих». К печатной книге в маленьком флаконе прилагается ее версия, записанная посредством ДНК: это первое в мире издание такого рода. Книга заканчивается обсуждением возможностей грядущего биологического бессмертия, новой технологической эволюции за пределами старой биологической, и того, что Чёрч называет «концом начала», имея в виду наступление трансгуманизма (то есть преодоления человеческих ограничений благодаря науке и технике)[152].
Другой известный американский ученый, занимающийся этими же проблемами, биохимик, генетик и бизнесмен Крейг Вентер, президент-учредитель Celera Genomics. Он стал всемирно известен в 1999 г. после запуска не финансируемого государственным бюджетом проекта «Геном человека». Вентер использовал самые передовые технологии, позволившие закончить секвенирование гораздо быстрее и дешевле. Также он знаменит тем, что в 2010 г. путем переписывания и модификации бактериального генетического кода создал первый искусственный микроорганизм. По словам ученого, это «первый на планете самовоспроизводящийся вид, чьим родителем стал компьютер». Позже, чтобы подчеркнуть реконструкцию генома в лабораторных условиях, синтетическая бактерия была названа «Синтия» (Synthia).
В 2014 г. Вентер стал соучредителем фирмы Human Longevity Inc. (HLI), цель которой – используя искусственный интеллект и методы глубокого обучения для анализа генома отдельных людей и других медицинских данных, разработать методы удлинения здоровой жизни. Другой соучредитель HLI – Питер Диамандис, американский врач и инженер из Гарварда и Массачусетского технологического института, а также соучредитель Университета сингулярности совместно с Рэем Курцвейлом, – заявил, что благодаря технологическому прогрессу мы собираемся радикально продлить нашу жизнь и скоро «нам вообще не надо будет умирать»[153]. Миссия HLI заключается в следующем[154]:
«Старость – единственный важнейший фактор риска практически любого значительного человеческого заболевания ‹…› наша цель состоит в том, чтобы увеличить продолжительность здоровой эффективной жизни и изменить облик старения. Впервые мощь геномики человека, информатики, технологий секвенирования ДНК нового поколения и достижений в исследованиях стволовых клеток используется одной компанией – Human Longevity Inc., в которой трудятся ведущие специалисты, новаторы в этих областях. Наша цель – решить проблемы старения, изменив медицинскую практику».
В 2016 г. команда Вентера преуспела в синтезе бактериального генома с самой низкой – всего 473 – экспрессией генов. Это первая форма жизни, целиком созданная человеком. Она называется Mycoplasma laboratorium, что указывает на ее лабораторное происхождение. Есть надежда, что это исследовательское направление приведет к развитию бактерий, которых можно будет настроить на выдачу конкретных реакций, чтобы, среди прочего, производить, например, лекарства или топливо. Это и другие достижения в области синтетической биологии позволяют ожидать создания персонализированных лекарств.
Также Вентер написал две книги: одну о последовательности человеческого генома, в частности его собственного, и вторую, под названием «Жизнь на скорости света: От двойной спирали к рождению цифровой биологии»[155], в которой вел речь о новых научных рубежах. Он предложил вновь задуматься над старым вопросом «Что есть жизнь?» и увидеть, что же такое «игра в Бога» с точки зрения первого человека, искусственно создавшего живое существо. Вентер – провидец на заре новой эры генной инженерии и возможностей, которые появляются в ходе оцифровки самой жизни[156].
Еще один специалист по старению – американский молекулярный биолог и биогеронтолог Синтия Кеньон, прославившаяся генетическим исследованием возрастных изменений в крошечном черве-нематоде Caenorhabditis elegans (более известном как C. elegans), одном из наиболее широко используемых в биологии модельных организмов. В настоящее время она вице-президент по исследованиям старения в Calico (компания, основанная Google в 2013 г.), где о ней отзываются так[157]:
«В 1993 г. новаторское открытие Кеньон, связанное со способностью мутаций одного из генов удваивать продолжительность жизни здоровых фертильных круглых червей C. elegans, побудило к интенсивному изучению молекулярной биологии старения. Результаты показали, что, вопреки распространенному мнению, старение не происходит “просто так”, наобум. Напротив, его скорость подвержена генетическому контролю. У животных (и, вероятно, людей) присутствуют регуляторные белки, которые влияют на старение путем координации разнообразной совокупности генов, управляющих последующими звеньями сигнальных каскадов. Все вместе это обеспечивает защиту и восстановление клеток и тканей. Открытия Кеньон помогли осознать, что на скорость старения у многих видов, включая человека, влияет общий гормональный сигнальный путь. Она открыла многие связанные с долголетием гены и метаболические пути, а ее лаборатория обнаружила, что нейроны и гоноциты могут контролировать продолжительность жизни всего организма».
Основываясь на собственных исследованиях, Кеньон сделала мощные заявления и в интервью San Francisco Gate даже упомянула о возможности биологического бессмертия[158]:
«В принципе, если понять механизмы поддержания всего в исправном состоянии, можно это делать на протяжении неопределенно долгого времени.
Я думаю, что [бессмертие] возможно. Поясню. Продолжительность жизни клетки можно считать в некотором смысле интегралом двух векторов: сил разрушения и сил предотвращения, поддержания и репарации. У большинства животных разрушительные силы все еще преобладают. Но почему бы не дать обслуживающим генам небольшой толчок? Все, что нужно, – это слегка поднять уровень самоподдержки организма (необязательно сильно, достаточно просто чуть повысить его, чтобы уравновесить процесс распада). Также не стоит забывать о бессмертии зародышевой линии. Так что, хотя бы в принципе, но это возможно».
В статье Кеньон под названием «Старение: Последний рубеж» (Aging: The Final Frontier) утверждалось[159]:
«Можно было бы подумать, что для продления жизни требуется изменение многих генов: тех, что влияют на мышечную силу, морщины, слабоумие и т. д. Но опыты на червях и мышах выявили нечто совершенно удивительное: существуют отдельные определенные гены, модифицировав которые мы замедлим старение всего организма сразу».
Чёрч, Вентер и Кеньон – примеры новых ученых, которые открыто работают в авторитетных учреждениях над проблемами омоложения и борьбы со старением и не боятся говорить об этом публично. За ними следует еще одно поколение, представитель которого – уже упоминавшийся выше Жао Педро де Магалхас[160].
Среди прочих своих многочисленных научных изысканий в области долголетия де Магалхас секвенировал и проанализировал геном гренландского кита и участвовал в изучении генома голого землекопа. Оба млекопитающих отличаются исключительной продолжительностью жизни и устойчивостью к раку. Текст с его сайта, возможно, мотивирует и других[161]:
«Я надеюсь, что сайт senescence.info также способен заставить осознать проблему старения – ведь оно, скорее всего, убьет и вас, и тех, кого вы любите. Оно главная причина, по которой умирают великие художники, ученые, спортсмены и мыслители. Наше общество и религия облегчают принятие старости и неизбежности гибели. Я считаю, что, если бы люди больше думали о смерти и о том, насколько она ужасна, были бы предприняты куда большие усилия, чтобы избежать ее и увеличить инвестиции в биомедицинские исследования, в частности, в изучение старения».
К еще более молодому поколению принадлежит Лаура Деминг, ученый и инвестор из США. Она родилась в 1994 г. в Новой Зеландии, получила домашнее образование, в 8 лет заинтересовалась темой старения, а в 12 лет начала стажировку в Сан-Франциско, в лаборатории Синтии Кеньон, где с помощью генной инженерии исследователям удалось в 10 раз продлить жизни нематоды C. elegans. В 14 лет Деминг приняли в Массачусетский технологический институт, но в 2011 г. она, одной из первых получив стипендию Питера Тиля[162], оставила учебу и вернулась в Калифорнию[163].
Деминг, партнер и основатель Фонда долголетия (Longevity Fund) – венчурной компании, специализирующейся на старении и продлении жизни, верит, что наука поспособствует достижению биологического «бессмертия» людей, и считает, что конец старению настанет «намного скорее, чем можно было бы подумать». На сайте фонда говорится следующее[164]:
1. «Инвестиции в человеческое долголетие
2. В XX в. мы узнали, что продолжительность здоровой жизни поддается регулированию. Научные пути, лежащие в основе этого эффекта, невероятно сложны и с трудом поддаются должному контролю, но управление ими способно привести к разработке новых методов лечения возрастных заболеваний. Мы хотим безопасно и как можно быстрее использовать эти терапевтические достижения во благо пациентов.
3. Компании Фонда долголетия собрали более 500 млн долларов повторного финансирования, в результате чего в 2018 г. состоялось IPO одной из них, а также было начато несколько клинических программ – все они связаны с предотвращением старения и его обращением вспять».
Магалхас и Деминг являют собой прекрасные примеры молодых ученых, которые отказались от стереотипов, что разговоры о борьбе со старением, а тем более его изучение – это запретные темы, из-за опасности спутать их со сторонниками лженауки о волшебной нетленности и чудотворном омоложении способные разрушить карьеру или научный авторитет исследователей.
Наука и ученые, привлечение инвестиций и инвесторы
Благодаря научным достижениям последних десятилетий новые исследования стали привлекать инвесторов. Теперь, после получения учеными реальных результатов, пусть даже на уровне таких организмов, как черви или мыши, можно сказать, что жребий брошен, или, как сказал Юлий Цезарь после того, как пересек реку Рубикон: «Alea iacta est!»[165]
Для дополнительных изысканий, которые, как мы надеемся, после положительных результатов на животных приведут к первым клиническим испытаниям на людях, наряду с государственными инвестициями появилась возможность привлекать и частные. Таким образом закладываются основы индустрии научного омоложения и борьбы со старением, которая имеет возможность стать крупнейшим сектором экономики и, разделив историю человечества на этапы «до» и «после» неизбежной смерти, преобразить ее.
Молдавский инженер и предприниматель Дмитрий Каминский возглавляет глобальную инициативу Longevity International; ее цель – ускорить разработку технологий омоложения для их последующего применения и коммерциализации. После объединения усилий с другими организациями (три из них – Aging Analytics Agency, Biogerontology Research Foundation и Deep Knowledge Life Sciences – базируются в Великобритании) была опубликована впечатляющая серия отчетов, которая с течением времени улучшалась и расширялась. Работы – на данный момент они доступны только на английском языке – очень важны для тех, кто хочет проследить за развитием отрасли со времени начала публикаций в 2013 г.[166]:
Регенеративная медицина: структура отрасли (Regenerative Medicine: Industry Framework) (150 c.) (2013).
Регенеративная медицина: анализ и перспективы рынка (Regenerative Medicine: Analysis & Market Outlook) (200 с.) (2014).
Большие данные в области старения и возрастных заболеваний (Big Data in Aging & Age-Related Diseases) (200 с.) (2015).
Рынок стволовых клеток: аналитический отчет (Stem Cell Market: Analytical Report) (200 с.) (2015).
Обзор индустрии долголетия (Longevity Industry Landscape Overview) (200 с.) (2016).
Аналитический отчет индустрии долголетия № 1: бизнес долголетия (Longevity Industry Analytical Report 1: The Business of Longevity) (400 с.) (2017).
Аналитический отчет индустрии долголетия № 2: наука о долголетии (Longevity Industry Analytical Report 2: The Science of Longevity) (500 с.) (2017).
Обзор индустрии долголетия, том I: наука о долголетии (Longevity Industry Landscape Overview. Volume I: The Science of Longevity) (701 с.) (2018).
Обзор индустрии долголетия, том II: бизнес долголетия (Longevity Industry Landscape Overview. Volume II: The Business of Longevity) (650 с.) (2018).
Отчет № 1 за 2017 г. посвящен бизнесу долголетия. Резюме проекта начиналось и заканчивалось следующим образом[167]:
«Биотехнологии, а в особенности геронтология, находятся на пороге научного прорыва, сравнимого с Кембрийским взрывом[168]. За счет него здравоохранение станет информационной наукой, способной улучшить состояние человека основательнее, чем антибиотики, современная молекулярная фармакология и зеленая революция[169]. Временная динамика важного эволюционного перехода, как и то, сможем ли мы вместе с нашими близкими дожить до того времени, когда из прорыва будет извлечена польза, зависит от сегодняшнего выбора научного и инвестиционного сообщества».
В докладе был представлен всесторонний обзор ситуации с долголетием на уровне предприятий, включая подробную оценку крупных государственных и частных компаний, стартапов, работающих над технологиями омоложения и борьбы со старением, исследовательских центров, фондов и университетов. Интерактивная система Longevity International позволяет проводить различные виды анализа: мониторинг международных инвестиционных потоков, изучение взаимодействия между учеными и инвесторами, использование методов анализа больших данных (Big data) применительно к растущей международной базе данных, генерацию сетей с конкретными доходами от инвестиций, создание карт связей между различными учреждениями и визуализация групп и кластеров.
На рис. 3.1 представлен кластерный анализ более 100 компаний, занимающихся вопросами омоложения и борьбы со старением.
Рис. 3.1. Кластерный анализ компаний из разных стран
Кроме того, доклад содержал панорамный обзор состояния этой области науки и возможностей ее коммерциализации, перечни ведущих ученых (в их числе и уже упоминавшиеся Джордж Чёрч, Обри ди Грей, Жао Педро де Магалхас, Синтия Кеньон и др.), крупных инвесторов (Джефф Безос, Дмитрий Каминский, Джим Меллон, Питер Тиль и др.) и основных лидеров мнений (таких как Сергей Брин, Ларри Эллисон, Рэй Курцвейл, Ларри Пейдж, Крейг Вентер и др.). Также в него были включены списки конференций, книг, публикаций и мероприятий, имеющих отношение к геронтонауке в целом. Стоит отметить, что для решения серьезного экономического кризиса, надвигающегося из-за ускоренного старения населения (явление, широко распространенное даже во многих бедных странах), и Всемирный экономический форум в Давосе, и британское издание The Economist[170] уже начали организовывать мероприятия на тему возрастных изменений и возможностей омоложения.
Отчет № 1 Longevity International привлекал внимание к астрономическим затратам на борьбу с последствиями старения. Например, всемирные расходы на лечение рака на то время составляли около 900 млрд долларов в год. Немногим меньше – 800 млрд долларов в год – тратилось на деменцию. Почти 500 млрд долларов ежегодно уходили на сердечно-сосудистые болезни и еще сотни миллиардов – на прочие старческие заболевания. Как утверждалось в докладе, системы здравоохранения перешли от охраны здоровья к лечению болезней, причем в основном возрастных.
В 2018 г., в продолжение работы Longevity International, вышли еще три отчета:
Аналитический отчет индустрии долголетия № 3: десять особых случаев.
Аналитический отчет индустрии долголетия № 4: местные обстоятельства.
Аналитический отчет индустрии долголетия № 5: новые финансовые инструменты.
Доклад № 3 сосредоточивался на регенеративной медицине, генной терапии, биологических маркерах старения, лечении стволовыми клетками, геропротективных и нутрицевтических продуктах, использовании ИИ и блокчейна для долголетия, новых регуляторных системах, отраслевых рамках и уровнях технологического признания.
В докладе № 4 была собрана региональная информация, главным образом по основным мировым экономикам: Соединенным Штатам, Европейскому союзу, Японии, Соединенному Королевству, Азии и Восточной Европе.
И, наконец, в докладе № 5 выдвигались способы финансового решения надвигающегося кризиса старения, обусловленного растущим расхождением между периодами работы и отдыха, а также увеличением числа пенсионеров и сокращением количества работников. Поскольку системы пенсионного страхования оказались не готовыми к растущему количеству неотработанных лет и огромным медицинским расходам, понадобились новые стратегии и финансовые инструменты для капитализации индустрии старения, ликвидации налогового разрыва и омоложения людей. На ближайшие годы для финансирования омоложения и перехода к новой экономике предлагались новые схемы, например, хеджевые, трастовые и венчурные фонды.
Longevity International показывает путь, способ перейти из мира со старением в мир будущего, где восторжествует омоложение. Так как индустрия только зарождается, нам предстоит осознать еще множество новых идей. Но сейчас главное – начать двигаться к радикальному продлению жизни.
Всемирная экосистема долголетия уже появилась; на данный момент она успела объединить науку, финансы, бизнес, правительства и другие субъекты внутренних и международных отношений. Мы переходим от локального мира к глобальному, и рост изменений из линейного становится экспоненциальным. Сейчас самое время помочь этой все еще хрупкой и только зарождающейся экосистеме таким же образом вырасти в крупнейшую в мире индустрию, которая приведет смерть к смерти.
Глава 4
От линейного мира к экспоненциальному
Мы склонны переоценивать эффект новых технологий в краткосрочной перспективе и недооценивать его в долгосрочной.
ЗАКОН АМАРЫ, 1970 Г.
К 2029 г. долголетие достигнет второй космической скорости.
РЭЙ КУРЦВЕЙЛ, 2017 Г.
С момента зарождения человечества главными катализаторами перемен и прогресса всегда оставались наука и техника. Именно они отличали и продолжают отличать человека от других животных. Со времен первобытных африканских предков и до первых космических полетов именно изобретения, творения и открытия (огонь, колесо, земледелие, письменность и т. д.) способствовали развитию Homo sapiens sapiens. За счет экспоненциального роста достижений скоро мы сможем управлять, в том числе, и старением с омоложением.
В процессе развития человечества произошло несколько великих революций: около 12 000 лет назад – неолитическая аграрная, позже (после изобретения книгопечатания и благодаря научному прогрессу, ставшему причиной индустриализации целых стран) – промышленная. Сегодня люди уже в третий раз переживают важный переломный момент; его именуют по-разному: революцией интеллекта или знаний, постиндустриальным или четвертым промышленным переворотом и т. п.
Футурологи (например, Рэй Курцвейл) предполагают, что вследствие экспоненциального прогресса науки и техники мир стремительно продвигается к совершенствованию и людей как таковых. Данное принципиальное преобразование называется технологической сингулярностью. Возможно, оно сравнимо с судьбоносным эволюционным превращением обезьяны в человека, и мы преуспеем не только в продлении жизни, но и в ее дополнении, расширении и развитии.
Из прошлого в будущее
До XVIII в. развитие человечества было ограничено мальтузианской ловушкой, описанной английским священником и экономистом Томасом Мальтусом. В 1798 г. он опубликовал сочинение «Опыт о законе народонаселения» (Essay on the Principle of Population), в котором обрисовал «непрекращающуюся борьбу за место и пищу» и пришел к выводу, что[171]:
«Население, если оно неконтролируемо, увеличивается в геометрической прогрессии. Средства же существования растут только в арифметической. Это подразумевает постоянное сдерживание прироста человеческой популяции труднодоступностью пропитания. Таковая просто обязана возникать и оказывать ощутимое влияние на значительную часть человечества»[172].
Учение – его называют мальтузианством, или в нынешнем понимании неомальтузианством, – представляет собой разработанную во времена промышленной революции демографическую, экономическую и социально-политическую теорию, сообразно которой население увеличивается в геометрической прогрессии, а ресурсы для выживания – в арифметической (в современных терминах эти явления иногда именуются экспоненциальным и линейным ростом соответственно). По этой причине, согласно Мальтусу, в отсутствие таких сдерживающих факторов, как голод, войны и эпидемии, появление новых людей увеличивало бы постепенное обнищание (или пауперизацию) человеческого вида и могло бы даже спровоцировать его вымирание (мальтузианскую катастрофу).
К концу XVIII в. население Соединенного Королевства не достигало и 10 млн человек, тем не менее Мальтус был убежден, что и это число чрезмерно. Промышленная революция тогда только начиналась, а потому его идеи оказали такое влияние, что в 1801 г. британское правительство решило провести первую современную перепись населения, по результатам которой выяснило, что в Англии и Уэльсе проживали 8,9 млн человек, в Шотландии – 1,6 млн, то есть во всей стране – 10,5 млн. Считается, что к 1804 г. число людей в мире достигало миллиарда.
Мальтусу подобные цифры казались слишком высокими, и, учитывая низкий на то время уровень технологического развития, он мог быть правым. К счастью, благодаря промышленной революции мир сильно переменился, и теперь допустимо говорить, что сегодняшние бедные живут лучше вчерашних богатых и 200 лет назад теперешний образ их жизни был бы немыслим. Кроме того, с конца XVIII в. до начала XXI в. срок человеческой жизни увеличился почти втрое. Потому мы полагаем, что большинство наших современников не согласны с вышеупомянутым учением и считают нынешнюю жизнь куда более приятной. Этим мы обязаны великим достижениям человечества: именно они позволили нам вырваться из мальтузианской ловушки, также описанной английским философом Томасом Гоббсом в сочинении «Левиафан» (1651)[173]:
«<Нет> ремесла, литературы, нет общества, но, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна».
На рис. 4.1 показана печальная реальность до XVIII в. Можно наблюдать почти полное отсутствие экономического роста, который, согласно обновленным данным британского историка экономики Ангуса Мэддисона, тогда составлял около 1000 долларов в год. Богатые имели больше, бедные – меньше, но в общехозяйственном понимании и те и другие были не вполне состоятельными и, хуже того, недолговечными. Большинство умирало рано, в том числе в детстве и даже при рождении, а тот, кто, преодолев обычные для того времени причины насильственной гибели, выживал, влачил существование, которое сегодня, совсем по Гоббсу, считалось бы бедным, грязным, тупым и коротким.
Рис. 4.1. От мальтузианской ловушки до промышленной революции: ВВП за последнее тысячелетие на душу населения
Экономический рост, связанный с началом промышленной революции, был поистине поразителен. Американский предприниматель Питер Диамандис, соучредитель Университета сингулярности, Human Longevity Inc. и других компаний, указал на экспоненциальный характер происходящих изменений, которые радикально преобразуют мировую экономику[174]:
«В ближайшее десятилетие будет произведено больше материальных ценностей, чем за весь прошлый век».
В книге «Изобилие: Будущее будет лучше, чем вы думаете»[175], входящей в серию «Экспоненциальные технологии» (Exponential Technology Series), Питер Диамандис и Стивен Котлер утверждают, что мы покидаем мир дефицита и вступаем в мир изобилия[176]. Вообще, по нашему мнению, благодаря текущему прогрессу за ближайшие два десятилетия случится больше преобразований, чем за последние два тысячелетия. С первого раза это трудно осознать, поэтому повторим столь фундаментальную мысль еще раз: мы думаем, что в ближайшие 20 лет технологии изменятся значительнее, чем за последние 2000 лет.
На рис. 4.2 продемонстрированы темпы ускорения экономического роста. Великобритания времен промышленного переворота стала первой страной в истории человечества, которая вдвое увеличила доход на душу населения. На это ушло 58 лет – с 1780 по 1838 гг. Затем, затратив на все 47 лет (1839–1886 гг.), ВВП удвоили Соединенные Штаты. За ними последовала Япония, где процесс прошел быстрее и занял всего 34 года (1885–1919 гг.). К его завершению Страна восходящего солнца стала первым развитым государством, не относящимся к западному миру. Это опровергло некоторые бытовавшие в то время предрассудки, согласно которым подобный рост считался возможным только в европейских странах и их более прогрессивных колониях.
Рис. 4.2. Ускорение экономического роста
В конце XX в. рекорд экономического развития установил Китай, продемонстрировав, что можно удвоить доход на душу населения менее чем за 10 лет. Для остального мира это оказалось прекрасной новостью и вдохновляющим примером: прогресс и темпы роста ускорились и в Индии, и в государствах Африки и Латинской Америки. Такой опыт показал: нет никаких причин для того, чтобы странам нельзя было бы вырваться, наконец, из нищеты. Именно поэтому Всемирный банк поставил цель покончить с крайней бедностью к 2030 г.[177] На это направлены и цели устойчивого развития ООН. Но лучше всего то, что впервые в истории для этого появилась реальная возможность[178].
На рис. 4.3 показан экономический рост регионов мира в 1800–2016 гг. До XVIII в. среднемировой ежегодный доход на душу населения составлял около 1000 долларов, однако благодаря промышленной революции, создавшей огромное количество материальных благ, плачевная ситуация изменилась в лучшую сторону. Страны, которые первыми прошли через индустриализацию, первыми стали и расти, что продолжилось в течение большей части столетия. К счастью, сейчас ускорилось и развитие беднейших экономик.
Вертикальная ось на рис. 4.3 демонстрирует экспоненциальный рост доходов на душу населения от суммы в 1000 долларов до примерно 10 000 долларов во многих странах и более чем до 50 000 долларов в богатейших из них. Если подобная динамика сохранится, то в XXI в. эта цифра способна достигнуть 10 000 долларов уже по всему миру и, по всей видимости, продолжит расти до 100 000 долларов и выше. Кому-то это может показаться маловероятным, но мир на самом деле движется от дефицита к изобилию. Кроме того, возможность производить больше с меньшими затратами способствует снижению стоимости многих продуктов. Похоже, что в будущем нас ожидают повышение доходов и падение цен.
Рис. 4.3. Экономический экспоненциальный рост ВВП на душу населения с поправкой на инфляцию и разницу цен между странами, в долларовом эквиваленте на 2011 г.
Канадско-американский психолог Стивен Пинкер тоже считает нынешнее время «лучшим для жизни». Неискушенному человеку это покажется сомнительным, но сейчас действительно самый мирный период за всю историю человечества. В книге «Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше»[179] Пинкер показал, как снизился уровень насилия в мире с момента появления в Африке первых предков Homo sapiens sapiens[180]. Автор продолжил выдвигать и защищать эти положения в своей новой книге «Просвещение продолжается»[181], в которой заговорил о значении разума, науки и гуманизма для прогресса человечества[182].
На пути к демографическому кризису, но не тому, которого страшатся многие
Учитывая огромное количество ежедневных трагических новостей, порой бывает трудно поверить в прогресс человечества и рост мирового процветания. Вот как Диамандис пояснил эволюционные причины того, что негативная информация удостаивается большего внимания, чем позитивная. С одной стороны, пренебрежение плохими известиями способно привести к смерти именно потому, что дурные вести могут свидетельствовать о конце нашей жизни. С другой стороны, упустив приятные сведения, мы вряд ли умрем – ведь новости были хорошими. Существует железа головного мозга – миндалевидное тело (амигдала), и ее функция как раз в том, чтобы оставаться начеку и привлекать внимание к потенциальной опасности[183]:
«Амигдала – наш детектор риска и система раннего обнаружения угроз. В поисках любой опасности она, чтобы включить повышенную готовность, в буквальном смысле прочесывает все данные органов чувств. ‹…›
Так вот, 90 % новостей в газетах и на телевидении негативны как раз потому, что обычно мы обращаем внимание именно на это. ‹…›
Средства массовой информации этим пользуются. Как гласит старая поговорка: “больше крови – выше спрос”».
Многие думают, что человечество движется к катастрофе, так как растет не по дням, а по часам. Подобные идеи не новы: Мальтус высказывал их более 200 лет назад. Сегодня мы знаем, что он был неправ, в том числе и потому, что не учел технических новшеств, принесенных промышленной революцией. Возможно, в XVIII в. Британия и задыхалась от населения в каких-нибудь 10 млн человек, но только из-за отсутствия технологий для производства продуктов питания и прочих товаров и услуг.
Если заглянуть еще дальше в прошлое, то, по оценкам, 50 000 лет назад и ранее при тогдашних скудных навыках во всей Африке могло выжить не более миллиона человек: охотой, собирательством и рыбной ловлей континент был не способен прокормить большую популяцию. К счастью, 10 000 лет назад наши предки придумали земледелие, что позволило им производить и хранить еду и таким образом обеспечивать себе средства к существованию. Они прекратили кочевать в поисках пищи и основали первые города с гарантированными источниками продовольствия. Но до этого изобретения человечество находилось в мальтузианской ловушке; благодаря сельскому хозяйству и прочим важным технологиям та исчезла, что и позволило людям дожить до XVIII в.[184]
Проблема населения всегда была важна для мира, особенно для самых крупных государств. В конце Второй мировой войны, в 1945 г., ООН приступила к долгосрочным демографическим прогнозам. Первые из них, составленные на столетие вперед (до 2050 г.), при сохранении тогдашнего высокого уровня рождаемости показывали цифры до 20 млрд человек, хотя в 1950 г. на планете обитало всего 2,5 млрд. Однако уровень рождаемости повсеместно падал, и поэтому прогнозируемая численность населения с годами также уменьшалась: с 20 до 18, затем до 15, а потом и до 12 млрд. Теперь к 2050 г. она оценивается менее чем в 10 млрд человек.
Американский эколог Пол Эрлих в 1968 г. написал мировой бестселлер под названием «Демографическая бомба» (The Population Bomb), который начинался словами[185]:
«Битва за то, чтобы накормить человечество, проиграна. В 1970-х и 1980-х гг., несмотря ни на какие из существующих антикризисных программ, от голода умрут сотни миллионов людей. На нынешнем позднем этапе уже ничто не сможет помешать существенному росту мировой смертности…»
К счастью, он был совершенно не прав, и в 1970-х гг. не умерли сотни миллионов людей. Этим мы обязаны постоянному снижению рождаемости и техническому прогрессу, а именно зеленой революции в сельском хозяйстве, повысившей производительность агропромышленного производства. Однако Эрлих, продолжив говорить и писать о перенаселении мира, по-прежнему предрекал неомальтузианскую катастрофу и делал прогнозы, которые постоянно оказывались неверными. Технологии между тем все совершенствовались, а темпы прироста населения все падали.
Демографические изменения, пришедшие с изобретением земледелия, индустриальный прорыв, наперекор предсказаниям Мальтуса случившийся два века назад, и зеленая революция, происшедшая вопреки опасениям Эрлиха, подготовили мир к технологиям будущего.
В ближайшие годы мы станем свидетелями развития био– и нанотехнологий, робототехники, ИИ и еще многого такого, что вызвало бы удивление не только Мальтуса и Эрлиха, но и наших современников. Не следует забывать и о том, что эти перемены нарастают все стремительнее – не линейно, а по экспоненте.
Реальность такова: во многих странах численность населения уже стабилизируется и начинает сокращаться. На рис. 4.4 показано демографическое развитие регионов мира с 1950 г. до наших дней, а также прогнозируемое до 2050 г.
Согласно усредненным прогнозам ООН от 2017 г., к 2050 г. население планеты составит 9,8 млрд человек и к 2100 г. – 11,2 млрд. Предсказывается, что в 2023 г. оно достигнет 8 млрд и в 2037 г. – 9 млрд.[186]
Рис. 4.4. Прогнозируемое население по регионам до 2100 г., чел.
В то же время в 2017 г. Бюро переписи населения США также пересмотрело свои предсказания на 2050 г., и те оказались несколько консервативнее, чем у ООН: в 2026 г. – 8 млрд, в 2042 г. – 9 млрд и в 2050 г. – 9,4 млрд человек. Период после 2050 г. пока не рассматривался, однако ранее более умеренные прогнозы Бюро обычно оказывались ближе к реальности.
Как бы то ни было, но, например, в таких странах, как Германия, Япония и Россия, население заметно стабилизируется и начинает сокращаться. Если верить данным ООН, то, по усредненным прогнозам, с 2018 г. до конца века текущее население Японии может сократиться со 127,2 млн человек до 84,5 млн либо при самом экстремальном сценарии – до 54,3 млн. При сохранении существующих тенденций еще спустя столетие острова и вовсе опустеют. Это обусловлено спадом рождаемости и тем, что многим женщинам сложно забеременеть: сейчас средний возраст по стране превышает 40 лет. Проще говоря, в нынешних условиях это явление практически необратимо. К счастью, новые технологии способны радикально изменить мир. И, по очевидным причинам, именно такие страны, как Япония, будут более остальных заинтересованы в борьбе со старением и омоложении организма.
Согласно усредненному прогнозу, население Германии, как ожидается, с 2018 г. по 2100 г. сократится с 82,3 млн человек до 71 млн, а сообразно экстремальному сценарию – до 47,3 млн. В России за то же время из 144 млн может остаться 124 млн либо 77,2 млн человек соответственно.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в католических странах. Например, в Испании по усредненному прогнозу численность населения к 2100 г. может уменьшиться с 46,4 млн до 36,4 млн или при экстремальном сценарии развития до 24 млн человек. В Италии к концу XXI в. народонаселение с 59,3 млн способно сократиться до 47,8 млн, а в крайнем случае – до 31,9 млн. Вот так: в «стране для детей» таковых становится все меньше и меньше. При этом, если в таких странах, как Германия, Испания и Италия, пока не наблюдается ускоренного сокращения населения, то это происходит только за счет иммиграции, в какой-то мере компенсирующей снижение рождаемости.
Возможно, самый разительный из мировых примеров – значительное сокращение населения Китая, чему отчасти виной политика «одного ребенка», насаждавшаяся в течение нескольких десятилетий подряд. Большинство сегодняшних китайцев – единственные дети тех родителей, которые сами являлись единственными в семье. Подобная ситуация породила множество социальных искажений. Кроме того, в сексистской стране, для которой рождение сыновей было предпочтительным для отцов и новорожденные девочки умерщвлялись, мужчин стало больше, чем женщин. В результате произошел невиданный в мирное время резкий демографический обвал. По усредненным прогнозам ООН, с 2018 г. до 2100 г. население Поднебесной может сократиться с 1415,1 млн до 1020,7 млн или при экстремальном сценарии развития – до 616,7 млн человек. Трагизм популяционных тенденций все больше увеличивает заинтересованность Китая в борьбе со старением и омоложении.
Грядущий демографический кризис будет заключаться уже не в избытке людей, а, скорее, в возможном застое и сокращении населения планеты. Ведь, если вдуматься, именно его увеличение было одной из главных причин мощного прогресса последнего двадцатилетия. Появилось больше мыслителей, рабочих, творцов, новаторов, первооткрывателей и изобретателей. Люди стали приходить в мир не просто для того, чтобы поглощать и перерабатывать пищу, но чтобы задействовать мозг – самую сложную структуру среди тех, что известны во Вселенной, и замечательный орган, способный вообразить и создать практически все что угодно.
Впрочем, в некоторых бедных странах Африки и Азии население все еще растет, однако рождаемость снижается, и, судя по ситуации, складывающейся на протяжении нескольких последних десятилетий, нынешние прогнозы, вероятно, завышены. Но если задуматься, то чем беднее люди, тем лучше они знают, как сделать больше с меньшими затратами, то есть интеллектуальный вклад представителей менее богатых народов будет иметь положительные последствия для экономики планеты и увеличит общемировую производительность. Однако в ближайшие десятилетия численность населения должна стабилизироваться и в беднейших странах[187].
На рис. 4.5 показано резкое сокращение процента людей в возрасте до 5 лет и быстрый рост количества тех, кто старше 65. Это глобальная тенденция: мир стареет не по дням, а по часам, молодых становится все меньше, пожилых – все больше. Проблема общая как для богатых, так и бедных стран. В прошлые времена люди погибали еще молодыми – от насильственной смерти либо инфекций. Сейчас же, напротив, они умирают от возрастных заболеваний – после долгих и ужасных мучений.
Рис. 4.5. Настоящий демографический кризис, в процентах от населения
На рис. 4.6 продемонстрировано то, что раньше называлось возрастно-половыми пирамидами, хотя в наше время это напоминает скорее прямоугольники. В наиболее радикальных случаях, таких как нынешняя Япония и будущий Китай, график превращается в треугольник с основанием, обращенным вверх. Также на рисунке показано, в какой степени стабилизируется и с какой скоростью стареет мировое население. Ожидается, что в каждом поколении людей будет становиться все меньше и меньше.
Старение мирового населения сильно проявляется на индивидуальном и общественном уровнях, а кроме того, имеет серьезные экономические последствия. По мере увеличения возраста количество работающих падает, пенсионеров – растет. С одной стороны, медицинские расходы отдельных людей с возрастом обычно увеличиваются и в основном приходятся на последние годы жизни. Таким образом, по мере приближения к смерти большинство пациентов требуют от себя и общества огромных затрат. С другой стороны, вызывает интерес, что суперэйджеры (люди, прожившие до 95 лет без признаков рака, слабоумия, болезней сердца или диабета), как правило, обладают сжатой морбидностью, то есть они умирают быстро, без значительных финансовых издержек.
Рис. 4.6. Изменение формы возрастно-половых пирамид
К счастью, есть альтернатива. Мы не обязаны заканчивать свои дни так же трагично, как и предки. Теперь нам известно, что при помощи науки процесс старения можно замедлить, остановить и обратить вспять. Наша историческая задача гораздо важнее: покончить с величайшим и общим врагом всего человечества.
Настало время проложить новый путь к будущему человечества. Пора отправляться в дорогу к вечной молодости – без сомнения, рискованную, однако полную возможностей. Но прежде, чем достичь самой желанной мечты человечества, придется перейти через несколько мостов. Это путешествие из линейного мира сегодня в экспоненциальный мир завтра.
Фантастическое путешествие
В 2004 г. Рэй Курцвейл в соавторстве со своим доктором, специалистом по долголетию Терри Гроссманом, написал книгу «Фантастическое путешествие: От долгожительства к вечной жизни».
Своим названием книга обязана известному американскому кинофильму «Фантастическое путешествие» (20th Century Fox, 1966 г.), в котором главную роль исполнила актриса и певица Ракель Уэлч. Научно-фантастическая кинолента – в свое время она получила два «Оскара» – повествовала о небывалой экспедиции на искусственно уменьшенной субмарине внутрь человеческого тела. По мотивам фильма был снят мультсериал, Айзек Азимов создал роман, испанский художник Сальвадор Дали написал одноименную картину. В наши дни переснять фильм намеревались американец Джеймс Кэмерон и мексиканец Гильермо дель Торо.
«Фантастическое путешествие» – вторая книга Курцвейла о здоровье. В своей первой работе на эту тему – «Десятипроцентное средство для здоровой жизни» (The 10 % Solution for a Healthy Life), которая вышла в 1993 г., автор поведал, как он в 45 лет самостоятельно вылечился от диабета, и, чтобы свести к минимуму риск рака и сердечных приступов, среди прочего, снизил калорийность, жирность и содержание сахара в своем рационе.
Во втором труде о здоровье (он же первый в соавторстве с Гроссманом) авторы рассказали о таких расстройствах организма, как сердечные заболевания, рак и диабет II типа. Они рекомендовали изменить образ жизни: соблюдать диету с низким гликемическим индексом, ограничивать калории, выполнять физические упражнения, пить зеленый чай и щелочную воду, употреблять определенные добавки и пр.
«Фантастическое путешествие» утверждает, что цель этих изменений – развитие и поддержание безупречного здоровья, чтобы каждый человек прожил как можно дольше. Согласно мнению авторов, в ближайшие десятилетия прогрессивная наука, по сути, почти преодолеет старение и устранит дегенеративные заболевания. Книга изобилует экскурсами в различные футурологические темы с пояснениями, как именно современные исследования приводят к долголетию, и рассказами, каким образом технологии будущего (биоинженерия, нанотехнологии и ИИ) изменят наш образ жизни.
Если коротко, то «Фантастическое путешествие» начинается с описания трех переходов, или мостов, к неограниченно долгой жизни. В нашей уточненной и упрощенной интерпретации они выглядят так:
1. Первый мост приходился на ушедшее десятилетие – 2010-е гг. В основном этому переходному периоду было свойственно выполнение советов, обычных для мам и бабушек (правильно питаться, хорошо спать, заниматься спортом, не курить и т. д.), но скорректированных с позиций науки и медицины. Мост совпадает с так называемой Программой долголетия Рэя и Терри (по именам Курцвейла и Гроссмана) и включает современные методы лечения и рекомендации, которые позволили бы сохранить здоровье столько времени, чтобы люди успели извлечь выгоду из второго переходного периода[188].
2. Второй мост будет интенсивно развиваться на протяжении 2020-х гг. в ходе революции биотехнологий. По мере того, как будет изучаться генетический код нашего биологического устройства, мы, люди, найдем способы избежать болезней и старости и сумеем полностью развить свой потенциал. Второй мост приведет нас к третьему.
3. Третий мост, который придется в основном на 2030-е гг., станет реальностью благодаря переворотам в нанотехнологиях и ИИ; их синтез позволит нам реконструировать свои тело и мозг на молекулярном уровне. Не позднее 2045 г. мы достигнем технологической сингулярности и бессмертия – как биологического, так и компьютерного (то есть способности читать, копировать и воспроизводить разум).
Поскольку секвенирование генома человека позволило оцифровать биологию и медицину, «Фантастическое путешествие» описывает второй мост следующим образом[189]:
«Многие стратегии преодоления болезней и старения возникают по мере постижения того, как преобразуется информация в ходе биологических процессов. Здесь мы еще раз рассмотрим некоторые из наиболее перспективных подходов, ниже обсудим дальнейшие примеры. Один из эффективных методов – начинать с информационной основы биологии, а именно с генома. В сфере генных технологий мы сейчас находимся на пороге контроля экспрессии генов, а в результате сможем менять и сами гены.
Генные технологии уже применяются к другим биологическим видам. В промышленном производстве многих новых фармацевтических препаратов используется метод рекомбинации ДНК, при котором гены различных организмов, от бактерий до сельскохозяйственных животных, модифицируются для производства белков, необходимых для борьбы с человеческими недугами.
Другой важный фронт работ – методы терапевтического клонирования. Одно из их главных преимуществ состоит в возможности вырастить заново клетки, ткани и даже целые органы, в том числе и из омоложенных версий наших собственных клеток, и ввести те в организм без хирургического вмешательства, что создаст новую область восстановительной медицины».
В течение следующего десятилетия экспоненциальный технический прогресс будет способствовать ускоренному развитию нанотехнологий и ИИ, первое коммерческое применение которых мы увидим в 2030-х гг. Это и приведет мир к третьему мосту:
«По мере “обратной разработки”, то есть постижения принципов нашего биологического устройства, при помощи технологий мы сможем дополнять и перестраивать свои тела и мозги, чтобы радикально продлевать срок жизни, улучшать здоровье и расширять интеллект и переживаемый опыт. Большая часть этого развития станет результатом научной работы в области нанотехнологий. Термин был придуман Эриком Дрекслером в 1970-х гг. для описания исследований объектов, размеры наименьших элементов которых не превышают 100 нанометров[190].
Теоретик нанотехнологий Роберт Фрейтас-младший пишет: “Всесторонние знания о молекулярном устройстве человека, столь кропотливо собранные в течение XX и начала XXI в., в XXI в. задействуются в разработке микроскопических медицинских аппаратов, которые по преимуществу будут предназначены не для курсирования в чисто исследовательских целях, а скорее (и гораздо чаще) для осмотра, ремонта и реконструкции клеток”.
Фрейтас указывает, что если “идея помещения внутрь тела миллионов автономных наноботов (роботов размером с клетку крови, созданных молекула за молекулой) может показаться странной и даже тревожной, то наш организм, по сути, и так кишит массами мобильных наноустройств”. Биология сама по себе доказывает их возможность. Директор Национального научного фонда[191] Рита Колвелл говорила: “Жизнь – рабочий вариант нанотехнологий”. Макрофаги (вид белых кровяных телец) и рибосомы (молекулярные “станки”, выстраивающие цепи аминокислот в соответствии с информацией, содержащейся в нитях РНК), по существу, являются теми же нанороботами, разработанными в ходе естественного отбора.
По мере создания собственных наноботов для ремонта и расширения биологических функций мы не будем ограничены природным набором инструментов. В живых творениях используется ограниченный набор белков, в то время как мы сможем создавать структуры куда более сильные, быстрые и хитроумные».
Что касается настоящего времени, то книга «Фантастическое путешествие» предлагает ряд рекомендаций для улучшения здоровья и достижения второго моста. В следующей книге под названием «Transcend: Девять шагов на пути к вечной жизни»[192] Курцвейл и Гроссман предложили расширенную программу. Она состоит из девяти шагов – по одному на каждую букву слова TRANSCEND[193][194]:
T: Talk with your doctor (разговор с врачом).
R: Relaxation (релаксация).
A: Assessment (оценка состояния организма).
N: Nutrition (питание).
S: Supplements (добавки);
C: Calorie Restriction (ограничение калорийности).
E: Exercise (упражнения).
N: New Technologies (новые технологии).
D: Detoxification (детоксикация).
Упомянутая в прошлой главе книга Меллона и Чалаби «Ювенесценция: Инвестирование в эру долголетия» также включала в себя набор рекомендаций первого и второго мостов и подразумевала развитие технологий третьего моста в направлении неограниченного долголетия или новой науки «ювенесценции», как это назвали авторы. Через десятилетие с небольшим, когда появится величайшая индустрия человечества, принципы ювенесценции должны позволить нам достичь второй космической скорости в развитии долголетия. Это принесет пользу не только здравоохранению, но и мировой экономике, и также личным финансам[195].
Вторая космическая скорость долголетия
Книга Курцвейла и Гроссмана «Фантастическое путешествие» имеет подзаголовок «От долгожительства к вечной жизни». Имеется в виду следующее. Если в ближайшие годы нам удастся прожить достаточно долго или хотя бы просто выжить, чтобы пройти через все три моста и достичь омоложения, то дальше мы сможем существовать на протяжении неограниченного срока – такого, какого только захочется, не принимая в расчет смерть от несчастных случаев, катастроф, поезда в конце туннеля, упавшего на голову пианино и прочих подобных причин.
Эта концепция сегодня известна как «вторая космическая скорость долголетия» (или «скорость убегания долголетия»). Изначально выдвинутая американским бизнесменом и филантропом Дэвидом Гобелем (вместе с Обри ди Греем он является соучредителем Фонда Мафусаила), она была названа по аналогии со второй космической скоростью (или скоростью убегания), при которой объект, подобный снаряду или ракете, преодолевает силу тяжести и покидает планету. Физики подсчитали, что для Земли она составляет 11,2 км/с (40 320 км/ч)[196].
Вторая космическая скорость долголетия подразумевает такое положение вещей, при котором отпущенный человеку срок увеличивается быстрее, чем проходит время. То есть по ее достижении благодаря новым технологиям средняя ожидаемая продолжительность жизни будет ежегодно расти больше чем на год.
По мере совершенствования стратегий и методик лечения ожидаемая продолжительность полезной жизни ежегодно увеличивается на едва заметный срок. На каждый добавленный год требуется более года исследований. Вторая космическая скорость долголетия будет достигнута, когда при сохранении устойчивых темпов прироста ежегодное увеличение ожидаемой продолжительности жизни превысит 12 месяцев.
Когда это произойдет? Если оглянуться на историю человечества, станет очевидно, что на протяжении тысячелетий отпущенный людям срок практически не увеличивался. И только с XIX в. начался значительный прогресс. Сначала набирались дни, потом недели, а теперь, как подсчитано, с каждым прожитым годом ожидаемая продолжительность жизни в самых развитых странах растет на три месяца[197]:
«Полученные данные свидетельствуют, что ожидаемая продолжительность жизни в ведущей стране мира росла на три месяца ежегодно».
То есть с каждым годом люди живут на три месяца больше. По словам Курцвейла, в 2029 г. будет достигнута скорость убегания долголетия, другими словами, с каждым годом мы станем жить больше на год и подобным образом сможем продолжать сколько угодно долго[198] (как и пишут Курцвейл и Гроссман – «от долголетия к вечной жизни»).
Ди Грей выразил это простым графиком, исходя из которого можно рассчитать, какой станет ожидаемая продолжительность нашей жизни в зависимости от текущего возраста. К сожалению, перспективы тех, кому сейчас по 100 лет, как и 80-летних, не очень обнадеживают. Но, как видно на рис. 4.7, вполне вероятно, что люди в возрасте 50 лет и младше сумеют достичь второй космической скорости долголетия.
Рис. 4.7. Вторая космическая скорость долголетия
Существуют различные мнения о сроках достижения скорости убегания долголетия – от «очень скоро» до «никогда». Но на фоне наблюдаемого экспоненциального прогресса 2029 год кажется вполне разумным сроком. Ведь действительно, чтобы дожить до бессмертия, достаточно живым перейти со второго моста на третий, тем самым увеличив ожидаемую продолжительность здоровой жизни[199].
Ди Грей также популяризировал концепцию «мафусалярности» (Methuselarity – оригинальная идея американского предпринимателя Пола Хайнека), то есть своеобразной мафусаиловой сингулярности, которую он сравнил с технологической сингулярностью[200]:
«Старение, то есть совокупность бесчисленных видов молекулярного и клеточного распада, будет побеждено постепенно. Уже некоторое время я предсказывал, что наши последовательные успехи встретят порог – нарекаю его “мафусалярностью” – после чего темп совершенствования технологий борьбы со старением станет постепенно снижаться. Это необходимо, чтобы по мере того, как мы будем становиться хронологически старше, предупредить риск гибели от причин, связанных с возрастом. Различные комментаторы отмечали сходство этого предвидения с предсказаниями Гуда, Винджа, Курцвейла и др. относительно технологий вообще (в частности, компьютерных), в которых это именуется сингулярностью».
«Мафусалярность» – это момент в будущем, когда все биологические причины, вызывающие умирание человека, будут устранены, и смерть станет наступать только от несчастного случая или убийства. Иными словами, это точка, в которой мы достигнем жизни неограниченной, – без старения. Тогда мы и наберем вторую космическую скорость долголетия[201].
От линейного к экспоненциальному
Ученый и бизнесмен Гордон Мур, соучредитель Intel, в 1965 г. написал статью, в которой заявил, что компьютеры удваивают мощность примерно каждый год (затем, пересмотрев эту цифру, он увеличил ее в два раза), что имеет далеко идущие последствия для вычислительной техники и связанных с ней областей[202]:
«Вычислительная сложность при минимальной стоимости компонентов ежегодно возрастает примерно вдвое. ‹…› Конечно, в краткосрочной перспективе можно ожидать, что этот показатель сохранится, если не увеличится».
Cоотношение, известное как закон Мура, в авторской редакции от 1975 г. утверждает, что примерно каждые два года количество транзисторов в микропроцессоре удваивается. Это не закон физики, а эмпирическое наблюдение. Сейчас оно применяется к персональным компьютерам и мобильным телефонам, которых на момент формулировки вышеизложенного закона не существовало: микропроцессоры были изобретены в 1971 г., популяризация персональных компьютеров происходила в 1980-е гг., а сотовая телефония в то время находилась едва ли на стадии экспериментов.
В вышедшей в 2005 г. книге «Сингулярность уже близка: Когда люди превзойдут биологию» (The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology) Курцвейл рассказал, что закон Мура – лишь часть куда более длительной исторической тенденции, и в будущем от той стоит ожидать еще большего[203]. Сформулированный им в 2001 г. закон ускоряющейся отдачи показан на рис. 4.8. Очевидно, что закон Мура – только один из этапов общей тенденции, соответствующий царящей сегодня в индустрии, пятой по счету парадигме. Тогда же Курцвейл заявил[204]:
«Таким образом, при нынешних темпах в течение XXI в. нас ждет не столетнее развитие, а нечто подобное 20 000 годам прогресса».
Рис. 4.8. Закон ускоряющейся отдачи
Греческий философ Гераклит еще в V в. до н. э. утверждал, что постоянны только перемены («все течет, все изменяется»). Но сегодня, пусть далеко и не всем, стало уже очевидно, что изменения ускоряются. Вот как в вышеупомянутой книге это объяснял Курцвейл[205]:
«В широком смысле будущее трактуется неверно. Наши предки ожидали, что оно будет очень похоже на их настоящее, которое было подобно их же прошлому.
Будущее куда удивительнее, чем осознает большинство: лишь немногие по-настоящему сумели уяснить последствия все ускоряющегося темпа изменений».
Чтобы подчеркнуть экспоненциальный характер перемен, Курцвейл пояснил, что в развитии технологий существует положительная обратная связь, которая ускоряет темп перемен[206]:
«Технологическое развитие – нечто куда большее, чем просто изготовление орудий производства, это процесс создания все более мощных технологий при помощи инструментов, созданных в предшествующем инновационном цикле.
[Технологическая] эволюция имеет положительную обратную связь…
Наиболее действенные методы, появившиеся в предыдущую эволюционную стадию прогресса, используются для создания следующего этапа.
Первые компьютеры были спроектированы на бумаге и собраны вручную. Сегодня они разрабатываются на компьютеризированных рабочих станциях (причем многие детали проекта следующего поколения разрабатываются алгоритмами самих ЭВМ), а затем производятся на полностью автоматизированных заводах при весьма ограниченном вмешательстве человека».
Учитывая общий фон развития технологий, Курцвейл предсказал, что в 2029 г. ИИ пройдет тест Тьюринга (то есть станет невозможно отличить, общается наблюдатель с человеком или с ИИ), а к 2045 г. мы достигнем технологической сингулярности (в нашем упрощенном определении – момента, когда ИИ сравняется с интеллектом всего человечества).
Тест Тьюринга и технологическая сингулярность не являются предметами этой книги, но заинтересованные читатели могут ознакомиться с другой работой Курцвейла под названием «Эволюция разума»[207] (для испанского издания от Lola Books пролог был написан Хосе Кордейро); в ней рассказано и об экспоненциальном прогрессе ИИ[208].
Поначалу таковой кажется очень медленным, однако, согласно цитате американского бизнесмена и филантропа Билла Гейтса из статьи о прогнозах Всемирного экономического форума в Давосе на 2018 г.[209], быстро ускоряется:
«Большинство людей переоценивают то, что могут сделать за год, и недооценивают то, на что способны за десять».
Кроме того, в большинстве своем годовые прогнозы переоценивают то, что может произойти в течение года, но недооценивают силу тенденции с течением времени. В опубликованной в 2016 г. книге «Смелость: Как добиться успеха, нажить богатство и изменить мир» (Bold: How to Go Big, Create Wealth and Impact the World) Диамандис и Котлер раскрыли, что процессы технологических изменений проходят через шесть «Д»[210]:
«Шесть “Д” представляют собой цепную реакцию технического прогресса и схему быстрого развития, которая всегда ведет к огромным сдвигам и перспективным возможностям.
Технологии нарушают привычный ход промышленных процессов, и им уже не стать прежними.
Шесть “Д” таковы: дигитализация, дезинформация, дезорганизация, демонетизация, дематериализация и демократизация».
Согласно Диамандису и Котлеру, все поддающиеся оцифровке (дигитализации) технологии должны преобразовываться экспоненциально, что в корне изменит соответствующие индустрии (включая медицинскую и биологическую) дигитализация которых сейчас в самом разгаре.
Шесть «Д» экспоненциального роста неспешно начинаются с дигитализации и дезинформации и завершаются ускоренной дематериализацией и демократизацией доступной для всех технологии. Классический пример – компьютеры, которые из дорогих и медленных стали дешевыми и быстрыми. То же самое произошло и с сотовыми телефонами, ставшими доступными кому угодно и где угодно.
Применительно к биологии и медицине примером может послужить секвенирование генома человека, которое началось в 1990 г. тысячами ученых, работавших в 15 странах мира, а к 1997 г. было завершено только на 1 %. Курцвейл написал следующее[211]:
«Когда в 1990 г. началось сканирование генома человека, критики, учитывая тогдашнюю скорость процесса, указали, что на его завершение потребуются тысячи лет. Однако 15-летний проект был завершен даже раньше намеченного срока – с предварительным результатом в 2003 г.»
Причина очень проста. В 1997 г. был распознан только 1 % от общего количества генов, однако результаты каждый год увеличивались вдвое. Это означало, что спустя семь таких ежегодных удвоений проект должен был завершиться полностью. Так и случилось. Расшифровка генома человека – впечатляющий пример экспоненциально развившейся технологии, как в плане времени, так и стоимости. Таблица 4.1 демонстрирует, что если первое полное секвенирование генома человека обошлось примерно в 3 млрд долларов и заняло 13 лет, то во второй раз, в 2007 г., результат был получен всего за четыре года, а стоимость составила 100 млн долларов.
Таблица 4.1
Время и затраты на секвенирование генома человека
В 2015 г. на получение одного гена были затрачены 1000 долларов и неделя времени, и, по нашим оценкам, менее чем через десятилетие полная расшифровка обойдется лишь в 10 долларов и займет всего минуту. Согласно терминологии Диамандиса и Котлера, это позволит перейти от первой из шести «Д», дигитализации, к последней – демократизации. К середине 2020-х гг. любой человек на планете сумеет полностью прочитать свой геном и выявить предрасположенность к генетическим заболеваниям и способы их профилактики.
Кроме того, чтобы узнать причины мутаций и напрямую атаковать раковые клетки, получится секвенировать и их геномы. Мы откажемся от таких процедур, как химическая и лучевая терапии, поскольку перестанем считать их современными медицинскими практиками, и с помощью высокоточной медицины станем локализовать и устранять непосредственно раковые опухоли.
ИИ приходит на помощь
Одна из главных технологий, которой предстоит внести вклад в понимание биологии и улучшение медицины, прогрессирует также экспоненциально. Системы ИИ уже победили людей в шахматах (1997 г.), телевикторинах, подобных Jeopardy (2011 г.), китайских, корейских и японских играх в го (2016 г.), покере (2017 г.) и тестах на понимание чтения (2018 г.)[212].
Одним из исторических первопроходцев в развитии таких форм ИИ стала компания IBM, разработавшая сначала программу Deep Blue, которая в 1997 г. победила чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, а затем Watson, что в 2011 г. перед телекамерами выиграла у чемпионов Jeopardy. Теперь IBM использует Watson в медицинских приложениях (под именем IBM Watson); в обнаружении рака и при радиологическом анализе, например, та достигает уровня человека. IBM утверждает[213]:
«Наша цель состоит в том, чтобы открыть перед ведущими специалистами, пропагандистами и влиятельными лицами от здравоохранения новые возможности. Наша поддержка поможет им достичь замечательных результатов, ускорить открытия, установить важные связи и обрести уверенность на пути к решению величайших мировых проблем в области здравоохранения».
В холдинге Alphabet (как и ранее в Google) убеждены, что ИИ способен значительно улучшить человеческое существование и – как приоритетную часть последнего – здоровье. Системы ИИ, предназначенные для игры в го, например AlphaGo и AlphaZero (их разработала партнерская компания DeepMind) вот-вот получат клиническое применение. Сила электронного мозга поистине удивительна. Как сказал генеральный директор Google Сундар Пичаи на конференции 2018 г.[214]:
«ИИ – одна из самых важных задач, над которыми трудится человечество. Это куда серьезнее, чем, скажем, электричество или огонь».
В своем выступлении Пичаи не стал напрямую ссылаться на две другие компании Google под зонтиком Alphabet: Calico и Verily. Обе они работают в сфере здравоохранения и, чтобы в ускоренном порядке достичь своих целей, наравне с другими источниками будут применять технологии «глубокого обучения» Google. О различиях между компаниями в 2014 г. в интервью научному журналисту Стивену Леви рассказал президент Verily (тогда еще Google X Life Sciences), американский генетик Эндрю Конрад[215]:
«Конрад: Миссия Google X Life Sciences – изменить здравоохранение с реактивного на проактивное. В конечном счете – это профилактика заболеваний и увеличение с ее помощью средней продолжительности жизни, чтобы люди жили дольше и здоровее.
Леви: Похоже, что эта миссия немного пересекается с другим предприятием Google в области здравоохранения – Calico. Вы работаете с ним?
Конрад: Позвольте пояснить разницу. Миссия Calico состоит в том, чтобы увеличивать максимальную продолжительность жизни и для продления срока жизни как такового разрабатывать новые способы предотвращения старения. Наша же задача – избавиться от убивающих нас до этого болезней, чтобы большинство людей прожили дольше.
Леви: То есть вы поможете мне дожить до того, как подействует товар Calico.
Конрад: Совершенно верно. Мы поможем вам дожить до того, как Calico продлит ваши дни».
Применив терминологию Курцвейла и Гроссмана, мы могли бы упрощенно сказать, что Verily находится на втором, а Calico – на третьем мосту к неограниченной жизни. Помимо IBM и Google есть и другие технологические компании, к примеру, Amazon, Apple, Facebook, GE, Intel и Microsoft, чьи системы ИИ вскоре тоже получат клиническое применение.
Аналогично действуют фирмы Японии и Китая – стран, которые уже страдают от старения населения и связанных с этим проблем. Японские корпорации, например, Sony и Toyota, используют роботов в качестве медицинских ассистентов и медсестер. Такие компании, как Baidu (китайский аналог Google) и BGI (до 2008 г. именовалась Пекинским институтом геномики, находится в технологическом городе Шэньчжэнь), разрабатывают ИИ, нацеленный на выявление заболеваний и геномное секвенирование[216].
Китайское правительство приняло стратегическое решение превратить страну в технологическую державу – в областях от ИИ до медицины и биотехнологий. Учитывая их недавние достижения, вполне вероятно, что они преуспеют и в этом, причем весьма скоро: их вынуждают национальный кризис старения и демографический спад. Также Китай столкнулся с еще одной проблемой – старением населения без предшествовавшего обогащения экономики. Если развитые страны сначала разбогатели, а потом постарели, то в Поднебесной происходит обратное: население стареет, толком ничего не нажив. И, словно этого недостаточно, демографические прогнозы указывают, что население Китая чрезвычайно уменьшится вследствие политики «одного ребенка».
То же самое можно сказать и о Японии. Несмотря на отсутствие политики ограничения рождаемости, в ближайшие десятилетия население этой страны тоже резко сократится. Именно поэтому остальному миру так важно учиться на опыте демографических кризисов двух этих государств. К счастью, будущее населения не предопределено, и, благодаря технологиям борьбы со старением и омоложения, которые будут разработаны в ближайшие годы, причем многие – в Китае и Японии, актуальные тенденции могут быть обращены вспять.
ИИ продолжает стремительно развиваться, как в странах Запада, так и Востока, и в первую очередь его предполагают применять в здравоохранении, медицине и биологии. Согласно недавнему отчету CB Insights, компании по изучению рынка, самая быстрорастущая область применения ИИ – это здравоохранение, на которое нацелен самый большой поток инвестиций и венчурного капитала. Использование Big data, или макроданных, и быстрое распространение новых персональных сенсоров, многие из которых – медицинские, позволит увеличивать объем обрабатываемой информации, точность сравнений и качество медицинских диагнозов. Крупные компании и небольшие стартапы приносят ИИ и методы глубокого обучения в мир медицины. На рис. 4.9 показана зарождающаяся экосистема подобных новаторских предприятий в этой отрасли.
Рис. 4.9. Зарождающаяся экосистема ИИ здравоохранения
Сообразно все тому же отчету CB Insights, благодаря стартапам, работающим с экспоненциально развивающимися технологиями, вносящими в сектор традиционной медицины элемент здоровой дезорганизации, мы станем свидетелями ускоренного роста отрасли и значительного улучшения народного здоровья[217]:
«Мы выявили более сотни фирм, которые, чтобы сократить сроки разработки лекарств, оказать пациентам виртуальную помощь, диагностировать болезни путем медицинской визуализации, обрабатывать данные и для многого другого, применяют алгоритмы машинного обучения и предсказательную аналитику.
К 2025 г. системы ИИ могут быть задействованы везде – от управления здоровьем населения до цифровых аватаров, способных отвечать на конкретные запросы пациентов».
Индийско-американский инженер и бизнесмен Винод Хосла (соучредитель Sun Microsystems и венчурный инвестор в новые технологии) объяснил грядущие экспоненциальные перемены на конференции Медицинской школы Стэнфордского университета[218]:
«Среди всех отраслей промышленности темпы внедрения инноваций в программное обеспечение всегда были намного выше, чем где бы то ни было еще. Что до той области традиционного здравоохранения, что пересекается с “биологическими науками”, например, фармацевтической промышленности, то существует много веских причин, по которым циклы освоения технологических новшеств там замедлены.
Для разработки и фактического выхода на рынок требуются от 10 до 15 лет, при этом частота отказов невероятно высока. Тут важна безопасность, и я не виню процедуру. Я считаю, что она вполне обоснована, и [Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов] проявляет надлежащую осторожность. Но, поскольку в цифровом здравоохранении угрожающих безопасности побочных эффектов обычно меньше, а итерации могут происходить двух-, трехлетними циклами, темпы внедрения инноваций существенно повышаются.
В течение следующих 10 лет методы анализа данных и программное обеспечение сделают для медицины больше, чем все биологические науки, вместе взятые».
Несколько правительств заявили, что начнут использовать открывшиеся возможности для улучшения здоровья с помощью ИИ, новых сенсоров, больших данных и других современных технологий. Например, британское руководство объявило о бесплатном секвенировании генома 500 000 своих граждан в 2020 г. с помощью UK Biobank и при поддержке различных компаний[219]. Власти США сообщили о подобной мере – в 2022 г. при посредничестве Национальных институтов здравоохранения предстоит расшифровать уже миллион геномов – и старте собственной инициативы по точной медицине[220]. Первым, в 1996 г., подобные шаги с помощью компании deCODE предприняло правительство Исландии; позже аналогичные программы применили и другие страны, такие как Эстония и Катар. Пришла пора переходить от лечебной медицины к профилактической, и ИИ – важнейший инструмент для достижения этой цели.
Согласно другому отчету, опубликованному в начале 2018 г. Deep Knowledge Ventures, компанией по инвестициям в технологии, ИИ способен привести к впечатляющим медицинским успехам[221]:
«Здравоохранение станет ведущим направлением четвертой промышленной революции, и одним из главных катализаторов перемен будет ИИ.
В здравоохранении ИИ представляет собой совокупность множества различных технологий, позволяющих машинам чувствовать, понимать, действовать и учиться для выполнения административных и клинических функций. В отличие от устаревших методик, которые являются алгоритмами либо инструментами, что всего лишь дополняют работу людей, в здравоохранении ИИ сумеет на самом деле надстроить человеческую функциональность.
Уже найдено несколько областей, которые можно будет революционизировать с его помощью: от разработки планов лечения и помощи в выполнении рутинных заданий до медикаментозных тактик и разработки лекарств. И это только начало».
ИИ станет ключом к улучшению здоровья, инновационному медицинскому лечению, открытию новых фармацевтических продуктов и оптимизации систем здравоохранения. Чтобы оценить его преимущества и воспользоваться ими, нам следует быть внимательными и открытыми. Хотя у некоторых электронный мозг вызывает опасение, мы должны рассматривать тот не как угрозу, а скорее как колоссальный шанс. Он дополнит и приумножит человеческий разум, а не заменит его. В основе проблемы – не ИИ, а обычная человеческая глупость: по своей природе люди, к сожалению, довольно глупы. Но мы верим, что ИИ, расширив и улучшив человеческое мышление, сможет решить историческую проблему старения.
От продления жизни к ее развитию
Древнегреческий мифологический персонаж Титон, смертный сын троянского царя Лаомедонта и брат Приама, был таким ослепительно красивым, что влюбившаяся в него богиня зари Эос попросила отца богов Зевса даровать мужчине бессмертие. Однако о вечной молодости она не попросила, поэтому ее возлюбленный стал стареть и скукоживаться. Согласно некоторым версиям мифа, Титон сморщился настолько, что превратился в сверчка или цикаду[222].
В этой книге мы выступаем за такое продление жизни, при котором мы могли бы навечно остаться молодыми. Идея состоит не в том, чтобы существовать, усохнув, подобно Титону, а в том, чтобы жить максимально полной жизнью. С предельной ясностью мы заявляем: от продления жизни необходимо двигаться к ее развитию.
Во вступлении мы упоминали об израильском историке Ювале Харари. В своей второй книге «Homo Deus: краткая история будущего» он назвал бессмертие первым великим общемировым проектом XXI в., а затем пояснил[223]:
«Вторым по важности пунктом в нашей повестке дня, вероятно, станет поиск формулы счастья. Во все времена находились мыслители, пророки и простые смертные, которые видели наивысшее благо именно в счастье, а не в самой жизни. В Древней Греции Эпикур проповедовал, что поклонение богам – это пустая трата времени, что после смерти ничего нет и что единственная цель нашего существования – счастье. В древности мало кто исповедовал эпикурейство, но сегодня оно стало чем-то само собой разумеющимся. Сомнения в загробной жизни побуждают человечество стремиться не только к бессмертию, но и к земному счастью. Ведь кто захочет жить вечно, прозябая?
Эпикур предлагал человеку искать счастье в одиночку. Современные мыслители склонны считать поиски счастья делом коллективным. Индивид мало в чем преуспеет без государственного планирования, экономических ресурсов и научных исследований. Если у вас в стране идет бойня, если ее экономика в кризисе, а медицина в упадке, вам, разумеется, будет несладко. В конце XVIII в. английский философ Иеремия Бентам провозгласил наивысшим благом “наибольшее счастье наибольшего числа индивидуумов” и назвал единственной достойной целью государства, рынка и ученого сообщества умножение мирового счастья. Политики должны устанавливать мир, дельцы должны способствовать преуспеянию, а ученые должны познавать природу не для вящей славы короля, страны или Бога – а чтобы вы и я могли жить счастливее».
Наша цель должна состоять не только в увеличении срока жизни, но и в улучшении ее качества. Так происходило всегда. Тысячи лет назад люди жили в среднем по 20–25 лет. Из этого времени треть тратилась на сон (восемь часов в сутки), а остальное – в основном на занятие натуральным хозяйством. В доисторические времена формального образования не существовало (обучение шло путем совместной работы с не такими старыми стариками, а его целью был труд для пропитания) и свободного времени много не оставалось. Такое положение вещей сохранялось тысячелетиями. Даже в классическом Риме средняя продолжительность жизни оставалась на уровне 25 лет (рис. 4.10).
Рис. 4.10. Изменение продолжительности жизни на протяжении человеческой истории
В прошлом люди жили четверть века. Потребовалось несколько столетий, и к началу XX в. продолжительность жизни достигла полувека, а к началу XXI в. – трех четвертей. Если темп роста сохранится, то через несколько лет наш век действительно станет веком, а затем будет увеличиваться бесконечно, пока мы не достигнем второй космической скорости долголетия.
Благодаря великим преобразованиям последних столетий увеличилась не только ожидаемая продолжительность жизни, но и время на образование и другие виды деятельности, выходящие за рамки простого натурального труда. Важно также отметить, что увеличивался и наш досуг. Тысячи и тысячи лет назад, в африканской саванне, мы ежедневно и почти непрерывно трудились до самой смерти. Не найдя пищу, умирали от голода, не защитившись от животных, становились их пищей. Не имели мы и суббот с воскресеньями.
После изобретения земледелия и основания первых городов люди перешли к оседлому образу жизни, и многие религии посвятили местному божеству особый священный день: одни субботу, другие воскресенье, а третьи какой-то другой. Шли столетия, и вот в разгар промышленной революции был придуман уик-энд, состоящий из двух выходных (согласно европейской традиции, обычно это суббота и воскресенье). Сейчас, в XXI в., стали появляться приемы, позволяющие сократить рабочее время всего до четырех дней или 30–35 часов в неделю. Тысячи и тысячи лет назад наши африканские предки и помыслить о таком не могли.
С течением времени мы многого достигли как в увеличении срока жизни, так и в ее развитии. За последние несколько веков наше долголетие, как и досуг для других творческих занятий, значительно увеличилось. Сегодня времени на живопись, музыку, скульптуру и многие другие виды искусств у нас больше, чем когда-либо было доступно нашим предкам. Согласно теории американского психолога Абрахама Маслоу, мы поднялись по пирамиде человеческих потребностей и оставили чисто физиологические нужды ради интересов самореализации. Эта динамика должна продолжиться с увеличением времени и качества жизни[224].
Французский философ Мари Жан Антуан Николя де Карита, маркиз де Кондорсэ, был великим провидцем, который доживал свой век в бурный период Французской революции. Его книга «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума»[225] – впечатляющий взгляд в будущее, в мир, полный грядущих возможностей[226]:
«Будет ли теперь нелепо предположить, что это совершенствование человеческого рода должно быть рассматриваемо, как неограниченно прогрессирующая способность, что должно наступить время, когда смерть была бы только следствием, либо необыкновенных случайностей, либо все более и более медленного разрушения жизненных сил и что, наконец, продолжительность среднего промежутка между рождением и этим разрушением не имеет никакого определенного предела? Без сомнения, человек не станет бессмертным, но расстояние между моментом, когда он начинает жить и тем, когда, естественно, без болезни, без случайности, он испытывает затруднение существовать, не может ли оно беспрестанно возрастать?»
Люди произошли от дочеловеческих предков миллионы лет назад, а те, в свою очередь, от более ранних и более архаичных – и так далее до скромных бактерий за миллиарды лет до нашего времени. Но каково же будущее человечества? Теперь, когда мы движемся от медленной биологической эволюции к быстрому технологическому прогрессу, станем ли мы, как это предполагал Харари, подобны богам? Английский писатель Уильям Шекспир хорошо выразил это в своей знаменитой пьесе «Гамлет»:
«Мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать».
Люди могут не только «быть», но и «становиться». Нам по силам использовать инструменты разума для улучшения своей доли, внешнего мира и самих себя, начиная с собственного тела. Чтобы человек жил больше и становился здоровее, а его интеллектуальные, физические и эмоциональные способности росли и крепли, ему на службу должны быть поставлены все возможности науки и техники. Перефразируя популярную поговорку, скажем так: «Добавим больше лет к жизни и больше жизни к годам»[227].
Как показывает история, мы, люди, всегда стремились преодолеть ограничения тела и ума. Применение вышеописанных технологий в корне перевернет характер нашего общества и безвозвратно изменит то, как мы видим самих себя и собственное место в великом мировом замысле, Вселенной и развитии всего живого. Мы начинаем долгий путь к будущему, полному огромных возможностей и рисков. Мы должны продвигаться разумно, но бесстрашно, как в романе «Сломанный бог» описывал американский писатель-фантаст Дэвид Зинделл:
«– Что же такое, по-твоему, настоящий человек?
– Семя. ‹…›
– Семя?
– Желудь, который не боится уничтожить себя, чтобы превратиться в дуб».
Глава 5
Сколько стоит?
Кто не ценит жизнь, ее не заслуживает.
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, 1518 Г.
Все мои владения за одну минуту жизни! – за одну минуту жизни![228]
ЕЛИЗАВЕТА I, КОРОЛЕВА АНГЛИИ, 1603 Г.
Поначалу любые технические новшества доступны лишь богатым и работают не лучшим образом. Затем они становятся просто дорогими, зато функциональными, потом – совсем доступными и достаточно хорошими и в конце концов достаются почти даром.
РЭЙ КУРЦВЕЙЛ, 2005 Г.
Многих заботит вопрос, не приведет ли продление жизни к дополнительным затратам, особенно тем, что обычно сопутствуют старческим слабостям и недугам. На фоне старения современного общества это опасение стоит воспринимать крайне серьезно.
От Японии до США: быстрое старение населения
Выдающийся дипломат Таро Асо – внук бывшего премьер-министра Японии и также бывший премьер-министр этой страны с сентября 2008 г. по сентябрь 2009 г., а еще первый политик с другого континента, посетивший в то время президента Барака Обаму в Белом доме, – прямо и неоднократно выражал вышесказанное опасение. Его жалобы на налоговое бремя медицинского обслуживания той группы населения, что нуждается в нем постоянно – пенсионеров, эхом разнеслись по всей планете[229].
«На встречах выпускников я постоянно встречаю ковыляющих людей лет по 67–68, которые только и делают, что ходят по врачам, – сказал он. – К чему мне платить за тех, кто только ест и пьет и ни к чему другому вообще не прикладывает никаких усилий?»
Асо небезосновательно заявлял, что его сверстники могли бы лучше заботиться о себе: хотя бы ежедневно гулять и меньше зависеть от государственных пособий. В декабре 2012 г., после периода, во время которого партия Асо отсутствовала в правительстве, а сам политик уходил с поста ее лидера, он занял две должности: вице-премьера и министра финансов. Спустя месяц Асо вернулся к вопросу расходов на престарелое население. Вот его слова, переданные газетой The Guardian[230]:
«Министр финансов Таро Асо в понедельник заявил, что пожилым людям нужно дать “скорее умереть” и тем самым облегчить нагрузку на государство, которое оплачивает их медицинские услуги.
На заседании национального совета по реформам соцобеспечения он сказал: “Упаси вас небеса жить, если уже и не хочется. Осознавай я, что [мое лечение] оплачивается государством, мой стыд рос бы с каждым днем. Если не дать им скорее умереть, проблему не решить”.
Рост расходов на социальную защиту населения, а особенно пожилых людей, стал причиной решения, поддержанного Либерально-демократической партией под руководством Асо. Согласно таковому, в последующие три года налог с продаж увеличится в два раза (до 10 %).
Асо усугубил оскорбление, назвав стариков, неспособных питаться самостоятельно, “трубочниками”».
Также журналист сообщил о планах Асо на случай собственной болезни:
«72-летний мужчина, который одновременно является заместителем премьер-министра, заявил, что в конце жизни откажется от лечения и ухода. “Я в этом не нуждаюсь”, – сообщил он местным СМИ и добавил, что передал семье письменный отказ от медицинского продления своей жизни»
В обоих случаях – и в 2009 г., и в 2012 г. – соображения политкорректности вынудили Асо быстро опровергнуть свои публичные заявления. Его советников обеспокоила возможность потерять поддержку крупной группы пожилого японского электората, которая не только количественно росла быстрее остальных, но и обладала значительным политическим весом. Высказывание о «ковыляющих» пенсионерах было чересчур бестактным, и Асо извинился, хотя и настаивал, что не хотел никого обидеть, а, напротив, пытался привлечь внимание к галопирующим медицинским издержкам на болезни, происходящие от нездорового образа жизни. Выбор существования, сделанный человеком, стоило уважать, но одновременно было бы справедливо заметить, что бесконечное увеличение затрат на здравоохранение, вытекающих из такого выбора, непозволительно.
Высказанные в Японии комментарии Асо напоминают те, что за несколько десятков лет до этого (в 1984 г.) на встрече с общественностью в Денвере позволил себе губернатор Колорадо Ричард Лэмм. Его мнение передавала The New York Times[231]:
«Во вторник губернатор Колорадо Ричард Лэмм заявил, что долг смертельно больных пожилых людей – “умереть, освободив дорогу”, вместо того чтобы пытаться продлить свои дни.
Те, кто умирает, не прибегая к искусственному продлению жизни, подобны “опадающим с дерева листьям, что превратятся в перегной, на котором вырастут новые растения”, – сказал губернатор на встрече Ассоциации медицинских юристов Колорадо в больнице святого Иосифа.
“Ваш долг – умереть, освободив дорогу”, – сказал 48-летний губернатор».
Лэмм был, по сути, озабочен тем же, чем и Асо:
«Расходы на терапию, продлевающую жизнь некоторых неизлечимо больных людей, разрушают экономическое здоровье нации».
В общественной сфере мы принимаем коллективные решения по ограничению личных свобод, например, настаиваем, чтобы в машине застегивать ремни безопасности, цель чего, в том числе, и снижение расходов на лечение травм после аварий. А как же медицинские издержки, вытекающие из увеличения срока жизни? Имеем ли мы право жить больше, если это приводит к увеличению затрат?
Надежды на скорую смерть
Аргумент о том, что престарелым людям предпочтительнее «скорее умереть», выдвигался не только рядом политиков, но и видным американским популяризатором медицины Иезекиилем Эмануэлем (хотя и в более тонких выражениях). В октябре 2014 г. тот опубликовал в The Atlantic статью с подзаголовком «Аргумент в пользу того, что обществу, семье и вам самим будет лучше, если природа быстро и безотлагательно возьмет свое». Название же ее было еще удивительнее: автор, родившийся в 1957 г., выбрал для него фразу «Почему я надеюсь умереть в 75 лет». Иными словами, желал без лишней суеты преставиться примерно в 2032 г.[232]:
«75 лет: вот сколько я хочу прожить.
Подобное предпочтение сводит с ума и моих дочерей, и братьев, и дорогих друзей. Они уверены, что это явно не всерьез и необдуманно, потому что в мире еще столько невиданного и неизведанного. Чтобы убедить меня в неправоте, они приводят в качестве бесчисленных примеров знакомых, которые пережили рубеж 75 лет, однако чувствуют себя очень неплохо. Мои близкие уверены, что по мере приближения к этому возрасту я отодвину желаемое до 80, а потом до 85 и даже до 90 лет.
Я же убежден относительно своей позиции. Вне сомнений, смерть – большая потеря. Она лишает нас опыта, важных вех на жизненном пути и времени, проведенного с супругами и детьми. Иными словами, отбирает у нас все то, что нам ценно.
Но вот простая истина, которую многие, видимо, отвергают: слишком долгая жизнь – тоже потеря. Она обрекает многих из нас если не на инвалидность, то на угасание и упадок сил в преклонном возрасте, что, возможно, и не хуже смерти, но тем не менее тоже весьма разорительно. Она крадет у нас творческие способности и возможность полноценно участвовать в работе, жизни общества и всего мира. Она изменяет наш образ в глазах близких и их отношение к нам, а главное, то, какими они нас запомнят. Мы останемся в их памяти не энергичными и увлеченными, а немощными, неэффективными и даже жалкими».
Квалификация и опыт Эмануэля впечатляют. Он директор Департамента клинической биоэтики Национальных институтов здравоохранения США, а также вице-проректор и заведующий кафедрой медицинской этики и политики здравоохранения Университета Пенсильвании. Эмануэль стал автором известной книги «Перестройка американского здравоохранения: Как Закон о доступном медицинском обслуживании исправит нашу ужасающе сложную, откровенно несправедливую, бессовестно дорогую, грубейше неэффективную и подверженную ошибкам систему» (Reinventing American Health Care: How the Affordable Care Act Will Improve Our Terribly Complex, Blatantly Unjust, Outrageously Expensive, Grossly Inefficient, Error Prone System), в которой ратовал за реформы президента Барака Обамы в области здравоохранения[233].
Познания Эмануэля в области обсуждаемой проблемы явно огромны, поэтому его точка зрения как мнение важного сторонника парадигмы принятия старения заслуживает нашего внимания. Он аргументировал свою точку зрения, приводя в пример собственного отца Бенджамина Эмануэля, также работавшего врачом:
«Это хорошо видно на примере моего отца. Лет десять назад, незадолго до 77-летия, его начали мучить боли в животе. Как любой приличный врач, он отказывался признавать их за нечто серьезное. Но прошло три недели, а улучшений не было, и тогда он поддался на уговоры и отправился к доктору. Как выяснилось, отец перенес сердечный приступ, из-за которого ему пришлось сделать катетеризацию сердца, а впоследствии шунтирование. Он так и не стал прежним.
Когда-то бывший истинным воплощением гиперактивного представителя семьи Эмануэль, отец стал медленнее ходить, говорить и шутить. Сегодня он, будучи в состоянии плавать, читать газеты и подтрунивать над детьми по телефону, по-прежнему живет в собственном доме вместе с моей мамой, однако его жизнь приобрела вялотекущий характер. Сердечный приступ не убил отца, однако сегодня уже никто не станет утверждать, что он живет насыщенной жизнью. Обсуждая это со мной, он сказал: “Я стал чудовищно медлителен. Это факт. Я уже не совершаю обходы в больнице и не преподаю”».
Эмануэль пришел к следующему выводу:
«За последние 50 лет медицина достигла куда больших успехов в деле продления жизни, нежели в борьбе со старением, и тем самым растянула процесс умирания, что очевидно из примера с моим отцом».
Смысл в том, что рост долголетия лишь увеличивает период немощи последних лет. Поясняя свою мысль, Эмануэль ссылался на количественные данные:
«Но похоже на то, что в последние десятилетия увеличение продолжительности жизни сопровождается не сокращением числа болезней, а, наоборот, их ростом. Возьмем для примера результаты, которые были получены Эйлин Кримминс, научным сотрудником университета Южной Калифорнии, когда она вместе с коллегами анализировала материалы общенационального исследования состояния здоровья. Ученые проверяли способность пройти четверть мили, взойти на десять ступенек, простоять или просидеть два часа подряд, а также подняться, наклониться или встать на колени без посторонней помощи. Результаты показали, что с возрастом наблюдается прогрессирующий спад функций организма. Что важнее, было установлено, что в 1998‒2006 гг. среди пожилых людей увеличилось ограничение мобильности. Так, в 1998 г. примерно 28 % американских мужчин в возрасте 80 лет и старше страдали от тех или иных нарушений двигательных функций, а к 2006 г. эта цифра достигла уже 42 %. У женщин результат оказался еще печальнее: ограничения физических возможностей были обнаружены более чем у половины испытуемых старше 80 лет».
Вероятность несчастной старости увеличивалась и при рассмотрении статистики инсультов:
«Возьмем, к примеру, инсульты. Хорошая новость заключается в том, что были достигнуты большие успехи в снижении смертности: в период с 2000 по 2010 гг. число смертей от удара сократилось более чем на 20 %. Плохая же новость состоит в том, что многие из примерно 6,8 млн переживших его американцев мучаются от паралича или неспособности говорить. И многие из примерно 13 млн американцев, переживших “немой” асимптомный инсульт, страдают от более тонких мозговых расстройств: аберраций мыслительных процессов, перепадов настроения и нарушения когнитивных функций. Хуже того, прогнозируется, что в течение ближайших 15 лет количество американцев с нарушениями здоровья, вызванными ударом, увеличится на 50 %».
И, кроме того, стоило учесть проблему слабоумия:
«Проблема покажется еще более серьезной, если коснуться самой ужасной из возможных перспектив – старческого слабоумия или другой приобретаемой с возрастом психической проблемы. Сегодня примерно 5 млн американцев в возрасте от 65 лет и старше страдают болезнью Альцгеймера, а среди тех, кому уже исполнилось 85 лет, недуг поразил каждого третьего. При этом в ближайшие десятилетия эта ситуация может измениться разве что к худшему. Многочисленные недавние испытания препаратов, направленных даже не столько на предотвращение или обращение, а на замедление этого заболевания, провалились с таким оглушительным треском, что ученые склонны пересмотреть парадигму течения болезни, влиявшую на изучение недуга в последние десятилетия. Вместо того чтобы предсказывать исцеление в обозримом будущем, многие предупреждают о лавине слабоумия: число пожилых американцев, страдающих деменцией, к 2050 г. вырастет примерно на 300 %».
Цена старения
Мнение Эмануэля перекликается с точкой зрения, высказанной в 2003 г. Фрэнсисом Фукуямой, американским политологом японского происхождения, профессором Стэнфорда и Университета Джонса Хопкинса, на веб-портале SAGE Crossroads в дискуссии «Перспективы и подводные камни будущих исследований старения» (What are the Possibilities and the Pitfalls in Aging Research in the Future)[234]:
«Продление жизни представляется мне прекрасным примером негативной экстерналии (внешнего фактора) – в том смысле, что на личном уровне оно разумно и желательно, но для общества может иметь вредные последствия.
К 85 годам примерно у половины людей в той или иной форме развивается болезнь Альцгеймера, и причина вспышки подобного заболевания состоит как раз в том, что совокупные усилия биомедицины позволили людям наконец доживать до этого изнуряющего недуга.
У меня имеется личный опыт: последние пару лет жизни моя мать находилась в доме престарелых, и с моральной точки зрения вид попавших в эту передрягу людей весьма удручает. Ведь никто не желает смерти своим близким, но в подобных случаях те просто оказываются в безвыходной ситуации без возможности на нее повлиять».
В 2004 г. американские ученые Берхану Алемайеху и Кеннет Уорнер изучили, в какой пропорции личные затраты на здравоохранение (с учетом инфляции) распределяются по разным возрастным группам, и опубликовали результаты в отчете «Распределение медицинских расходов по всем годам жизни» (The Lifetime Distribution of Health Care Costs)[235]. Был представлен анализ трат примерно 4 млн обладателей медстраховки мичиганского филиала страховой федерации Blue Cross Blue Shield, данных обзора получателей медпомощи для престарелых Medicare[236], группового исследования расходов на медобслуживание, а также базы данных смертности и списков пациентов домов престарелых штата Мичиган. Очевидно, что на человека, дожившего до 85 лет, все еще приходится 35,9 % от стоимости медицинских услуг за всю его жизнь. Для того, кому исполнилось 65 лет, цифра равняется чудовищным 59,6 %.
Увеличение расходов на медицину для пожилых представляется результатом нескольких факторов:
● с возрастом у людей развивается несколько расстройств одновременно, так называемая сопутствующая патология;
● из-за сложного взаимодействия различных проблем со здоровьем пациенты с сопутствующими патологиями и так потребляют значительную часть национальных расходов на здравоохранение;
● даже без сопутствующей патологии пожилой человек медленнее реагирует на стандартные медицинские процедуры, поскольку его организм слабее и менее устойчив;
● медицина может поддерживать жизнь пожилых людей с угасающим здоровьем дольше, чем когда-либо в прошлом, но ценой продления лечебных процедур и, следовательно, их удорожания;
● эти тенденции вписываются в более широкую картину, иногда называемую демографическим кризисом:
● в семьях становится меньше детей;
● пожилые люди живут дольше;
● процент работающих людей относительно тех, кто вышел на пенсию и вызывает расходы на здравоохранение, постоянно снижается;
● если не произойдет существенных изменений, то из-за растущего спроса на медицинские услуги экономикам целых стран грозит банкротство.
Эмануэль не выступал ни за эвтаназию, ни за помощь при суициде, ни за что бы то ни было подобное, более того, он являлся давним противником подобных инициатив. Его идея состояла в другом:
«Когда мне исполнится 75, я полностью изменю отношение к заботе о своем здоровье. Я не буду активно приближать смерть, но и не стану заниматься ее отдалением. В наши дни обычно требуют хорошо обосновать нежелание проходить рекомендованные врачом анализы или лечение, особенно те, что увеличивают срок жизни. И под совокупным влиянием семьи и медицины я почти наверняка последую этим советам. Мое отношение прямо противоположно общепринятому. Я руководствуюсь тем, что на рубеже XIX и XX вв. в своем классическом труде “Принципы и практические рекомендации в области медицины” (The Principles and Practice of Medicine) написал сэр Уильям Ослер: “Пневмонию можно с полным правом назвать подругой стариков: смерть от этой болезни приходит неожиданно, быстро и чаще всего безболезненно, избавляя стареющего человека от ‘постепенного холодного угасания’, приносящего множество страданий и ему, и его близким”.
Моя ослерова философия такова: после 75 мне потребуются серьезные причины (и продление жизни в их число не входит) для визита к врачу, не говоря уже о прохождении того или иного обследования или лечения – сколь угодно рутинного и безболезненного. Я откажусь от регулярных профилактических анализов, скринингов и иных вмешательств. Если у меня появятся боли или иные расстройства, я приму паллиативную, а не терапевтическую помощь.
Это означает, что колоноскопия и иные анализы, нацеленные на раннюю диагностику рака, для меня закончатся еще до наступления 75-летия. Если бы у меня диагностировали рак сегодня, когда мне 57 лет, то при отсутствии однозначно неблагоприятного прогноза я, возможно, и согласился бы на лечение. Но в 65 лет я пройду колоноскопию в последний раз. Никакого скрининга на рак простаты – в любом возрасте. (Когда уролог сделал мне анализ на специфический антиген предстательной железы, несмотря на мои слова о том, что мне это ни к чему, и потом перезвонил с результатами, я просто повесил трубку, не дав ему сказать и слова и заявив, что этот тест он проводил для себя, а не для меня.) Если после 75 лет у меня будет рак, я откажусь от лечения. Точно так же откажусь от тестирования на кардиостресс. Никаких кардиостимуляторов, никаких имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов, никаких замен сердечных клапанов или шунтирования. Если у меня разовьется эмфизема или какое-нибудь подобное заболевание с частыми, обычно приводящими в больницу обострениями, я приму лечение, которое облегчит дискомфорт от удушья, но от госпитализации откажусь.
Что насчет рутинных вещей? Прививки от гриппа – долой. Разумеется, если случится пандемия гриппа, то вакцина или антивирусный препарат должны будут достаться молодым, у которых впереди вся жизнь. Большой вопрос – антибиотики от пневмонии, кожных заболеваний или инфекции мочевых путей. Они дешевы и действенны. От них отказаться трудно, и на самом деле даже те, кто уверен, что им ни к чему продлевающие жизнь препараты, затрудняются это сделать. Но, как напоминает нам Ослер, в отличие от мучительного распада, который несут хронические болезни, смерть от подобных инфекций приходит быстро и сравнительно безболезненно. Стало быть – никаких антибиотиков.
Само собой, я подпишу отказ от реанимации, а также полный набор предварительных медицинских распоряжений – об отказе от ИВЛ, диализа, любых хирургических воздействий, антибиотиков и других лечебных мероприятий. Ничего, кроме паллиативной помощи, даже если я буду оставаться в сознании, но при этом не в здравом уме. Все эти указания я надлежащим образом зафиксировал и подписал. Подытожу: никаких продлевающих жизнь процедур. Умру от того, что заберет меня первым».
Схватка парадигм
Мировоззрение Эмануэля можно охарактеризовать как отважное и самоотверженное. Кроме того, оно совпадает с его парадигмой, объясняющей мир:
● Из-за стареющих людей расходы на медицину растут и становятся все непосильнее для общества.
● Сформировавшиеся уже было надежды на прогресс в излечении заболеваний, подобных деменции, оказались необоснованными.
● Качество жизни пожилых людей, страдающих от продолжительных заболеваний, невысоко.
● Обществу необходима разумная и гуманная стратегия распределения ограниченных ресурсов здравоохранения.
● Лучшие годы, максимальная продуктивность и творческие способности пожилых людей остались далеко в прошлом.
По поводу последнего пункта Эмануэль процитировал знаменитого ученого Альберта Эйнштейна:
«Но правда в том, что к 75 годам большинство людей теряют изобретательность, оригинальность и продуктивность. Известно примечательное высказывание Эйнштейна: “Тому, кто не внес к 30 годам значительного вклада в науку, уже не суждено сделать этого”».
Любопытно, что Эмануэль счел необходимым опровергнуть Эйнштейна, а затем в более мягкой форме перефразировать его мнение:
«[Эйнштейн] был радикален в своих воззрениях. И неправ. Дин Симонтон из Калифорнийского университета в Дэвисе, светило в области исследований возраста и творческих способностей, построил график, демонстрирующий их среднестатистическое соотношение на базе целого ряда исследований. Из него следует, что наши креативные возможности быстро растут в начале карьеры, достигают пика примерно через 20 лет (где-то в районе 40−45 лет) и затем, с возрастом, начинают постепенно приходить в упадок. Эта кривая варьируется от профессии к профессии, но незначительно. Сегодня средний возраст, в котором физики (впоследствии лауреаты Нобелевской премии) делают свое главное открытие, – 48 лет. Теоретики в области химии и физики добиваются значимых результатов несколько раньше, нежели практики. Аналогичным образом, поэты достигают пика раньше прозаиков. Исследование, проведенное Симонтоном среди классических композиторов, показало: типичный представитель этой профессии пишет первую крупную вещь в 26 лет, в 40 достигает наибольшей творческой зрелости и плодовитости, а затем снижает обороты и в 52 года пишет последнее значительное музыкальное произведение».
Однако после этого Эмануэль привел и контрпример:
«Около 10 лет назад я работал с выдающимся специалистом в области экономики здравоохранения, которому вот-вот должно было стукнуть 80 лет. Наше сотрудничество было невероятно плодотворным. Мы опубликовали многочисленные труды, оказавшие влияние на развитие дискуссии вокруг реформы здравоохранения. Мой коллега – блестящий специалист, и он продолжает вносить огромный вклад в общее дело, а ведь в этом году он отпраздновал 90-летний юбилей. Но он исключение из правила, очень редкий человек».
Эмануэль полагал, что крайняя редкость подобных контрпримеров обусловлена сложностью мозга и снижением нейропластичности:
«Кривая творческих способностей в зависимости от возраста, особенно ее спад, имеет картину, общую для всех народов, времен и культур, что свидетельствует о некоем глубинном биологическом детерминизме, связанном, вероятно, с нейропластичностью.
О биологических причинах можно только гадать. Связи между нейронами подвергаются интенсивному естественному отбору. Наиболее используемые укрепляются и остаются, а те, что задействуются редко или никогда, со временем атрофируются и исчезают. Хотя нейропластичность сохраняется на протяжении всей жизни, полностью перепрошить мозг нам не суждено. С возрастом в нас формируется обширнейшая сеть связей, порожденных опытом, мыслями, чувствами, действиями и воспоминаниями. Мы продукт и следствие того, кем успели стать.
Генерация новых творческих мыслей сложна, если не невозможна, поскольку новую сеть нейронных связей, которая превосходила бы существующую, нам не развить. Старикам невероятно трудно изучать новые языки. Любые умственные головоломки – попытка замедлить разрушение имеющихся нейронных связей. Единожды выжав из образовавшейся в начале карьеры нейросети всю возможную креативность, новых связей, что могли бы послужить производству новаторских идей, мы не получим – если, конечно, вы, подобно моему исключительному коллеге, не принадлежите к малому числу древних мыслителей, которые одарены превосходной пластичностью».
Отвечая на вопрос, почему медицина не в состоянии дать большему количеству людей способность к повышенной изобретательности и плодовитости, схожую с той, что была названа «исключением из правил», Эмануэль снова обратился к одному из пунктов своей парадигмы, а именно – к несостоятельности давних надежд на прогресс в излечении таких болезней, как слабоумие.
Сдвиг парадигмы
Неудивительно, что различные положения вышеприведенной парадигмы хорошо сочетаются и усиливают друг друга: на то она и парадигма. Однако снизить затраты на уход за пожилыми людьми можно и иным способом, а именно – с помощью концепций, способных обеспечить омоложение. Если окажется, что разумные и координированные медицинские исследования помогут отсрочить наступление и последствия старения (возможно, даже на неопределенный срок), то польза для общества будет огромной. В сущности, куда большее количество людей:
● перестанут стареть и слабеть;
● не будут подвержены возрастным заболеваниям, включая онкологические и сердечно-сосудистые, вероятность и тяжесть которых возрастает с каждым годом;
● станут меньше пользоваться медицинскими услугами, нацеленными на длительные болезни;
● сохранив энергию и энтузиазм, продолжат быть активной и продуктивной частью рабочей силы планеты.
Таким образом, за счет оздоровления общества и отсрочки старения краткосрочные инвестиции смогут привести к существенным финансовым и общественным выгодам. Это явление известно как «дивиденд долголетия».
Дивиденд долголетия
Это понятие было введено в статье «В поисках дивиденда долголетия» (In Pursuit of the Longevity Dividend), опубликованной в 2006 г. в научном журнале The Scientist четырьмя опытными специалистами в различных областях науки о старении: Джеем Ольшанским, профессором эпидемиологии и биостатистики Университета Иллинойса, Дэниелом Перри, в то время бывшим исполнительным директором Альянса исследований старения в Вашингтоне, Ричардом Миллером, профессором патологии Мичиганского университета, а также Робертом Батлером, президентом и генеральным директором Международного центра долголетия. Статья призывала к безотлагательным мерам[237]:
«Мы предлагаем незамедлительно приложить согласованные усилия и замедлить старение, поскольку это спасет и продлит жизни, оздоровит общество и приведет к изобилию».
Стоит заострить внимание на последнем результате: отсрочка старости привела бы к изобилию. Авторы статьи с оптимизмом отнеслись к научным перспективам борьбы с возрастными изменениями:
«За последние десятилетия биогеронтологи сумели углубиться в причины старости, произвести переворот в наших представлениях о биологических механизмах жизни и смерти, развеять давние заблуждения о старении и его последствиях и впервые научно обосновать возможность продления и улучшения человеческой жизни.
Идея, что гены и (или) поведенческие факторы риска влияют на возрастные заболевания независимо друг от друга, была опровергнута доказательствами того, что генетические и диетические вмешательства способны одновременно замедлять почти все поздние болезни. Данные, взятые из разных источников и имеющие отношения к разнообразным модельным организмам (от простых эукариот до млекопитающих), позволяют предположить: в наших телах могут иметься “переключатели”, влияющие на скорость старения. Они не зафиксированы и поддаются регулировке.
Так или иначе, но вера в непреложный запрограммированный эволюцией процесс возрастных изменений теперь считается ошибочной. За последние десятилетия наши знания о его сути, причинах и сроках настолько расширились, что многие ученые считают это направление исследований способным принести пользу ныне живущим людям, разумеется, при надлежащей поддержке. И действительно, науке о старении по силам то, на что не способны ни препараты, ни хирургия, ни модификация поведения, – продление лет моложавой энергичности и вместе с тем отсрочка всех дорогостоящих, ограничивающих и просто смертельных проявлений преклонного возраста».
Резюмируя вышеизложенное, группа исследователей предвидела многие преимущества, в том числе «колоссальные экономические выгоды»:
«Продление срока здоровой жизни принесет не только очевидную пользу для здоровья, но и колоссальные экономические выгоды. За счет увеличения периода высокой физической и умственной работоспособности люди смогут дольше оставаться в числе работающих, вырастут их личные доходы и сбережения, а сдвиги демографии станут меньше влиять на программы пособий по возрасту. И есть причина полагать, что это приведет к процветанию национальных экономик. Наука о старении способна обеспечить то, что мы обозначаем как “дивиденд долголетия” – комплекс социальных, экономических и медицинских преимуществ, как для отдельных людей, так и для целых популяций, которые начнут проявляться уже в ныне живущих поколениях и продолжаться после них».
Далее авторы перечислили разные способы, с помощью которых продление срока здоровой жизни могло бы привести к обогащению и людей, и целых сообществ:
● здоровые пожилые люди способны сделать больше сбережений и инвестиций, чем больные;
● как правило, здоровые пожилые люди являются более продуктивными членами общества;
● здоровые пожилые люди вызывают бурный подъем так называемых зрелых рынков, включая финансовые услуги, туризм, гостиничный бизнес и передачу материальных благ и доходов из поколения в поколение;
● улучшенное здоровье приведет к уменьшению пропусков учебы или работы и, как следствие, к лучшему образованию и более высоким доходам.
Тем не менее авторы рассмотрели и альтернативный сценарий, при котором исследовательские работы по омолаживающей терапии финансировались бы недостаточно и продвигались крайне медленно. При таком варианте развития событий связанные с возрастом заболевания потребовали бы от общества постоянно возрастающих расходов:
«Представьте, что может случиться, если этого не произойдет. Возьмем, к примеру, эффект только от одного возрастного расстройства – болезни Альцгеймера. Число пораженных ею американцев к середине века увеличится с 4 млн до 16 млн человек исключительно из-за неизбежного демографического сдвига. Это означает, что к 2050 г. в США количество людей с этим заболеванием превысит нынешнее население Нидерландов.
В глобальном масштабе прогнозируется, что к 2050 г. количество больных вырастет до 45 млн человек, причем три четверти составят представители развивающихся стран. В настоящее время экономические потери США от болезни Альцгеймера уже находятся на уровне 80–100 млрд долларов, но к 2050 г. на нее и сопутствующие деменции ежегодно будет тратиться уже 1 трлн долларов. Даже сам по себе этот недуг способен привести к катастрофическим последствиям, а это только один из примеров.
Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и другие сопутствующие преклонному возрасту расстройства являются основной причиной выкачивания из экономики миллиардов долларов на уход за больными. Теперь представьте себе проблемы многих развивающихся стран, где подготовка в области гериатрического здравоохранения незначительна или вовсе отсутствует. Например, к середине века количество пожилых граждан Китая и Индии превысит нынешнее население США. Демографический сдвиг – глобальное явление, явно ведущее в пропасть финансирование здравоохранения».
Иными словами, ученые предвидят тот же финансовый кризис, о котором было рассказано в статье Иезекииля Эмануэля. Однако в то время как последний предлагал (пусть и добровольно) по достижении определенного возраста, скажем 75 лет, отказаться от дорогостоящего лечения, то эти четыре автора сочли, что наука о борьбе со старением способна предоставить куда лучшее решение и без необходимости прекращать медицинскую помощь:
«Нации, возможно, испытывают искушение продолжать борьбу с разными болезнями и ограничениями старости, как если бы те не были связаны между собой. Подобным образом осуществляется большинство современной медицинской практики и исследований. Устройство Национальных институтов здравоохранения США основано на предположении, что конкретные заболевания и расстройства надо лечить по отдельности. Более половины бюджета Национального института по проблемам старения США отведено болезни Альцгеймера. Но глубинные биологические изменения, предрасполагающие человека к смертельным и инвалидизирующим заболеваниям и расстройствам, вызваны процессом старения. Поэтому логично, что вмешательство, способное отодвинуть старость, должно стать одним из главных приоритетов».
Очевидно, что подобные воздействия и составляют предмет данной книги. Мы поддерживаем предположение, что относительно скоро появятся методики лечения, которые позволят откладывать старость бесконечно. Сторонники «дивиденда долголетия» указывают, что даже в случае ограниченного прироста здоровой жизни, скажем всего на семь лет, эффект будет чрезвычайно положительным, как с экономической, так и с гуманистической точки зрения:
«Нам видится реально достижимая цель: умеренное замедление темпов старения, чего будет достаточно, чтобы отодвинуть возрастные заболевания и расстройства примерно лет на семь. Такой срок выбран, потому что риск смерти и других неприятных спутников старения имеет тенденцию возрастать на протяжении взрослой жизни экспоненциально и приблизительно каждые семь лет увеличивается вдвое. Подобная отсрочка принесла бы здоровью и долголетию больше пользы, чем ликвидация онкологических и сердечных заболеваний. И мы считаем, что это достижимо уже при живущих сейчас поколениях.
Если нам удастся замедлить старение на семь лет, то возрастной риск смерти, дряхлости и инвалидности во всех возрастах упадет примерно вдвое. Будущие 50-летние станут иметь профиль здоровья и риск заболеваемости нынешних 43-летних, 60-летние будут напоминать сегодняшних 53-летних, и т. д. Не менее важно и то, что, однажды добившись семилетней отсрочки, мы получим равные преимущества для здоровья и долголетия всех последующих поколений, почти таким же образом, как дети, рожденные сегодня в большинстве стран, выигрывают от открытия и развития иммунизации».
Количественная оценка «дивиденда долголетия»
Против концепции «дивиденда долголетия» обычно выдвигаются три основных аргумента:
1. Абсолютистское положение, что никакое накопление научных данных не способно более продлить здоровое долголетие человека на семь лет. Позиция его сторонников такова, что в настоящее время вне зависимости от уровня вложений невозможно повторить прогресс, подобный прошлому.
2. Подобные исследования будут чрезвычайно дороги, так что возможные экономические выгоды от увеличения продолжительности здоровой жизни нейтрализуются непомерными затратами на их получение.
3. Преимущества «дивиденда долголетия» носят лишь временный характер, поскольку значительные расходы на медицину для пожилых людей только откладываются, а не отменяются.
Мы решительно отвергаем первый аргумент относительно того, что в области здорового долголетия больше не состоится крупных открытий. Напротив, нам осталось лишь выяснить их количество, сроки и объем затрат. Это подводит нас ко второму аргументу. Он заслуживает большего внимания, поэтому мы попытаемся подсчитать цену вопроса.
Цифры можно почерпнуть из статьи «Существенные выгоды для здоровья и экономики от замедления старения могут послужить основанием для нового направления медицинских исследований» (Substantial Health and Economic Returns From Delayed Aging May Warrant a New Focus For Medical Research), написанной американскими учеными Даной Голдман, профессором государственной политики и фармацевтической экономики и директором Центра политики и экономики здравоохранения Шеффера при Университете Южной Калифорнии, и Дэвидом Катлером, профессором экономики Гарвардского университета[238].
Авторы начали с информации, что при сохранении существующего вектора развития систем здравоохранения расходы на программу Medicare в США к 2050 г. вырастут с 3,7 % ВВП страны до гигантской цифры в 7,3 %. Причина этому – факт, что по сравнению с прошлым длительность недееспособного состояния престарелых людей увеличилась:
«Несмотря на то, что борьба с болезнями продлила жизнь людей молодого и среднего возраста, данные свидетельствуют, что по достижении преклонных лет она может не увеличивать средний срок здорового существования: рост долголетия приводит к возрастанию показателей инвалидности, а длительность эффективной активности остается такой же, как раньше, если не становится меньше.
По мере старения вероятность пасть жертвой какой-нибудь отдельно взятой болезни снижается. Вместо этого в организме накапливаются конкурирующие между собой обычно сопутствующие возрастным изменениям смертельные недуги, например, сердечные и онкологические заболевания, инсульт и болезнь Альцгеймера. Эти расстройства повышают риск смерти и становятся причиной старческих дряхлости и недееспособности».
В зависимости от характера медицинского прогресса, ожидающего нас в период 2010–2050 гг., авторы исследуют четыре сценария:
1. «Сценарий “статус-кво”, при котором за указанный период показатели смертности от болезней не изменятся.
2. Сценарий “отсроченного рака”, при котором заболеваемость раком в период с 2010 по 2030 гг. снизится на 25 %, а затем останется неизменной.
3. Сценарий “снижения ССЗ”, при котором заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями в период с 2010 по 2030 гг. снизится на 25 %, а затем останется неизменной.
4. Сценарий “замедления старения”, при котором “смертность от факторов, подобных пожилому возрасту, в отличие от внешних рисков вроде травм или курения ‹…› к 2050 г. снизится на 20 %”».
Четвертый из этих сценариев соответствует идее, которую отстаивает эта книга. Авторы описали его следующим образом:
«Несмотря на то, что при таком сценарии изменятся последствия заболевания, он не вполне подобен тем вариантам, при которых будет проводиться профилактика болезней, потому что затрагивает глубинные основы биологии старения. При нем смертность и вероятность возникновения как хронических расстройств (болезни сердца, рак, инсульт или транзиторная ишемическая атака, диабет, хронический бронхит и эмфизема легких, гипертония), так и немощности и инвалидности, снизятся на 1,25 % за каждый год жизни после 50 лет (возраст, после которого возникает большинство подобных недугов). Это произойдет поэтапно с 2010 по 2030 гг. и, начавшись с нулевого сокращения, к концу этого периода линейно возрастет до 1,25 %».
Остальные сценарии должны привести к увеличению ожидаемой продолжительности жизни: человеку, которому в 2030 г. исполнится 51 год, при «статус-кво» предстоит прожить еще в среднем 35,8 лет, при «отсрочке рака» – 36,9 лет, при «снижении ССЗ» – 36,6 лет и 38 лет при «замедлении старения». Последний вариант заходит дальше остальных, потому что затрагивает все возрастные заболевания, в то время как в двух других люди остаются уязвимыми ко всем болезням, за исключением той, на исцелении которой сосредоточен конкретный вид вмешательства.
Увеличение средней продолжительности жизни незначительно – всего около года в сценариях развития, связанных с конкретными заболеваниями, и 2,2 года при варианте замедленного старения. Но тем поразительнее финансовые последствия торможения болезней. По оценке авторов, с учетом ожидаемых расходов, связанных с государственными программами (такими как здравоохранение для пожилых или обездоленных, страхование по инвалидности, взносы на социальное обеспечение[239] и т. д.), и прироста производительности труда, к 2060 г. хозяйственная выгода от сценария замедления старения составит 7,1 трлн долларов. Тому поспособствуют два обстоятельства:
1. Уменьшится количество пожилых людей с ограниченными возможностями: в США за период 2030‒2060 гг. их ежегодное количество снизится на 5 млн человек.
2. Увеличится количество престарелых, которые не будут являться инвалидами: в США за рассматриваемый период оно снизится до 10 млн человек.
Поскольку отличия, которые были бы достигнуты в двух оставшихся сценариях, намного меньше, то и выгода, извлекаемая из них, гораздо скромнее. Это еще одна причина, по которой приоритет должен быть отдан омоложению, а не продолжению лечения отдельных заболеваний.
В отношении упомянутых цифр неизбежно возникнет много сомнений. Однако даже если бы главная цифра в 7,1 трлн долларов была в корне неверной, преимущества все равно остались бы весьма значительными и, что особенно интересно, появились бы благодаря совсем небольшому – всего на какие-то 2,2 года – увеличению продолжительности жизни. Представьте, насколько огромной могла бы оказаться выгода от большего прироста.
Финансовые преимущества продления жизни
Стоит заметить, что описанная в прошлом разделе экономия зависит от кардинальных изменений правил, определяющих право на получение государственных пенсий и пособий. Как отметили Голдман, Катлер и др.:
«Замедление старения значительно увеличит расходы на выплату пособий, особенно на социальное обеспечение. Однако эти изменения могут быть компенсированы повышением как возраста получения права на Medicare, так и среднего пенсионного возраста».
В отсутствие таких сдвигов рост продолжительности жизни усугубил бы существующие финансовые затруднения. Масштаб последних освещен в докладе Международного валютного фонда от 2012 г., обобщенном для новостного агентства Reuters Стеллой Доусон в статье «МВФ: Затраты на старение растут быстрее, чем ожидалось» (Cost of aging rising faster than expected – IMF)[240]:
«МВФ заявил, что правительственные и пенсионные фонды оказались плохо подготовлены к 50 %-ному росту расходов на старение, обусловленному увеличением срока жизни на три года сверх усредненных ожиданий.
Уход за стареющим поколением беби-бумеров уже начинает давить на государственные бюджеты, особенно в странах с развитой экономикой, в которых к 2050 г. количество пожилых людей сравняется с работающими. Анализ МВФ свидетельствует о глобальном характере проблемы и о том, что долголетие оказалось более рискованным, чем ожидалось.
Если принять в расчет среднюю недооценку продолжительности жизни в прошлом, то при увеличении в 2050 г. срока жизни каждого человека всего на три года обществу потребовались бы дополнительные ресурсы на сумму, приблизительно равную 1–2 % ВВП.
Призвав правительства и частный сектор уже сейчас готовиться к тем рискам, что может повлечь за собой увеличение продолжительности жизни, МВФ заявил, что только в США три дополнительных года добавили бы 9 % к обязательствам по частным пенсионным планам».
Поэтому речь идет об огромных цифрах:
«Чтобы дать представление, во сколько все это может вылиться, МВФ провел подсчеты. Согласно им, если развитые страны решат немедленно восполнить дефицит пенсионных накоплений для трех добавочных лет, на это придется отложить эквивалент 50 % ВВП за 2010 г. Молодым, растущим экономикам потребуется по 25 %.
Дополнительные траты произойдут на фоне ожидаемого к 2050 г. удвоения общих расходов государств на стареющее население, и чем быстрее взяться за эту проблему, тем проще получится справиться с возможными рисками из-за увеличения срока жизни людей, сообщает МВФ».
Однако доклад умалчивал о двух важных факторах, которые стоило бы рассмотреть при любом более или менее дальновидном прогнозе:
1. О способности людей, живущих дольше, не истощать ресурсы, а вносить в экономику больший вклад.
2. О возможности изменить начальный возраст получения пенсионных льгот с тем, чтобы привести его в соответствие с изменениями средней продолжительности жизни.
Похожий аргумент в своей книге «Ликвидация дефицита: Насколько полезно повышение пенсионного возраста?» (Closing the Deficit: How Much Can Later Retirement Help?)[241] приводили экономисты Генри Аарон и Гэри Бёртлесс из Института Брукингса в Вашингтоне. Их выводы в The Los Angeles Times представил Уолтер Гамильтон[242]:
«В книге отмечается, что в течение последних 20 лет люди старше 60 постоянно откладывают выход на пенсию. В период 1991‒2010 гг. уровень занятости увеличился более чем наполовину среди 68-летних мужчин и примерно на две трети среди женщин того же возраста.
Так как люди ‹…› станут работать дольше, это приведет к дополнительным налоговым поступлениям, которые помогут сократить дефицит федерального бюджета и расходы на программу социального обеспечения.
Увеличение объема выполняемой работы способно в следующие 30 лет увеличить государственные доходы на целых 2,1 трлн долларов.
Благодаря отсрочке расходы на социальное обеспечение и программу Medicare могут сократиться более чем на 600 млрд долларов. Общий эффект, включая экономию на процентах от меньшего годового дефицита, способен к 2040 г. сократить разрыв между государственными доходами и расходами более чем на 4 трлн долларов».
Известный американский экономист из Йельского университета Уильям Нордхаус в публикации от 2002 г. «Здоровье наций: Вклад улучшения здоровья в уровень жизни» (The Health of Nations: The Contribution of Improved Health to Living Standards) пришел приблизительно к такому же выводу[243]. Проанализировав причины роста экономических показателей в течение XX в., он заключил, что увеличение средней продолжительности жизни приводит к их повышению «на величину, примерно равную стоимости всех остальных потребительских товаров и услуг, вместе взятых». Чем дольше живет человек, тем дольше он работает, производит и обогащает личным опытом рабочую силу и общество как таковое. Свои тезисы автор резюмировал следующим образом:
«В первом приближении экономическая ценность увеличения продолжительности жизни за последние 100 лет примерно равна общей стоимости установленного роста не связанных со здоровьем товаров и услуг».
В статье «Стоимость здоровья и долголетия» (The Value of Health and Longevity), написанной в 2005 г. двумя авторитетными экономистами из Чикагского университета Кевином Мерфи и Робертом Топелем, представлен еще один расчет исторических выгод от увеличения продолжительности жизни. Он весьма обширен (в работе 60 страниц), а выводы авторов можно прочитать в кратком описании[244]:
«Чтобы оценить улучшение здоровья и средний срок жизни, мы разработали экономическую конструкцию, основанную на платежеспособности, и применили ту к статистике сокращения риска смертности (наблюдавшейся в прошлом и прогнозируемой на будущее), как в целом, так и в отношении конкретных, угрожающих жизни болезней. Мы рассчитали общественную ценность следующих явлений: роста долголетия людей обоих полов в течение XX в., достижений в борьбе с различными патологиями с 1970 г., а также потенциальный прогресс относительно некоторых основных категорий заболеваний. Исторические выгоды от прибавления долголетия оказались огромными. За XX в. прирост средней продолжительности жизни принес в совокупности более чем 1,2 млн долларов на человека, как для мужчин, так и для женщин, а в период 1970–2000 гг. он ежегодно добавлял к национальному богатству около 3,2 трлн долларов. Эта неучтенная сумма равняется приблизительно половине среднегодового ВВП за описанный период. С 1970 г. снижение смертности от одних только сердечно-сосудистых заболеваний повысило стоимость жизни примерно на 1,5 трлн долларов в год».
Мерфи и Топель выразили надежду на грядущее приумножение подобных доходов:
«Возможные прибыли от будущих инноваций в здравоохранении также чрезвычайно велики. Даже скромное снижение смертности от рака на 1 % принесло бы нам примерно 500 млрд долларов».
Тем не менее нерешенными остаются два основных вопроса:
1. Не превысят ли затраты на достижение долголетия экономическую выгоду, составляющую, возможно, триллионы долларов?
2. Не придутся ли дополнительные годы здоровой жизни на период особо дорогостоящего медицинского ухода, так что проблемы будут только отложены, а не решены?
Давайте ответим на них по порядку.
Затраты на разработку омолаживающей терапии
Невозможно точно предугадать стоимость разработки терапевтических методик омоложения, способных продлить среднюю продолжительность здоровой жизни хотя бы на те семь лет, которые предлагались в упомянутой ранее статье Ольшанского и коллег «В поисках дивиденда долголетия». Для достижения даже хоть сколько-нибудь вероятных оценок здесь слишком много неизвестных. Мы пока не знаем, насколько сложным будет разрешение ключевых проблем клеточного и молекулярного уровня для возрастных заболеваний. Но тем не менее можем черпать некоторую уверенность из наблюдения за прошлыми проектами продления здоровой жизни, поскольку те, как правило, с легкостью покрывали расходы. (Для примера вспомним программы вакцинации детей.) Основной принцип – предотвратить дешевле, чем лечить. Американский ученый Брайан Кеннеди, бывший член совета директоров калифорнийского Института исследований старения Бака, утверждал, что «профилактика может быть в 20 раз дешевле лечения»[245].
Мерфи и Топель, чьи исследования упоминались в предыдущем разделе, дали такую общую оценку:
«В 1970‒2000 гг., в то время как увеличение продолжительности жизни принесло 95 трлн долларов дополнительной общественной ценности, капитализированная стоимость медицинских расходов выросла на 34 трлн долларов, что дало 61 трлн долларов чистой прибыли. ‹…› В целом, на рост медицинских расходов пришлось только 36 % стоимости прироста долголетия».
Авторы указали на возможные последствия своего анализа для определения уровня будущих инвестиций в инновации здравоохранения:
«Анализ общественной стоимости улучшений в области здравоохранения – первый шаг к оценке дохода общества от медицинских исследований и инноваций, способствующих оздоровлению.
Улучшение здоровья и долголетия частично определяется запасом медицинских знаний, ключевой вклад в которые вносят фундаментальные медицинские исследования. США ежегодно вкладывают в них более 50 млрд долларов; из этой суммы около 40 % приходят из федерального бюджета, а это 25 % государственных расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В 2003 финансовом году на изыскания в области здравоохранения ушло 27 млрд долларов государственных вложений (большинство пришлось на Национальные институты здравоохранения), что вдвое превысило расходы за 1993 г. Обоснованы ли были эти траты?
Наш анализ показывает, что отдача от фундаментальных исследований может быть достаточно велика, так что существенное увеличение затрат кажется разумным. Для примера возьмем нашу оценку, согласно которой снижение смертности от рака на 1 % приведет к выгоде примерно в 500 млрд долларов. При шансах один к пяти снизить смертность на 1 % и четырем к пяти не добиться ничего расходы в 100 млрд долларов на “войну с раком” (в течение некоторого периода времени) будут уже оправданными».
Важно обратить внимание на вероятностный анализ. Инвестиции могут иметь смысл, даже если шансы на успех относительно малы. Управляющие венчурными фондами хорошо это осознают, поэтому готовы принимать малую вероятность положительного результата до тех пор, пока выгода от успеха (в случае такового) остается достаточно большой. 5 %-ная вероятность возможной многомиллионной капитализации фирмы может означать серьезные капиталовложения в том случае, если, скажем, ее будущая стоимость превысит текущую в 100 и более раз.
Подобные соображения знакомы любому, кто оценивает страховые полисы: разумно полагать, что таковые должны покрывать даже маловероятные катастрофы.
Если незначительные шансы заслуживают интереса благодаря достаточной важности их последствий, то почему бы нам не обратить еще большее внимание на нечто с вероятностью в 50 % и возможными финансовыми выгодами в триллионы долларов? С учетом тех цифр, что предоставляет наиболее удовлетворительный сценарий, даже при самом скромном успехе программы омоложения ситуация будет развиваться именно так.
Дополнительные источники финансирования
Существует, по меньшей мере, пять потенциальных источников финансирования, которые могли бы ускорить разработку методик омоложения и, как следствие, получение «дивиденда долголетия».
Чтобы раскрыть первый из них, давайте рассмотрим, сколько денег сейчас выделяется на борьбу с конкретными болезнями, и сравним эти средства с теми, что приходятся на изучение основополагающих механизмов возрастных изменений. Из почти 30 млрд долларов ежегодного бюджета медицинских исследований, контролируемых Национальными институтами здравоохранения США, на проблемы старения тратится менее 10 %, остальная часть распределяется между лечением отдельных заболеваний[246].
Модель, которая также используется в бюджетах здравоохранения многих других стран, соответствует доминирующей сегодня стратегии, гласящей, что для улучшения здоровья «важнее заниматься болезнями». Однако если бы в течение следующих 10 лет доля исследований возрастных изменений в общем бюджете выросла с 10 %, скажем, до 20 %, то, несмотря на сокращение средств, выделяемых на борьбу со многими заболеваниями, серьезность и распространение тех могли бы существенно снизиться. Это означало бы принятие альтернативной стратегии оздоровления, в первую очередь призывающей заниматься старением, поскольку именно оно увеличивает заболеваемость и вероятность осложнений.
Второй способ ускорить прогресс омоложения – увеличить срок, предоставляемый людям на исследования в области методов лечения старения. Чтобы она стала значительной на совокупном уровне, потребуется лишь небольшая прибавка к рабочему времени отдельных ученых. Если бы всего один из тысячи еженедельно посвящал изысканиям на какие-то четыре часа больше и, следовательно, отдавал на столько же меньше досугу, например, на просмотр развлекательных телепрограмм, то общее количество часов, посвященных борьбе со старостью, могло бы взлететь до небес. При условии, что большая часть этих усилий была бы посвящена обзору чужой деятельности, а доступ участников к экспериментальным материалам и рабочим мощностям – ограничен, то в абсолютном выражении выгода оказалась бы незначительной. Но при должном структурировании процессов «совместного проектирования омоложения», включая образовательные и ориентационные мероприятия, она получилась бы весьма существенной.
Третий потенциальный источник таков. Альтернативой росту временных затрат способно выступить увеличение личных взносов в пользу исследовательских инициатив по омоложению со стороны людей всего мира. Например, вместо того, чтобы жертвовать деньги своей альма-матер или в местный церковный приход, они могли бы (хотя бы частично) перенаправить средства в благотворительные организации по борьбе со старением. Эти инвестиции допустимо рассматривать как своего рода параллельный вклад в пенсионные планы и страхование, поскольку люди тем самым станут уменьшать вероятность возрастных заболеваний у родственников, соседей и прочих близких. Если эта книга поспособствует резкой перемене курса общественного мнения, финансирование такого типа может возрасти, как это произошло с кампаниями, ранее получившими широкое распространение (скажем, розовые ленты для борьбы с раком молочной железы).
Четвертый источник связан как с крупным, так и с малым бизнесом. Благодаря тому, что участие в создании «дивиденда долголетия» способно оказаться финансово выгодным, предприниматели могут принять решение об инвестициях в интересующую нас сферу. В конце концов, если эти методы лечения обогатят общество за счет увеличения продуктивной экономической активности и сокращения длительных перерывов в работе, то предоставляющие их компании должны получить свою долю произведенных материальных благ. Если определить и конкретизировать подобное распределение прибылей, то на помощь была бы брошена куда большая часть ресурсов огромного потенциала делового мира.
Пятый способ относится к государственному финансированию. Вместо перераспределения существующих бюджетов здравоохранения пришла пора заняться его увеличением. Государственный капитал часто способен решать проблемы, которые не по силам частному, он может быть терпеливее к ожидаемой прибыли, поскольку это выгодно не только акционерам или руководителям, а всему обществу. Примеры подобных вложений – как значительное участие США в рамках плана Маршалла (программа помощи в размере в 13 млрд долларов, направленная на восстановление Западной Европы после Второй мировой войны), так и «проект Манхэттен» (проект по разработке ядерного оружия для победы во Второй мировой войне), а также программа «Аполлон» (космическая программа времен холодной войны для отправки первого человека на Луну).
Также подобными примерами можно считать Национальную службу здравоохранения Великобритании или обладающий Большим адронным коллайдером Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН). Последний на протяжении нескольких десятилетий пользуется многомиллиардными европейскими инвестициями, которые были сделаны вовсе не ради краткосрочных экономических выгод. Напротив, политики поддерживали ЦЕРН с целью сбора фундаментальной информации о мире природы и, возможно, будущих экономических выгод, способы получения которых даже трудно предвидеть. По имеющимся данным, только на проект по обнаружению бозона Хиггса уже ушли около 13,25 млрд долларов[247]. Даже интернет появился благодаря тому, что в 1989–1991 гг. в ЦЕРН работал Тим Бернерс-Ли. Однако теперь имеются веские причины для того, чтобы в течение следующих десятилетий приоритет некоторых общественных инициатив, таких как тот же ЦЕРН (можно привести еще несколько примеров), был бы понижен, а государственное субсидирование исследований омоложения – увеличено.
Подытоживая, скажем следующее: существуют несколько возможных источников финансирования, которые – в расчете на хотя бы частичную чрезвычайную экономическую выгоду – могли бы обеспечить значительный вклад в борьбу со старением. Обществу предстоит принять важное решение относительно приоритетного использования этих средств и масштаба их инвестирования.
Исцелить старение будет дешевле, чем многим кажется
Как видим, есть много способов финансирования, как государственных, так и частных, которые зависят от решений правительств и предпринимателей. Но и поддержка граждан должна быть существенной, ведь старение поражает каждого, и забывать о том, что именно оно – основная причина мировой смертности, не стоит.
Мы также упомянули, что вместо причин возрастных изменений общество до сих пор фокусировалось на борьбе с симптомами. Чтобы избежать старости, требуется не столько лечебная, сколько по-настоящему профилактическая медицина. Вместо того, чтобы тратить 7 млрд долларов на лечение болезней, особенно на последних мучительных этапах жизни, эту сумму необходимо вкладывать в предотвращение старения на ранних стадиях.
Если вдуматься, то с точки зрения базового химического состава все мы достаточно просты. Взрослый человек примерно на 60 % состоит из воды (хотя многое зависит от его возраста, пола и жировых отложений). И это не Evian или Perrier, а самая обычная H2O, то есть два атома водорода и один – кислорода. В каких-то органах ее больше, в каких-то меньше: например, установлено, что кости содержат 22 % воды, мышцы и мозг – 75 %, сердце – 79 %, кровь и почки – 83 %, печень – 86 %[248]. С возрастом содержание воды в организме сильно меняется: в детях ее до 75 %, во взрослых – 60 %, в пожилых – 50 %. По данным Nestlé Waters, в теле среднего взрослого человека массой 60 кг присутствуют 42 л воды, распределенных следующим образом[249]:
● 28 л во внутриклеточной жидкости,
● 14 л во внеклеточных жидкостях, из них:
● 10 л в интерстициальной (тканевой) жидкости (в том числе лимфы), которая представляет собой окружающую клетки водную среду;
● 3 л в плазме крови;
● 1 л в трансцеллюлярной жидкости (спинномозговой, внутриглазной, плевральной, синовиальной и органов брюшины).
Помимо воды, которая, кроме кислорода, содержит самый распространенный элемент во Вселенной – водород, в человеческом теле в небольших количествах присутствуют другие химические элементы. Кислород, углерод, водород и азот составляют 99 % от общего количества всех атомов и 96 % массы человека среднего возраста и массой 70 кг, что очевидно из таблицы 5.1[250].
Несмотря на то, что атомов кислорода в нас меньше, чем водорода (тот имеет атомный номер 1, то есть обладает одним протоном), они гораздо тяжелее (имеют восемь протонов и атомный номер 8). Кислород – самый распространенный элемент земной коры – в организме человека присутствует главным образом в качестве составляющей части воды и основного компонента белков, нуклеиновых кислот, углеводов и жиров.
Хотя человеческое тело содержит более 60 химических элементов, большинство из них присутствуют в минимальном количестве. Наш организм не содержит гелия (летучий газ с атомным номером 2, то есть второй элемент после водорода в периодической таблице), но в «следовом количестве» обладает разными другими веществами: от лития (атомный номер 3) до урана (атомный номер 92).
Таблица 5.1
Состав тела человека среднего возраста и массой 70 кг
Подсчитано, что Вселенная примерно на 73 % состоит из атомов водорода и на 25 % из гелия. Оставшиеся 2 % (и даже чуть менее того) представлены прочими более тяжелыми элементами (с атомными номерами от 3 и выше), которые, как считается, произошли от взрывов звезд на заре мироздания. Так что мы – и правда космическая, или «звездная пыль», как в своей знаменитой книге и телевизионном шоу Cosmos рассказывал американский физик Карл Саган[251].
Вкратце: стоит нам научиться восстанавливать материю на атомном и молекулярном уровнях так, как мы начинаем делать это на биологическом, как станет возможной простая и недорогая наладка и обслуживание простых организмов, в том числе и людей. Если считать нанотехнологии видом искусственной биологии, весьма вероятно, что в ближайшие десятилетия мы научимся ремонтировать и сами атомы.
Концепцию атомного и молекулярного производства популяризировал американский инженер Эрик Дрекслер, в 1986 г. опубликовавший книгу «Машины создания: Грядущая эра нанотехнологий» (Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology). Совместно с Марвином Минским, экспертом из Массачусетского технологического института по ИИ, в рамках проекта, ставшего частью его докторской диссертации, он определил основы молекулярной нанотехнологии[252].
В 2013 г. Дрекслер написал книгу «Всеобщее благоденствие»[253], повествующую о том, как впечатляющие достижения в области нанотехнологий позволят нам конструировать, деконструировать и реконструировать материю при очень низких затратах, возможно, всего доллар за килограмм[254]. Иными словами, с помощью передовых нанотехнологий всего через несколько десятилетий живое тело весом 70 кг можно будет починить за 70 долларов или меньше того. Если сложить все химические элементы, из которых состоит человек, будет видно, что в совокупности они стоят менее 100 долларов. И, если нам не потребуется заполнять человеческое тело водой Evian или Perrier, то рыночная цена компонентов окажется весьма низкой. Мы состоим из самых распространенных элементов земной коры. Мы не сделаны из плутония (атомный номер 94) или антиматерии и не инкрустированы золотом и бриллиантами. В дополнение к «следам» прочих элементов, что присутствуют в окружающей среде, воздухе, воде, пище и напитках, мы в основном состоим из воды с небольшим количеством углерода и азота.
Биология и медицина продолжают развиваться семимильными шагами. Знаменитое кровопускание, которое применялось веками, а в некоторых уголках мира – практиковалось до середины XX в., в наши дни считается не чем иным, как варварством. Через несколько лет мы будем так же думать о современных методах лучевой и химиотерапии. Чуть преувеличив, можно сказать, что попытка уничтожить с их помощью злокачественную опухоль подобна стрельбе из пушки по воробьям. Будем надеяться, что скоро и они войдут в число варварских методов.
Чтобы продвинуться в лечении старения, мы должны сфокусироваться на основах. Известный южноафриканский, канадский и американский инженер и изобретатель Илон Маск утверждает, что его успех обусловлен концентрацией не на аналогиях, а на фундаментальных закономерностях. Мысля по аналогии, мы копируем чужие идеи, что приводит исключительно к линейным улучшениям. Но когда мы начинаем раздумывать об основополагающих принципах, можем вообразить и воплотить любые экспоненциальные изменения, вплоть до установленных наукой пределов. В качестве основы мышления Маск приводит пример из физики[255]:
«Думаю, важно рассуждать исходя из базовых принципов, а не по аналогии. И я считаю, что этот физический способ мировоззрения. В противоположность суждению по аналогии он означает примерно следующее: разложить любую вещь до ее простейших составляющих и начать размышлять оттуда. Большую часть жизни мы раздумываем по аналогии, что, по существу, с небольшими вариациями является подражанием выводам, сделанным другим людям».
В продолжение Маск приводит пример батарей для электромобилей и поясняет, что, если задуматься о фундаментальных принципах, их стоимость должна быстро снизиться:
«Могут сказать: “аккумуляторные батареи очень дорогие и всегда будут такими. ‹…› Как показывает опыт, батареи стоят 600 долларов за киловатт-час. И в будущем лучше не станет”.
Метод первых принципов призывает спросить: “Из чего состоят батареи? Какова оптовая рыночная цена материалов?”
В них есть кобальт, никель, алюминий, углерод, какие-то полимеры для изоляции и герметичный контейнер. Разложив на материалы, зададимся вопросом: “Что, если все это мы по отдельности купим на Лондонской бирже металлов?”
Оказывается, материалы обойдутся около 80 долларов за киловатт-час. Очевидно, нужно просто найти разумный способ приобрести все это и собрать в батарею. Так мы получим гораздо, гораздо более дешевые элементы питания, чем кому-либо представлялось возможным».
Этот способ мышления позволил Маску революционизировать платежную отрасль посредством системы PayPal, солнечную энергетику – благодаря компании SolarCity, электромобильную индустрию – за счет Tesla Motors, космическую – со Space X, транспортную – с Hyperloop и строительство туннелей – с The Boring Company. Не остановившись на этом, в настоящее время он работает над переворотом в области интерфейса мозг – компьютер, который надеется совершить при помощи Neuralink, и популяризацией дружественного ИИ путем новой инициативы OpenAI (новая открытая платформа ИИ)[256].
Если мы сосредоточимся на краеугольных принципах, то увидим, что человеческий организм не настолько и сложен и поддается восстановлению при помощи новых методов, например нанотехнологий. К тому же он не настолько и дорог, а ремонт недорогой вещи, если знать, как подступиться, тоже не сильно затратен. В будущем нет места ни кровопусканию, ни химио– или лучевой терапии. Также мы знаем, что в природе существуют не подверженные возрастным изменениям клетки и организмы. И это доказывает концепцию возможности нестарения. Теперь нам следует, обратившись к методу первых принципов, понять и воспроизвести этот процесс.
По словам Рэя Курцвейла, все технологии сначала дороги и плохи, но по мере распространения улучшаются и дешевеют. У нас перед глазами пример сотовых телефонов. Первые модели – они были огромными, работали плохо, умели только совершать и принимать звонки, к тому же их батареи быстро разряжались – стоили тысячи долларов. Сегодня, за счет генерализации (обобщения) технологий, мобильные телефоны стали куда качественнее и дешевле. Сотовые были переименованы в смартфоны, что стало возможным благодаря бесчисленному множеству задач, которые осуществимы с помощью все продолжающего расти количества все улучшающихся приложений. Позволить себе мобильник способен каждый.
В области биотехнологий еще больше впечатляет первое секвенирование генома человека, начавшееся в 1990 г. и закончившееся в 2003 г. Оно заняло 13 лет и обошлось примерно в 3 млрд долларов. В 2018 г. полный генетический скрининг делался менее чем за день и стоил не более 1000 долларов. Весьма вероятно, что через какие-нибудь 10 лет он станет выполняться за минуту, причем при помощи подключаемых к смартфону устройств, и оцениваться всего в 10 долларов.
Другой пример – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Атакующий непосредственно иммунную систему инфицированного человека, он когда-то считался «смертным приговором», и на его идентификацию были потрачены годы. Однако, как подчеркивал Курцвейл, благодаря ускорению технологических изменений далее будет происходить следующее[257]:
«Темп перемен экспоненциален, а не линеен. Так что через 50 лет все будет совсем иначе. Это просто феноменально: нам потребовалось 15 лет, чтобы секвенировать ВИЧ, а на атипичную пневмонию ушел всего 31 день.
Каждый год компьютеры при сохранении стоимости в два раза наращивают мощность. Через 25 лет они станут в миллиард раз мощнее. Одновременно с этим каждое десятилетие размеры любой аппаратуры, электронной и механической, уменьшаются в 100 раз, то есть за 25 лет таковая станет меньше в 100 000 раз».
На идентификацию, секвенирование и разработку первых методик лечения ВИЧ ушли годы. Первые средства ежегодно обходились в миллионы долларов, но, быстро получив широкое распространение, подешевели сначала до тысяч, а затем и до сотен долларов. В таких странах, как, например, Индия, по цене всего в несколько десятков долларов продаются типовые лекарства от ВИЧ (дженерики). Через несколько лет они, возможно, будут исцелять наверняка и стоить при этом всего несколько долларов. Другими словами, заболевание перешло в разряд хронических и контролируемых, примерно как диабет.
К тому же самому следует стремиться и со старением: придать таковому характер контролируемого хронического заболевания и окончательно вылечить. Благодаря экспоненциальному прогрессу второй цели (исцеления), возможно, получится достичь даже раньше, чем первой.
Очень важно начинать испытания на людях с тех методик омоложения, которые уже доказали свою эффективность на животных. Это одна из целей нового «Проекта 21» Исследовательского фонда SENS[258].
Чтобы вылечить старение, нужно сосредоточить инвестиции на его причинах и, таким образом, избежать расходов на симптомы. В одном из интервью Обри ди Грей отметил, что 90 % смертей и, по меньшей мере, 80 % медицинских расходов в Соединенных Штатах имеют отношение к старению. При этом ресурсов – государственных или частных – на таковое выделяется незначительно, а усилий, которые предпринимают такие фонды, как SENS, явно недостаточно. В качестве примера сравним следующие цифры (в млн долларов)[259]:
● бюджет Национальных институтов здоровья: ~30 000;
● бюджет Национального института по проблемам старения: ~1000;
● бюджет Отдела биологии старения: ~150;
● затраты на прикладные исследования (максимум): ~10;
● бюджет Исследовательского фонда SENS: ~5.
И еще раз вспомним, что глобальные медицинские расходы, которые ежегодно составляют около 7 трлн долларов, все время растут. К сожалению, они почти полностью уходят на последние годы жизни людей, причем без особого успеха: пациенты все равно умирают и зачастую мучительно. Мы должны переосмыслить всю систему здравоохранения, чтобы вкладывать в начале, а не тратить в конце. Как говорится, «болезнь лучше предотвратить, чем лечить».
Чтобы начать двигаться в правильном направлении, нам, среди прочего, нужно изменить собственное мировоззрение: принять смерть как страшного и величайшего врага человечества, но такого, которого нам по силам победить. Отбросив страх и действуя умом и сердцем, мы придем к тому, что смерть должна будет умереть.
Глава 6
Ужас перед смертью
Человек смерти боится, потому что жизнь любит.
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ, 1880 Г.
Все великие истины начинались как кощунства.
БЕРНАРД ШОУ, 1919 Г.
В загробную жизнь я не верю, хоть и держу наготове смену белья.
Я не то чтобы боюсь умереть, просто не хочу при этом присутствовать.
ВУДИ АЛЛЕН, 1971–1975 ГГ.
Технологии ускоряются, вследствие чего реювенирование[260] уже готово устремиться вперед семимильными шагами. После промышленной революции усовершенствования в обществе накатывают волна за волной: растет экономика, улучшается качество образования, повышается мобильность, становится эффективнее здравоохранение. Наши возможности существенно расширяются. И этому суждено продолжаться, а темпам изменений – ускоряться. Сегодня все больше людей оказываются готовыми и способными к исследованиям и разработке в разнообразных комбинированных технических отраслях в рамках всеохватывающей глобальной сети:
● высшее и специальное образование получают больше инженеров, ученых, дизайнеров, аналитиков, предпринимателей и прочих активистов перемен, чем когда-либо прежде;
● благодаря доступности высококачественных учебных онлайн-материалов (часто бесплатных) начинающие специалисты стартуют с более высокой отправной точки, чем большинство их предшественников всего несколько лет назад;
● у специалистов, находящихся на продвинутых ступенях карьеры, имеется возможность уйти в новую многообещающую профессиональную область – для начала, возможно, в ознакомительных целях. По большей части это относится к тому, кто обладает полезными навыками, однако был вынужден оставить работу или сокращен;
● благодаря взаимодействию научных работников через бесчисленные каналы онлайн-коммуникации, вики-сайты, базы данных, связи с ИИ и т. п. ведущие специалисты могут оперативнее получать информацию о перспективных направлениях исследований в других частях мира;
● растущая доступность бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом способствует дальнейшему широкому вовлечению участников в процесс.
Таким образом, в наши дни между собой скоординировано гораздо большее количество намного лучше образованных людей, которые сотрудничают и, обмениваясь мнениями, руководствуются ими в работе. Данное преимущество сетевого общения приводит авторов к выводу, что при прочих равных условиях общий темп совершенствования технологий, вероятно, продолжит расти. В ближайшие десятилетия он, скорее всего, будет сопоставим с ураганной скоростью недавних достижений в областях информационных технологий, смартфонов, 3D-печати, генной инженерии, сканирования мозга и т. д., и даже, возможно, превзойдет ее. Крайне важно, что эта модель применима и к медицинским инновациям и особенно к реювенированию.
Конечно же, существует масса серьезных препятствий, способных помешать возможному прогрессу здравоохранения, в том числе регулятивные препоны и другие виды системной инерции и осложнений. Тем не менее есть ранее беспрецедентное количество хорошо образованных, способных специалистов, которые уже занимаются поиском возможных решений и путей в обход преград. В духе «разделяй и властвуй» они работают над улучшением инструментария, библиотеками, тестовыми модулями, методиками, альтернативными путями регуляции, ИИ-анализом больших медицинских данных и многим, многим другим. Они открыты творческому сотрудничеству, а потому, достигнув хороших результатов, способны объединить усилия с более крупными компаниями, чтобы развивать свои идеи дальше.
Признаки прогресса в реювенировании можно увидеть повсюду. И назвать эту область «шарлатанской медициной» или торговлей «фуфломицином», как ранее поступали некоторые критики, уже нельзя. Дальнейшего развития ожидает множество интересных направлений научно-исследовательской работы. Некоторые могут не принести результатов, но нет никаких оснований предполагать, что бесплодной окажется вся отрасль целиком.
Более того, для продолжения работы есть серьезные экономические основания. При сохранении существующих тенденций вклад будущих потребителей реювенирования в экономику и совокупный мировой капитал должны увеличиться, и обществу следует ускорить инвестиции в эту технологию, так как финансово это крайне выгодно.
Если для осуществления какого-нибудь проекта имеются веские экономические причины, то мир, казалось бы, должен согласиться попробовать. Но вместо этого на самых разных уровнях общество выдвигает целый ряд возражений. Пришло время разобраться в их причинах.
Разновидности возражений
Против проекта реювенирования у людей часто возникает множество возражений. Наиболее часто упоминаются такие:
● Как реювенирование предполагает бороться с неизлечимыми заболеваниями?
● Разве законы физики, а конкретно существование энтропии, не делают реювенирование невозможным?
● Не является ли программа реювенирования по своей сути настолько сложной, что потребует многовековой работы?
● Разве не существует естественных ограничений срока жизни людей?
● Не приведет ли реювенирование к катастрофическому демографическому взрыву?
● Не станут ли долгожители тормозить необходимые обществу перемены?
● Какова будет мотивация людей при отсутствии старения и смерти?
● Не получат ли богатые непропорционально большую выгоду от реювенирования?
● Не эгоистично ли заниматься реювенированием?
И на каждый из вопросов у реювенеров[261] имеется адекватный ответ. Тем не менее, чтобы переубедить критиков и скептиков, тех, как очевидно, недостаточно. Суть проблемы гораздо глубже.
Чтобы понять, что происходит, мы должны различать глубинную мотивацию и подкрепляющее обоснование. В книге социального психолога Джонатана Хайдта «Стакан всегда наполовину полон»[262] приводилась яркая метафора, сравнивающая сознательный разум с погонщиком на спине могучего слона – подсознанием. Эту аналогию автор развил в первой главе[263]:
«Почему люди делают ‹…› глупости? Почему не могут управлять собой и продолжают совершать заведомо вредные для себя поступки? Моей силы воли, например, хватает, чтобы с легкостью игнорировать десертное меню. Но, если сладкое будет поставлено на стол, я не смогу устоять. Я решаю сосредоточиться на какой-то задаче и не вставать, пока та не будет выполнена, но внезапно обнаруживаю себя идущим на кухню или каким-либо другим образом предающимся прокрастинации. Могу велеть себе проснуться в 6 утра, чтобы написать нечто важное, но выключаю будильник и полностью пренебрегаю любым побуждением встать с постели…
Степень своего бессилия я в полной мере осознал, когда принимал некоторые жизненно важные решения относительно свиданий и личной жизни. Точно зная, что мне следует сделать, и даже рассказывая о своих намерениях друзьям, в глубине души я понимал, что так и не соберусь. Чувство вины, вожделения или страха часто оказывалось сильнее здравого смысла…
Современные теории рационального выбора и обработки информации неполно объясняют недостаток воли. Тут замечательно подходят древние метафоры об управлении животными. Когда я удивлялся собственной слабости, мне в голову пришел образ погонщика, сидящего на спине у слона. Держа в руках поводья, я мог с их помощью дернуть в ту или другую сторону, тем самым повелев животному повернуть, остановиться или пойти. Направлял его, но только до тех пор, пока у него не появлялось собственных желаний: тогда с ним было уже не совладать».
Наездник может полагать, что контролирует ситуацию, но у слона по любому поводу, особенно в вопросах вкуса и морали, имеются собственные устоявшиеся предпочтения. В таких случаях сознание выступает скорее юристом, чем погонщиком. Как далее писал Хайдт:
«Моральное суждение происходит подобно эстетическому. Человек обычно сразу осознает, нравится ли ему увиденная живопись или нет. Однако если кто-то просит объяснить его мнение, он путается, всерьез не представляя ни истоки, ни собственные критерии оценки. Внутренний интерпретатор (всадник) искусен в изобретении поводов. ‹…› Люди ищут правдоподобные причины своей любви к картине и цепляются за первую осмысленную мотивацию (допустим, что-нибудь неопределенное относительно цвета, света или отражения художника в блестящем клоунском носу).
Моральные аргументы во многом такие же. Допустим, он и она возмущены каким-то вопросом, и у каждого по этому поводу имеется сложившееся мнение. В первую очередь спорщиками движут эмоции, и потому они на лету перебрасываются произвольными доводами. Если опровергнуть ее аргументы, изменит ли она свое мнение, согласится ли с ним? Конечно, нет, ведь ее точка зрения была основана вовсе не на этом аргументе: он появился уже после того, как сформировалось суждение о предмете.
Если внимательно прислушаться к моральным аргументам, порой можно понять нечто удивительное: на самом деле поводья держит слон, и именно он направляет седока, решая, что хорошо, а что плохо, что красиво, а что некрасиво. Чутье, интуиция и внезапные суждения случаются постоянно и автоматически, ‹…› но только погонщик способен связать слова в предложения и, сформулировав доводы, сообщить их другим. В нравственных рассуждениях наездник выходит за рамки просто советника, он становится адвокатом на суде общественного мнения и защищает перед людьми точку зрения слона».
В своей следующей книге «Праведный разум» (The Righteous Mind) Хайдт, развивая эту метафору, назвал краеугольный принцип психологии морали: интуиция стоит на первом месте, а стратегическое мышление на втором[264]:
«Внутренняя нравственная оценка возникает машинально и почти мгновенно, задолго до последующих размышлений, которые обычно определяются именно этими первыми наитиями. Если думаете, что моральные рассуждения необходимы ради выяснения истины, вы будете постоянно разочаровываться глупостью, предвзятостью и нелогичностью тех, кто с вами не согласен. Но если сочтете нравственное оправдание навыком, развившимся у людей для продвижения своих социальных интересов (а именно, обоснования собственных действий и защиты сообществ, членами которых они являются), тогда все окажется гораздо осмысленнее. Следите за интуицией и не принимайте людские резонерства за чистую монету: это в основном апостериорные конструкции, созданные на лету и предназначенные для достижения одной или нескольких стратегических целей.
Центральная метафора… состоит в том, что ум как бы делится на слона и всадника, и задача погонщика – служить своему животному. Всадник – это логика нашего сознания, поток слов и образов, которым охвачена сцена нашего разума. Слон представляет собой остальные 99 % мыслительного процесса – тех, что происходят неосознанно, но на самом деле управляют большей частью нашего поведения».
Главная задача, стоящая перед проектом реювенирования, состоит вовсе не в том, чтобы разобраться с подкрепляющими обоснованиями несогласных критиков. В действительности в изменении нуждается нечто иное, а именно движущая ими (часто бессознательно) глубинная мотивация. Не нужно спорить с всадником. Необходимо найти способы привлечь к общению слона.
Управление страхом
Ощущение животными ужаса – неоспоримый фундаментальный факт. Перед лицом конкретной осязаемой угрозы смерти метаболизм зверя как бы переключается на другую передачу. Железы начинают вырабатывать гормоны адреналин и кортизол, которые ускоряют сердцебиение, расширяют зрачки для получения более полной информации о надвигающейся опасности и увеличивают приток крови к мышцам и легким для подготовки к интенсивному действию. Животное готовится к бою либо бегству. Чтобы направить максимум энергии на срочное самосохранение, организм тормозит все не относящиеся к тому процессы, включая пищеварение. Периферическое зрение ухудшается – так организм лучше сосредотачивается на непосредственной угрозе. Снижается слух.
В случаях неминуемой смертельной опасности состояние ужаса служит важнейшей цели – выживанию. Однако его постоянное применение не предусмотрено. Даже наоборот: в состоянии паники внимание ограничено, кругозор сужен, пищеварение страдает, а тело может быть охвачено конвульсиями и дрожью. Бесконтрольное высвобождение содержимого мочевого пузыря и прямой кишки может иметь преимущество, предоставляя, допустим, возможность отвратить и оттолкнуть потенциальных нападающих, но в любое другое время отнюдь не благоприятствует здоровой социальной жизни.
Способность человека осознавать смерть заранее (то есть при отсутствии непосредственной опасности) затрудняет управление той частью нашего существа, что отвечает за страх. Если мысли о гибели становятся всепоглощающими, нормальное мышление уже невозможно. Хуже того, имеется еще один аспект психики животных. Страх заразителен, и когда какая-то особь замечает поблизости хищника, быстро и решительно способна отреагировать вся группа. Точно таким же образом, стоит в панику впасть всего одному человеку, как его настроение, даже притом, что на это нет никаких объективных причин, быстро передается другим.
Поэтому важнейшая задача для человеческого сообщества – управление страхом. Так было и в доисторические времена, когда люди только-только начинали приобретать способности к самосознанию, планированию и интроспективной рефлексии. Наблюдая за растущей немощью тех, кто в молодости слыл удивительно сильным и здоровым, первобытные люди, были, очевидно, сражены мыслью, что подобное ожидало и их самих, и всех тех, кого они любили и лелеяли. Иными словами, из состояния, необходимого для выживания в соответствующих обстоятельствах, ужас перед смертью превратился в нечто способное возникнуть в любой момент без какой-либо внешней угрозы и парализовать сознание паникой.
Более того, при прочих равных условиях сознательное ожидание смерти от таких опасностей, как хищники или конкурирующие группы людей, может сформировать тенденцию к уклонению от риска. Стратегия, понижающая вероятность сиюминутных краткосрочных угроз (к примеру, спрятаться в глубине пещеры) вполне способна оказаться далеко не лучшей для долгосрочного успеха всего коллектива. И потому мы можем обоснованно предположить: чтобы управлять страхом перед возможной гибелью, который в противном случае вывел бы из строя весь коллектив, в успешно выживших группах людей, как правило, были разработаны всевозможные социальные и психологические инструменты, отвлекающие от ужаса неминуемой кончины. К таковым принадлежат мифология, племенной строй, религия, экстатические трансы и видимость контакта с духами. В более поздние времена к ним прибавились культурные нравы и модели мышления, которые сулили различные способы превзойти смертность физического тела через наследие или выживание рода. Такие умозрительные конструкции неразрывно связаны с элементами нашей социальной философии, а именно – с представлениями о том, кто мы такие, каким образом вписываемся в общество, а то, в свою очередь, – в мироздание в целом.
Как видим, социальная философия обеспечивает нам необходимую психическую устойчивость перед затаенным экзистенциальным страхом смерти. Но это означает, что все, что противоречит ей или выявляет в ней огрехи, представляет собой опасность для душевного благополучия, почуяв которую наш внутренний слон может взбеситься и вынудить нас к совершению всевозможных нелогичных поступков, которые незамедлительно рационализирует наш внутренний адвокат-наездник.
Вышеизложенное описывает теорию, которая была изложена философом Эрнестом Беккером в книге «Отрицание смерти» (The Denial of death), получившей в 1973 г. Пулитцеровскую премию[265].
За пределами отрицания смерти
В начале книги Беккер писал о следующем:
«Как сказал доктор Джонсон, вероятность смерти отлично способствует сосредоточению ума, но мы добавим, что не только этому. Мысли о гибели и страх перед ней преследуют человеческое животное больше, чем что-либо другое, и являются основой его деятельности, во многом направленной на то, чтобы избежать и преодолеть неминуемый летальный исход и каким-либо образом забыть, что он являет собой завершение судьбы любого из нас».
Пишущий редактор журнала Psychology Today Сэм Кин составил к этой книге предисловие, в котором назвал философию Беккера «вервием о четырех нитях»:
● мир ужасен;
● основная мотивация человеческого поведения – биологически обусловленная необходимость управлять нашей главной тревогой и отрицать страх смерти;
● ужас перед смертью ошеломляет, поэтому все мы договорились скрывать его в подсознании;
● направленные на уничтожение зла героические проекты парадоксальным образом привносят его в еще больших количествах.
Тезис Беккера сокрушителен, он является одной из тех редких идей, согласно которым историей движут силы, часто не признаваемые широкими массами:
● Галилей утверждал, что Земля – не центр Вселенной, а просто одна из малых планет;
● Дарвин показал, что люди происходят не от богов, а от других низших приматов;
● Маркс подчеркнул роль классового конфликта и социального отчуждения;
● Фрейд сделал упор на подавленной сексуальности;
● Беккер выявил наше стремление отрицать реальность смерти.
Как и все крупные теории такого рода, у тезиса Беккера есть критики, которые задаются вопросом: «Где же доказательства?» К сожалению, автор не смог им ответить, так как умер от рака толстой кишки еще до публикации «Отрицания смерти». В свое предисловие Сэм Кин включил щемящий рассказ о встрече с Беккером, в то время уже находившимся при смерти:
«Когда я вошел в больничную палату Беккера, он начал беседу так: “Вы застали меня на последнем издыхании. Все, что я написал о смерти, ныне подвергается испытанию, и у меня есть шанс показать, как стоит умирать и какой проявлять характер. Делать ли это достойно и мужественно, какими мыслями себя занимать, как принять свою кончину…”
Мы с Эрнестом, хотя и не были знакомы ранее, немедленно погрузились в глубокий разговор. Близость конца Беккера и строгие пределы оставшихся у него сил отмели любую потребность в болтовне. Мы говорили о смерти перед лицом смерти и о зле в присутствии рака. Под конец Беккер обессилел, и наше время закончилось. На несколько минут возникла неловкая пауза, и трудно было попрощаться в последний раз: ведь мы оба знали, что он не доживет до публикации нашей беседы. К счастью, лечебный херес, которым был наполнен стоявший на тумбочке бумажный стакан, даровал нам ритуал завершения. Мы выпили вина, и я ушел».
Другие исследователи дополнили теорию Беккера рядом практических доказательств из области, которую иногда называют экспериментальной экзистенциальной психологией. Новые труды были обобщены в 2015 г. социальными психологами Джеффом Гринбергом, Томом Пыщинским и Шелдоном Соломоном в книге «Червь в сердцевине» (The Worm at the Core)[266].
Фраза, использованная для названия, была взята из отрывка сочинения 1902 г. «Многообразие религиозного опыта» (The varieties of religious experience: a study in human nature) философа Уильяма Джеймса[267]. С одобрением процитировав таковое, авторы заметили[268]:
«В настоящее время имеются веские доказательства того, что смерть действительно является червем в сердцевине человеческого существования, как 100 лет назад предполагал Уильям Джеймс. Идея о неизбежной смертности людей оказывает глубокое и всепроникающее влияние на наши мысли, чувства и поведение почти во всех сферах жизни, независимо от того, осознаем мы это или нет.
На протяжении всей истории человечества именно страх смерти побуждал к развитию искусство, религию, язык, экономику и науку. Это он воздвиг пирамиды в Египте и разрушил башни-близнецы на Манхэттене. Это он как способствовал, так и продолжает способствовать возникновению конфликтов по всему миру. В частной жизни осознание собственной бренности выливается в любовь к модным автомобилям, загар до нездоровой корочки, превышение лимита кредитных карт, вождение с бешеной скоростью, зуд к драке с предполагаемым врагом и жажду сколь угодно эфемерной славы, даже если для нее придется пить мочу яка на телешоу “Последний герой”».
Теория управления страхом смерти
Гринберг, Пыщинский и Соломон разработали теорию управления страхом смерти (англ. – Terror Management Theory, сокращенно TMT), которая развивала идеи Эрнеста Беккера. На сайте Фонда Эрнеста Беккера приводится ее описание[269]:
«ТМТ постулирует, что людей, пусть они, как и все остальные живые существа, ради размножения биологически предрасположены к самосохранению, отличает способность к символическому мышлению. Оно питает самосознание и способность раздумывать о прошлом и прикидывать на будущее, из-за чего рождается понимание неизбежности смерти, которая может наступить в любой момент по непредвиденным и неконтролируемым причинам.
Осознание собственной смертности пробуждает изнуряющий ужас. С ним могут “управиться” культурные воззрения – сконструированные, развитые и поддерживаемые человеком представления о реальности; они умаляют экзистенциальный страх и придают существованию смысл и ценность.
Любая культура наполняет жизнь осмысленностью, предлагая объяснение происхождения Вселенной и предписания для надлежащего поведения. Тем, кто следует этим нормам, она гарантирует бессмертие – буквальное и символическое. Первое обеспечивается душой, небесами, загробной жизнью и реинкарнацией, так или иначе присутствующими во всех основных религиях, а второе достигается причастностью к великой нации, накоплением огромных состояний и заслуживающих внимания достижений, рождением детей.
Для спокойствия души также важно, чтобы человек воспринимал себя как обладающего ценностью в смысловом мире, для чего есть социальные роли с соответствующими стандартами; когда человек выполняет или превышает их, у него возникает чувство личной значимости – самоуважение».
Еще на сайте кратко излагаются три линии фактических доказательств, подтверждающих ТМТ:
1. Способность самоуважения гасить тревожность установлена исследованиями, в ходе которых мгновенное повышение самооценки приводило к снижению чувства тревоги и физиологического возбуждения.
2. Более явственная демонстрация картины смерти (путем просьбы представить свой последний час, просмотра графических изображений смерти, проведения опроса у похоронного бюро или воздействия на подсознание словами «мертвый» или «смерть») усиливает стремление к защите своих культурных ценностей, усиливая положительную реакцию на подобных себе и отрицательную на тех, кто отличается.
3. Экспериментально подтверждена экзистенциальная функция культурных воззрений и самоуважения, а именно – доказано, что неосознанные мысли о смерти появляются у человека скорее, если угрозе была подвержена его самооценка или заветные верования.
ТМТ породила массу практических исследований – в настоящее время более 500 работ. Они изучают множество других форм социального поведения, включая агрессию, стереотипы, потребности в структуре и значении, депрессию и психопатологию, политические предпочтения, творчество, сексуальность, романтические и межличностные привязанности, самосознание, бессознательное восприятие, мученичество, религию, групповую идентификацию, отвращение, отношения человека и природы, физическое здоровье, склонность к принятию риска и судебные решения.
Короче говоря, возражения против идеи продления здоровой жизни обусловлены глубинными причинами. Люди могут рассудочно обосновывать свое несогласие (например, «как же человечество справится с десятками миллионов крайне раздражительных дряхлых стариков»), но их позиция проистекает вовсе не из подобных объяснений.
Напротив, противодействие увеличению долголетия исходит из того, что можно назвать верой. Том Пыщинский объяснил подобное отношение в своем выступлении под названием «Понимание парадокса противостояния долгосрочному продлению человеческой жизни: страх смерти, культурные воззрения и иллюзия объективности» (Understanding the paradox of opposition to long-term extension of the human lifespan: fear of death, cultural worldviews, and the illusion of objectivity)[270], состоявшемся на конференции SENS6.
Парадокс противодействия продлению жизни
Парадокс, который Пыщинский упоминал в названии своей речи, таков: никто не хочет умирать, но многие возражают против обращения старения вспять и значительного увеличения человеческой жизни. Он объяснил, что это действие укоренившейся в нас «системы амортизации беспокойства» – смеси культуры и философии, которая заставляет людей выступать против самой мысли о том, что жить можно дольше. Изначально гасящая тревожность конструкция являлась реакцией адаптации на ошеломляющий фундаментальный факт, что неограниченное здоровое долголетие, к которому нас влечет всем существом, невозможно.
Издревле и вплоть до настоящего времени стремление к бесконечно долгой здоровой жизни разительно расходилось с реальностью. Смерть казалась неизбежной. Чтобы не впадать в ужас от одного только осознания данного факта, потребовалось разработать способы его разумного объяснения и методы, которые не позволяли бы нам контрпродуктивно мыслить о собственной бренности. Так появились ключевые аспекты нашей культуры, так из-за них была создана и стала поддерживаться наша сложная система амортизации беспокойства, таким образом все это укоренилось в нашей цивилизации.
Культура часто воздействует на уровень ниже сознательного восприятия. Оказывается, что нами движут различные глубинные убеждения, причин и следствий которых мы не осознаем. Тем не менее мы находим утешение в этих представлениях, особенно если их разделяют «нам подобные». Эта вера (убеждение без достаточного на то основания) готовит нас к будущей дряхлости и смерти и в то же время помогает нам сохранять психическое здоровье и поддерживает работоспособность общества.
Для ясности заметим, что вышеописанная, присущая парадигме принятия старения, вера может включать или не включать (в каждом конкретном случае) уверенность в сверхъестественной «загробной жизни», подобную той, что описана многими религиями. Но это убеждение всегда содержит представление о том, что в должное время добропорядочный член социума обязан принять свою смерть, и если игнорировать этот принцип, нарушится функционирование всего общества, а основной смысл человеческой жизни связан с долгосрочным процветанием его группы или традиции.
Если какие-либо новые предположения опровергают эту веру, ее адепты, даже не тратя времени на обдумывание, часто вынуждены набрасываться на них. Подобное поведение обусловлено целью сохранить стержень культуры и убеждений: ведь тот обеспечивает основной смысл жизни. Сторонники веры борются с новыми идеями даже при условии, что таковые могут дать лучший способ исполнения главного желания – прожить бесконечно долгую и здоровую жизнь. Парадоксально, но именно страх смерти заставляет переживать по поводу противоречащих той концепций. Последние вызывают у таких людей чувство отчуждения, даже если подобная взаимосвязь им не очевидна. Короче говоря, вера лишает их разума.
Пыщинский предложил еще одну полезную метафору: рассматривать амортизацию беспокойства как некоторого рода психологическую иммунную систему, которая стремится уничтожать те идеи, что могли бы вызвать душевное расстройство. Как и физический иммунитет, психический тоже дает сбои и атакует нечто, в действительности способное оздоровить.
На эту тему писал и Обри ди Грей. Во второй главе книги «Отменить старение» он заметил[271]:
«Есть очень простое объяснение тому, что люди столь усердно защищают старение. Теперь она утратила основательность, но еще недавно была вполне резонна. До последнего времени сколько-нибудь внятных концепций борьбы с возрастными изменениями не предлагалось, а значит, те были совершенно неизбежными. Когда человек сталкивается с неотвратимостью, притом такой ужасающей, как старость, с которой он не может ничего поделать ни в отношении себя, ни в отношении других, то наилучший психологический способ справиться с неразрешимой задачей – попросту выкинуть ее из головы, хотя бы ради собственного спокойствия, и не тратить драгоценное время своей убийственно короткой жизни на бесплодные измышления. Чтобы пребывать в подобном состоянии духа, проще всего отвергать малейшее подобие резонности в предмете и, неизбежно, прибегать к сомнительным иррациональным приемам ведения беседы».
Здесь он привел описание транса принятия старения, причиной которому служит «глубокая нелогичность, свойственная множеству людей»[272]. Другие авторы для этого используют термин «смертизм». Например, на сайте Fight Aging! опубликованы часто задаваемые антисмертистские вопросы (An Anti-Deathist FAQ)[273]. Нам формулировка «парадигма принятия старения» кажется более предпочтительной, так как менее уничижительна и способна снизить градус и без того потенциально жаркой дискуссии.
Привлечь слона
Давайте вернемся к замечательному совету Джонатана Хайдта относительно перенаправления слона, который являет собой наши подсознательные стремления. Если мы признаем их ошибочными, как в случае с парадигмой принятия старения, как мы сможем их изменить? Вот что гласит третья глава его книги «Праведный разум» под названием «Слоны правят» (Elephants Rule)[274]:
«Слон гораздо сильнее всадника, но он не абсолютный диктатор. Когда же он прислушивается к голосу разума? Основной способ менять свое мнение по моральным вопросам – взаимодействовать с другими. Мы из рук вон плохо находим доказательства, которые противоречат нашим собственным представлениям, но другие люди готовы сделать это за нас – точно так же, как и мы неплохо находим изъяны в чужих убеждениях.
Когда дискуссия носит враждебный характер, шанс изменений невелик: слон уклоняется от противника, а погонщик лихорадочно отражает нападки. Но если существует привязанность к собеседнику, восхищение им или желание ему угодить, то слон склоняется к нему, а всадник пытается найти истину в его аргументах. Слон не часто меняет направление движения в ответ на возражения собственного седока, но готов пересмотреть свое мнение, когда вокруг несколько или много дружественных слонов либо когда их наездники приводят ему достаточно хорошие аргументы…
Обычно погонщик берет пример со слона точно так же, как адвокат получает указания от клиента. Но стоит заставить их посидеть и пообщаться в течение нескольких минут, слон, в принципе, откроется советам седока и аргументам из внешних источников. Интуитивные представления стоят на первом месте и в нормальных обстоятельствах заставляют нас заниматься социально-стратегическими объяснениями, однако есть способы сделать эти отношения больше похожими на улицу с двусторонним движением, чем на игру в одни ворота…
Слон (самопроизвольные процессы) – это, согласно психологии морали, большая часть происходящего. Рассудочные аргументы, конечно, имеют значение, тем более в межличностных отношениях, и особенно если становятся причиной новых интуитивных представлений. Слоны правят, но они не глупы и не деспотичны. Внутреннее чутье может формироваться доводами разума, особенно когда те приведены в дружеской беседе или эмоционально захватывающем романе, фильме или новостном сюжете».
Таким образом, есть три способа изменить точку зрения слона на этот спорный вопрос: желательно ли продление здоровой жизни или нет? Люди с большей вероятностью примут совет на потенциально затруднительную тему, если он:
1. Исходит от кого-то, кто воспринимается как «свой», то есть друга или кого-то из аналогичной группы населения, а не странного чужака.
2. Подкреплен «эмоционально захватывающим романом, фильмом или новостным сюжетом».
3. Присутствует в таком контексте, в котором слон чувствует, что его собственные потребности хорошо поняты и обеспечены.
Первое из этих условий соответствует хорошо известному принципу технологического маркетинга, а именно необходимости менять маркетинговый подход компании, «преодолев пропасть» между узким кругом первоначальных последователей новой технологии и более широким рынком «раннего большинства».
Джеффри Мур привлек внимание к этой идее в книге 1991 г. «Преодоление пропасти»[275][276], которая, в свою очередь, опиралась на богатые наблюдения из работы Эверетта Уокера 1962 г. «Диффузия инноваций» (The Diffusion of Innovation)[277]. Ключевая мысль заключалась в том, что, в то время как ранние адепты новой идеи готовы действовать как мечтатели, доступ к основному рынку контролируется прагматиками с сильным стадным инстинктом, которые соглашаются с решением (или идеей), только если увидят, что другие представители стада уже его (или ее) приняли и одобрили.
Здесь есть важный момент. Смена активистов и лозунгов, преуспевших в привлечении первоначального сообщества приверженцев новой идеи (такой как парадигма предвкушения омоложения), зачастую необходима, чтобы прислушалась основная масса потенциальных сторонников. Разговоры, например, о бессмертии или переносе сознания, на ранних этапах привлекательные для адептов реювенирования, могут оказаться контрпродуктивными по мере завоевания все более широкой поддержки, а людей, которые могли бы одобрить «дивиденд долголетия», способны отпугнуть разговоры о победе над смертью.
Второе и третье из вышеперечисленных условий были рассмотрены в выступлении другого оратора на уже упомянутой конференции SENS6 – Мэйры Андервуд из Квинслендского университета. Оно называлось «В каких заверениях нуждаются люди в отношении продления жизни? Данные исследований общественных настроений и анализ изображений в кинематографе» (What reassurances do the community need regarding life extension? Evidence from studies of community attitudes and an analysis of film portrayals)[278].
Презентация Андервуд указала на массу способов, с помощью которых псевдореювенеров выставляют в негативном свете в таких популярных фильмах, как «Фонтан», «Смерть ей к лицу», «Горец», «Интервью с вампиром», «Ванильное небо», «Дориан Грей» и т. д., в которых они представлены в виде эмоционально незрелых, эгоистичных, безрассудных, стесняющих, узколобых и вообще неприятных типов. В то же время герои тех же кинолент, которые добровольно выбирают все-таки не продлевать свою жизнь, изображаются спокойными, рациональными, достойными похвалы и психически здоровыми.
Фильмы, создающие противоположное (положительное) впечатление о продлении жизни, встречаются гораздо реже. Самый известный, пожалуй, пример – «Кокон» режиссера Рона Ховарда. Одна из причин преобладания негативных стереотипов в популярных кинолентах, несомненно, состоит в том, что антиутопия продается лучше утопии. Однако голливудские шаблоны черпают идеи из уже существующих культурных норм. Поэтому кинокартины отражают и усиливают те взгляды на увеличение долголетия, которые и так широко распространены среди населения в целом:
● долгая жизнь была бы скучна и монотонна,
● страдали бы долгосрочные отношения,
● увеличение срока жизни приводило бы к росту длительности хронических болезней,
● долголетие распределялось бы несправедливо.
Чтобы воспрепятствовать отрицательным точкам зрения и помочь обществу отринуть парадигму принятия старения, Андервуд посоветовала реювенерам следующее:
1. Не упрекать широкую общественность в «захватывающем дух невежестве» в вопросах увеличения долголетия.
2. Гарантировать, что наука о продлении жизни и распространение ее технологий будут являться этичными и регулируемыми и восприниматься как таковые.
3. Успокоить тревогу общества по поводу того, что искусственное омоложение «неестественно», а практикующие его «возомнили себя богами».
4. Гарантировать, что при увеличении жизни вырастет срок здоровой эффективности.
5. Удостовериться, что дополнительные годы не повлекут за собой утрату сексуальности или фертильности.
6. Гарантировать, что рост долголетия не приведет к обострению социальных разногласий, а долгожители не обременят общество.
7. Очертить новые культурные рамки для понимания феномена продления жизни.
Мы стремимся следовать этим советам на протяжении всей книги. Необходимо нарисовать положительный образ того типа общества, которое может возникнуть в результате пробуждения инженерии омоложения, и очертить новые культурные границы для осознания не только продления жизни, но и ее дополнения, расширения и развития. Чтобы приблизить смерть смерти, мы сначала должны позабыть ужас перед ней.
Глава 7
«Хорошая», «плохая» и «экспертная» парадигмы
Я намереваюсь жить вечно или умереть в попытках.
ГРАУЧО МАРКС, 1960 Г.
Зачем я родился, если родился не навсегда.
ЭЖЕН ИОНЕСКО, 1962 Г.
В дебатах, где обе стороны твердо защищают свои представления и психологические установки, изменить точку зрения непросто. Безусловно, то же самое допустимо сказать и о споре относительно того, принимать ли неизбежность старения или воспользоваться возможностью создать общество, свободное от старости, по типу «человечество плюс». Попробуем взять на вооружение опыт диспутов, которые поначалу казались неразрешимыми, но в конце концов сдвинулись с мертвой точки, и извлечь из них некоторые уроки.
Оптические иллюзии и схемы мышления
Всем нам знакомы оптические иллюзии, которые можно воспринять двумя различными способами. Например, в зависимости от того, как мы смотрим на рисунок, на нем окажутся утка или кролик[279] либо два смотрящих друг на друга лица или ваза[280]. На другой, но уже анимированной картинке можно увидеть, как одна и та же балерина вращается либо по часовой стрелке, либо против[281]. Во всех этих случаях сразу принять обе точки зрения невозможно. Мозг может переключаться с одного образа на другой, однако не способен одновременно удерживать оба.
Нечто подобное может происходить и по мере развития науки, хотя в этом случае для смены мнения потребуется куда больше сил – две противоборствующие точки зрения обычно представляют собой разные научные школы. Возьмем, к примеру, конфликт XVI в., который возник между господствовавшим тогда аристотелевским принципом относительно тел, что самопроизвольно стремятся к покою, и новой концепцией Галилея насчет того, что естественное состояние объектов – прямолинейное движение с постоянной скоростью. Или другой пример – борьба, в XX в. развернувшаяся между доминировавшей в то время теорией, что суша никогда не меняла своего местоположения, и противоречащим ей представлением, что когда-то давно Южная Америка и Африка располагались в непосредственной близости друг от друга, но позже – при смене очертаний материков – суперконтинент распался на части.
Ниже будут описаны некоторые примеры противостояния различных медицинских мировоззрений. Также мы рассмотрим конфликт между двумя конкурирующими парадигмами – «принятия старения» и «предвкушения омоложения». Но сначала давайте подробнее изучим занимательную, поучительную историю споров вокруг теории континентального дрейфа. На тот момент возражения ведущих геологов, считавших ее «слишком большой, всеобъемлющей и амбициозной», выглядели вполне разумно. Однако данный пример мог бы охладить пыл нынешних критиков реювенирования, с которым они отвергают идею омоложения как «не подлежащую никакому обсуждению».
Враждебность научных кругов
Какой ребенок XX века при взгляде на карту мира не задумывался о совпадении контуров Южной Америки и Африки? Что, если раньше два гигантских континента были частями целого, впоследствии неким образом разделенного на части? Наивных фантазеров могла бы также позабавить мысль, что по очертаниям Восточное побережье Северной Америки, в общем и целом, соответствует западному побережью Северной Африки и Европы. Что это: странное совпадение или признак чего-то более фундаментального?
Ведущим геологам того времени данная мысль казалась неверной: в их представлении земля была неподвижной и твердой, а любые другие идеи, по их мнению, подобало высказывать несмышленым школьникам, но никак не серьезным ученым. И даже после того, как Альфредом Вегенером (с 1912 г. и далее) и Алексом дю Туа (с 1937 г.) были собраны большие массивы данных, которые противоречили общепринятой концепции и подтверждали предположение, что континенты каким-то образом должны были отделиться и отдалиться от единой доисторической суши, традиционная научная общественность отмахнулась от доказательств.
Вегенер и дю Туа указали на удивительное сходство ископаемых окаменелостей флоры и фауны, найденных по побережьям тех континентов, что теперь находятся далеко друг от друга, но когда-то, согласно гипотезе ученых, располагались рядом. Более того, порой удивительным образом совпадали даже скальные пласты, например, береговые породы в некоторых частях Ирландии и Шотландии и канадских Нью-Брунсвике и Ньюфаундленде.
Однако среди геологов Вегенер считался чужаком. Будучи доктором астрономии, он специализировался на метеорологии, а профильным геологическим образованием не обладал. Кто он такой, чтобы опровергать сложившийся способ мышления? Кроме того, Вегенер занимал недостаточно авторитетную неоплачиваемую должность в Марбургском университете. Недоброжелатели нашли много поводов для критики:
● скрупулезное совмещение вырезанных из картона материков по контуру показало, что они прилегают не вплотную, то есть предполагаемое совпадение было не абсолютным, а потому не столь наглядным и убедительным, как могло бы показаться на первый взгляд;
● участие в арктических исследованиях и опыт воздухоплавания послужили поводом для насмешек над Вегенером, дескать, у него «блуждающая полярная чума» и «синдром сдвига коры»;
● механизм дрейфа континентов как цельной и твердой части Земли был неясным.
На заседании Американской ассоциации геологов-нефтяников, которая прошла в Нью-Йорке в 1926 г., консервативный геолог из Чикагского университета Роллин Чемберлин громогласно заявил[282]:
«Если поверить гипотезе Вегенера, придется забыть все, чему мы научились за последние 70 лет, и начать все сначала».
На том же заседании геолог из Йельского университета Честер Лонгвелл воскликнул:
«Мы настаиваем на исключительно строгой проверке этой гипотезы, так как согласие с ней означало бы отказ от теорий, которые существуют настолько долго, что стали почти неотъемлемой частью науки».
В своей статье «Когда дрейф континентов считался лже-наукой» (When Continental Drift Was Considered Pseudoscience), опубликованной в журнале Smithsonian, Ричард Коннифф отметил, что даже на протяжении последующих десятилетий[283] «старые геологи предупреждали новичков, что любой намек на заинтересованность идеей континентального дрейфа обречет их карьеру на провал».
Еще одним решительным противником теории был заслуженный английский статистик, геофизик и профессор Кембриджского университета Гарольд Джеффрис. По его мнению, о дрейфе континентов «не могло идти и речи», поскольку не существует сил, которых хватило бы для перемещения тектонических плит по поверхности земного шара. И это предположение не было голословным. Чтобы подтвердить свою точку зрения, Джеффрис провел обширные расчеты, о чем написано в его биографии на сайте Университета штата Пенсильвания[284]:
«Слабость теории Вегенера виделась ему [Джеффрису] в указанном способе движения континентов, согласно которому те просто перемещались, бороздя океаническую кору. Джеффрис же подсчитал, что Земля слишком тверда для этого, и, согласно его расчетам, если бы она оказалась достаточно мягкой для перемещения тектонических плит, то горы провалились бы под собственным весом.
Также Вегенер утверждал, что континенты двигались на запад из-за приливных сил, действующих на внутреннюю часть планеты. И опять же, расчеты Джеффриса показали, что приливные силы подобной интенсивности полностью остановили бы вращение земного шара всего за год. По его словам, Земля сама по себе слишком твердая, чтобы произошли хоть какие-то ощутимые сдвиги коры».
Противники теории Вегенера высказывали собственные предположения о причинах поразительного сходства некоторых представителей флоры и фауны отдаленных континентов: например, между материками могли существовать тонкие полоски суши, подобные той, что когда-то мостом соединяла Аляску и Сибирь. Один из оппонентов, уже упомянутый ранее Честер Лонгвелл, сделал отчаянное предположение[285]:
«Если сходство между Южной Америкой и Африкой не генетическое, то, несомненно, так устроил сам Сатана, дабы смутить наш дух».
Короче говоря, существовало два противоборствующих мнения, две конкурирующие парадигмы, и ни одна из них не могла дать сколько-нибудь удовлетворительного ответа на вопросы о совпадении континентов и механизме их передвижения. Точки зрения крупнейших ученых зависели (по крайней мере, частично) от их жизненной философии, а не фактической значимости какого-либо из доказательств. Историк науки Наоми Орескес указала на несколько факторов, которые являлись особенно важными, как минимум, для некоторых ведущих американских геологов[286]:
«В американском понимании верный научный метод – обязательно эмпирический и индуктивный; он вынуждает анализировать данные практических наблюдений в свете возможных альтернативных трактовок. Также хорошая теория должна быть скромной и не отвлекаться от объекта изучения. ‹…› Правильная наука антиавторитарна, как демократия, и плюралистична, как свободное общество.
Если хорошая наука служит примером для добросовестного правительства, то плохая ему угрожает. В глазах американцев работа Вегенера была ненаучной: она сначала утверждала теорию и только потом искала для нее доказательства. Она слишком быстро установила рамки для собственной интерпретации. Была чересчур велика, всеобъемлюща и амбициозна. Короче говоря, ее сочли авторитарной. ‹…›
Американцы [также] отвергали теорию континентального дрейфа из-за [принципа] актуализма. К началу XX в. методологический принцип трактовки прошлого, исходящей из того, что можно наблюдать в настоящем, укоренился в практике исторической геологии. Многие верили, что это единственный способ исследования былых времен и именно такой подход сделал геологию наукой, иначе как можно было бы доказать, что Бог не создавал Землю за семь дней сразу с ископаемыми и всем остальным? ‹…›
Но, согласно теории континентального дрейфа, в тропических широтах не обязательно наблюдается тропическая фауна как раз вследствие смены очертаний материков и океанов. Концепция Вегенера явила собой предзнаменование идеи, что настоящее – не ключ к прошлому, а просто мгновение в истории Земли – не более и не менее характерное, чем любое другое. Такую мысль американцы были не готовы воспринять».
Смена мнений о сдвиге континентов
Перед вами еще одно свидетельство того, насколько в умах в свое время укоренилось противодействие идее континентального дрейфа. Вот что о своем отце рассказывал пионер глубокого обучения Джеффри Хинтон[287]:
«Мой отец был энтомологом и верил в дрейф континентов. В начале 1950-х гг. эта теория считалась чушью, но к их середине вошла в обиход. Некто по имени Альфред Вегенер, разработавший ее за 30 или 40 лет до этого, не дожил до популярности своего детища. Гипотеза была основана на некоторых весьма наивных предпосылках, например, на том, что контуры Африки и Южной Америки вроде как совпадают. Геологи называли ее чистейшим вздором, сущей фантазией и попросту высмеивали.
Я помню очень интересный спор, в котором участвовал мой отец. Обсуждался нелетающий водный жук, способный передвигаться относительно недалеко. Он обитает на северном побережье Австралии, и за миллионы лет представителям его вида не удалось перебраться даже в соседний ручей. Вдруг выяснилось, что на северном побережье Новой Гвинеи водится почти такое же насекомое. Подобное могло случиться только в том случае, если бы Новая Гвинея когда-то была частью Австралии, а потом оторвалась от нее и развернулась. Было очень интересно наблюдать реакцию геологов на этот аргумент: они сказали, что “жуки не двигают материки”. То есть, они отказались рассматривать фактические доказательства».
Вышеприведенные рассказы могут привести к такому выводу: ситуации, когда мыслящие по-разному люди не хотели даже рассматривать факты, которые не поддавались их объяснению, заходили в тупик. Действительно, подобное положение вещей сохранялось в течение нескольких десятилетий. Затем, к счастью, здравый научный смысл возобладал. Несмотря на упрямство отдельных ученых, все сообщество в целом оставалось открытым новым значимым доказательствам. И те не замедлили появиться.
Во-первых, в 1950-х гг. геологи стали уделять больше внимания зарождающейся области палеомагнетизма[288], изучавшей магнитность горных или осадочных пород Земли. Было замечено, что полярность доисторических пород и более поздних слоев отличается, и с помощью усовершенствованных методов измерения удалось выявить интересные закономерности. Ученые пришли к выводу, что либо во время образования этих пород магнитные полюса Земли находились в другом месте, либо в периоды между сменой полярности сами породы переместились на значительное расстояние. Чем пристальнее геологи изучали эти данные, тем больше находили подтверждений гипотезы континентального дрейфа. Например, образцы горных пород из Индии убедительно свидетельствовали, что ранее полуостров лежал к югу от экватора (в настоящее время он находится к северу от этой линии).
Во-вторых, изучение океанских впадин, гидротермальных источников и подводных вулканов дало дополнительные доказательства интенсивной активности подземных флюидов. Это помогло обосновать концепцию раздвижения континентальных плит в результате спрединга (растяжения) морского дна. Решающим аргументом для многих ученых стал результат конкретного анализа. Орескес продолжила:
«Между тем геофизики доказали, что магнитное поле Земли неоднократно и довольно часто меняло полярность, что в совокупности со спредингом сложилось в поддающуюся проверке гипотезу. ‹…› Если морское дно растягивалось, в то время как магнитное поле планеты меняло полярность, это должно было отразиться на образующих океанское дно базальтах в виде серий параллельных “полос” из пород разной полярности.
После Второй мировой войны Управление военно-морских исследований США стало в военных целях изучать морское дно. Были собраны большие объемы магниторазведочных данных. Американские и британские ученые изучили их, и к 1966 г. ‹…› гипотеза подтвердилась. В 1967–1968 гг. фактические доказательства дрейфа континентов и спрединга океанского дна были объединены в единую глобальную структуру».
Поскольку все больше и больше уточненных данных указывало на более сложные модели растяжения морского дна и, как следствие, дрейф материков, научный консенсус изменился достаточно быстро. Вместе с тем крупные философские позиции, которые прежде предрасполагали некоторых ученых противодействовать этой идее, а именно – предпочитать «скромные» толкования всеобъемлющим, а актуализм – любому виду теории катастроф, утратили значимость. Теперь эти доктрины признаны в качестве разве что общих руководящих принципов, но им явно не хватает универсальности, чтобы успешно полемизировать с теми концепциями, которые не только точно прогнозируют будущее, но и сами по себе являются достаточно убедительными.
Мытье рук
Практически такая же история происходила с идеей дезинфекции рук в больницах. Альфред Вегенер оказался жертвой печальных обстоятельств и умер в безвестности в Гренландии в 1930 г., задолго до широкого признания своих заслуг; схожим образом пострадал и Игнац Земмельвейс.
Идеи Земмельвейса, опытным путем собиравшего данные в пользу улучшения санитарных условий в больницах, не встретили должного внимания. Врач впал в тяжелую депрессию и угодил в психиатрическую лечебницу, где его, содержащегося в смирительной рубашке, избивали охранники. Он умер через две недели после помещения в клинику, в возрасте 47 лет[289].
Примерно за 20 лет до того, в 1846 г., молодой Земмельвейс занял важную медицинскую должность в одном из двух родильных отделений Центральной Венской больницы. В городе было широко известно, что в одном из них смертность значительно выше (10 % и более), чем в другом (4 %): многие женщины умирали от пуэрперального сепсиса (родильной горячки). Земмельвейс потратил немало сил, пытаясь установить причины подобных показателей, и, наконец, заметил, что в первой клинике работают студенты-медики, которые прежде, чем посетить родовое отделение, время от времени проводят аутопсии. Во второй клинике таких сотрудников не было. Практическое наблюдение оказалось крайне важным. Основываясь на нем, Земмельвейс предположил, что причина высокой смертности в первой клинике – некий трупный микроскопический материал, который врачи-стажеры переносили на руках, и ввел систему тщательной дезинфекции рук с хлорной известью. Последняя удаляла запах мертвого тела, чего не давало обычное мытье рук с мылом и водой. За год уровень смертности резко упал – до нуля.
Сейчас мы сказали бы: «Ну, разумеется!» Нас поразило бы, что в прежние времена не мыли руки. Однако все это происходило за два десятка лет до изложения Луи Пастером микробной теории инфекционных заболеваний, а в те времена считалось, что болезни распространяются «дурным воздухом» (миазмами). И традиционная медицинская общественность, не имеющая никакого представления о микробах, сопротивлялась советам Земмельвейса относительно тщательного мытья рук. Во многом так же, как и выдвинутая позже гипотеза Альфреда Вегенера, догадки Земмельвейса были сочтены чрезмерными, всеобъемлющими и разрушительными. Ведь, согласно им, большая часть заболеваний случалась из-за одной-единственной причины, а именно – недостаточной чистоты. Это в корне противоречило господствовавшей тогда медицинской доктрине, которая гласила, что каждый случай болезни имеет собственные уникальные причины, а потому нуждается в индивидуальном изучении и персональном лечении. Идея обвинить во всем ненадлежащую гигиену представлялась слишком своеобразной и непривычной.
Также практика тщательного мытья рук стала, по всей видимости, оскорбительной, как минимум, для некоторых врачей, которых возмутила сама мысль о том, что нормальный джентльменский уровень личной гигиены мог каким-то образом оказаться ниже стандарта. Им казалось неприемлемым брать на себя ответственность за смерть обследованных пациентов.
В 1848 г., когда по всей Европе гремели революции, Земмельвейс лишился поста в Центральной Венской больнице: консервативно настроенный начальник отделения утратил доверие к акушеру, некоторые из братьев которого активно участвовали в движении за независимость Венгрии. Политические разногласия усугубили и без того накаленную конфликтную ситуацию. Когда Земмельвейс покинул больницу, его место занял Карл Браун, который, что примечательно, тут же свел на нет почти весь прогресс клиники.
Позже Браун опубликовал учебник, в котором перечислил 30 причин родильной горячки. Открытый Земмельвейсом механизм – отравление микроскопическим трупным материалом – фигурировал в этом списке под номером 28[290] и не сильно выделялся на общем фоне. Поскольку вместо надлежащей гигиены внимание стало уделяться усовершенствованию систем вентиляции, что хорошо укладывалось в господствующую тогда концепцию о миазмах как причины большинства заболеваний, показатели материнской смертности снова выросли. Поэтому даже в больнице, где случилось это революционное озарение, тяжеловесная ортодоксальная традиция привела к бессмысленной смерти множества женщин. Подобные удручающие тенденции наблюдались по всей Европе, пока, отчасти благодаря работам Джона Сноу, Джозефа Листера и Луи Пастера, не появились независимые доказательства в пользу микробной теории. К 1880-м гг. парадигму миазмов опровергли, а тщательная антисептическая обработка рук вошла в практику как стандарт.
Не в первый и не в последний раз оказалось, что сложившаяся медицинская традиция не вполне соответствует основному принципу профессии «Не навреди». Ошибочное мышление привело к ненадлежащей гигиене, а следовательно, к целой лавине бессмысленного ущерба. Частично нарушение клятвы Гиппократа было вызвано недостатком знаний (в отсутствие микробной теории болезней), частично – доминированием старых привычек.
На наш взгляд, парадигма принятия старения действует по схожему принципу и сохраняется как из-за недостатка знаний (о прогрессе биотехнологий омоложения), так и вследствие имеющегося стиля мышления. Ее адепты, конечно же, склонны видеть мир иначе.
Сдвиг медицинской парадигмы под сопротивлением
Игнаца Земмельвейса часто называют первопроходцем универсального принципа доказательной медицины. Он проверял свои гипотезы относительно причин родильной горячки, внося изменения в медицинскую практику и отмечая последующее снижение смертности. В ходе таких наблюдений был предварительно исключен ряд потенциальных причин: различный социально-экономический статус, положение роженицы во время родов и т. д. И после введения новой процедуры – антисептической обработки рук – результаты оказались впечатляющими.
Но, как мы видим, в рамках конкурирующей парадигмы, согласно которой причиной болезней становился «дурной воздух», доказательства Зиммельвейса не имели никакого смысла. Сторонники теории миазмов объясняли изменение смертности следствием разных причин, например улучшения вентиляции. К сожалению, чтобы определить различия между гипотезами, строгих тестов не проводилось, ведь в то время, несмотря на прозрение Земмельвейса, не были осознаны и сформулированы принципы, которые в наши дни предлагается применять для испытания медицинской эффективности:
● контроль: реципиенты нового лекарства или метода лечения сравниваются с пациентами контрольной группы, которые его не получают или получают плацебо; во всем остальном группы максимально схожи;
● рандомизация: распределение пациентов по двум группам – контрольной и экспериментальной – происходит случайным образом, что предотвращает сознательную или неосознанную предвзятость отбора, которая могла бы повлиять на результат;
● статистическая значимость: испытания организовываются так, чтобы их результаты не искажались естественными и нерегулярными случайными отклонениями, в частности, тесты в небольших группах имеют меньшую ценность;
● воспроизводимость: испытания повторяются различными группами клинических специалистов; совпадающие результаты свидетельствуют о надежности предложенного лечения.
На самом деле доказательная медицина существует всего несколько десятилетий: первая посвященная ей научная статья вышла в 1992 г.[291] Термин был введен в пику преобладавшей тогда практике клинической оценки, которая подразумевала заключение о способах лечения на основе догадок и интуитивных предположений врача, что, в свою очередь, определялось опытом того или иного специалиста. Этот способ еще именовался «лечебным искусством».
Недостатки зависимости от клинической оценки были убедительно подчеркнуты в опубликованной в 1972 г. книге шотландского врача Арчи Кокрейна[292] «Действенность и эффективность: Случайные размышления о здравоохранении» (Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services)[293]. Автор разгромил принятый способ мышления и практику коллег-медиков и отметил, что:
● значительная часть прежних достижений в области здравоохранения обусловлена улучшением факторов внешней среды (например гигиены), а не самим лечением как таковым;
● под сильным давлением со стороны пациентов врачи склонны назначать схемы лечения и лекарства, которые могут и не иметь клинических доказательств эффективности;
● выздоровление некоторых пациентов после того, как они проходят определенный курс лечения, не является доказательством его эффективности, потому что причиной могут оказаться иные факторы (в том числе способность организма самостоятельно исцеляться со временем);
● мнение пациентов относительно пользы пройденного лечебного курса не является доказательством его эффективности.
Кокрейн отметил, что, когда он писал свою книгу, культура в принципе ориентировалась скорее на «мнение», чем на «эксперимент»[294]:
«По всей видимости, широкая общественность и некоторые медицинские работники все еще серьезно недопонимают относительную ценность мнений, наблюдений и опытов при проверке гипотез.
Два самых поразительных изменения в словоупотреблении за последние 20 лет – это повышение уровня “мнения” как способа доказательства по сравнению с остальными и такое же снижение значения слова “эксперимент”.
Первое, несомненно, имеет много причин, но уверен, что главнейшие из них – тележурналист и телепродюсер. Им нужно, чтобы все было кратко, драматично и однозначно. Любое обсуждение достоверных доказательств отметается как долгое, скучное и расплывчатое. Я редко слышал, чтобы репортер спрашивал кого-нибудь о фактической аргументации того или иного заявления. К счастью, обычно такой подход не имеет значения, потому что цель интервьюера состоит в том, чтобы развлечь публику (отсюда и интерес к взглядам поп-певцов на теологию, например), но когда речь идет о медицине, это может оказаться важным.
Судьба же слова “эксперимент” совсем иная ‹…› захваченное журналистами, оно было опошлено ‹…› и теперь используется в своем устаревшем значении “попытки что-либо сделать”, отсюда и бесконечные ссылки на “экспериментальные” театры, искусство, архитектуру и школы».
Нашлись у Кокрейна и добрые слова о медицинской практике. Он рассказал о некоторых положительных примерах, которые могли бы послужить образцами для будущих изысканий: например, о разработке эффективных методов лечения туберкулеза после Второй мировой войны при широком применении исследований со случайным распределением по контрольным группам. Он похвалил врачей за то, что те намного опередили других специалистов (таких как судьи и директора школ) в организации экспериментальных контролируемых испытаний различных «терапевтических» или «сдерживающих» методов лечения. Кроме того, по его замечанию, в истории медицины есть немало примеров, когда опытным путем была доказана неправота господствующей точки зрения:
● Удаление миндалин, особенно у детей, когда-то считалось почти панацеей и весьма широко практиковалось, но после того, как в 1969 г. в статье «Ритуальные операции: обрезание и тонзиллэктомия» (Ritualistic surgery – circumcision and tonsillectomy) был опубликован критический обзор фактических доказательств, оно стало проводиться гораздо реже.
● В 1920-х гг. в Америке в качестве лекарства от туберкулеза стал популярным «Санокризин» – соединение на основе золота. Один доктор, опубликовав в 1931 г. результаты исследования 46 пациентов, назвал его «замечательным» средством. Однако данный эксперимент был бесконтрольным, так как препарат получали все участники. В том же году другие врачи из Детройта опробовали «Санокризин» на группе из 12 пациентов, случайно выбранных из 24 больных туберкулезом. Остальные без информирования получили инъекцию дистиллированной воды. На этот раз результат был однозначным: выживаемость контрольной группы оказалась выше. Так было доказано, что «Санокризин» – вовсе не такое чудодейственное лекарство, каким представлялось.
● Еще одним методом лечения туберкулеза был принудительный постельный режим. Его практиковали широко и долго, пока опыты, проведенные в 1940–1950-х гг., не показали, что он на самом деле вреден: лежание на спине приводит к дополнительным осложнениям. В результате этого исследования по всему миру закрылось множество санаториев.
Также Кокрейн описал случаи, когда заявленная врачами безупречность клинической оценки оказалась весьма сомнительной. Вот что в своей книге 2009 г. «Прием лекарства: Краткая история прекрасной идеи медицины и наши трудности с ее проглатыванием» (Taking the Medicine: A Short History of Medicine’s Beautiful Idea, and our Difficulty Swallowing It)[295] рассказал Друин Бёрч:
«Электрокардиограммы (ЭКГ) – это записи электрической активности сердца. ‹…› Кардиологи утверждают, что способны расшифровывать их лучше прочих врачей. Кокрейн произвольно отобрал несколько ЭКГ и разослал копии четырем маститым кардиологам с вопросом, что же показывают кривые с результатами анализов. Сравнив мнения специалистов, он обнаружил, что те совпадали всего в 3 % случаев: уверенность врачей в том, что они способны узреть “истину” с первого взгляда, оказалась неоправданной. По крайней мере, в 97 случаях из 100 кто-то делал что-то не так.
Когда Кокрейн аналогичным образом испытал профессоров стоматологии, попросив оценить одни и те же рты, он установил, что диагностические навыки опрошенных специалистов последовательно сходились только в одной характеристике, а именно – в количестве зубов».
В 1993 г. фамилия умершего в 1988 г. Кокрейна была включена в название новообразованного «Кокрейновского сотрудничества». Организация описывает свою работу следующим образом[296][297]:
«Кокрейн – для всех, кого интересует использование информации высокого качества для принятия решений по вопросам здоровья и в здравоохранении. Являетесь ли вы врачом или медсестрой, пациентом или опекуном (ухаживающим), исследователем или финансирующим исследования, Кокрейновские доказательства представляют вам мощный инструмент для улучшения знаний и принятия решений в здравоохранении.
Члены и сторонники Кокрейн работают в более чем 130 странах мира. Наши добровольцы и вносящие вклад сторонники являются исследователями, профессионалами здравоохранения, пациентами, ухаживающими за ними, и людьми, страстно желающими улучшить исходы для здоровья каждого во всем мире. Наше глобальное независимое сообщество собирает и обобщает лучшие доказательства из исследований, чтобы помочь вам делать информированный выбор лечения, и мы делаем это в течение 25 лет.
Мы не принимаем коммерческого или конфликтного финансирования. Это очень важно для нас, чтобы генерировать авторитетную и надежную информацию, работая свободно, не будучи скованными коммерческими и финансовыми интересами.
Наша стратегия 2020 имеет целью сделать Кокрейновские доказательства основой процесса принятия решений в здравоохранении во всем мире».
Сотрудничество реализует концепцию доказательной медицины, разработанную Арчи Кокрейном и другими. Сегодня его миссия признана чрезвычайно важной. В 2009 г. размещенные на его сайте периодические обзоры скачивали каждые три секунды[298]. Среди наиболее популярных в настоящее время – факты по таким темам, как[299]:
● иглоукалывание при головной боли напряжения;
● модели непрерывной акушерской помощи по сравнению с другими моделями помощи женщинам во время беременности, родов и раннего родительского периода;
● вмешательства для предупреждения падений пожилых людей, живущих в обществе (не в домах престарелых);
● вакцины для профилактики гриппа у здоровых взрослых.
В этих областях тщательное изучение экспериментальных доказательств, которые часто способны смутить иного эксперта, становится очень полезным дополнением к интуитивной клинической оценке.
Не зная истории, трудно представить, сколько враждебности в свой адрес встретила идея доказательной медицины. Первоначально критика клинической оценки подверглась сильному сопротивлению:
● влиятельные медицинские работники опасались, что с таким трудом завоеванные и негласно признанные общественностью знания по мере продвижения к доказательной медицине станут цениться гораздо меньше;
● те же специалисты часто настаивали на индивидуальном подходе к каждому пациенту вместо его насильной подгонки под один из немногих стереотипов из новых медицинских учебников.
Кровопускание
Давайте рассмотрим последний показательный пример. Кровопускание – удаление крови из тела пациента, часто с помощью пиявок, – широко рекомендовалось как способ лечения на протяжении двух с лишним тысячелетий. Его прописывали при огромном количестве заболеваний, включая акне, астму, герпес, диабет, оспу, пневмонию, подагру, туберкулез и цингу. В древности видными сторонниками этого метода были Гиппократ с острова Кос (460–370 гг. до н. э.) и Гален из Пергама (129–200 гг.). На протяжении столетий эта практика время от времени подвергалась критике выдающихся специалистов (в том числе и открывшего в 1620-х гг. кровообращение Уильяма Гарвея), однако продолжала широко применяться. В 2014 г. Данкан Томас в журнале Королевского колледжа врачей Эдинбурга написал[300]:
«Тот пыл, с которым врачи в прежние времена прибегали к кровопусканию, сегодня кажется необычайным. Декан медицинского факультета Парижского университета Ги Патен (1601–1672 гг.) 12 раз применял его к собственной жене от “прилива крови” к груди, 20 раз – к сыну от устойчивой лихорадки и семь раз – к самому себе от “головной простуды”.
Карлу II (1630–1685 гг.) отворяли кровь после удара, а к генералу Джорджу Вашингтону (1732–1799 гг.), страдавшему от тяжелой инфекции горла, эту процедуру в течение всего нескольких часов применили четырежды, взяв, по разным оценкам, от пяти до девяти пинт крови. Сколь бы ни был он силен, даже его мощное сложение не смогло противостоять бессмысленным усилиям врачей, и вполне возможно, что подобное лечение приблизило его конец».
Далее Томас вспомнил случай Бенджамина Раша:
«Бенджамин Раш (1746–1813 гг.), видный американский врач и один из тех, кто подписал Декларацию независимости, был убежден, что кровопускание – лучший способ лечения. ‹…› Во время филадельфийской эпидемии желтой лихорадки 1793 г. он массово отворял кровь своим пациентам, тем самым выкашивая их ряды…
Подход Раша поучительно напоминает нам об опасности слепой веры в традиционные методы и подчеркивает необходимость критической, основанной на фактических данных оценки всех видов лечения».
Эффект кровопускания подвергся систематическому изучению в XIX в. Француз Пьер Луи проанализировал данные, полученные в 1828 г. от 77 больных пневмонией, и доказал, что отворение крови мало влияет на перспективы выздоровления, и это только в лучшем случае. Однако многие практикующие врачи отвергли его результаты, предпочтя и далее опираться на предполагаемые свидетельства собственного опыта и доверять авторитету почтенной традиции, восходящей к Гиппократу и Галену.
Во второй половине XIX в. Джон Беннетт из Эдинбургского университета изучил дополнительную информацию о выживаемости в американских и британских больницах. Он отметил, что, к примеру, в 105 стандартных случаях пневмонии, которые он в течение 18 лет вылечил в Королевском лазарете Эдинбурга без какого-либо кровопускания, не умер ни один пациент. В противоположность этому, из тех, кому другие врачи той же клиники отворяли кровь, впоследствии скончался, по меньшей мере, каждый третий. Но, несмотря на эти данные, Беннетт столкнулся с жесткой критикой коллег. Комментарий Данкана Томаса:
«С сегодняшней точки зрения, в новаторской работе Луи и Джона Беннетта больше всего удивляет то, как медленно медицинская профессия принимала их убедительные доказательства, особенно в отношении лечения пневмонии. Беннетт пытался внедрить скорее научный подход к выявлению и лечению заболеваний, который включал бы как лабораторные наблюдения, так и статистический анализ результатов. Однако такое воззрение противоречило методам традиционных клиницистов, которые продолжали полагаться на собственный опыт, основанный исключительно на личных наблюдениях. Несмотря на растущий скептицизм в отношении этой практики, споры о кровопускании продолжались на протяжении всей второй половины XIX в. и даже в течение XX в.».
Джерри Гринстоун в статье 2010 г. в журнале British Columbia Medical Journal размышлял, почему же кровопускание продолжали практиковать так долго – вплоть до середины XX в.[301]:
«Мы можем задаваться вопросом, почему отворение крови практиковали так долго, а тем более после того, как открытия Везалия и Гарвея в XVI и XVII вв. выявили значительные недочеты в галеновской анатомии и физиологии. Но, как отмечают И. Керридж и М. Лоу, “такое длительное применение кровопускания – не интеллектуальная аномалия, а результат динамического давления на социальном, экономическом и интеллектуальном уровнях. Подобные процессы и по сей день продолжают влиять на медицинскую практику”.
При сегодняшнем понимании патологической физиологии у нас может возникнуть искушение посмеяться над такими методами терапевтического воздействия. Но что спустя 100 лет подумают врачи о нынешней медицинской практике? Их, вероятно, удивят чрезмерное употребление антибиотиков, склонность к полифармакотерапии (назначению нескольких или многих лекарств одновременно) и грубость таких методов лечения, как лучевая и химиотерапия».
Да что там «через 100 лет»! На наш взгляд, вполне вероятно, что уже лет через десять – двадцать врачи, оглядываясь на современную медицинскую практику, будут изумляться, как это феномен старения получал так мало внимания и почему биотехнология омоложения встречала такой незначительный интерес.
Но, как мы знаем, парадигмы держатся крепко. Вышеприведенная фраза Иена Керриджа и Майкла Лоу о влиянии динамического взаимодействия факторов социального, экономического и интеллектуального давления на медицинскую практику выражает то же самое настроение, но другими словами.
Ошибаться могут все, и, конечно же, не только эксперты. Чтобы завершить эту главу на иронической ноте, давайте вспомним потрясающее размышление Хизер Уайтстоун, которая в 1994 г. стала Мисс Алабама и в 1995 г. – Мисс Америка. Когда во время конкурса красоты ее спросили, хочет ли она жить вечно, она ответила[302]:
«Я не хотела бы жить вечно, потому что вечно жить мы не должны, потому что, если бы нам надо было жить вечно, то мы жили бы вечно, но мы не можем жить вечно, вот почему я не стала бы жить вечно».
Глава 8
Запасной план: криоконсервация
Подвергнуться после смерти криоконсервации – вторая из наихудших вещей, которые могут с вами случиться. Первая из них – умереть вовсе без криоконсервации.
БЕН БЕСТ, 2005 Г.
Будь крионика мошенничеством, она продавалась бы куда лучше и была бы гораздо популярнее.
ЭЛИЭЗЕР ЮДКОВСКИЙ, 2009 Г.
По нашим оценкам, первые биотехнологические методы омоложения человека будут запущены в «массовое производство» в 2020-х гг., нанотехнологические способы лечения – в 2030-м г., затем, к 2045 г., станет возможным управление старением и его обращение. До тех пор, к сожалению, люди продолжат умирать. Для большинства реювенирование наступит слишком поздно. Ведь они либо уже успели состариться и умереть (в одном из множества прошедших веков или в текущем столетии), либо, скорее всего, скончаются до того, как войдут в обиход эффективные методы борьбы с возрастными изменениями. Так или иначе, большинство живущих сейчас принадлежит к эпохе ДО – до омоложения.
Тем не менее некоторые исследователи, принадлежащие к широкому сообществу реювенаторов, осмеливаются надеяться на оживление людей эпохи ДО. Идеи этих ученых представляют собой ряд радикальных альтернатив и дополнений к методам основного плана.
Мост в вечность
Как мы отмечали, до бесконечной жизни еще несколько десятилетий. Но что делать все это время? Печальная правда заключается в том, что в ближайшие годы люди все еще будут умирать, и единственно известный нам на сегодня способ относительно качественного сохранения самих себя – криоконсервация. Пока не разработан основной план неограниченного продления срока человеческой жизни, этот – запасной.
Современная эра криоконсервации, или крионики, началась в 1962 г., когда американский физик Роберт Эттингер опубликовал книгу «Перспективы бессмертия»[303]. В ней он рассмотрел возможность замораживать (криоконсервировать) пациентов на длительное время – до того, как появятся более совершенные медицинские технологии, предназначенные для излечения современных болезней, в том числе старения[304]. Поскольку на первый взгляд сохранение в холоде кажется смертельным для человека, ученый привел аргументы, что процессы, которые сейчас считаются пагубными, в будущем получится обратить вспять. Тот же довод он применил и к самому процессу умирания – ранним стадиям клинической смерти. Объединив обе идеи, автор предположил, что криосохранение может спасти жизнь недавно умерших.
Руководствуясь данной гипотезой, в 1976 г. в Детройте вместе с четырьмя коллегами он основал Институт крионики. Первой пациенткой стала мать самого Эттингера: ее тело, криоконсервированное в 1977 г., продолжают хранить при температуре кипения жидкого азота (‒196 ℃).
Чуть раньше, в 1972 г., в Калифорнии Фред и Линда Чемберлен основали другое учреждение Фонд продления жизни «Алькор» (Alcor Life Extension Foundation)[305]. Первым пациентом в 1976 г. стал отец Фреда, который подвергся нейропрезервации – крионированию головы. В 1993 г. компания переехала в Скоттсдейл – подальше от сейсмически опасного исходного места ее расположения. Процитируем английского философа и футуролога Макса Мора, нынешнего президента организации[306]:
«С нашей точки зрения, это еще один вид неотложной помощи. ‹…› Мы принимаемся за работу, когда от пациента уже успела отказаться современная медицина. Взгляните на ситуацию вот с какой стороны: 50 лет назад, если бы на улице перед вами кто-нибудь, рухнув на землю, перестал дышать, вы осмотрели бы его, констатировали смерть и избавились от тела. Сегодня все иначе: свидетели несчастного случая применяют искусственное дыхание и прочие подобные процедуры. Люди, которых полвека назад сочли бы мертвыми, теперь не считаются таковыми. Это общеизвестный факт. Криоконсервация, по сути, представляет собой то же самое: с ее помощью мы не даем ухудшаться состоянию пациента, оставляя лечение более совершенным технологиям будущего».
Некоторые пациенты решают крионировать только голову. Одни выбирают этот вариант по финансовым причинам, другие считают, что именно головной мозг вмещает личность и память человека, поэтому необходимости в криоконсервации всего тела нет. Потом его можно будет восстановить с помощью технологий будущего.
Институт крионики занимается исключительно криоконсервацией всего тела. В его хранилище уже более 150 пациентов, а в списке – более тысячи зарегистрированных членов[307]. Фонд «Алькор», который проводит также нейропрезервацию, обладает примерно таким же количеством пациентов (примерно три четверти находятся на нейропрезервации) и участников[308].
Ежемесячно у двух основных американских криоцентров появляются новые пациенты и члены. Также в обоих учреждениях хранится множество образцов ДНК, тканей, домашних и иных животных. В Институте крионики крионирование всего тела стоит от 28 000 до 35 000 долларов без учета затрат на резервирование, стабилизацию и транспортировку (РСТ). «Алькор» за такую же услугу берет 200 000 долларов, а за нейропрезервацию – 80 000 долларов (РСТ включены в цену)[309].
Еще до недавнего времени Институт крионики и Фонд «Алькор» были практически единственными криокомпаниями в мире, при этом количество их потенциальных пациентов и членов оставалось относительно небольшим. Однако в 2005 г. в России была основана компания «КриоРус», а уже в наши дни в Аргентине, Австралии, Канаде, Китае, Германии и ряде американских штатов (Калифорния, Флорида и Орегон) появились небольшие организации, планирующие или уже развернувшие новые производственные мощности для криоконсервации.
Как работает крионика?
После криоконсервации пока что никто не ожил, однако и способы исцеления смертельных недугов остаются нам по-прежнему неизвестными. Впрочем, поскольку технологии совершенствуются с экспоненциальной скоростью, весьма вероятно, что в ближайшие десятилетия оживление станет возможным. По словам Рэя Курцвейла, первая реанимация после криоконсервации произойдет в 2040-х гг., причем процесс начнется с того, кто подвергся этой процедуре самым последним (то есть при помощи более качественных технологий), и завершится самыми первыми пациентами[310].
Доказательства этой концепции – тот факт, что криоконсервация прошла успешную апробацию на различных живых клетках, тканях и малых организмах. Тихоходки (водные медведи) – это крошечные микроскопические многоклеточные беспозвоночные. Они хорошо переносят охлаждение, так как большая часть воды в их организмах замещается сахаром трегалозой, который предотвращает кристаллизацию клеточных мембран. Крионирование переносят и некоторые позвоночные; есть животные (некоторые виды лягушек, черепах, саламандр, змей и ящериц), которые замерзают при зимовке в холодном климате (при этом их жизненные функции полностью останавливаются), но после того, как потеплеет, они полностью восстанавливаются. Вблизи полюсов обитают также виды бактерий, грибов, растений, рыб, насекомых и амфибий, чьи организмы вырабатывают криопротекторы, позволяющие выживать на морозе.
Британский ученый Джеймс Лавлок – он известен гипотезой Геи[311] о жизни на Земле – был, возможно, первым исследователем, который попытался последовательно охладить и оживить животных. В 1955 г. он, заморозив несколько крыс до температуры 0 ℃, успешно реанимировал их с помощью микроволновой диатермии. Недавно DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США) приступило к финансированию исследований в области анабиоза – состояния, при котором сердце и мозг человека, по сути, «выключены», чтобы обеспечить ему должное лечение. Чем не шаг к криоконсервации человеческого организма?
В наши дни крионированию для последующего восстановления подвергаются яйцеклетки, сперматозоиды и даже эмбрионы. После разморозки половые клетки животных успешно использовались для их размножения, а человеческие зародыши беспрепятственно развивались без врожденных или иных проблем. Кроме того, подобным методом в наши дни сохраняют кровь, в том числе и пуповинную, костный мозг, семена растений и различные образцы тканей. Одним из недавних (2017 г.) громких достижений крионики стало рождение ребенка, эмбрион которого находился в криоконсервации в течение почти 25 лет.
Мы считаем, что сегодняшние криопациенты могут быть оживлены в будущем с помощью передовых технологий. О целесообразности крионики выходит все больше научной литературы. В поддержку этой технологии посредством открытого письма выступили некоторые авторитетные ученые, в том числе Обри ди Грей и американский ученый Марвин Минский, которого считают одним из «отцов» ИИ (после смерти в 2016 г. Минский был крионирован[312]):
«Крионика – легитимное и научно обоснованное начинание, которое стремится сохранить человека, особенно его головной мозг, с помощью самых передовых достижений науки. Технологии реанимации будущего, по всей видимости, будут включать в себя молекулярное восстановление с помощью наномедицины, высокоразвитые компьютерные вычисления, детальный контроль роста клеток и регенерацию тканей.
С их учетом есть хорошая вероятность того, что криоконсервация, которая выполняется оптимальным на сегодня способом, позволит сохранить достаточное количество неврологической информации, чтобы в дальнейшем человек был реанимирован с уже идеальным здоровьем.
Права людей, которые выбирают крионику, важны, и их следует уважать».
Благодаря достижениям в этой области все большее количество людей начинают осознавать возможность криоконсервации человека. В 2015 г. группа ученых из Университетов Ливерпуля, Кембриджа и Оксфорда создала в Великобритании исследовательскую сеть, предназначенную для поощрения и продвижения исследований, а также для применения технологий заморозки живых организмов, в том числе человеческих[313]. В 2016 г. было открыто Общество крионики, направленное на поддержку технологии в Испании, Аргентине и Мексике[314].
Крионика в России: визит в «КриоРус»
В 2005 г. под руководством русского футуролога Данилы Медведева в России была основана еще одна криокомпания.
В 2015 г., во время нашей встречи с Медведевым, нам довелось посетить криодепозиторий «КриоРус». Он располагается в Сергиево-Посадском районе, центр которого – красивый древний город примерно в 70 км к северо-востоку от Москвы, известный как религиозный и туристический объект. В городе находится один из крупнейших русских монастырей – Троице-Сергиева Лавра, основанная в XIV в. преподобным Сергием Радонежским.
Сергиево-Посадский район – традиционное место упокоения русских святых и монархов – кажется весьма подходящим местом для криоконсервации. «КриоРус» быстро развивается, и его руководство предполагает расширять мощности компании или переезжать в другое место, также под Москвой, где в дополнение к центру крионики с увеличенными исследовательскими возможностями удалось бы организовать также хоспис и вспомогательные помещения для пациентов в терминальной стадии.
Если сравнить российскую компанию с Фондом «Алькор» и Институтом крионики, то ее рост впечатляет. Всего за 10 лет организация смогла крионировать около 50 пациентов и десятки домашних животных (собак, кошек, птиц и шиншиллу)[315]. Одним из первых ее пациенток в 2005 г. стала Лидия Федоренко; пока (в течение нескольких месяцев) готовился контейнер-криостат, тело женщины сохраняли посредством сухого льда. Также в криодепозитарии на нейропрезервации находится бабушка Медведева.
Как и Институт крионики, первоначально «КриоРус» использовал криостаты – большие стеклопластиковые контейнеры, заполненные жидким азотом, теперь, как и Фонд «Алькор», под Москвой применяют дорогостоящие дьюары. Несколько сосудов, разработанных компанией «КриоРус», вмещают всех пациентов компании, а также домашних животных и ткани. Компания накопила достаточно опыта, чтобы в будущих криохранилищах появились новые дьюары; также в ее планах открытие представительств в разных городах и странах.
Заморозка головы в «КриоРус» стоит 15 000 евро, криоконсервация всего тела – 36 000 евро (расходы на РСТ, которые сильно зависят от места происхождения пациента, не включены). Сохранение животных и тканей обходится дешевле. За последние 10 лет компания сумела привлечь пациентов не только из России, но и из таких европейских стран, как Италия, Нидерланды и Швейцария, а также из гораздо более удаленных Австралии, Японии и США. Как и в «Алькоре», более половины пациентов находятся на нейросохранении. Довольно быстрый рост «КриоРус» свидетельствует, что эффективность и доступность услуг способствует популяризации крионики.
Мы продолжаем утверждать, что жизнь зародилась не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы жить, и ожидаем, что к середине века лекарство от старости наконец будет найдено. Однако для этого старению необходимо объявить войну. Крионика – наш запасной план. Концепции бесконечной жизни и успешной заморозки экспериментально доказаны. И нам осталось устранить технические проблемы, для чего необходимы новые научные разработки. Чем скорее мы получим результаты, тем лучше будет для человечества. Вне всяких сомнений, каждая потерянная жизнь – это и утрата, и трагедия: как личная, так и общая. Но предотвратить ее в наших силах. Пока мы, стремясь к бесконечной жизни, ожидаем смерти самой смерти, да здравствует криоконсервация!
«Карета скорой помощи в будущее»
Одним из важнейших нововведений в истории здравоохранения можно назвать создание скорой помощи. Для раненого или попавшего в беду ее своевременное прибытие – вопрос жизни и смерти. Ранее человек, оказавшийся без должной медицинской помощи не в то время и не в том месте, становился жертвой обстоятельств, но теперь специализированный автомобиль доставляет его в учреждение с необходимыми для лечения ресурсами: оборудованием, лекарствами и обученным персоналом.
Наблюдатель может придраться к стоимости вызова скорой в некоторых конкретных случаях, критик – заявить, что услуга – при сохранении того же качества – могла бы обходиться и дешевле. Однако в самой идее сомневаются редко. В ситуации, когда кто-то попадает в беду вне больницы, никто не заявляет: «Что же, жаль, но нужно стоически принимать свою судьбу». Никто не называет тех, кто вызывает скорую пострадавшим родителям, детям, братьям и сестрам, эгоистичными или незрелыми. Наоборот, общество считает вполне естественным требование относительно быстрой и безопасной перевозки из зоны первоначальной опасности в место, где с последствиями несчастного случая справятся должным образом, предоставив потерпевшему шанс вылечиться и, возможно, прожить еще долгие годы.
Задумайтесь о нашем отношении к тем, чье здоровье оказалось в катастрофическом состоянии в неподходящее время. Недуг вот-вот убьет их, однако медицина сумеет помочь только, скажем, лет через тридцать. Что нам думать по поводу «кареты скорой помощи в будущее» для такого больного? (Мы подразумеваем низкотемпературное криоконсервирование человека, при котором его физиологическая деятельность приостанавливается, и он впадает в нечто похожее на глубокую кому.) Чисто теоретически, такая перевозка могла бы стать успешной, скажем, в 5 % случаев. Должны ли мы принять и одобрить возможность такой спасательной машины? Или же нам следует убедить жертву, чтобы та даже не рассматривала планы спасения? Иными словами, посоветовать ей стойко принять судьбу – неминуемую смерть? А если кто-то из членов семьи, пожелав в будущем получить возможность пообщаться с жертвой, попросит о подобной помощи, упрекнуть его в эгоизме или незрелости?
Конечно, аналогия далека от совершенства. Нам известно множество примеров успешной транспортировки пациента на машине скорой помощи, но вот путешествие человека сквозь долгие годы после низкотемпературной приостановки телесных функций еще не получило удачного завершения. Мы можем только посмотреть на фотографии цилиндрических контейнеров, внутри которых находятся крионированные пациенты – кто целиком, а кто только в виде головы. Нет никакой гарантии, что когда-нибудь медицина продвинется до такого уровня, чтобы успешно реанимировать эти тела.
Возражения идее крионики вторят аргументам против реювенирования. Некоторые критики считают, что она неспособна преуспеть: пробуждение пребывающего в низкотемпературном состоянии человека технически невообразимо сложно. Понижение температуры тела до сверхнизкой – даже при условии продуманного применения антифризов, криопротекторов и других сложных химических веществ – может привести к необратимым повреждениям. В конце концов, химикалии токсичны, а крупные органы в процессе охлаждения могут разломиться. Другие говорят, что крионика вообще не подлежит рассмотрению, так как неправильна с нравственной точки зрения, и утверждают, что это злоупотребление ценными ресурсами, злое заблуждение, финансовая афера, а то и что похуже.
Наш ответ на подобную критику, как и на соответствующие замечания в отношении реювенирования: «Мы категорически не согласны». Мы считаем, что большинство таких мнений проистекает из плохой информированности, базируется на ошибочных рассуждениях и других (часто подавляемых) скрытых побуждениях. В обоих случаях – как с реювенированием, так и с криоконсервацией – мы признаем: с инженерной точки зрения это сложные задачи. Но выполнимые. Со временем, вполне возможно, появятся качественные высокотехнологичные способы решения проблемы. Предвестники комплексного инженерного решения уже есть.
Один из предшественников крионики – область, известная как терапевтическая гипотермия. В 1999 г. врач-стажер Анна Богенхольм каталась на лыжах вне трассы на крутом спуске в отдаленном районе Северной Норвегии и упала в замерзший горный ручей. К тому времени, когда прибыл спасательный вертолет, она находилась в ледяной воде уже 80 минут, а ее кровообращение успело остановиться на 40 минут. В журнале The Lancet описывалась ее последующая «реанимация от случайного переохлаждения до 13,7 ℃ с остановкой кровообращения»[316]. Дэвид Кокс в статье для The Guardian под названием «Между жизнью и смертью – сила терапевтической гипотермии» (Between life and death – the power of therapeutic hypothermia) привел такие подробности[317]:
«К тому времени, как Богенхольм была доставлена в Университетскую больницу Северной Норвегии в Тромсё, ее сердце не билось уже целых два часа. Температура тела упала до 13,7 ℃. Женщина во всех смыслах была клинически мертва.
Однако в Норвегии последние 30 лет бытует поговорка: “Ты не умер, пока не умер в тепле”. Заведующий отделением неотложной медицинской помощи больницы Мэдс Гильберт знал по опыту: есть небольшая вероятность того, что сильный холод на самом деле сохранил женщине жизнь.
“За последние 28 лет у нас были 34 пациента со случайным переохлаждением и остановкой сердца. Их отогревали до исходной температуры при сердечно-легочном шунтировании, и 30 % пациентов выжили, – рассказывал он. – Главный вопрос в следующем: когда замерз пациент – до остановки сердца и кровообращения или после?”»
Далее Кокс объяснил некоторые ключевые биологические аспекты:
«Понижение температуры тела останавливает кровообращение, но оно также снижает потребность организма (в частности, клеток головного мозга) в кислороде. Если перед остановкой сердца температура жизненно важных органов успела достаточно опуститься, это может отсрочить гибель клеток от недостатка крови и дать скорой помощи дополнительное время на спасение жизни.
“Гипотермия увлекательна, потому что это обоюдоострый меч, – сообщил Гильберт. – С одной стороны, она может защитить, а с другой – убить. Все дело в степени контролируемости процесса. Надо полагать, что Анна замерзала довольно медленно, но достаточно эффективно, и к моменту остановки сердца ее мозг охладился настолько, чтобы потребность его клеток в кислороде упала до нуля. Правильное искусственное дыхание способно обеспечить до 30–40 % церебрального кровообращения. В подобных случаях этого часто бывает достаточно, чтобы сохранять человеку жизнь на протяжении семи часов, пока мы пытаемся перезапустить ему сердце”».
К счастью, Богенхольм почти полностью выздоровела. Спустя 10 лет после несчастного случая она работала рентгенологом в той же больнице, где ей спасли жизнь. Женщина пережила случайное переохлаждение, но в наши дни врачи все чаще намеренно провоцируют его, чтобы выиграть дополнительное время для проведения сложных медицинских процедур. В своей книге «Экстремальная медицина» (Extreme Medicine)[318], Кевин Фонг рассказал историю Эсмаила Дежбода, лечившегося в 2010 г.[319]:
«Эсмаила Дежбода начали беспокоить болезненные симптомы: тяжесть, временами сильная боль в груди. Томография показала наличие серьезных проблем: аневризмы грудной аорты и отека главной ведущей от сердца артерии. Этот сосуд увеличился вдвое – до диаметра банки кока-колы.
Эсмаил носил в груди бомбу, готовую разорваться в любой момент. Другие аневризмы обычно оперируются достаточно просто. Но в этом месте – в непосредственной близости от сердца – легких вариантов не бывает. Грудная аорта несет кровь из сердца в верхнюю часть тела, снабжая кислородом мозг и другие органы. Для успешной операции нужно прервать этот поток, остановив кровообращение. При нормальной температуре тела, да еще в совокупности с сопутствующим кислородным голоданием, это повредило бы мозг и привело к инвалидности или смерти в течение трех-четырех минут.
Врач Эсмаила, доктор медицинских наук кардиохирург Джон Элефтериадес, решил провести процедуру при использовании глубокого гипотермического циркуляторного ареста (ГЦА). Чтобы охладить тело пациента до 18 ℃ перед полной остановкой сердца, хирург использовал аппарат искусственного кровообращения, затем максимально быстро, не давая пациенту умереть на столе, провел операцию…»
Это сложнейшая операция:
«Хотя у доктора Элефтериадеса большой опыт в ГЦА, по его словам, он каждый раз чувствует себя так, словно испытывает удачу. После того, как кровообращение остановлено, у хирурга есть не более 45 минут до необратимого повреждения мозга пациента; без искусственной гипотермии было бы всего четыре.
Доктор накладывает швы элегантно и эффективно, не делая ни одного лишнего движения. Он должен удалить поврежденный участок аорты длиной около 15 см и заменить его искусственным имплантом. В данный момент в мозге Эсмаила нет электрической активности. Пациент не дышит, у него отсутствует пульс. Физически и биохимически он неотличим от мертвеца».
Эту фразу стоит подчеркнуть: «физически и биохимически он неотличим от мертвеца». Однако его еще можно оживить. Фонг продолжил:
«Через 32 минуты операция завершена. Команда врачей отогревает замерзшее тело Эсмаила, и очень быстро сердце пациента рывками возвращается к жизни, прекрасно перекачивая кровь и доставляя свежий кислород к его мозгу впервые за последние полчаса».
Фонг рассказал о посещении пациента в реанимационном отделении на следующий день:
«Он бодр и здоров. У его постели стоит жена; она очень рада его возвращению».
Кто откажет жене больного в возможности счастливого воссоединения с мужем? Тем не менее критики крионики многих лишили бы шанса предвкушать радостное воссоединение со своими любимыми друзьями и родственниками после завершения заморозки. Они сказали бы, что разрыв между терапевтической гипотермией и крионикой слишком велик и экстраполировать тут неуместно. Температура криоконсервации намного ниже (‒196 ℃), а срок приостановки жизненных функций намного длиннее. Мы же в ответ утверждаем, что есть веские основания считать эту пропасть преодолимой.
Без заморозки
Вторым предвестником, предсказывающим успех криоконсервации, могут служить факты, что некоторые организмы умеют переживать различные виды спячки при температурах ниже нуля. Например, американский длиннохвостый суслик-евражка впадает в спячку на срок до восьми месяцев в году. В течение этого времени температура тела животного падает с 36 ℃ до ‒3 ℃; в это время мороз вне норы может достигать ‒30 ℃. Журнал The New Scientist пишет об этом так[320]:
«Чтобы кровь не замерзла, суслик очищает ее от любых частиц, вокруг которых молекулы воды могли бы превратиться в лед. Из-за этого кровь остается жидкой при отрицательных температурах. Данное явление известно как сверхохлаждение, или переохлаждение».
Различные рыбы из полярных регионов выживают в соленой воде, точка замерзания которой ниже, чем у пресной. Их кровь не замерзает, чему способствуют антифризные белки (AFP), подавляющие рост ледяных кристаллов. AFP[321] работает также у некоторых видов насекомых, бактерий и растений. Примечательно, что личинки аляскинского жука Cucujus clavipes puniceus, как сообщается, выживают при температурах до ‒150 ℃, для чего переходят в стеклообразное состояние[322].
Чемпион по выживанию при сверхнизких температурах – действительно крошечная (менее 2 мм) тихоходка. Эволюционно это очень древний вид – тихоходки существовали около 500 млн лет назад, в кембрийский период. В статье на BBC Earth, со ссылкой на опыты, проведенные в 1920-х гг. монахом-бенедиктинцем Гилбертом Рамом[323], описывается устойчивость этих существ к температурам ниже температуры кипения жидкого азота, которой придерживаются в крионике:
«Рам ‹…› погружал [тихоходок] в жидкий воздух температурой ‒200 ℃ на срок в 21 месяц, в жидкий азот температурой ‒253 ℃ на 26 часов и в жидкий гелий температурой ‒272 ℃ на 8 часов. Впоследствии, как только подопытные соприкасались с водой, они оживали.
Теперь мы знаем, что некоторые тихоходки могут переносить замораживание до ‒272,8 ℃. Это чуть выше абсолютного нуля. ‹…› Животное переносит глубокий холод, при котором останавливаются атомы; он не возникает естественным образом и достижим лишь в лаборатории.
Самая большая опасность, с которой сталкиваются тихоходки при замерзании – лед. Кристаллы, которые могут образовываться в клетках, разрывают на части такие важные молекулы, как, например, ДНК.
Некоторые животные и рыбы вырабатывают антифризные белки; те, снижая температуру замерзания клеток, предотвращают образование льда. Но у тихоходок антифризные белки не обнаружены.
По всей видимости, тихоходки действительно способны переносить внутриклеточное образование льда. Они умеют либо защищаться от повреждений, либо восстанавливаться.
Тихоходки способны выделять химические соединения – льдообразующие агенты, благодаря которым кристаллы льда образуются вне клеток. Аналогичным образом работает трегалоза: она предотвращает образование крупных ледяных кристаллов, которые могли бы пробить клеточные мембраны, и таким образом защищает производящие ее организмы».
Червь-нематода C. elegans, изменение продолжительности жизни которого фигурировало во многих экспериментах, описанных в предыдущих главах этой книги, играет важную роль и тут. Мы хотим обратить внимание на сохранение памяти особей после крионической приостановки их жизнедеятельности при температуре кипения жидкого азота и последующего возвращения к жизни. Опыт был поставлен Наташей Вита-Мор из Университета передовых технологий в Темпе и Даниэлем Барранко из Университета Севильи. Вот описание, которое цитируется по аннотации к статье «Сохранение долговременной памяти у витрифицированных и впоследствии реанимированных особей Caenorhabditis elegans» (Persistence of Long-Term Memory in Vitrified and Revived Caenorhabditis elegans), опубликованной в 2015 г. в журнале Rejuvenation Research[324]:
«Можно ли сохранить память после криоконсервации? Наше исследование – попытка ответить на этот давний вопрос при помощи червя Caenorhabditis elegans. Всем известный модельный организм для биологических исследований помог произвести множество революционных открытий, но на сохранение памяти после криоконсервации еще не проверялся. Цель нашего исследования – проверить восстановление памяти нематод после витрификации (остекленения) и последующего оживления.
Используя метод сенсорного импринтинга у молодых С. elegans, мы установили, что информация, полученная через обонятельные сигналы, формирует поведение животного и сохраняется после витрификации и на взрослой стадии. Наш метод исследования включал обонятельный химический импринтинг при использовании бензойного альдегида на стадии L1, метод быстрого охлаждения SafeSpeed для витрификации на стадии L2, а затем оживление и хемотаксический анализ для проверки сохранности памяти об усвоенной информации уже на взрослой стадии. Результаты нашей проверки после криоконсервации показывают, что механизмы, регулирующие у нематод ароматический импринтинг (форма долговременной памяти), не были изменены в процессе витрификации или медленного замораживания».
В статье «Наука вокруг крионики» (The Science Surrounding Cryonics), опубликованной Вита-Мор с соавторами в MIT Technology Review, результат этого опыта связывался с общей идеей. Обсуждался вопрос «Существует ли какая-либо вероятность того, что человеческая память и сознание смогут пережить крионическую приостановку жизненных функций?». Вита-Мор и ее коллеги написали об этом следующее[325]:
«Какие именно молекулярные и электрохимические характеристики мозга лежат в основе сознательного разума, остается известным далеко не полностью. Однако имеющиеся данные подтверждают, что мозговые функции, кодирующие воспоминания и определяющие поведение, могут сохраниться во время и после криоконсервации.
Крионика уже используется в лабораториях по всему миру для хранения клеток животных, человеческих эмбрионов и некоторых организованных тканей сроком до 30 лет. При криоконсервации биологического образца добавляются особые вещества – криопротекторы, такие как ДМСО[326] или пропиленгликоль, а сама ткань охлаждается ниже температуры перехода в стеклообразное состояние (обычно около ‒120 ℃), при которой активность молекул замедляется более чем на 10–13, эффективно тормозя биологическое время.
Хотя никто доподлинно не знает физиологии каждой клетки, криоконсервации поддаются практически все мыслимые их разновидности. Точно таким же образом, неврологическая основа памяти, поведения и других особенностей личности человека может быть ошеломляюще запутанной, но понимание этой сложности и возможность ее сохранить никоим образом не зависят друг от друга».
Затем Вита-Мор и коллеги выделили среди фактов, добытых с помощью C. elegans, свидетельства того, что воспоминания способны пережить криоконсервацию:
«На протяжении долгих лет C. elegans обычно подвергали криоконсервации при температуре жидкого азота, а затем возвращали их к жизни. В этом году, используя анализ воспоминаний о долговременных импринтинговых ароматических ассоциациях, один из нас опубликовал результаты, свидетельствующие о том, что C. elegans сохраняют навыки, приобретенные до витрификации. Точно так же было показано, что после криоконсервирования мозговой ткани кролика долговременная потенциация нейронов (механизм памяти) остается неизменной.
Обратимая криоконсервация больших человеческих органов, таких как сердце или почки, куда сложнее сохранения клеток. Но изучение этой темы представляет собой область активных исследований, имеющую большое значение для здравоохранения, поскольку в случае успеха данная технология значительно увеличила бы запас органов для трансплантации. Ученые добились значительного прогресса в этой сфере: успешно осуществлены криоконсервация и последующая пересадка овечьих яичников и конечностей крыс, а восстановление функций почки кролика после охлаждения до ‒45 ℃ проводится регулярно. Успехи в совершенствовании этих технологий косвенно подтверждают идею, что с помощью современных или находящихся в разработке методов мозг, как и любой другой орган, сможет быть адекватным образом криоконсервирован».
Заметьте, крионисты очень четко понимают, что их метод сохранения стоит называть «витрификацией», а не «замораживанием». На сайте одного из ведущих поставщиков крионических услуг, а именно Фонда «Алькор», разница объясняется просто и с легко понятной графикой. Вот главный вывод[327]:
«Поскольку при витрификации лед не образуется, ткани отверждаются без структурных повреждений».
При учете этого факта прямо-таки любопытно (ну, почти) наблюдать за тем, как всевозможные громкие оппоненты крионики стремятся дискредитировать саму идею и драматически демонстрируют структурный ущерб, нанесенный овощам и фруктам вроде клубники или моркови последовательной заморозкой и размораживанием. Они едва ли не глумятся: «Как крионисты могут быть столь глупы?» А мы испытываем искушение ухмыльнуться в ответ: «Как критики могут так страшно перепутать основные факты?» Неужели эти господа действительно не знают об успешном криоконсервировании человеческих эмбрионов, играющем центральную роль в процедуре ЭКО? Разве они не слышали о витрификации кроличьей почки, охлажденной до ‒122 ℃, размороженной и успешно пересаженной в качестве рабочего органа другому кролику в 2002 г. Грегом Фэхи и его коллегами из компании 21st Century Medicine[328]?
Как мы видели, это нечто большее, чем разумная дискуссия. Это еще один пример разрыва между двумя парадигмами, когда влияние негативной психологии мешает некоторым наблюдателям серьезно относиться к возможностям крионики. Вероятность ее работоспособности представляет серьезную угрозу для привычной системы воззрений, которая гласит, что «хорошие люди принимают неизбежность старения и смерти и не должны с ней бороться». Поэтому те, кого устраивает подобный исход, склонны критиковать «крионическую» точку зрения. Это может объяснить, почему они так бездумно, словно попугаи, повторяют заученные технические, экономические или социологические возражения, которые, откровенно говоря, не выдержали бы серьезного, взвешенного рассмотрения. Как объяснял Макс Мор[329]:
«Когда через 50–100 лет мы оглянемся назад, то покачаем головой и скажем: “О чем они только думали? Брали почти дееспособных людей с разве что легкими дисфункциями и сжигали в печи или закапывали в землю, а ведь уже существовали те, кто мог бы их просто криоконсервировать”».
Грядущий рывок крионики и других технологий
О криоконсервировании с различных точек зрения можно сказать гораздо больше. Требуется значительное время, чтобы разобраться во всех возражениях и недоразумениях, возникших вокруг этой технологии. Для увлекательного введения в тему рекомендуем глубоко познавательную статью Тима Урбана «Почему крионика имеет смысл» (Why Cryonics Makes Sense), опубликованную в марте 2016 г. на сайте Wait But Why[330].
Статья, в свою очередь, содержит ссылки на множество дополнительных материалов. Читатели также могут оценить богатство перспектив, описанное в томе «Сохранение мозга и спасение жизни» (Preserving Minds, Saving Lives), который доступен на сайте «Алькор»[331].
Сделаем теперь, пожалуй, несколько заключительных замечаний о крионике и о том, почему мы считаем, что эта технология не только реальна, но и станет очень значимой в ближайшие годы:
● экономические затраты на криоконсервацию, длительное хранение и (если все пойдет хорошо) последующую реанимацию в скором времени будет покрывать полис страхования жизни;
● если количество желающих сильно возрастет (уже знакомый нам принцип извлечения преимущества из масштабности), траты на каждого криопациента снизятся в несколько раз;
● пока парадигма «принятия старения» остается повсеместно распространенной, большинство людей будут испытывать сильное социальное и психологическое давление не в пользу исследований в сфере крионики и, соответственно, подписания соответствующих соглашений. Однако по мере того, как система таких взглядов утратит актуальность (что, как мы верим, произойдет), а достижения реювенирования станут известнее, количество тех, кто примет новую технологию, возрастет;
● повышенный интерес к этой теме также приведет к тому, что все больше людей будут исследовать и улучшать область крионики, совершенствовать технологии, инженерию, сети поддержки, бизнес-модели, организационные структуры и методы коммуникации с более широкой аудиторией. В свою очередь, появившиеся вследствие этого инновации повысят привлекательность выбора в пользу криоконсервации;
● по мере того, как выдающиеся деятели в областях развлечений, бизнеса, искусства и в научных кругах станут все больше одобрять эту идею, в обществе возрастет число тех, кому будет приемлемо назваться крионистом.
Криоконсервация – далеко не единственная идея, с помощью которой людей можно будет перенести из нынешней эры ДО (до омоложения) в эру ПО (после омоложения). Несомненно лишь одно: крионика будет продолжать распространяться, особенно сейчас, когда мы уже так близки к отмене старения. Мы имеем дело с последним поколением смертных и первым – бессмертных. Если люди будут знать, что существует хотя бы малая вероятность возрождения в будущем, они не захотят умирать и быть кремированными или похороненными.
Криоконсервация – главная «радикальная альтернатива». Но будущее способно предложить нам не только ее. Главная мотивация для крионики – вероятность того, что в какой-то момент медицина сумеет разработать чрезвычайно мощные методики омоложения. Использование этих будущих терапевтических методов вылечит пациентов от тех болезней, которые были почти смертельными перед криоконсервацией. В сущности, подобными способами пациенты могли бы когда-нибудь вернуть себе отменное здоровье, а до того, как нам думается, допустимо оставить их на неопределенный срок в жидком азоте.
Ученые также проводят эксперименты по сохранению мозга другими способами. Мы считаем, что фундаментальной задачей является сохранение структуры синапсов в момент смерти. Вероятно также, что мы даже при жизни сможем считывать содержание связей между клетками мозга с помощью других методик и технологий. Уже существуют устройства, которые улавливают информацию от более чем 500 отдельных нейронов, и это число будет продолжать расти с экспоненциальной скоростью.
Мы только начинаем постигать вычислительную мощь и запутанность человеческого мозга: он содержит почти сто миллиардов нейронов и является самой сложной из известных нам структур во Вселенной. Однако, по научным оценкам, лет через двадцать – тридцать мы сможем создавать и гораздо более сложные структуры, а ученые тем временем уже закончат разрабатывать искусственный мозг. Согласно закону ускоряющейся отдачи Курцвейла, прогнозируется, что ИИ в 2029 г. пройдет тест Тьюринга, а после, в 2045 г., достигнет «технологической сингулярности» и станет неотличим от человеческого. Все знания, воспоминания, переживания и чувства станет возможным загрузить в компьютер или интернет («облако»), память которого будет превосходить человеческую и поддаваться расширению.
Искусственная память, как и емкость ИИ, а также скорость обрабатываемых им данных, тоже будет расти. Благодаря непрерывному развитию технологий все это станет происходить в рамках ускоренного процесса совершенствования человеческого интеллекта. Люди только-только ступили на увлекательный путь от биологической эволюции к технологической – новой эволюции сознания и разума. Согласно Курцвейлу, один килограмм компьютрониума, или вычислениума (гипотетическая максимально организованная программируемая материя), в теории имеет способность обрабатывать около 5×1050 операций в секунду – цифру, истинную величину которой можно осознать, если сравнить с производительностью человеческого мозга, у которого она составляет от 1017 до 1019. Таким образом, у нас все еще имеется огромный потенциал для развития (более чем на несколько порядков), чтобы и дальше увеличивать человеческий и следующий за ним постчеловеческий интеллект, переходя от обычного биологического мозга к усиленному и дополненному постбиологическому. И все это являет собою часть идеологии продления и дополнения жизни. Вот как Курцвейл завершил свою книгу «Эволюция разума»[332]:
«Разбудить Вселенную и разумно распорядиться ее судьбой с помощью нашего человеческого разума в его небиологической форме – это наше предназначение».
Глава 9
Будущее зависит от нас
Быстрый прогресс истинной науки иногда вызывает у меня сожаление, что я родился так рано. Невозможно представить себе той высоты, которой достигнет власть человека над материей через тысячу лет. ‹…› Наша жизнь будет по желанию продлена даже за пределы глубокой старости.
БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН, 1780 Г.
Это не конец. Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала.
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, 1942 Г.
Мы хотим жить вечно, и мы на пути к этому.
БИЛЛ КЛИНТОН, 1999 Г.
Да, указано, что я умру; нет, на самом деле умирать я не собираюсь.
СЕРГЕЙ БРИН, 2017 Г.
Проект реювенирования значительно продвинулся за последние 30 лет. Теперь старение изучено гораздо лучше, чем когда бы то ни было ранее. Более того, как видно из предыдущих глав, в следующие 20–30 лет нам следует ожидать ускорения темпов прогресса и, как следствие, создания все новых биоинженерных методов терапии на основе все возрастающего багажа знаний. Есть вполне вероятные сценарии развития событий, согласно которым уже примерно к 2040 г. страшные возрастные болезни могут стать настолько же редким явлением, как сегодня, скажем, оспа и полиомиелит.
Тем не менее впереди еще много неясного. И непонятны не просто какие-то незначительные детали, скажем, краткосрочное влияние какого-то препарата на здоровую продолжительность жизни окажется наилучшим или какой-то алгоритм ИИ предоставит лучшие выкладки для модификации генных последовательностей. Неопределенность наблюдается в фундаментальных вопросах: существуют проблемы, которые могут поставить под угрозу весь проект.
Пришло время внимательнее рассмотреть наиболее значимые потенциальные помехи. Из тех вопросов, которые слушатели наших лекций задают о возможностях реювенирования, труднее всего ответить на следующие.
Не чрезмерна ли техническая сложность?
Иногда задача оказывается гораздо труднее, чем ожидалось. Для примера возьмем термоядерный синтез.
Уже долгое время нам постоянно твердят, что до успешной реакции слияния ядер осталось всего три десятилетия. Недавняя статья Натаниэля Шарпинга в Discover «Почему до термоядерного синтеза в любой момент остается 30 лет» (Why Nuclear Fusion Is Always 30 Years Away) обобщила опыт в этой научной области[333]:
«Термоядерный синтез уже давно считается этаким “святым Граалем” энергетических исследований. Ведь это почти безграничный источник чистой, безопасной и самодостаточной энергии. С того момента, как в 1920-х гг. английский физик Артур Эддингтон обосновал теоретическую возможность данной технологии, она будоражит воображение ученых и фантастов.
Идея термоядерного синтеза, в сущности, проста: берете два изотопа водорода и сталкиваете их с сокрушительной силой. Атомы, преодолев естественное взаимное отталкивание, сливаются – идет реакция, в ходе которой выделяется огромное количество энергии.
Однако большая выгода требует соответствующих инвестиций. В течение долгих лет мы боролись с дороговизной водородного топлива и стабилизацией реакции при температуре выше 83,5 млн ℃. ‹…›
Недавно из Германии в режиме реального времени транслировался успешный испытательный запуск реактора Wendelstein 7-X при его разогреве почти до 100 млн ℃, а в Китае реактор EAST выдержал термоядерную плазму, пусть и при более низкой температуре, в течение 102 секунд.
Между тем специалисты все равно продолжают повторять, что до работающего термоядерного реактора нам, как и раньше, остаются те же 30 лет. По мере того, как ученые приближаются к «святому Граалю», становится все яснее: мы пока еще даже не знаем, чего именно мы не знаем».
Затруднение в том, что каждый шаг вперед, кажется, вскрывает все новые проблемы, решать которые так же трудно, как и предыдущие, то есть любой ответ влечет за собой новые вопросы:
«Опыты в реакторах Wendelstein 7-X и EAST были названы “прорывами”, но об экспериментах по термоядерному синтезу так говорят постоянно. Как бы ни восхищали эти примеры, в масштабе вопроса они капля в море. Очевидно, что для достижения реакции потребуются не один и даже не десять подобных “прорывов”.
“Не думаю, что на данном этапе мы вообще понимаем, каким образом следует преодолевать порог, – говорит Марк Германн, директор Национального комплекса зажигания (Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций) в Калифорнии. – Мы все еще пытаемся определить научные принципы процесса. Какие-то препятствия, возможно, были устранены, но не скрывается ли за ними что-то еще? Почти наверняка, да, скрывается, но пока неизвестно, насколько трудными окажутся новые задачи”».
Может ли проект реювенирования столкнуться с аналогичными, усложняющими все проблемами? Вдруг любое усовершенствование какого-нибудь нюанса биологического строения человека возымеет побочный эффект? Например, иммунная система при стимуляции начнет атаковать клетки, необходимые для нормального функционирования организма, как в случае с чрезмерно агрессивным иммунитетом, который разрушает производящие инсулин островковые клетки поджелудочной железы, в результате чего развивается диабет I типа. И повторное биоинженерное вмешательство, направленное на устранение непредвиденных последствий, в свою очередь, приведет к еще большим осложнениям. Аналогичным образом удлинение теломер может спровоцировать рост раковых заболеваний. Это маловероятно, но возможно.
Одна из причин сомневаться в том, что впереди нас ожидает столь основательный технологический тупик – наши знания о существах, живущих дольше людей, в том числе и тех, что обладают пренебрежимым старением. Тем не менее, в принципе, есть шансы, что какие-нибудь присущие исключительно человеку качества способны каким-то образом помешать его усовершенствованию. Может случиться так, что реювенирование будет постоянно откладываться по неизвестным пока причинам, тем самым повторяя историю термоядерного синтеза.
В конце концов, порой решение легкой в формулировке задачи способно потребовать обработки огромного количества данных. Например, теорема Пьера де Ферма, в 1637 г. изложенная им на полях учебника. Она очень короткая: «Уравнение an + bn = cn не имеет решений среди положительных целых чисел при n > 2». Между тем поиск ее доказательства занял у математического сообщества в общей сложности 358 лет. Доказательство, приведенное Эндрю Уайлсом, публиковалось в двух выпусках Annals of Mathematics и заняло более 120 страниц, из которых почти 10 страниц заняли ссылки на предшествующие работы[334]. Эта многовековая эпопея, несомненно, потрясла бы и самого Ферма, который был убежден, что нашел доказательство теоремы, однако оно оказалось слишком длинным для записи на полях все той же книги.
Впрочем, несмотря на возможные параллели с термоядерным синтезом и теоремой Ферма, мы считаем маловероятным, что на пути реювенирования появятся неразрешимые технические сложности. Если есть возможность рассмотреть разные способы биоинженерного омоложения, совершенно необязательно сосредотачиваться на исследовании какой-то одной технологии.
Кроме того, медленный прогресс термоядерного синтеза объясняется не только техническими проблемами. Шарпинг также указал, что проект тормозят недостаток финансирования и политические преграды, стоящие на пути международного сотрудничества:
«Суть проблемы лежит не только в области науки.
В конечном счете, вопрос может заключаться и в финансировании. Многие уверены, что при лучшей поддержке исследования продвигались бы быстрее. Проблемы с бюджетом, конечно, не редкость для науки, но сложность ситуации с термоядерным синтезом в том, что сроки реализации проекта растягиваются на целое поколение. Да, потенциальная выгода очевидна, а технология на самом деле устранила бы дефицит энергии и разрешила бы экологические проблемы, однако тот час, когда мы наконец увидим ее результаты, еще очень далек.
По словам Лабана Кобленца, руководителя отдела коммуникаций Международного экспериментального термоядерного реактора (International Thermonuclear Experimental Reactor, сокр. – ITER), ожидание немедленной прибыли от инвестиций уменьшает энтузиазм в области термоядерных исследований.
“От футбольных тренеров результат ожидают в течение двух лет, иначе им указывают на дверь. Так же обстоят дела и с политиками, у которых на все про все есть два, четыре или шесть лет. То есть окупаемость инвестиций ограничена коротким отрезком времени, – говорит он. – Поэтому, если кто-то сообщает, дескать, все будет готово через 10 лет, то неизвестно, как все пойдет на самом деле”.
В США на исследования термоядерного синтеза ежегодно выделяется менее 600 млн долларов, включая пожертвования граждан в ITER. Относительно небольшая сумма по сравнению с теми 3 млрд долларов, которые министерство энергетики запросило на научную работу в 2013 г. В целом же в тот год на энергетические исследования США выделили 8 % от общего объема государственного финансирования научной деятельности.
“Если оценивать ситуацию, исходя из бюджета энергетики или военных разработок, то это и не такие большие деньги, – дал комментарий Томас Педерсен, руководитель отдела Института физики Общества Макса Планка. – По сравнению с другими научными исследованиями наш проект кажется очень дорогим, но если сопоставить с добычей нефти, ветряками или субсидиями на возобновляемые источники энергии, то наши бюджеты окажутся намного, намного ниже”».
Шарпинг пришел к выводу, что прогресс технологии термоядерного синтеза зависит от политической воли:
«До обретения термоядерной энергии все время остается 30 лет.
Какое-то время назад мы уже увидели финишную прямую, но тем не менее, когда мы делаем шаг вперед, она, подобно горной вершине, отступает все дальше и дальше. Мы двигаемся впотьмах, преодолеваем препоны – не только технологические, но и политические, а также экономические. Кобленц, [Хатч] Нильсон и [Дуарте] Борба твердо убеждены, что синтез достижим. Сроки, однако, могут в значительной степени зависеть от того, насколько сильно он нам потребуется.
Советский физик Лев Арцимович, “отец токамака”, сформулировал это, вероятно, лучше всех:
“Синтез будет готов тогда, когда он будет нужен обществу”».
В этом аспекте сравнение синтеза и реювенирования действительно уместно:
● в обоих случаях технические аспекты чрезвычайно сложны, однако вполне выполнимы;
● прогресс зависит от широты международного сотрудничества, подкрепленного политической поддержкой (мы поговорим о ней ниже);
● насколько скоро начнется взаимодействие и как хорошо оно будет поддержано, зависит, в свою очередь, от общественного спроса на решение проблем.
Подозреваем, кстати, что, если бы выживание человечества было напрямую завязано на доказательство теоремы Ферма, его нашли бы гораздо быстрее. В осадном положении – при наличии инфраструктуры, поддерживающей сотрудничество блестящих умов, – интеллект способен на чудеса.
Недостатки рынка?
Необходимость разумного регулирования, а в более общем плане также осведомленного государственного руководства технологическим развитием подчеркивается рядом наблюдений. Они сходятся в том, что предоставленный сам себе свободный рынок может давать не самые оптимальные результаты и даже идти к катастрофе.
Один из примеров – ситуация с фармацевтическими компаниями, которые регулярно снижают приоритет разработки лекарств от заболеваний, свойственных населению с низким доходом. Для решения этой проблемы в 2003 г. была создана организация «Инициатива по лекарствам против игнорируемых болезней» (Drugs for Neglected Diseases initiative, сокр. – DNDi). На ее сайте представлена отрезвляющая информация по некоторым из этих недугов[335]:
● Малярия: в Африке к югу от Сахары от нее ежеминутно умирает один ребенок (около 1300 детей ежедневно).
● Детский ВИЧ: во всем мире, главным образом в странах Африки к югу от Сахары, с ВИЧ живут 2,6 млн детей в возрасте до 15 лет, из них каждый день умирают 410 человек.
● Филяриатозы: 120 млн человек заражены слоновой болезнью и 25 млн – речной слепотой.
● Сонная болезнь: эндемична для 36 африканских стран, в группе риска 21 млн человек.
● Лейшманиоз: встречается в 98 странах, в группе риска 350 млн человек по всему миру.
● Болезнь Шагаса: эндемична для 21 страны Латинской Америки, в регионе от нее умирает больше людей, чем от малярии.
Короче говоря:
«Игнорируемые болезни остаются причиной высокой заболеваемости и смертности в развивающихся странах. Между тем только 4 % из 850 новых терапевтических продуктов, одобренных в период 2000‒2011 гг., и всего 1 % от одобренных новых химических соединений показаны для лечения вышеозначенных заболеваний, несмотря на то, что на них приходится 11 % от глобального бремени болезней».
Такая ситуация неудивительна, если учесть, что работу компаний сдерживают интересы акционеров. Например, в статье Глина Муди от 2014 г. «Генеральный директор Bayer: Мы разрабатываем лекарства для богатых западных людей, а не для бедных индийцев» (Bayer’s CEO: We Develop Drugs for Rich Westerners, Not Poor Indians) описывалась политика, заявленная фармацевтическим гигантом Bayer, и цитировалось принципиальное мнение генерального директора компании Марейна Деккерса[336]:
«Мы разрабатывали это лекарство не для индийцев, а для западных пациентов, которые смогут его себе позволить».
Этот курс определен целью компании – получать прибыль, которая обеспечила бы акционерам максимальный доход. Именно по этой причине DNDi выступает за «альтернативную модель», описывая свое видение организации процесса так:
«Улучшить качество жизни и здоровье людей, которые страдают от игнорируемых заболеваний, используя альтернативную модель разработки лекарств и обеспечивая справедливый местный доступ к новым и актуальным инструментам здравоохранения.
В данной некоммерческой схеме, которая управляется государственным сектором, взаимодействие игроков направлено среди прочего на информирование общества о необходимости изучать те игнорируемые заболевания, что выходят за рамки рыночных исследований и разработок. Участники также настроены на ответственность перед людьми и лидерство в удовлетворении потребностей подобных пациентов».
Упомянув суровый комментарий генерального директора Bayer Деккерса, Глин Муди рассказал, что в прошлом фармацевтические компании выказывали более широкую мотивацию, и в качестве примера привел высказывание Джорджа Мерка от 1950 г.[337]:
«Мы стараемся не забывать, что медицина для людей. Она не ради дохода. Прибыль прилагается, а если помнить об этом, то и не иссякает. Чем лучше мы это осознавали, тем она была больше. ‹…›
Мы не можем отстраниться и заявить, что уже достигли своей цели, поскольку изобрели новое лекарство или способ исцеления неизлечимых заболеваний, новый вид помощи для тех, кто недоедает, или идеально сбалансированную диету для всего человечества. Мы не сможем успокоиться, пока не найдем способ донести наши важнейшие достижения до каждого».
В какой мере поведение компаний, которые обладают технологией, позволяющей значительно повысить человеческий потенциал (и, возможно, даже уникальной), зависит от узких рамок финансовых стимулов? Чем это определяется? Кроме материальной мотивации, нужно учитывать и другие факторы.
Даже в рамках собственных параметров (стимулирование оптимальной торговли и накопление капитала) свободный рынок не застрахован от падения. Аргументы в пользу разумного надзора и регулирования хорошо представлены в книге 2009 г. «Как падают рынки: Логика экономических катастроф»[338], написанной журналистом из The New Yorker Джоном Кэссиди[339].
Книга содержит размашистый, но убедительный обзор понятия, которое Кэссиди сначала называет «утопической экономикой», а потом последовательно и решительно критикует. Таким образом, труд представляет собой полезное руководство по истории экономического мышления и охватывает работы Адама Смита, Фридриха Хайека, Милтона Фридмана, Джона Мейнарда Кейнса, Артура Пигу, Хаймана Мински и др.[340]
Главная мысль книги в том, что рынки время от времени терпят крах, а порой – и потенциально катастрофическими способами. Чтобы этого избежать, чрезвычайно важна – и даже порой необходима – определенная доля государственного надзора и вмешательства. Идея не нова, но принимается немногими. Однако Кэссиди тщательно выстраивает свою аргументацию.
«Утопическая экономика», по словам Кэссиди, – это широко распространенное представление о том, что личные интересы людей и организаций, которым предоставляют свободу выражения на рынке, все равно приводят к результатам, благоприятным для всей хозяйственной системы. Первые восемь глав книги в благожелательном тоне излагают историю мнений относительно данной концепции, попутно приводя примеры, в которых сторонники свободного рынка, несмотря ни на что, описывают случаи, требующие вмешательства и контроля со стороны правительства.
Следующие восемь глав отведены истории критики концепции. Эта часть книги называется «Экономика, основанная на реальности» (Reality-based economics), и охватывает такие темы, как:
● теория игр («дилемма заключенного»);
● поведенческая экономика (начало ей положили Даниэль Канеман и Амос Тверски), в том числе и «эффект близорукости к катастрофам»;
● проблема излишков и экстерналий (например, загрязнение окружающей среды), с которыми в полной мере можно управиться только с помощью централизованной коллективной работы;
● недостатки скрытой информации и сбои «ценовых сигналов»;
● потеря конкурентоспособности при приближении к монопольным условиям;
● недостатки в политике управления банковскими рисками (значительная недооценка последствий при серьезных отклонениях от обычного режима ведения дел);
● проблемы с асимметричной структурой премий;
● извращенная психология инвестиционных пузырей.
Все эти факторы мешают рынкам находить оптимальные решения. Подытоживая, Кэссиди перечисляет четыре «иллюзии» утопической экономики:
● «Иллюзия» гармонии: свободный рынок всегда дает хороший результат.
● «Иллюзия» стабильности: надежность рыночной экономики.
● «Иллюзия» предсказуемости: распределение прибыли можно предвидеть.
● «Иллюзия» Homo economicus: каждый рационален и идеально осведомлен.
Эти «иллюзии» по-прежнему бытуют во многих областях экономики. Они также лежат в основе технолибертарианского оптимизма, идее, согласно которой технологиям будет под силу и без государственного вмешательства решать такие социальные и климатические проблемы, как терроризм, скрытое наблюдение, разрушение окружающей среды, экстремальное изменение климата, угрозы от новых патогенов и растущие траты на старческие болезни.
Свободные рынки и инновационные технологии в совокупности действительно стали колоссальной движущей силой прогресса. Однако чтобы полностью раскрыть свой потенциал, они нуждаются в разумном надзоре и регулировании, без которых вместо устойчивого изобилия и общедоступного здорового долголетия способны ввергнуть общество во мрак Средневековья.
Бывают ли дурные способы творить добро?
Ради тех читателей, для которых обсуждение политики в предыдущих разделах выходило за пределы их зоны комфорта, переведем повествование в плоскость, скажем так, философскую.
Одна из самых значительных угроз для проекта реювенирования – преобладающее в общественном сознании искаженное представление о достойном образе действий. В стремлении вызвать восхищение своими поступками люди могут тем не менее руководствоваться идеями, которые в итоге принесут скорее вред, чем пользу. Подвергаясь социальному и психологическому давлению, они застревают – сознательно или бессознательно – в парадигме принятия старения. Такое мировоззрение способно нанести ущерб – как им самим, так и их согражданам.
В частности, если люди убеждены, что их решение принять прогрессирующее старение и надвигающуюся смерть как нечто должное и естественное принесет им похвалу, они будут склонны выступать против мер, которые способствовали бы радикальному продлению жизни. Неважно – сознательно или бессознательно, – но они ошибочно сочтут подобные шаги неуместными, неуравновешенными, несоразмерными, алчными, эгоистичными или ребяческими.
Принявшие традиционный образ мышления предпочтут, чтобы общество вкладывало время и усилия в проекты, которые изначально воспринимают старение как данность и направлены, к примеру, на помощь пожилым: организацию общения с соседями или более дешевого транспорта, улучшение условий «проживания с уходом». Также им, возможно, будет удобнее поддержать доступность образования для людей всех возрастов или увеличение количества тех, кто, избежав в юности или зрелости несчастных случаев или болезней, сумел дожить до глубокой старости. С точки зрения тех, кто принял традиционный образ мышления, восхищения достойно любое из перечисленных начинаний: это и есть приемлемый способ приносить пользу. Однако все эти люди слепы к тому, что есть способ творить добро, используя ум во благо.
Выражение «Ум во благо» послужило названием книги, которую в 2015 г. написал Уильям Макаскилл[341]. Ее подзаголовок «От добрых намерений – к эффективному альтруизму». В возрасте 28 лет автор стал одним из самых молодых профессоров Оксфордского университета. На своем сайте он представляет книгу следующим образом[342]:
«Вы хотите изменить мир? Возможно, вы покупаете этичные продукты, жертвуете на благотворительность или работаете волонтером – все во имя общей пользы. Но как часто вы осознаете свое реальное влияние?
В этой книге я утверждаю, что многие способы достижения перемен малорезультативны, но у каждого человека, если его усилия будут направлены на наиболее эффективные цели, есть огромная возможность изменить мир к лучшему».
Некоторых такой холодный расчет беспокоит, отчасти он им кажется даже бесчеловечным. Но защитники эффективного альтруизма приводят веские доводы в пользу того, что, если не продумывать подобные соображения, нельзя будет ни реализовать собственный потенциал, ни облегчить удел людей. Если мы и правда хотим принести реальную пользу, а не просто радоваться красивым жестам, пусть они и делались с целью улучшить человеческое существование, то приоритеты следует переосмыслить.
При этом стоит серьезно оценивать шансы. При условии, что при успехе методов омоложения увеличение QALY окажется очень значительным, то в случае отмены старения продление здоровой продолжительности жизни может оказаться еще выгоднее.
Обри ди Грей привел аналогичный аргумент в 2012 г. в ходе проходившей в Оксфорде презентации «Экономическая эффективность омолаживающих исследований» (The cost-effectiveness of anti-aging research)[343]:
● Если мы действительно хотим предотвратить смерть, нам придется обратить самое пристальное внимание на фактор, который отвечает примерно за две трети летальных исходов в мире, а именно – на старение (обратим внимание, что цифра включает также летальные исходы от болезней старости, которые в ее отсутствие просто не случились бы).
● Такой высокий процент (в промышленно развитых странах смертность превышает 90 %) превращает старение в «однозначно самую серьезную проблему в мире».
● Если в дополнение рассмотреть предшествующие старости долгие годы, за время которых функциональность снижается, а инвалидность растет, идея об отмене старения станет еще важнее.
● У методик, замедляющих старение, появится преимущество откладывать немощь и начало болезней на неопределенный срок. Терапии, которые помогут бесконечно восстанавливать возрастные повреждения тела и клеток, позволят еще больше увеличить ожидаемый показатель QALY.
● Затраты, которые значительно продвинут омолаживающие терапии, совсем не обязательно должны быть огромными: чтобы методы, предложенные SENS, прогрессировали до такого уровня, какой оказал бы радикальное воздействие на мышей среднего возраста, вполне достаточным может оказаться ежегодный бюджет около 50 млн долларов на протяжении 5–10 лет.
● Как только под воздействием омолаживающих методик остаточная здоровая продолжительность жизни мышей среднего возраста, ранее не получавших специального лечения, увеличится более чем на 50 %, к имеющимся источникам финансирования присоединятся другие, поскольку правительства, предприятия и филантропы к тому времени осознают огромный потенциал подобных технологий, в том числе и в отношении людей.
По мнению ди Грея, безотлагательная задача – проведение разумной разъяснительной деятельности по поводу необходимых научно-исследовательских бюджетов на ближайшие сроки (вплоть до того момента, когда явная демонстрация надежного омоложения грызунов изменит общественное мнение). Когда большее количество людей найдет время на беспристрастное обдумывание концептуальных методов эффективного альтруизма и, возможно, их применение, пропаганда таковых наконец сыграет свою роль и послужит стимулом. Но все равно, чтобы преодолеть равнодушное принятие старения, глубоко укоренившееся в обществе, потребуется множество усилий (и разумного маркетинга).
Что насчет равнодушия общества?
Если не вдаваться в подробности, преодолевать апатию и менять мир можно двумя способами: либо делать это самому, либо руками других, предварительно внушив им важность перемен. Иными словами, либо приниматься за реальную работу, либо за рассуждения, насколько стало бы хорошо, если бы люди совершили то-то и то-то.
Первый подход – действенный – оптимален для инженеров, предпринимателей, дизайнеров и т. п., тогда как второй – идеологический – доступен в принципе любому, кто способен заявить о важности той или иной идеи.
Мы за оба подхода, но должны признать, что второй часто подвергается резкой критике. В эпоху обмена мгновенными сообщениями, когда мириады людей в пижамах, даже не встав с кровати, могут нажать в интернете на кнопку «Нравится», стало модным порицать слактивизм[344] (также в ходу менее едкие формулировки «диванный активизм» и «клик-активизм»). В своей статье в NPR «Дивный новый мир слактивизма» (Brave New World of Slacktivism) критик Евгений Морозов прямо-таки испепелил презрением вышеозначенную практику[345]:
«Слактивизм – подходящий термин для описания жизнеутверждающей активности в интернете, не имеющей какого-либо политического или социального эффекта. Такая деятельность дает участникам диванных кампаний иллюзию значимого влияния на мир, не требуя взамен ничего, кроме присоединения к группе в Facebook. Помните ту онлайн-петицию, которую вы подписали и разослали по своим контактам? Тогда, пожалуй, вы совершили поступок, характерный для слактивизма.
Слактивизм – идеальный тип деятельности для ленивого поколения: к чему беспокоиться о сидячих забастовках и риске ареста, жестокости полиции или пытках, если столь же громко можно агитировать в виртуальном пространстве? Если учесть привязку СМИ к цифровому пространству – от блогов до социальных сетей и Twitter – можно быть почти уверенным, что каждый щелчок мыши, направленный на благородные цели, немедленно привлечет внимание журналистов. То, что оно не всегда означает эффективность кампании, уже дело десятое. ‹…›
Реальный вопрос заключается вот в чем: побудит ли простота слактивизма того, кто раньше противостоял режиму демонстрациями, листовками и забастовками, уйти в Facebook и присоединиться там к полчищу тематических онлайн-пабликов? Если ответ будет «да», то хваленые инструменты цифровой свободы лишь отдалят нас от демократизации и построения глобального гражданского общества».
Мы не согласны с такой негативной оценкой, поскольку осознаем чрезвычайную важность онлайн-пропаганды для знакомства общества с огромным потенциалом реювенирования и серьезный риск от возможного злоупотребления формирующими ее технологиями. Например, за последнее десятилетие социальные сети оказали значительное влияние на смену правительств в ряде стран Ближнего Востока и других частей мира.
Помимо соцсетей, свою важность сохраняют традиционные СМИ (печать, радио, телевидение) и другие формы подачи информации (кино, музыка, книги, лекции, поэзия и живопись). Даже видео на YouTube может способствовать мобилизации людей. Потрясающий ролик «Зачем стареть? Должны ли мы навсегда покончить со старением?» (Why Age? Should We End Aging Forever?) за четыре месяца посмотрело более 4 млн человек[346]. Да, это очень далеко от 4,6 млрд просмотров клипа Despacito за первый год, но лучше, чем ничего[347].
Идеи омоложения и борьбы с возрастными изменениями, включая концепции продления и дополнения с развитием человеческой жизни, необходимо сделать вирусными. В идеале, чтобы помочь «вирусизации» новой парадигмы – бессрочной, свободной от болезней молодости, – стоило бы создать мемы, поскольку польза была бы неисчислима.
Еще один достойный пример развеивающей равнодушие информации – фантастический рассказ Ника Бострома (мы уже упоминали и хвалили «Басню о драконе-тиране»), в котором парадигма принятия старения представлена как многовековое согласие граждан вымышленной страны с запросами гигантской рептилии[348]:
«Дракон требовал от человечества чудовищную дань: для удовлетворения его непомерного аппетита на исходе каждого дня к подножию горы, у которой жил тиран, надлежало доставлять десять тысяч мужчин и женщин. Некоторых несчастных он пожирал сразу, других прежде, чем истребить, заточал и оставлял чахнуть на протяжении многих месяцев или даже лет».
Макс Мор – другой философ с творческим подходом. Мы помним свой восторг по поводу глубокомыслия его «Письма к Матери-Природе» (Letter to Mother Nature), вышедшего в 1999 г. Оно начиналось следующим образом[349]:
«Дорогая Мать-Природа:
Прости, что беспокою, но мы – люди, твои отпрыски – пришли кое-что тебе сказать. (Может, передашь это и Отцу, а то его никогда не бывает рядом.) Мы хотим поблагодарить тебя за многие чудесные качества, которыми ты – в своей медленной, но масштабной, распределенной логике – одарила нас. Взращивая нас из простых самовоспроизводящихся химических веществ, ты подняла нас до уровня млекопитающих с триллионами клеток. Ты дала нам полную свободу действий на планете и жизнь более долгую, чем почти у любого животного. Ты наделила нас сложным мозгом, способным на язык, разум, предвидение, любопытство и творчество. Ты пожаловала нам дар самопознания и сочувствия к другим.
Мать-Природа, мы искренне благодарны тебе за то, какими ты нас сотворила. Без сомнения, ты сделала все, что могла. Однако при всем уважении должны сказать, что с устройством человека ты по большей части справилась плохо. Ты сконструировала нас уязвимыми к болезням и повреждениям. Заставила нас стареть и умирать как раз тогда, когда мы только-только начинаем обретать мудрость. Ты поскупилась даровать нам способность к осознанию наших соматических, когнитивных и эмоциональных процессов. Утаила от нас самые острые чувства, даровав их другим животным. Ты сделала нас функциональными только в узких рамках определенной окружающей среды. Дала нам ограниченную память, плохой контроль над инстинктами и племенные ксенофобские побуждения. И ты забыла дать нам руководство по нашей эксплуатации!
Ты славно поработала, но мы, увы, получились глубоко неполноценными. Похоже, что ты утратила интерес к нашей дальнейшей эволюции уже около 100 000 лет назад. А может быть, ждала от нас первых самостоятельных шагов. Так или иначе, но наше детство закончилось.
Мы решили, что настало время внести поправки в конституцию человека.
Мы делаем это не легкомысленно, небрежно или неуважительно, а осторожно, разумно и с целью достичь совершенства. Мы хотим, чтобы ты нами гордилась. В ближайшие десятилетия с помощью инструментов биотехнологии, которые будут направляться критическим и творческим мышлением, мы произведем множество изменений в своем устройстве. В частности, заявляем о следующих семи поправках в конституцию человека:
Поправка № 1: мы больше не потерпим тирании старения и смерти. С помощью генетических изменений, клеточных манипуляций, синтетических органов и любых других необходимых средств мы обеспечим себя устойчивой жизненной силой и отменим свой срок годности. Каждый будет сам решать, сколько ему жить. ‹…›
Мы оставляем за собой право вносить дальнейшие поправки как коллективно, так и индивидуально. Вместо того чтобы стремиться к законченному совершенству, мы, в соответствии с собственными ценностями, будем ставить перед собой цель достигать новых вершин развития – в той мере, в которой нам это позволят технологии.
Твое честолюбивое человеческое потомство».
Изменить общественное мнение – с закосневшего в «принятии старения» на восприимчивое к новым идеям, а затем и на полную поддержку «предвкушения омоложения» – возможно с поистине космической скоростью. Если грамотно подойти к делу, этому поспособствует многое: короткие видеоролики, мощные онлайн-блоги, душевные стихи, эффектные анимации, остроумные лимерики, умные шутки, драматические спектакли, концепт-арт, романы, бравурные гимны, речовки, лозунги и наглядные мемы из картинок и броских фраз. Чтобы избавить общество от равнодушия, сгодится все.
И мы можем только искренне приветствовать, если слактивисты, сумев выявить и выделить лучшие из множества наших нынешних достижений, привлекут к ним внимание и тем самым расшатают устои парадигмы принятия старения. Изменятся умы – последуют действия. Когда будет заложен фундамент, новые идеи смогут быстро разойтись по всему миру.
Самое трудное, конечно, – это поймать момент, подходящий для конкретной идеи. Если многократно, но слишком рано кричать «Волки!», можно потерять и доверие, и аудиторию. Но по очевидному для нас множеству причин нынешнее поколение как раз оказалось готовым к тому, чтобы принять мысль о возможности и необходимости отмены старения. Наше мнение подкреплено целым легионом наблюдений:
● есть примеры животных с пренебрежимым старением;
● проведены генетические модификации, способные значительно увеличить продолжительность жизни и здоровья;
● открылись потрясающие перспективы лечения стволовыми клетками;
● существуют революционные возможности редактирования генома методиками CRISPR;
● повысилась эффективность нанотехнологических воздействий (нанохирургия и наноботы);
● получены первые свидетельства о возможности создания синтетических органов;
● ведутся научно-исследовательские проекты, нацеленные на каждую из семи выявленных глубинных причин старения;
● обнадеживающе прогрессируют новые идеи относительно лечения онкологических и прочих возрастных заболеваний;
● получены многообещающие результаты анализа больших данных с помощью все более мощного ИИ;
● построены финансовые модели, демонстрирующие огромные экономические выгоды «дивиденда долголетия»;
● существуют примеры из других внезапно прогрессирующих технологических областей;
● есть примеры других активистских проектов, которые вызвали быстрые изменения в общественном сознании.
Вышеперечисленное свидетельствует: закладывается благоприятная среда для того, чтобы общество могло принять отмену старения, но эту идею предстоит отстаивать следующими путями:
● искать лучшие, более эффективные способы донести новую парадигму до разных аудиторий;
● анализировать возражения и составлять удовлетворительные ответы;
● осознавать обстоятельства, которые заставляют людей оппонировать новой концепции (или даже игнорировать ее), и там, где это возможно, принимать меры для их преобразования.
Если не выполнить эти задачи, идея, заинтересовав меньшинство, просто зачахнет. Тогда парадигма принятия старости продолжит доминировать, а инвестиции – как государственные, так и частные – вместо реювенирования пойдут на развитие других областей. Нормативные барьеры останутся, и усилия инноваторов по разработке и внедрению методов омоложения станут бессмысленными. И более 100 000 человек так и продолжат ежедневно умирать от возрастных болезней, каких можно было бы избежать. Вот ужасная цена равнодушия общества к потенциалу отмены старения.
От отмены рабства в прошлом до отмены старения в будущем
Есть веские основания считать отмену рабства одной из кульминационных точек в истории человечества. Опираясь на материал авторитетной книги «Бесчеловечное невольничество: Расцвет и падение рабства в Новом Свете» (Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World)[350] Дэвида Дэвиса, заслуженного историка из Йеля, Дональд Ёркса из Бостонского университета предложил такую оценку[351]:
«После получения сотен петиций против рабства и последующего многолетнего обсуждения этого вопроса в марте 1807 г. британский парламент принял Закон об отмене работорговли: начиная с 1 мая того года ни один торговец невольниками больше не мог легально отплыть ни из одного порта Империи.
После наполеоновских войн аболиционистские настроения в Британии усилились, и на парламент оказывалось значительное общественное давление с целью постепенного освобождения всех рабов страны. В августе 1833 г. парламент принял Закон о великой эмансипации, который предусматривал постепенное освобождение невольников по всей Империи. Сторонники этой идеи по обе стороны Атлантики приветствовали его как одно из величайших гуманитарных достижений в истории. Даже известный ирландский историк Уильям Лекки в 1869 г. произнес знаменитую фразу: “Неутомимый, ненавязчивый и бесславный крестовый поход Англии против рабства вполне может рассматриваться как один из трех или четырех актов абсолютной добродетели, зафиксированных в истории народов”.
Однако, как замечает выдающийся историк Дэвид Дэвис в своем блестящем обобщенном обзоре рабства в Новом Свете, британский аболиционизм был “противоречив, сложен и даже загадочен”. Он вызвал значительные историографические дебаты, длившиеся более 60 лет. Главный вопрос был в том, чем объяснять мотивацию сторонников отмены и общественную поддержку всего дела. По предположению Дэвиса, историкам трудно согласиться, что такое экономически значимое явление, как работорговля, можно было взять и отменить, главным образом, по религиозным и гуманитарным соображениям. В конце концов, к 1805 г. “… колониальная плантаторская экономика, сообщает он, составляла около одной пятой всей британской торговли”.
Видные аболиционисты, такие как Уильям Уилберфорс, Томас Кларксон и Томас Бакстон, использовали для борьбы с “бесчеловечным рабством” христианские аргументы, но, несомненно, в игру вступали и другие факторы – материальные. Было пролито много чернил для оценки отношения рабства к капитализму, с его идеологией свободного рынка, и вывод из этих изысканий состоял в том, что побуждение к борьбе с работорговлей шло вразрез с британскими экономическими интересами, как реальными, так и мнимыми. Так как же объяснить успехи гуманитарного движения, выступавшего за реформы, которые могли бы в теории привести к экономической катастрофе?
Дэвис приходит к выводу, что, несмотря на важность комплексной оценки сложного взаимодействия экономических, политических и идеологических факторов, мы должны признать значительность нравственного воззрения, которое “может выходить за рамки узких личных интересов и приводить к радикальным реформам”».
Анализ, проведенный Дэвисом, ясно показывает, что:
● отмена рабства не была неизбежна или предопределена;
● существовали веские аргументы против его отмены, которые касались в том числе и экономического благополучия и предлагались людьми умными и благочестивыми, как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании;
● аргументы аболиционистов основывались на идее лучшего способа быть человеком, который позволил бы избежать ярма работорговцев, а со временем дал бы миллионам людей шанс на куда лучшую реализацию своего потенциала;
● отмене рабства в значительной мере способствовала общественная активность, в том числе брошюры, лекции, петиции и собрания на муниципальном уровне.
Идея об отмене рабства, чьи корни уходили в XVIII в., постепенно набирала обороты в XIX в. И наконец-то это произошло. Произошло благодаря деятельности смелых, умных и настойчивых, глубоко убежденных в своей правоте мужчин и женщин. Гражданская война в Америке имела самое непосредственное отношение к рабству, которое в 1865 г. было окончательно уничтожено во всех штатах президентом Авраамом Линкольном. Таким образом, мало-помалу оно исчезало по всему миру, пока к 1960-м гг., то есть более чем через полтора века после его запрета в Британии, не было окончательно ликвидировано в Арабских Эмиратах.
Концепция отмены старения имеет совершенно иное происхождение; она появилась в конце XX в. и стала набирать силу в XXI в. Тем не менее она точно таким же образом способна выступить в качестве своевременной идеи о невыразимо лучшем будущем, в котором миллиардам людей будет дарован шанс лучше реализовать свой потенциал. Однако проекту требуются не только надежные и доступные методы омоложения и превосходные инженерные технологии, но и отважная, продуманная и упорная деятельность по изменению общественного мнения – с враждебности или равнодушия на глубокую поддержку.
Помехи, заглушающие сигнал?
Одобряя как таковую активность в отношении реювенирования, мы вовсе не собираемся поддерживать абсолютно все цифровые и печатные слова в его защиту. Вовсе нет. Ведь многое из того, что говорится в поддержку этого проекта, на поверку вполне способно оказаться непродуктивным и даже вредным. Например:
● делаются необдуманные и необоснованные утверждения об эффективности отдельных тонизирующих и укрепляющих средств или методов лечения;
● результаты конкретных опытов могут искажаться, чтобы продукты в стадии коммерческой разработки получили признание рынка;
● утомительно повторяются и чрезмерно упрощаются сложные принципы, что вводит в заблуждение;
● в адрес исследователей, которые тщательно следуют установленным научным процедурам, делаются оскорбительные заявления о компетентности или мотивации;
● дезинформированные люди по наивности и (или) небрежности продолжают повторять утверждения, ложность которых хорошо известна;
● раздаются призывы пройти какое-либо лечение, которое на самом деле опасно.
Искажения такого рода способны спровоцировать опасные обратные реакции, как то:
● чтобы защитить пациентов от вреда и заблуждений, законодатели могут ужесточить правила, которые ограничат как полезные инновации, так и распространителей того, что сочтут «фуфломицином»;
● способные ученые могут начать избегать ассоциаций со всей отраслью сразу – во избежание ущерба репутации;
● ученые станут тратить дополнительное время на дублирование уже проделанной кем-то работы, результаты которой могли бы быть известны заранее, но утонули в шуме низкокачественной коммуникации;
● общественность, пресытившись новостями о грядущих методиках реювенирования, решит, что вся эта область подозрительна и перегружена шумихой;
● потенциальное финансирование отрасли может быть прекращено и вместо этого направлено на совершенно другие проекты.
По этим причинам сообщество реювенирования должно постоянно облегчать доступ к собственной информации и допускать к ее управлению. Новых последователей-энтузиастов стоит приветствовать и тут же вводить в курс дел, предоставляя им онлайн-базы данных на следующие темы:
● наилучшие соображения сообщества о надежных планах грядущего прогресса всего проекта реювенирования;
● сильные и слабые стороны различных теорий старения;
● разрабатываемые или предлагаемые методы лечения и терапии;
● измененный образ жизни, обратившись к которому люди получат наилучшие шансы сохранить жизнь и здоровье до появления методов лечения второго моста;
● история отрасли (чтобы избежать ненужного повторения предыдущих ошибок);
● более широкое понимание политических, социальных, психологических и философских аспектов реювенирования;
● проекты в активном поиске помощи, которые сообщество сочтет достойными поддержки;
● различного рода мемы для каждого конкретного момента с целью эффективного завоевания новых сторонников и ответов на критику;
● навыки, которых не хватает сообществу, и наилучшие способы их применения в поддержку целей реювенирования;
● области, в которых существуют подлинные различия во мнениях, и предлагаемые методы их разрешения сообществом;
● риски, отслеживаемые сообществом, и предлагаемые меры по их снижению.
Очевидно, что многие из этих тем являются также целью данной книги. Однако реювенирование – быстро меняющаяся область. Многое из написанного устареет или станет неполным уже к моменту прочтения нашей работы. Однако указатели на самую актуальную и всеобъемлющую информацию можно найти на странице сообщества на сайте, сопровождающем эту книгу.
Поясним. Мы не утверждаем, будто любой новый сторонник нашего дела обязан переварить огромный массив информации еще до того, как успеет открыть рот на каком-либо общественном форуме. Основные данные сообщества о реювенировании должны быть многоуровневыми, привлекательными и легкодоступными для поиска. Таким образом, если кто-то почувствует вдохновение к публичному выступлению на конкретную тему, он должен быть в состоянии быстро отыскать оптимальный совет. Также ему нужна возможность найти поддержку – знающие, дружески настроенные люди, с которыми он сможет обсудить любой возникающий вопрос. Чтобы база знаний неуклонно улучшалась, идеи, появившиеся в ходе таких бесед, следует зафиксировать в цифровом виде. Это и будет продвигать проект.
Реально изменить мир к лучшему?
В этой главе мы рассмотрели самые крупные риски, с которыми может столкнуться проект реювенирования. Однако существует опасность увязнуть в технических проблемах, и они способны оказаться крупнее и сложнее, чем предполагали реювенаторы. Неправильный выбор слов и (или) действий может оттолкнуть потенциально важных сторонников, тем самым отрезав сообщество от столь необходимых экспертных мнений и финансовой поддержки.
Если парадигма принятия старения останется преобладающей, общественное равнодушие и вовсе задавит иные виды поддержки – они даже не проявятся, а некоторые сторонники окажутся помехой проекту, на деле не помогая, а только усиливая путаницу.
Технологическим консерваторам вполне по силам поставить серьезные барьеры на пути исследований, необходимых для создания и внедрения омолаживающих процедур, а технолибертарианским оптимистам – невольно спровоцировать экономический кризис из-за неправильного демонтажа и перестройки способов действия государственных систем. Угрозы глобальных катастроф вроде стремительного изменения климата, высоковирулентных патогенов или доступа террористов к чудовищному оружию массового уничтожения могут стать предвестниками нового ужасного Средневековья.
Также в этой главе мы указали на то, что могли бы предпринять сторонники реювенирования при желании справиться с рисками и обернуть те во благо. Мы просим каждого читателя подумать, какие действия ему по силам.
Разные люди способны на разные действия. Но мы ожидаем, что следующие шесть шагов так или иначе будут присутствовать среди возможных ответов.
1. Во-первых, мы должны наладить коммуникацию с теми сообществами, которые работают хотя бы над какой-то из частей проекта реювенирования. Нужно выяснить, какие из них будут питать и вдохновлять нас, а какие, в свою очередь, сможем питать и вдохновлять мы. Возникшие сетевые связи всем придадут больше сил для решения насущных задач.
2. Во-вторых, мы должны улучшить собственное понимание аспектов реювенирования: науки, планов действий, истории, философии, теорий, личностей, платформ, открытых вопросов и т. д. Зная больше, мы сможем яснее увидеть, какой вклад нам стоит внести, а кроме того, поможем другим принимать аналогичные решения. В некоторых случаях для наглядности можно документировать те или иные отдельные темы, создавая либо редактируя базы данных или статьи в «Википедии».
3. В-третьих, многие из нас могут заняться маркетингом того или иного рода. Создавать и распространять различные обращения, презентации, видео, сайты, статьи, книги и т. д. Определять конкретные аудитории (группы людей) и разбираться в том, какие вопросы их тревожат. Налаживать отношения с ключевыми влиятельными лицами и властителями дум – потенциальными новыми сторонниками реювенирования. Даже развивать политические навыки и, научившись влиять на других, образовывать альянсы, договариваться о коалициях и создавать законопроекты в дружественной для политиков манере.
4. В-четвертых, кому-то из нас по силам проводить собственные научные исследования в любом из пока неизученных направлений реювенирования – в виде формального учебного курса, коммерческого научного предприятия или даже в рамках децентрализованной деятельности в стиле «гражданской науки»[352].
5. В-пятых, многие могут финансировать проекты, которые сочтут особенно стоящими: принять участие в конкретных инициативах по сбору средств или пожертвовать часть собственного капитала. Есть и такой вариант – сменить работу, чтобы, заработав больше, увеличить пожертвования на самые важные цели.
6. И, наконец, в-шестых: последний, но немаловажный шаг. Мы должны работать над нашей личной эффективностью – способностью добиваться поставленных целей. Осознав всю историческую важность текущего момента, то, что человечество именно сейчас способно сделать революционный поворот либо к лучшему, либо к худшему, мы обязаны отбросить отвлекающие факторы и инерцию повседневности.
Вместо того чтобы праздными зеваками стоять на обочине кульминации древнейшей мечты человечества и время от времени одобрительно гикать в ее поддержку, мы можем измениться и активно влиться в процесс. Приведя в порядок свою жизнь, каждый сумеет изменить мир к лучшему.
Заключение
Пора!
В мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло.
ВИКТОР ГЮГО, 1877 Г.
Думаете ли вы, что можете или что не можете, – в обоих случаях вы правы.
ГЕНРИ ФОРД, 1946 Г.
Мы живем в увлекательнейшее время стремительно нарастающих изменений и всеобъемлющих судьбоносных преобразований, время, подобного которому, возможно, не бывало за всю историю человечества. Мы находимся между двумя поколениями людей – последним смертным и первым бессмертным. Пришло время публично объявить смерть смерти. Альтернатива убийственно ясна: если мы не уничтожим смерть, она уничтожит нас.
Мы призываем к революции, важнейшей в истории человечества, к великой мечте наших предков – восстанию против старости и смерти. Старение было и остается величайшим врагом всего человечества; это общий недруг, которого мы обязаны победить.
К сожалению, до сих пор для этого у нас не имелось ни нужных научных знаний, ни нужных технологий. Однако теперь – впервые за долгий и медленный путь биологической эволюции, начавшейся с наших скромных предков (маленьких одноклеточных организмов, живших миллиарды лет назад), – мы наконец увидели свет в конце туннеля. В этой гонке не на жизнь, а на смерть, в этой войне со смертью за жизнь, нашим оружием стали наука и техника.
В 1861 г., в разгар непрекращающихся европейских войн, французский писатель Гюстав Эмар в романе «Вольные стрелки» написал так[353]:
«…есть сила, гораздо более могущественная, чем грубый, слепой натиск штыков: это идея, чье время пришло, чей час пробил»[354].
Эта мысль обычно приписывалась более известному современнику Эмара – Виктору Гюго, который в 1877 г. в своей «Истории одного преступления» высказался схожим образом[355]:
«Можно сопротивляться вторжению армий, нельзя сопротивляться вторжению идей».
Или, как часто перефразируют эту цитату:
«Нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло».
Сейчас самое время перейти от теории к практике в битве со старением и борьбе за технологии реювенирования. Наш моральный долг и этическая обязанность – положить конец главной причине мировых страданий. Пора приговорить смерть к смерти.
Во всем мире появляются сообщества, осознающие, что долгожданный момент настал. Есть технология, значит, есть моральная ответственность[356]. Возникают даже новые политические партии (в Германии, Соединенных Штатах и России), открыто заявившие, что их цель – борьба со старением. Не следует недооценивать активность или активистов, даже небольших групп. Американский антрополог Маргарет Мид говорила, что именно сознательные и целеустремленные личности преобразуют человечество[357]:
«Не сомневайтесь в том, что небольшая группа мыслящих и самоотверженных людей способна изменить мир. В действительности лишь они и привносят эти изменения».
Обратимся и к другой важной исторической вехе. В 1961 г. американский президент Джон Кеннеди обозначил великую цель – высадить человека на Луну по истечении всего десяти лет. Невероятная задача. Но она была выполнена в 1969 г., то есть на два года раньше, чем ожидалось в наилучшем из сценариев. Давайте возьмем еще одну знаменитую фразу Кеннеди и изменим слова «Америка» и «американцы» на «бессмертие» и «имморталисты»:
«Поэтому, дорогие имморталисты, не спрашивайте, что может предложить вам бессмертие, – спросите, что вы можете сделать для бессмертия».
Хотя мы и повторяем, что термины «неограниченная продолжительность жизни» и «бессрочное продление жизни» более точны, но всем понятнее идея бессмертия (или, как минимум, «антисмертности»). Нам надлежит вникнуть в эти концепции и организовать грандиозный общемировой проект против общего врага всего человечества. Почему бы не объединить всю планету «Программой вечной молодости»?
Нам нужно всеобъемлющее движение, сплачивающее все человечество и основывающееся на опыте предыдущих успехов: проектов «Манхэттен», «Геном человека», «Человеческий мозг», плана Маршалла, программы «Аполлон», Международной космической станции, Международного экспериментального термоядерного реактора, ЦЕРНа и многих других великих многомиллионных начинаний, которые или уже изменили мир, или продолжают менять его.
Мы наблюдаем сближение ученых, инвесторов, крупных корпораций и небольших стартапов, работающих непосредственно над проблемами старения и омоложения людей. У нас есть наука и финансы, и мы несем этическую ответственность за то, чтобы положить конец главной причине человеческих страданий. Впервые в истории мы можем это сделать. И мы должны это сделать. Осуществить первую и величайшую мечту всего человечества – историческая необходимость.
Мы рискуем повториться, но тем не менее настаиваем: нельзя забывать, что ежедневно, изо дня в день, около 100 000 невинных людей во всем мире умирают от возрастных заболеваний. Одним из следующих можете оказаться вы или кто-то из ваших близких. Мы можем избежать этого. Мы должны избежать этого. И чем скорее, тем лучше. Но нам нужна ваша помощь, потому что борьба со смертью – дело каждого. По одиночке мы не сможем ничего, но вместе сможем все.
Английский эволюционный биолог Джон Холдейн описал типичную эволюцию процессов перемен и великих переворотов, что берут начало в умах[358]:
«Полагаю, что процесс принятия обычно проходит четыре этапа:
1. Это бесполезная чушь.
2. Мнение интересное, но необычное.
3. Это верно, но не очень нужно.
4. Я всегда так говорил».
Это революция во имя твоей жизни, и моей, и жизни каждого человека. У нас уникальная возможность и великая историческая миссия, которую мы должны выполнить. Если учесть масштаб этого эпохального проекта, самая серьезная ошибка, которую мы можем совершить, – отказаться от гонки еще до старта. Шансы на долгую и продуктивную молодую жизнь намного больше, чем вероятные риски.
Будущее начинается сегодня. Будущее начинается здесь. Будущее начинается с нас. Будущее начинается сегодня с тебя. Кто, если не ты? Когда, если не сейчас? Где, если не здесь? Присоединяйся к революции против старения и смерти! Смерть должна умереть!
Приложение
Большая хронология жизни на Земле
Существует две возможности.
Либо мы одни во Вселенной, либо нет.
Обе одинаково ужасны.
СЭР АРТУР КЛАРК, 1962 Г.
Живи долго и процветай.
yIn nI’ yISIQ ‘ej yIchep (клингонское произношение).
dif-tor heh smusma (вулканское произношение).
КОМАНДОР СПОК С ПЛАНЕТЫ ВУЛКАН, КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ USS ENTERPRISE, 2260 Г.
Чтобы вы могли наглядно представить себе хронологию жизни на нашей крошечной планете Земля, мы собрали здесь информацию, которую сочли наиболее подходящей для этой цели. Время – от далекого прошлого до ближайшего будущего. Цель – лучше понять долгосрочное развитие всего живого в общей перспективе, с учетом природы экспоненциальных изменений.
Универсальная история – новая наука, которая позволяет анализировать ход событий как единый процесс с точки зрения различных дисциплин. Если рассматривать все времена – с глубокой древности и до наших дней – становится очевидно, что перемены ускоряются, и благодаря экспоненциальным технологиям так должно продолжаться и далее. Великий футуролог Рэй Курцвейл в бестселлере «Сингулярность уже близко» очень хорошо объяснил рост темпа изменений, и именно поэтому мы используем некоторые из его предсказаний для периода до конца XXI в.
Приглашаем заинтересованных читателей связаться с нами напрямую, чтобы в будущем продолжить совершенствовать хронологию эволюции. Приветствуются любые комментарии; более подробную информацию о нашей книге можно найти здесь: lamuertedelamuerte.org.
Миллионы лет назад
– 13 800 – Большой взрыв и образование известной Вселенной.
– 12 500 – образование галактики Млечный Путь.
– 4600 – образование Солнечной системы.
– 4500 – образование Земли.
– 4300 – появление воды на Земле.
– 4000 – первая одноклеточная жизнь (прокариоты без клеточного ядра).
– 4000 – зарождение LUCA – последнего универсального общего предка.
– 3500 – увеличение концентрации кислорода в земной атмосфере.
– 3000 – первый фотосинтез в простых одноклеточных организмах.
– 2000 – эволюция прокариот в эукариоты (одноклеточные с ядром).
– 1500 – первые многоклеточные эукариотические организмы.
– 1200 – первое половое размножение (появление клеток зародышевой линии и сомы).
– 600 – первые беспозвоночные морские животные.
– 540 – кембрийский взрыв и появление множества видов.
– 520 – первые позвоночные морские животные.
– 440 – эволюция от морской жизни к наземной (первые растения на суше).
– 360 – первые наземные растения с семенами и первые крабы.
– 300 – первые рептилии.
– 250 – первые динозавры.
– 200 – первые млекопитающие и птицы.
– 130 – первые покрытосеменные растения (с цветками).
– 65 – вымирание динозавров и развитие приматов.
– 15 – появление семейства Hominidae (большие человекообразные приматы).
– 3,5 – первые инструменты из камня.
– 2,5 – появление рода Homo.
– 1,5 – первое использование огня.
– 0,8 – первые случаи приготовления пищи.
– 0,5 – первое использование одежды.
– 0,2 – появление вида Homo sapiens.
– 0,1 – Homo sapiens sapiens вышел из Африки и начал заселять планету Земля.
Тысячи лет до н. э.
– 40 000 – появление наскальных рисунков, символов божеств, плодородия и смерти.
– 20 000 – эволюция в сторону осветления кожи из-за миграции людей в регионы с меньшим воздействием солнца.
– 5000 – появление неолитического протописьма.
– 4000 – возможное изобретение колеса в Месопотамии.
– 3500 – изобретение египтянами иероглифов, шумерами – клинописи.
– 3300 – в Китае и Египте задокументировано использование траволечения и физиотерапии.
– 3000 – в Египте изобретен папирус, в Месопотамии – глиняные таблички.
– 2800 – китайский император Шэнь-нун составил текст об использовании методов иглоукалывания.
– 2600 – в Египте богом медицины стал считаться Имхотеп, жрец и врач.
– 2500 – в Индии задокументировано применение аюрведической медицины.
– 2000 – в Вавилоне Кодексом Хаммурапи установлены правила медицинской практики.
– 650 – в библиотеке Ниневии Ашшурбанипалом собраны 800 табличек о медицине.
– 450 – Ксенофан Колофонский исследует окаменелости и размышляет об эволюции жизни.
420 – Гиппократ составляет сборник «Корпус Гиппократа», в котором в том числе сформулирована врачебная клятва.
350 – Аристотель пишет об эволюционной биологии и пытается классифицировать животных.
300 – Герофил Халкидонский делает аутопсии человеческих тел.
100 – Асклепиад Вифинский приносит греческую медицину в Рим и основывает методическую школу.
Первое тысячелетие, г.
180 – греческий врач Гален изучает связь паралича с позвоночником.
219 – в Китае Чжан Чжунцзин публикует «Шанхань Лунь» («Трактат о повреждении холодом»).
250 – в Мексике основана школа племенной медицины.
390 – в Константинополе Орибазием составлен «Медицинский сборник».
400 – в Риме святой Фабиолой основана первая христианская больница.
630 – Исидор Севильский создает великий труд «Этимологии».
870 – персидский врач Абу-ль-Хасан Али ибн Сахль Раббан Ат-Табари на арабском языке пишет медицинскую энциклопедию.
910 – персидский врач Ар-Рази определяет разницу между оспой и корью.
1000–1799 гг.
1030 – персидский энциклопедист Авиценна пишет «Канон врачебной науки», который используется до XVIII в.
1204 – Папа Иннокентий III открывает в Риме первый госпиталь Святого Духа.
1403 – в Венеции объявлен карантин против пандемии «черной смерти» (после гибели в Европе миллиона человек).
1541 – швейцарский врач Парацельс достигает больших успехов в медицине (хирургии и токсикологии).
1553 – испанский врач Мигель Сервет изучает легочное кровообращение (сожжен на костре за ересь).
1590 – в Нидерландах изобретен микроскоп.
1665 – английский ученый Роберт Гук использует микроскоп для определения клеток (и популяризирует название прибора).
1675 – голландский ученый Антони ван Левенгук с помощью микроскопии основывает микробиологию.
1774 – английский ученый Джозеф Пристли открывает кислород и основывает современную химию.
1780 – Бенджамин Франклин пишет о лечении старения и продлении дней человека.
1796 – английский врач Эдвард Дженнер разрабатывает первую эффективную вакцину от оспы.
1798 – английский ученый Томас Мальтус рассуждает о производстве пищи и перенаселении.
1800–1899 гг.
1804 – население планеты достигает 1 млрд человек.
1804 – французский врач Рене Лаэннек изобретает стетоскоп.
1809 – французский ученый Жан-Батист Ламарк предлагает первую теорию эволюции.
1818 – английский врач Джеймс Бланделл выполняет первое успешное переливание крови.
1828 – немецкий ученый Христиан Эренберг придумывает термин «бактерия» (от др.-греч. «трость»).
1842 – американский врач Кроуфорд Лонг проводит первую успешную операцию с анестезией.
1858 – немецкий врач Рудольф Вирхов публикует клеточную теорию.
1859 – английский ученый Чарльз Дарвин публикует книгу «Происхождение видов».
1865 – австрийский монах Грегор Мендель открывает законы генетики.
1869 – швейцарский врач Фридрих Мишер обнаруживает ДНК.
1870 – ученые Луи Пастер и Роберт Кох публикуют микробную теорию инфекционных заболеваний.
1882 – французский ученый Луи Пастер разрабатывает вакцину против бешенства.
1890 – Вальтер Флемминг и другие описывают распределение хромосом во время клеточного деления.
1892 – немецкий биолог Август Вейсман предполагает «бессмертие» клеток зародышевой линии.
1895 – немецкий физик Вильгельм Рёнтген открывает рентгеновские лучи и их медицинское применение.
1896 – французский физик Антуан Беккерель открывает радиоактивность.
1898 – голландский ученый Мартин Бейеринк открывает первый вирус и основывает вирусологию.
1900–1959 гг.
1905 – английский биолог Уильям Бейтсон вводит термин «генетика».
1906 – английский ученый Фредерик Хопкинс описывает витамины и болезни, связанные с их нехваткой.
1906 – немецкий врач Алоис Альцгеймер описывает болезнь, впоследствии названную его именем.
1906 – Сантьяго Рамон-и-Кахаль получает Нобелевскую премию за исследования нервной системы.
1911 – американский биолог Томас Морган доказывает, что гены находятся в хромосомах.
1922 – русский ученый Александр Опарин предлагает теорию о происхождении жизни на Земле.
1925 – французский биолог Эдуар Шаттон вводит термины «прокариота» и «эукариота».
1927 – население планеты достигает 2 млрд человек.
1927 – первые вакцины против столбняка и туберкулеза.
1928 – английский ученый Александр Флеминг открывает пенициллин (первый антибиотик).
1933 – польский ученый Тадеуш Рейхштейн впервые синтезирует витамин (витамин C, аскорбиновая кислота).
1934 – ученые из Корнеллского университета определяют ограничение калорийности как средство продления жизни мышей.
1938 – на юге Африки выловлена рыба целакант, считавшаяся «живым ископаемым».
1950 – разработан первый синтетический антибиотик.
1951 – начало искусственного осеменения крупного рогатого скота криоконсервированной спермой.
1951 – раковые клетки HeLa определены как «биологически бессмертные».
1952 – американский врач Джонас Солк разрабатывает вакцину против полиомиелита.
1952 – американский химик Стэнли Миллер проводит опыты о происхождении жизни.
1952 – первые опыты по клонированию (с яйцеклеткой лягушки).
1953 – ученые Джеймс Уотсон (США) и Фрэнсис Крик (Великобритания) демонстрируют двойную спиральную структуру ДНК.
1954 – американский врач Джозеф Мюррей пересаживает первую человеческую почку.
1958 – американский врач Джек Стил придумывает слово «бионика».
1959 – население Земли достигает 3 млрд человек.
1959 – испанский ученый Северо Очоа получает Нобелевскую премию за свою работу о ДНК и РНК.
1960–1999 гг.
1961 – испанский биохимик Хуан Оро выдвигает теории происхождения жизни.
1961 – американский ученый Леонард Хейфлик открывает предел клеточного деления.
1967 – американский академик Джеймс Бедфорд становится первым крионированным пациентом.
1967 – южноафриканский врач Кристиан Барнард делает первую пересадку человеческого сердца.
1972 – открытие сходства в составе ДНК человека и гориллы (почти на 99 %).
1974 – население планеты достигает 4 млрд человек.
1975 – различные ученые наконец-то открывают структуру теломер, впервые рассмотренную в 1933 г.
1978 – в Англии благодаря искусственному оплодотворению рождается первый ребенок (Луиза Браун).
1978 – в пуповинной крови обнаружены стволовые клетки.
1980 – ВОЗ официально объявляет оспу повсеместно ликвидированной.
1981 – первые стволовые клетки (мышей), культивируемые in vitro.
1982 – хумулин (лекарство от диабета) – первый биотехнологический продукт, одобренный FDA.
1985 – австралийско-американский биолог Элизабет Блэкберн выделяет фермент теломеразу.
1986 – ВИЧ определен как причина СПИДа.
1987 – население планеты достигает 5 млрд человек.
1990 – стартует «Геном человека» – масштабный проект, возглавленный несколькими правительствами.
1990 – первая генная терапия одобрена для лечения иммунного расстройства.
1990 – FDA одобряет первый генетически модифицированный организм (томат Flavr Savr).
1993 – американский биолог Синтия Кеньон увеличивает в несколько раз продолжительность жизни нематод C. elegans.
1995 – американский ученый Калеб Финч описывает пренебрежимое старение ряда животных.
1996 – шотландский ученый Иэн Уилмут клонирует овечку Долли – появляется первое клонированное млекопитающее.
1998 – первые эмбриональные стволовые клетки, выделенные из зародышей человека.
1999 – население Земли достигает 6 млрд человек.
2000–2019 гг.
2001 – американский ученый Крейг Вентер объявляет о секвенировании человеческого генома из собственного ДНК.
2002 – первый искусственный вирус (полиомиелит).
2003 – официальное завершение проекта «Геном человека», причем как с государственным, так и с частным участием и проектами.
2003 – английский ученый Обри ди Грей и его коллеги создают Фонд Мафусаила.
2004 – эпидемия атипичной пневмонии локализуется через год после начала (геном секвенирован за месяцы).
2006 – японский ученый Синъя Яманака получает индуцированные плюрипотентные стволовые клетки.
2008 – испанский биолог Мария Бласко объявляет о продлении жизни мышей.
2009 – английский ученый Обри ди Грей и его коллеги создают Фонд исследований SENS.
2009 – Нобелевская премия по физиологии и медицине за исследования теломер и теломеразы.
2010-е – первый мост к неограниченной продолжительности жизни с использованием современных технологий (согласно Рэю Курцвейлу).
2010 – американский ученый Крейг Вентер объявляет о создании первой искусственной бактерии – «Синтии».
2010 – Нобелевская премия по физиологии и медицине за разработку метода ЭКО.
2011 – население планеты достигает 7 млрд человек.
2011 – французские ученые добиваются омоложения клеток человека in vitro.
2012 – Нобелевская премия по физиологии и медицине за клонирование и перепрограммирование клеток (плюрипотентные клетки).
2013 – первая почка крысы, произведенная in vitro.
2013 – первая человеческая печень, выращенная с помощью стволовых клеток.
2013 – Google объявляет о создании компании Calico, ориентированной на лечение старения.
2014 – IBM включает медицину в область применения интеллектуальной системы Doctor Watson.
2014 – корейско-американский врач Джун Юн учреждает в Пало-Альто премию «Долголетие».
2015 – первая вакцина против вируса геморрагической лихорадки Эбола.
2016 – председатель Facebook Марк Цукерберг объявляет, что вылечить можно будет «все болезни».
2016 – ученые Microsoft заявляют, что через 10 лет будут в состоянии излечить рак.
2017 – испанский ученый Хуан Исписуа объявляет об успешном омоложении мышей на 40 %.
2018 – первое коммерчески доступное лечение генной терапией с помощью CRISPR.
2018 – рождение в Китае первых CRISPR-детей (с целью избежать ВИЧ-инфекции).
2019 – FDA одобряет для продления жизни первые методы лечения сенолитиками.
Прогнозы на 2020–2029 гг.
2020 – эпидемия нового коронавируса (COVID-2019) локализируется за месяцы (геном секвенирован за недели)
2020-е – второй мост к неограниченной продолжительности жизни с помощью биотехнологий (согласно Рэю Курцвейлу).
2020-е – всемирная ликвидация полиомиелита.
2020-е – полное устранение кори.
2020-е – вакцина от малярии.
2020-е – вакцина против ВИЧ.
2020-е – лечение большинства онкологических заболеваний.
2020-е – лечение болезни Паркинсона.
2020-е – 3D-биопечать простых человеческих органов.
2020-е – коммерческое клонирование человеческих органов из собственных клеток пациентов.
2020-е – начало коммерческих омолаживающих процедур со стволовыми клетками и теломеразой.
2020-е – ИИ и роботы-врачи дополняют и увеличивают возможности человеческих врачей.
2020-е – телемедицина распространяется по всему миру.
2020-е – первые пилотируемые полеты на Марс (Илон Маск).
2023 – мировое население достигает 8 млрд человек (по данным ООН).
2025 – появление молекулярных наноассемблеров (согласно Рэю Курцвейлу).
2026 – население планеты достигает 8 млрд человек (по данным Бюро переписи населения США).
2029 – достижение второй космической скорости долголетия (согласно Рэю Курцвейлу).
2029 – продвинутый ИИ проходит тест Тьюринга (согласно Рэю Курцвейлу).
Еще прогнозы на период после 2030 г.
2030-е – третий мост к неограниченной продолжительности жизни с использованием нанотехнологий (согласно Рэю Курцвейлу).
2030-е – лекарство от болезни Альцгеймера.
2030-е – всемирная ликвидация малярии.
2030-е – повсеместная ликвидация ВИЧ-инфекции.
2030-е – утверждение первой человеческой колонии на Марсе (Илон Маск).
2037 – мировое население достигает 9 млрд человек (по данным ООН).
2039 – становится возможным перенос сознания из мозга в мозг (согласно Рэю Курцвейлу).
2040-е – четвертый мост к неограниченной продолжительности жизни и бессмертию с использованием ИИ (согласно Рэю Курцвейлу).
2040-е – межпланетный интернет объединяет Землю, Луну, Марс и космические корабли.
2042 – население планеты достигает 9 млрд человек (по данным Бюро переписи населения США).
2045 – старение излечивается, смерть становится необязательной (согласно Рэю Курцвейлу).
2045 – сингулярность: ИИ превосходит совокупный человеческий (согласно Рэю Курцвейлу).
2049 – исчезает разница между обычной и виртуальной реальностями (согласно Рэю Курцвейлу).
2050 – гуманоидные роботы завоевывают Кубок Англии по футболу (British Telecom).
2050-е – первая реанимация криоконсервированных пациентов (согласно Рэю Курцвейлу).
2072 – начало пикотехнологий (пико – в тысячу раз меньше нано, согласно Рэю Курцвейлу).
2099 – начало фемтотехнологий (фемто – в тысячу раз меньше пико, согласно Рэю Курцвейлу).
2099 – продолжительность жизни перестает иметь значение в мире «амортальности» (антисмертности).
Благодарности
Благодарность – признак благородства души.
ЭЗОП, V В. ДО Н.Э.
Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов.
ИСААК НЬЮТОН, 1676 Г.
У победы сто отцов, а поражение – всегда сирота.
ДЖОН КЕННЕДИ, 1961 Г.
Эта книга о жизни, для жизни и ради жизни. Первая благодарность – нашим семьям, которые позволили нам достичь этого момента. Но даже в большей степени, чем непосредственным родственникам, мы благодарны нашим первым предкам-гоминидам, жившим в Африке миллионы лет назад, и первым одноклеточным организмам, от которых произошла вся жизнь на нашей маленькой планете.
Теперь особые благодарности. Во-первых, Обри ди Грею, написавшему пролог к этой книге, и Сергею Янгу, автору эпилога, а также потрясающим литературным агентам Светлане Басаргиной и Муслиму Чеченову. Если бы не их поддержка и советы, эта книга вряд ли бы вышла в издательстве «Альпина Паблишер». Во-вторых, большое спасибо нашим коллегам и друзьям из университетов и институтов, таких как Барселонский университет, Вестминстерский университет, ВШЭ, Гарвардский университет, Гонконгский политехнический университет, Джорджтаунский университет, Калифорнийский университет (Беркли), Кембриджский университет, Киотский университет, Лондонская школа экономики и политических наук, Ливерпульский университет, Мадридский автономный университет, Мадридский политехнический университет, Мадридский университет Комплутенсе, Массачусетский технологический институт, Монтеррейский технологический институт, МФТИ, Национальный университет Сингапура, Оксфордский университет, Пекинский университет, Сеульский университет, Софийский университет, Стэнфордский университет, Токийский университет, Университет Ёнсе, Университет сингулярности, Университетский колледж Лондона, Университет Цинхуа, CEIBS, CKGSB, INSEAD и многих других по всему миру – от Китая до Индии и от Америки до Европы.
Также мы хотели бы поблагодарить людей из других визионерских организаций, таких как Всемирная академия искусства и науки, Институт крионики, Коалиция за радикальное продление жизни, «КриоРус», Международный альянс долголетия, проект «Тысячелетие», Римский клуб, Трансгуманистическая партия США, Фонд исследований SENS, Фонд продления жизни «Алькор», Humanity+, Lifeboat Foundation, Life Extension Advocacy Foundation, Life Extension Foundation, Life+ Media, London Futurists, People Unlimited, ShapingTomorrow, SingularityNET, TechCast Global и World Future Society.
Отдельно мы хотели бы выразить нашу благодарность тем ученым, исследователям, инвесторам, популяризаторам, пропагандистам, экономистам и политикам, которые активно работают над радикальным продлением жизни. Среди них Ольга Аврясова, Жан Аккад, Лоран Александр, Макс Андерсон, Амара Анжелика, Соня Аррисон, Тимур Артемьев, Жак Аттали, Никола Багала, Джо Бардин, Лоик Бардон, Нир Барзилай, Михаил Батин, Кейт Батц, Борис Бауке, Павел Бахтин, Хуан Бельмонте, Найейри Бесерра, Бен Бест, Джеремайя Билас, Марко Битенк, Мария Бласко, Силия Блэк, Ник Бостром, Найи Боте, Алон Браун, Григорий Бубнов, Марта Букарам, Свен Бультерийс, Пьер Бутрон, Виктор Бьорк, Рональд Бэйли, Жан-Кристоф Бюжон, Екатерина Вайнберг, Нил Вандере, Альваро Варгас Льоса, Харольд Вармус, Карлос Вега, Гильем Вельве-Касильяс, Крейг Вентер, Феликс Верт, Кристен Виллемайер, Наташа Вита-Мор, Хавьер Врана, Питер Восс, Сунь Вэй, Анастасия Георгиевская, Бен Гёртцель, Себастьян Гива, Эрик Гишар, Вадим Гладышев, Джером Гленн, Тьерри Годин, Родольфо Гойя, Вера Горбунова, Тед Гордон, Леонид Гохберг, Леонид Гравилов, Обри ди Грей, Майкл Грив, Грег Гринберг, Дэн Гроссман, Терри Гроссман, Фабьен Гу-Бодиман, Рейхан Гусейнова, Никола Данайлов, Джордж Дворски, Эдуар Дебоннэ, Юрий Дейгин, Динора Дельфин, Филипп Дестатте, Анастасия Джалетта, Гарри Джейкобс, Майкл Джексон, Питер Диамандис, Эрик Дрекслер, Бобби Дхадвар, Анастасия Егорова, Андрей Егоров, Александр Жаворонков, Хьюг де Жувенель, Александр Журба, Петр Земский, Ибон Зугасти, Кэйрн Идун, Вальдемар Ингдаль, Том Инголия, Анка Иовицэ, Салим Исмаил, Золтан Иштван, Алекс Кадет, Петр Казначеев, Исмаэль Кала, Дмитрий Каминский, Сандра Кауфманн, Джудит Камписи, Александр Карран, Елена Кастаньон, Стив Кац, Дэвид Кекич, Брайан Кеннеди, Дидье Кернель, Фрэнсис Кинт, Мариос Кириазис, Пэм Киф, Вера Кичанова, Рон Клатц, Витто Клаут, Джеймс Клемент, Карстен Де Клерк, Николай Ковтуненко, Маргаретта Коланджело, Джин Колесников, Максим Колин, Кристин Комелла, Кит Комито, Никола Конлон, Мария Коноваленко, Франко Кортезе, Стивен Котлер, Кэт Коттер, Максим Коцемир, Дэниел Крафт, Антон Кулага, Рэндал Куне, Рэй Курцвейл, Филипп Ланг, Кейт Левчук, Мирьям Лейс, Мартин Липовсек, Брюс Ллойд, Карлос Лопес-Отин, Катарина Лэмм, Ева Лю, Жао Педро де Магалхас, Рино Магроне, Рэймонд Макколи, Полина Мамошина, Эрик Мартино, Нуно Мартинс, Ангел Марчев, Кармен Матео, Дип Махарадж, Данила Медведев, Оливер Медведик, Дирк Мейснер, Джим Меллон, Ярослав Меньшенин, Ральф Меркл, Би-Джей Мерфи, Берталан Меско, Джейми Метцл, Фил Миканс, Родольфо Милани, Елена Милова, Роланд Миссонье, Джон Молдин, Крис Монтейру, Макс Мор, Алексей Москалев, Николай Морозов, Сергей Мусиенко, Стивен Мэтлин, Далтон Мюррей, Рамес Наам, Ронжон Наг, Аннет Найс, Торстен Нам, Филипп ван Недервельде, Петер Нигорд, Гуидо Нуньес, Фил Ньюман, Брент Нэлли, Джулия Огун, Консепсьон Олаваррьета, Дэвид Орбан, Сезар Пайва, Юнг-Сук Пак, Айра Пастор, Стив Перри, Кевин Перротт, Кристин Петерсон, Дэвид Пирс, Станислав Полозов, Александр Потапов, Валерия Прайд, Джулио Приско, Ален Пуйоль, Лиз Пэрриш, Хован Реболледо, Роберт Рейс, Дениса Ренсен, Фред Рёдер, журнал Reason, Рамон Риско, Сапфия Ришу, Эдвина Роджерс, Ави Рой, Габриэль Ротблатт, Мартина Ротблатт, Майкл Роуз, Марк Ру, Леон Рубинштейн, Виталий Руд, Ксава Сабо, Марк Саклер, Майкл Сандагер, Андерс Сандберг, Озкан Саритас, Пол Саффо, Тони Себа, Мануэль Серрано, Джейсон Сильва, Дэвид Синклер, Рене Скалл, Марк Скаузен, Оксана Скиталинская, Грей Скотт, Кеннет Скотт, Джон Смарт, Александр Соколов, Ги Сорман, Эйтор де Соуза, Илья Стамблер, Фред Ститт, Грегори Сток, Геннадий Столяров II, Джим Строл, Рохит Тальвар, Джозеф Теперман, Рои Тзезана, Мохан Тикку, Питер Тиль, Дидье Тиссеранд, Мариана Тодорова, Марк Толедо, Луис Торрас, Анна Трунина, Алексей Турчин, Михаил Тыкучинский, Чип Уолтер, Кевин Уорик, Ирунья Уррутикоечеа, Майкл Уэст, Билл Фалун, Робин Фарманфармайан, Петр Федичев, Григорий Федоров, Люк Ферри, Майкл Фоссель, Томас Фрей, Роберт Фрейтас, Патри Фридман, Петр Фридрих, Константин Фурсов, Вера Футорянски, Грегори Фэхи, Магомед Хайдаков, Пол Хайнек, Билл Халель, Дарья Халтурина, Фараз Хан, Уильям Хейзелтайн, Стив Хилл, Тед Ховард, Педро Хомналес, Стив Хорватц, Роэн Хорн, Барри Хьюз, Джеймс Хьюз, Дэвид Хэнсон, Маргарет Це, Эл Чалаби, Алехандро Чафуэн, Николас Чернавски, Джордж Чёрч, Энцо Чиу, Аттила Чордаш, Александр Чулок, Лена Шагиева, Анри Шазан, Майкл Шермер, Ханнес Шоблад (Холад), Кен Шолланд, Ли Шолланд, Поль Шпигель, Петр Шрамек, Александра Штольцинг, Курт Шулер, Дарья Щипачева, Брюс Эймс, Билл Эндрюс, Мария Энтрагес-Абрамсон, Теренс Эриксон, Джино Ю, Сергей Янг. Надеемся, мы никого не забыли, и всем им желаем долгой и благополучной жизни. Кроме того, никто из них не виноват, если авторы не в полной мере последовали их мудрым советам.
И, наконец, мы хотели бы поблагодарить всех читателей этой книги за проявленный интерес и любезно попросить их изложить нам идеи, предложения, исправления или любые комментарии на контактный адрес на сайте книги. Ваши замечания помогут нам усовершенствовать эту книгу. Имена написавших будут включены в раздел «Благодарности» будущих изданий. Ваши комментарии позволят этой работе завоевать новых читателей и сделать изложение более точным. Рекомендуя книгу другим, вы будете способствовать прогрессу науки.
Книгу можно и нужно улучшать, как и нашу жизнь. Книга «бессмертна» и будет продолжать развиваться и меняться точно так же, как наша будущая «бессмертная» жизнь. Благодаря таким читателям, как вы, предела совершенству не предвидится.
Все ваши предложения приветствуются!
Эпилог
Одним прекрасным воскресным утром, когда зарождающийся рассвет уже начал окрашивать небо в нежные тона, а темный Лондон все еще спал, пришло время для обсуждения книги «Смерть должна умереть». Когда, если не сейчас?
По дороге в ресторан меня тепло приветствовал мой близкий и дорогой друг Хосе Кордейро. Несмотря на раннее время, он был полон энтузиазма и сил. Я радовался нашей встрече не меньше, хотя и прибыл на нее прямо из аэропорта после 11-часового перелета из Лос-Анджелеса. К чему такая спешка? Много месяцев подряд мы пытались отыскать окно в своих плотных графиках – они никак не хотели совпадать ни по часовым поясам, ни по местам пребывания, и казалось, что не совпадут никогда, – и наконец отыскали точку пересечения наших воздушных маршрутов. Для встречи получилось выделить всего час: с 7 утра, когда я должен быть прибыть из аэропорта Хитроу, до 8 утра, когда туда же отправлялся Хосе. Вопреки нашему интересу к теме долголетия и продления жизни – а может, и благодаря ему – оба мы понимали, что на счету каждая секунда, и потому, не размениваясь на общие фразы, сразу перешли к «важным вещам».
Ораторский дар Хосе завораживает. Когда он говорит о долголетии, то своей страстью к предмету разговора невольно заражает и собеседника. Изучением этого явления и преподаванием в данной области Хосе – профессор, инженер, экономист, футуролог и самопровозглашенный «гражданин мира на нашей маленькой планете посреди большой неизведанной Вселенной» – занимается всю свою жизнь. Если бы я мог выбрать только одного кандидата в президенты долголетия, то им, вероятно, стал бы Хосе.
Удивительный соавтор Хосе – математик из Кембриджа Дэвид Вуд, создатель операционной системы Symbian, позже приобретенной компанией Nokia. Хосе и Дэвид стремятся продемонстрировать (и, надо заметить, весьма убедительно), что технологии способны обратить старение вспять и устранить одну из главнейших технических проблем современности – смертность.
Так с чем именно нам предстоит бороться, чтобы жить дольше и счастливее?
Смерть.
Смерть. Правда же, вам стало вдвойне не по себе, хотя слово это вы произнесли всего дважды? С нашими официантами все обстояло именно так: при каждом упоминании «запретной» темы они отходили от нашего столика все дальше, а лица их становились все удивленнее.
И это вполне объяснимо. Смерть – в западном обществе слово табуированное, причем до такой степени, что его вообще исключили из списка тем, запрещенных для публичного обсуждения: секс, политика и религия. Словно этого неудобного слова вовсе и не существовало. Не было его, и точка.
Но что же нас так пугает? Может, срабатывает инстинкт самосохранения? Или то обстоятельство, что слово из шести букв вмещает тысячи страхов: страх потерять близких, страх заболеть, страх вовсе не существовать, страх одряхлеть, страх упустить нечто важное или страх прийти в негодность?
Всеми нашими действиями движут страхи. Они причина рождения, свадеб, ежедневных трудов и появления потомства. А страх смерти – движущая сила если не самой жизни, то как минимум удивительных, совершающихся прямо на наших глазах открытий в области ее продления. Но нельзя начать жить по-настоящему, не научившись спокойно произносить слово «смерть». И если мы хотим жить дольше и счастливее, самое время узнать, как может выглядеть жизнь без смерти.
Принципиальные изменения сроков жизни принесут с собой принципиальные перемены. Так что готовьтесь. Человеческая жизнь будет состоять из нескольких «мини-жизней», карьера на всю жизнь станет чем-то преходящим, а из брачных обетов, возможно, придется убрать фразу «пока смерть не разлучит нас». Но не все так весело и радужно: реальность окажется куда серьезнее. Существенное увеличение продолжительности жизни усугубит многие социальные проблемы, которые, пока мы их не решим, останутся несовместимыми с «вечностью» и «бессмертием».
Человеческие отношения претерпят сильные изменения. «Спутник жизни», возможно, перестанет быть не только подходящим, но и вообще пригодным понятием. Станет необходимым наше активное участие в воспитании будущих поколений: не только собственных детей и внуков, а возможно, и их внуков. По сути, могут измениться и значения «всеобъемлющих» слов, таких как «любовь», «семья» и «брак». Готовы ли вы обновить свои убеждения?
Предстоит решить проблему социальной несправедливости и неравенства, преодолеть разрыв между богатыми и бедными и принять человеческое разнообразие как оно есть. Движение вперед немыслимо, пока не будет признана значимость жизни каждого. Но каждый ли готов отнестись ко всем остальным как к равным себе?
Необходимо также минимизировать отходы, решить проблему загрязнения окружающей среды, заняться вторичной переработкой мусора, использовать экологически чистую энергию, внедрить вертикальное фермерство и сделать еще многое из того, что позволяет нынешняя техника. Можем ли мы ради Матери-Природы уже сегодня начать принимать более ответственные решения?
Возможно, от того, чтобы жить по 150 лет, нас отделяет не более полувека, но, пока мы честно не ответим на вышеозначенные вопросы, именно они, а не технологии, будут оставаться слабым звеном в деле радикального продления жизни. На этом месте меня обычно спрашивают, сможем ли мы жить вечно (то есть стать бессмертными), когда наконец постигнем дзен и добьемся единения нужной технологии с правильным моральным кодексом. Я же отвечаю: «Хотите на Луну – замахивайтесь на звезды».
Но вернемся к нашему с Хосе разговору, который состоялся ранним воскресным утром. Официанты, напуганные словом «смерть», издалека не смогли расслышать маленькую, но чрезвычайно важную деталь – глагол. Мы с Хосе говорили не о смерти, а, наоборот, о том, что смерть должна умереть.
Зигмунд Фрейд когда-то сказал: «Цель всякой жизни есть смерть». А я говорю: «Цель всякой смерти есть жизнь». И в этой книге Хосе готовит нас к переходу.
Сергей Янг,основатель Longevity Vision Fund и автор книги «Наука и технологии вечной молодости» (The Science and Technology of Growing Young)
Библиография
Один взгляд на книгу – и вы слышите голос другого человека, возможно умершего тысячи лет назад. Читать – это путешествовать во времени. ‹…›
Книги разбивают кандалы времени, доказывая, что люди способны на волшебство.
КАРЛ САГАН, 1980 Г.
Для многих людей новая эра в их жизни началась с прочтения той или иной книги.
ГЕНРИ ТОРО, 1854 Г.
Азимов А. Путеводитель по науке. – М.: Центрполиграф, 2007. – 840 с.
Алигьери Д. Божественная комедия. – М.: Просвещение, 1988. – 288с.
ВОЗ. МКБ-10. – ВОЗ, 2011.
ВОЗ. Устав (Конституция) ВОЗ. – ВОЗ, 1948.
Всемирный банк. Годовой отчет.
Дарвин Ч. Происхождение видов. – М.: Сельхозгиз, 1935. – 633 с.
Диамандис П., Котлер С. Изобилие: Будущее будет лучше, чем вы думаете. – М.: АСТ, 2018. – 608 с.
Докинз Р. Эгоистичный ген. – М.: АСТ, 2013. – 512 с.
Дрекслер Э. Всеобщее благоденствие: Как нанотехнологическая революция изменит цивилизацию. – М.: Издательство Института Гайдара, 2014. – 504 с.
Зинделл Д. Сломанный бог. – М.: АСТ, 2002. – 746 с.
Кларк А. Черты будущего. – М.: Мир, 1966. – 288 с.
Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. – М.: Либроком, 2020. – 278с.
Курцвейл Р., Гроссман Т. Transcend: Девять шагов на пути к вечной жизни. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 384 с.
Курцвейл Р. Эволюция разума. – М.: Эксмо, 2015. – 352 с.
Макаскилл У. Ум во благо. От добрых намерений к эффективному альтруизму. – М.: АСТ, 2020. – 288 с.
МВФ. Ежегодный отчет. – МВФ.
Мур Д. Преодоление пропасти: Как вывести технологический продукт на массовый рынок. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 336 с.
Пинкер С. Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше. – М.: Альпина нон-фикшн, 2021. – 952 с.
Пинкер С. Просвещение продолжается: В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса. – М.: Альпина нон-фикшн, 2021.
Прогноз численности населения ООН, 2017.
Склут Р. Бессмертная жизнь Генриетты Лакс. – М.: Карьера-Пресс, 2012. – 384 с.
Фейнман Р. Радость познания. – М.: АСТ, 2013. – 352 с.
Харари Н. Homo Deus: Краткая история будущего. – М.: Синдбад, 2018. – 496 с.
Хокинг С. Теория всего. – М.: АСТ, 2017. – 160 с.
Харари Н. Sapiens: Краткая история человечества. – М.: Синдбад, 2017. – 520 с.
Шекспир У. Гамлет. – М.: Азбука, 2020. – 224 с.
Эттингер Р. Перспективы бессмертия. – М.: Научный мир, 2003. – 264 с.
Alberts, Bruce. (2014). Molecular Biology of the Cell. 6th Edition. Garland Science.
Alexander, Brian. (2004). Rapture: A Raucous Tour of Cloning, Transhumanism, and the New Era of Immortality. Basic Books.
Alexandre, Laurent. (2011). La mort de la mort: Comment la technomédicine va bouleverser l’humanité. Editions Jean-Claude Lattès.
Andrews, Bill & Cornell, Jon. (2017). Telomere Lengthening: Curing All Disease Including Aging and Cancer. Sierra Sciences.
Andrews, Bill & Cornell, Jon. (2014). Curing Aging: Bill Andrews on Telomere Basics. Sierra Sciences.
Arking, Robert. (2006). The Biology of Aging: Observations and Principles. Oxford University Press.
Arrison, Sonia. (2011). 100 Plus: How the Coming Age of Longevity Will Change Everything, From Careers and Relationships to Family and Faith. Basic Books.
Austad, Steven N. (1997). Why We Age: What Science Is Discovering About the Body’s Journey Through Life. John Wiley & Sons, Inc.
Bailey, Ronald. (2005). Liberation Biology: The Scientific and Moral Case for the Biotech Revolution. Prometheus Books.
BBVA, OpenMind. (2017). The Next Step: Exponential Life. BBVA, OpenMind.
Becker, Ernest. (1973). The Denial of Death. Free Press.
Blackburn, Elizabeth & Epel, Elissa. (2018). The Telomere Effect: A Revolutionary Approach to Living Younger, Healthier, Longer. Grand Central Publishing.
Blasco, María & Salomone, Mónica G. (2016). Morir joven, a los 140: El papel de los telómeros en el envejecimiento y la historia de cómo trabajan los científicos para conseguir que vivamos más y mejor. Paidо`s.
Bostrom, Nick. (2005). “A History of Transhumanist Thought.” Journal of Evolution and Technology, Vol. 14 Issue 1, April 2005.
Bova, Ben. (1998). Immortality: How Science is Extending Your Life Span, and Changing the World. Avon Books.
Broderick, Damien. (1990). The Last Mortal Generation: How Science Will Alter Our Lives in the 21st Century. New Holland.
Bulterijs, Sven; Hull, Raphaella S.; Bjork, Victor C. & Roy, Avi G. (2015). “It is time to classify biological aging as a disease.” Frontiers in Genetics 6:205.
Carlson, Robert H. (2010). Biology is Technology: The promise, peril, and new business of engineering life. Harvard University Press.
Cave, Stephen. (2012). Immortality: The Quest to Live Forever and How It Drives Civilization. Crown.
Chaisson, Eric. (2005). Epic of Evolution: Seven Ages of the Cosmos. Columbia University Press.
Church, George M. and Regis, Ed. (2012). Regenesis: How Synthetic Biology will Reinvent Nature and Ourselves. Basic Books.
Comfort, Alex. (1964). Ageing: The Biology of Senescence. Routledge & Kegan Paul.
Cordeiro, José (ed.). (2014). Latinoamérica 2030: Estudio Delphi y Escenarios. Lola Books.
Cordeiro, José. (2010). Telephones and Economic Development: A Worldwide Long-Term Comparison. Lambert Academic Publishing.
Cordeiro, José. (2007). El Desafío Latinoamericano… y sus Cinco Grandes Retos. McGraw-Hill Interamericana.
Coeurnelle, Didier. (2013). Et si on arrêtait de vieillir! FYP éditions.
Critser, Greg. (2010). Eternity Soup: Inside the Quest to End Aging. Crown.
Danaylov, Nikola. (2016). Conversations with the Future: 21 Visions for the 21st Century. Singularity Media, Inc.
De Grey, Aubrey & Rae, Michael. (2008). Ending Aging: The Rejuvenation Breakthroughs That Could Reverse Human Aging in Our Lifetime. St. Martin’s Press.
De Grey, Aubrey; Ames, Bruce N.; Andersen, Julie K.; Bartke, Andrzej; Campisi, Judith; Heward, Christopher B.; McCarter, Roger JM & Stock, Gregory. (2002). “Time to talk SENS: critiquing the immutability of human aging.” Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 959; pp. 452–462.
De Grey, Aubrey. (1999). The mitochondrial free radical theory of aging. Landes Bioscience.
De Magalhães, João Pedro, Curado, J. & Church, George M. (2009). “Meta-analysis of age-related gene expression profiles identifies common signatures of aging.” Bioinformatics, 25 (7), pp. 875–881.
Deep Knowledge Ventures. (2018). AI for Drug Discovery, Biomarker Development and Advanced R&D. Deep Knowledge Ventures.
DeLong, J. Brad. (2000). “Cornucopia: The Pace of Economic Growth in the Twentieth Century.” NBER Working Papers 7602.
Diamandis, Peter H. & Kotler, Steven. (2016). Bold: How to Go Big, Create Wealth and Impact the World. Simon & Schuster.
Diamond, Jared M. (1997). Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. W.W. Norton & Co.
Drexler, K. Eric. (1987). Engines of Creation: The Coming Age of Nanotechnology. Anchor Books.
Dyson, Freeman J. (2004 [1984]): Infinite in All Directions. Harper Perennial.
Ehrlich, Paul. (1968). The Population Bomb. Sierra Club/Ballantine Books.
Emsley, John. (2011). Nature’s Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford University Press.
Ettinger, Robert. (1972). Man into Superman. St. Martin’s Press.
Fahy, Gregory et al. (ed.). (2010). The Future of Aging: Pathways to Human Life Extension. Springer.
Farmanfarmaian, Robin. (2015). The Patient as CEO: How Technology Empowers the Healthcare Consumer. Lioncrest Publishing.
Finch, Caleb E. (1990). Senescence, Longevity, and the Genome. University of Chicago Press.
Fogel, Robert William. (2004). The Escape from Hunger and Premature Death, 1700–2100: Europe, America, and the Third World. Cambridge University Press.
Fossel, Michael. (2015). The Telomerase Revolution: The Enzyme That Holds the Key to Human Aging and Will Soon Lead to Longer, Healthier Lives. BenBella Books.
Fossel, Michael. (1996). Reversing Human Aging. William Morrow and Company.
Friedman, David M. (2007). The Immortalists: Charles Lindbergh, Dr. Alexis Carrel, and Their Daring Quest to Live Forever. Ecco.
Fumento, Michael. (2003). BioEvolution: How Biotechnology Is Changing the World. Encounter Books.
García Aller, Marta. (2017). El fin del mundo Tal y como lo conocemos: Las grandes innovaciones que van a cambiar tu vida. Planeta.
Garreau, Joel. (2005). Radical Evolution: The Promise and Peril of Enhancing Our Minds, Our Bodies, and What It Means to Be Human. Doubleday.
Glenn, Jerome, et al. (2018). State of the Future 19.1. The Millennium Project.
Gosden, Roger. (1996). Cheating Time. W. H. Freeman & Company.
Green, Ronald M. (2007). Babies by Design: The Ethics of Genetic Choice. Yale University Press.
Gupta, Sanjay. (2009). Cheating Death: The Doctors and Medical Miracles that Are Saving Lives Against All Odds. Wellness Central.
Halal, William E. (2008). Technology’s Promise: Expert Knowledge on the Transformation of Business and Society. Palgrave Macmillan.
Haldane, John Burdon Sanderson. (1924). Daedalus or Science and the Future. K. Paul, Trench, Trubner & Co.
Hall, Stephen S. (2003). Merchants of Immortality: Chasing the Dream of Human Life Extension. Houghton Mifflin Harcourt.
Halperin, James L. (1998). The First Immortal. Del Rey, Random House.
Hayflick, Leonard. (1994). How and Why We Age. Ballantine Books.
Hobbes, Thomas. (2008 [1651]). Leviathan. Oxford World’s Classics. Oxford University Press.
Hoffman, Rudi. (2018). The Affordable Immortal: Maybe You Can Beat Death and Taxes. Createspace Independent Publishing Platform
Hughes, James. (2004). Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of the Future. Westview Press.
Huxley, Julian. (1957). “Transhumanism.” New Bottles for New Wine. Chatto & Windus.
Immortality Institute (ed.). (2004). The Scientific Conquest of Death: Essays on Infinite Lifespans. Libros En Red.
International Monetary Fund. (Anual). World Economic Outlook. International Monetary Fund.
Ioviţă, Anca. (2015). The Aging Gap Between Species. CreateSpace.
Jackson, Moss A. (2016). I Didn’t Come to Say Goodbye! Navigating the Psychology of Immortality. D&L Press.
Kahn, Herman. (1976). The Next 200 Years: A Scenario for America and the World. Quill.
Kaku, Michio. (2018). The Future of Humanity: Terraforming Mars, Interstellar Travel, Immortality, and Our Destiny Beyond Earth. Doubleday.
Kaku, Michio. (2012). Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100. Anchor Books.
Kanungo, Madhu Sudan. (1994). Genes and Aging. Cambridge University Press.
Kennedy, Brian K.; Berger, Shelley, L.; Brunet, Anne; Campisi, Judith; Cuervo, Ana Maria; Epel, Elissa S.; Franceschi, Claudio; Lithgow, Gordon J.; Morimoto, Richard I.; Pessin, Jeffrey E.; Rando, Thomas A.; Arlan Richardson, Arlan; Schadt, Eric E.; Wyss-Coray, Tony & Sierra, Felipe. (2014). “Aging: a common driver of chronic diseases and a target for novel interventions.” Cell, 2014 Nov 6; 159(4): pp. 709–713.
Kenyon, Cynthia J. (2010). “The genetics of ageing.” Nature, 464 (7288), pp. 504–512.
Kuhn, Thomas S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.
Kurian, George T. and Molitor, Graham T.T. (1996). Encyclopedia of the Future. Macmillan.
Kurzweil, Ray. (2005). The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. Viking Press Inc.
Kurzweil, Ray. (1999). The Age of Spiritual Machines. Penguin Books.
Kurzweil, Ray & Grossman, Terry. (2009). TRANSCEND: Nine Steps to Living Well Forever. Rodale Books.
Kurzweil, Ray & Grossman, Terry. (2004). Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever. Rodale Books.
Lents, Nathan. (2018). Human Errors: A Panorama of Our Glitches, from Pointless Bones to Broken Genes. Houghton Mifflin Harcourt.
Lieberman, Daniel E. (2013). The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease. Vintage.
Lima, Manuel. (2014). The book of Trees: Visualizing Branches of Knowledge. Princeton Architectural Press.
Longevity.International. (2017). Longevity Industry Analytical Report 1: The Business of Longevity. Longevity.International.
Longevity.International. (2017). Longevity Industry Analytical Report 2: The Science of Longevity. Longevity.International.
López-Otín, Carlos; Blasco, Maria A.; Partridge, Linda; Manuel Serrano, Manuel & Kroemer, Guido. (2013). “The Hallmarks of Aging.” Cell, 2013 Jun 6; 153 (6): pp. 1194–1217.
Maddison, Angus. (2007). Contours of the World Economy 1–2030 AD: Essays in Macro – Economic History. Oxford University Press.
Maddison, Angus. (2004). Historical Statistics for the World Economy: 1–2003 AD. OECD Development Center.
Maddison, Angus. (2001). The World Economy: A Millennial Perspective. OECD Development Center.
Malthus, Thomas Robert. (2008 [1798]). An Essay on the Principle of Population. Oxford World’s Classics. Oxford University Press.
Martinez, Daniel E. (1998). “Mortality patterns suggest lack of senescence in hydra.” Experimental Gerontology, 1998 May; 33 (3), pp. 217–225.
Martínez-Barea, Juan. (2014). El mundo que viene: Descubre por qué las prо`ximas décadas serán las más apasionantes de la historia de la humanidad. Gestión 2000.
Medawar, Peter. (1952). An Unsolved Problem of Biology. H. K. Lewis.
Mellon, Jim & Chalabi, Al. (2017). Juvenescence: Investing in the Age of Longevity. Fruitful Publications.
Miller, Philip Lee & Life Extension Foundation. (2005). The Life Extension Revolution: The New Science of Growing Older Without Aging. Bantam Books.
Minsky, Marvin. (1994). “Will robots inherit the Earth?” Scientific American, October 1994.
Minsky, Marvin. (1987). The Society of Mind. Simon and Schuster.
Mitteldorf, Josh & Sagan, Dorion. (2016). Cracking the Aging Code: The New Science of Growing Old, and What it Means for Staying Young. Flatiron Books.
Moore, Geoffrey. (1995). Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-tech Products to Mainstream Customers. Harperbusiness.
Moravec, Hans. (1999). Robot: Mere Machine to Transcendent Mind. Oxford University Press.
Moravec, Hans. (1988). Mind Children. Harvard University Press.
More, Max. (2003). The Principles of Extropy. Version 3.11. The Extropy Institute.
More, Max & Vita-More, Natasha. (2013). The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future. Wiley-Blackwell.
Mulhall, Douglas. (2002). Our Molecular Future: How Nanotechnology, Robotics, Genetics, and Artificial Intelligence will Transform our World. Prometheus Books.
Musi, Nicolas & Hornsby, Peter (ed.). (2015). Handbook of the Biology of Aging, Eight Edition. Academic Press.
Naam, Ramez. (2005). More Than Human: Embracing the Promise of Biological Enhancement. Broadway Books.
Navajas, Santiago. (2016). El hombre tecnolо`gico y el síndrome Blade Runner. Editorial Berenice.
Ocampo, Alejandro; Reddy, Pradeep; Martinez-Redondo, Paloma; Platero-Luengo, Aida; Hatanaka, Fumiyuki; Hishida, Tomoaki; Li, Mo; Lam, David; Kurita, Masakazu; Beyret, Ergin; Araoka, Toshikazu; Vazquez-Ferrer, Eric; Donoso, David; Roman, José Luis; Xu, Jinna; Rodriguez Esteban, Concepcion; Gabriel Nuñez, Gabriel; Nuñez Delicado, Estrella; Campistol, Josep M.; Guillen, Isabel; Guillen, Pedro & Izpisua Belmonte, Juan Carlos. (2016). “In Vivo Amelioration of Age-Associated Hallmarks by Partial Reprogramming.” Cell. 2016, December 15; 167 (7): pp. 1719–1733.
United Nations. (Annual). Statistical Yearbook. United Nations.
Paul, Gregory S. & Cox, Earl. (1996). Beyond Humanity: Cyberevolution and Future Minds. Charles River Media.
Perry, Michael. (2001). Forever For All: Moral Philosophy, Cryonics, and the Scientific Prospects for Immortality. Universal Publishers.
Pickover, Clifford A. (2007). A Beginner’s Guide to Immortality: Extraordinary People, Alien Brains, and Quantum Resurrection. Thunder’s Mouth Press.
United Nations Development Programme. (Annual). Human Development Report. United Nations Development Programme.
Regis, Edward. (1991). Great Mambo Chicken and the Transhuman Condition: Science Slightly over the Edge. Perseus Publishing.
Ridley, Matt. (1995). The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature. Harper Perennial.
Roco, Mihail C. & Bainbridge, William Sims (eds.). (2003). Converging Technologies for Improving Human Performance. Kluwer.
Rogers, Everett M. (2003). Diffusion of Innovations. 5th Edition. Free Press.
Rose, Michael. (1991). Evolutionary Biology of Aging. Oxford University Press.
Rose, Michael; Rauser, Casandra L. & Mueller, Laurence D. (2011). Does Aging Stop? Oxford University Press.
Sagan, Carl. (1977). The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence. Random House.
Serrano, Javier. (2015). El hombre biónico y otros ensayos sobre tecnologías, robots, maquinas y hombres. Editorial Guadalmazán.
Shermer, Michael. (2018). Heavens on Earth: The Scientific Search for the Afterlife, Immortality, and Utopia. Henry Holt and Co.
Simon, Julian L. (1998). The Ultimate Resource 2. Princeton University Press.
Sinclair, David A. (2019). Lifespan: Why We Age – and Why We Don’t Have To. Thorsons.
Stambler, Ilia. (2017). Longevity Promotion: Multidisciplinary Perspectives. CreateSpace Independent Publishing Platform.
Stambler, Ilia. (2014). A History of Life-Extensionism in the Twentieth Century. CreateSpace Independent Publishing Platform.
Stipp, David. (2010). The Youth Pill: Scientists at the Brink of an Anti-Aging Revolution. Current.
Stock, Gregory. (2002). Redesigning Humans: Our Inevitable Genetic Future. Houghton Mifflin Company.
Stolyarov II, Gennady. (2013). Death is Wrong. Rational Argumentators Press.
Strehler, Bernard. (1999). Time, Cells, and Aging. Demetriades Brothers.
Teilhard de Chardin, Pierre. (1964). The Future of Man. Harper & Row.
Venter, J. Craig. (2014). Life at the Speed of Light: From the Double Helix to the Dawn of Digital Life. Penguin Books.
Venter, J. Craig. (2008). A Life Decoded: My Genome: My Life. Penguin Books.
Verburgh, Kris. (2018). The Longevity Code: The New Science of Aging. The Experiment.
Vinge, Vernor. (1993). “The Coming Technological Singularity.” Whole Earth Review, Winter 1993.
Walter, Chip. (2020). Immortality, Inc.: Renegade Science, Silicon Valley Billions, and the Quest to Live Forever. National Geographic.
Warwick, Kevin. (2002). I, Cyborg. Century.
Weindruch, Richard & Walford, Roy. (1988). The Retardation of Aging and Disease by Dietary Restriction. Charles C. Thomas.
Weiner, Jonathan. (2010). Long for This World: The Strange Science of Immortality. HarpersCollins Publishers.
Weismann, August. (1892). Essays Upon Heredity and Kindred Biological Problems. Volumes 1 & 2. Claredon Press.
Wells, H.G. (1902). “The Discovery of the Future.” Nature, 65, pp. 326–331.
West, Michael. (2003). The Immortal Cell. Doubleday.
Wood, David W. (2019). Sustainable Superabundance: A Universal Transhumanist Invitation. Delta Wisdom.
Wood, David W. (2018). Transcending Politics: A Technoprogressive Roadmap to a Comprehensively Better Future. Delta Wisdom.
Wood, David W. (2016). The Abolition of Aging: The forthcoming radical extension of healthy human longevity. Delta Wisdom.
Zhavoronkov, Alex. (2013). The Ageless Generation: How Advances in Biomedicine Will Transform the Global Economy. Palgrave Macmillan.
Zhavoronkov, Alex & Bhullar, Bhupinder. (2015). Classifying aging as a disease in the context of ICD-11. Frontiers in Genetics.
