Чай с птицами (сборник)
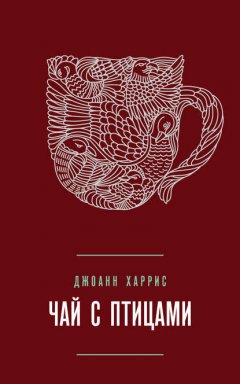
Благодарности
Снова, как всегда, тысячу раз спасибо невоспетым героям, которые помогли довести эти рассказы до публикации: моему агенту Серафине Кларк, моему американскому агенту Говарду Морхейму, моему редактору Дженнифер Брель и прочим друзьям в издательстве «Уильям Морроу»; Бри Бэркман, моему киноагенту, Луизе Пейдж и Анн Рив – за то, что не дают мне переступить черту; Джине Бринкли – за дизайн обложки, Кевину, Анушке, Кристоферу и всем прочим, кто вдохновлял меня и помогал писать, даже когда мне хотелось бросить. И наконец, сердечное спасибо всем, благодаря кому мои книги стоят на полках, – книгопродавцам, торговым агентам, распространителям – и вам, читатели, до сих пор идущие за мною следом.
Предисловие
Я очень рада, что рассказ после долгой опалы наконец возвращается. Хороший рассказ – а рассказы бывают очень хорошими – остается с тобой намного дольше романа. Рассказ может потрясти, воспламенить, просветить и тронуть так, как более длинному произведению не суждено. Рассказы часто тревожат, пугают или ведут подрывную деятельность в голове. Они ставят вопросы, в то время как большинство романов пытается лишь дать ответы. Оказывается, из всех прочитанных мною книг я помню ярче всего именно рассказы – живые беспорядочные картины, окна в иные миры, в иных людей.
Некоторые рассказы тревожат меня до сих пор. Мне все еще жаль «Пешехода» Рэя Брэдбери. Я до сих пор плачу над «Розой для Экклезиаста» Роджера Желязны. У меня бегут мурашки по спине, когда я вспоминаю «Мы живем хорошо» Джерома Биксби. И каждый раз, когда я еду в метро, я чувствую совершенно иррациональный трепет – исключительно из-за рассказа «Метро по имени Мёбиус», хотя прочла его в двенадцать лет и даже не помню, кто автор.[1]
Лично у меня рассказы всегда пишутся трудно и медленно. Вместить мысль в такой маленький объем, выдержать пропорции, найти нужный тон – все это трудно, порой до отчаяния. Четыре-пять тысяч слов, которые легко написать за день как часть романа, в виде рассказа могут отнять две недели. Как домашнее вино моего дедушки, любой мой рассказ – эксперимент. Успех никогда не гарантирован; иногда рассказ срабатывает, а иногда умирает на странице, как слишком длинный анекдот без развязки; а почему – не знаю. Но я люблю рассказы. Мне нравятся их возможности, разнообразие, вызов. Я пишу их, или пытаюсь писать, уже десять лет. Они впервые выходят в виде сборника.
Вера и Надежда идут по магазинам
Четыре года назад моя бабушка поселилась в доме престарелых в Барнсли. Пока она не умерла, я часто туда ездила и почерпнула из этих визитов немало рассказов. Вот один из них.
Сегодня понедельник – значит, опять рисовый пудинг. И не то чтобы они, то есть сотрудники дома престарелых «Поляна», так уж заботились о наших зубах, просто у них плохо с воображением. Я на днях так и сказала Клэр: есть же куча всяких блюд, которые не нужно жевать. Устрицы. Фуа-гра. Салат из авокадо. Клубника со сливками. Ванильное крем-брюле с мускатным орехом. Тогда почему мы видим только пресные пудинги и переваренное мясо? Клэр – хмурая блондинка, вечно жующая жвачку, – посмотрела на меня как на сумасшедшую. Они утверждают, что от изысканных блюд бывает несварение желудка. Не дай бог, наши последние вкусовые рецепторы получат избыток впечатлений. Я увидела, как Надежда ухмыляется, отправляя в рот последнюю ложку рыбного пирога, и поняла, что она все слышала. Надежда слепа, но не позволяет себе распускаться.
Вера и Надежда. Можно подумать, мы сестры. Келли – это та, у которой контур губ всегда слишком яркий, – думает, что мы чудачки. Крис иногда поет за уборкой: «Вера, Надежда, Любовь!..» По-моему, он лучший из них. Бодрый, непочтительный, ему вечно влетает за то, что он с нами разговаривает. Он носит футболки в обтяжку и серьгу в одном ухе. Я говорю ему, что нам только любви не хватало, и он смеется. Он зовет нас «Хиндж и Брэкет»[2] или «Буч и Сандэнс».[3]
Я не говорю, что тут плохо. Тут просто слишком обыденно, не комфортной обыденностью дома, где даже грязь и хлам свои, родные, – но обыденностью приемного покоя, больницы, пастельно-хлорочный интерьер, пахнущий освежителем воздуха с небольшой примесью подкладного судна. Как правило, нас навещают редко. Я из везунчиков: мой сын Том заходит раз в две недели, приносит журналы, букет хризантем – последний раз были желтые – и новости, но только те, что, по его мнению, меня не расстроят. Правда, он невеликий мастер светских бесед. Ну что, мам, как ты тут вообще? и пара замечаний насчет сада – на большее он не способен, но намерения у него добрые. Что же до Надежды, то она здесь уже пять лет – даже дольше меня – и ее еще ни разу никто не навестил. На прошлое Рождество я вручила ей коробку конфет и сказала, что это от ее дочери, живущей в Калифорнии. Она улыбнулась типичной для нее саркастической улыбкой.
– Дорогая, если это от Присциллы, то ты – Джинджер Роджерс[4],– сказала она, поджав губы.
Я засмеялась. Я уже двадцать лет передвигаюсь в инвалидном кресле, а танцевала последний раз, когда мужчины еще носили шляпы.
Но мы справляемся. Надежда толкает мое кресло; я говорю, куда толкать. Правда, ей не нужен поводырь: она может передвигаться по всему зданию, ориентируясь по пандусам. Но медсестры любят, когда мы проявляем находчивость. Это соответствует их идеологии: разумная экономия. И конечно, я ей читаю. Надежда обожает книги. Вообще, это она первая сподвигла меня на чтение. Мы прочитали «Грозовой перевал», «Гордость и предубеждение», «Доктора Живаго». Здесь мало книг, но раз в четыре недели приезжает передвижная библиотека, и мы посылаем Люси взять нам что-нибудь интересное. Люси – студентка колледжа, практикантка, так что выбирает со знанием дела. Правда, она отказалась принести нам «Лолиту» и тем привела Надежду в ярость. Люси сочла эту книгу неподобающей.
– Один из величайших писателей двадцатого века, а вы записали его в «неподобающие»!
Надежда когда-то преподавала в Кембридже, и у нее в голосе до сих пор иногда слышится повелительный металл. Но я видела, что Люси не слушает. У них, даже у тех, кто поумнее, бывает такое выражение на лице, улыбочка детсадовской воспитательницы: «Мне-то лучше знать. Мне виднее, потому что ты старуха». Все тот же рисовый пудинг, говорит Надежда. Рисовый пудинг для души.
Надежда помогла мне полюбить книги, а я, в свою очередь, приохотила ее к журналам. Журналы – моя страсть уже много лет: гламурные моды, светская хроника, ресторанные обзоры и рецензии на новые фильмы. Я начала с рецензий на книги, хитро усыпила бдительность Надежды, читая ей то какую-нибудь статью, то заметку о моде. Оказалось, у меня талант на словесные описания, и теперь мы вдвоем блаженно теряемся в глянцевых эфемерных просторах, стеная над бриллиантами от Картье, губной помадой от Шанель, роскошными невозможными одеяниями. Вообще, странно. Когда я была молодая, меня эти вещи совершенно не интересовали. Я думаю, Надежда одевалась элегантнее меня, всякие там балы в колледже, вечеринки преподавателей, летние пикники на Задворках[5]. Сейчас, конечно, мы одеваемся одинаково. Гламур а-ля дом престарелых. Здесь почти все общее: многие не помнят своих вещей, поэтому воровство процветает. Я ношу свои лучшие вещи с собой, в багажной сетке под днищем инвалидного кресла. Деньги и драгоценности, которые у меня еще остались, спрятаны в подушке сиденья.
Предполагается, что денег у нас нет. Здесь их не на что тратить, а на улицу нас без сопровождения не выпускают. На двери кодовый замок, и кое-кто пытается выскользнуть вместе с уходящими посетителями. Миссис Макаллистер – ей девяносто два, она бодра и совершенно безумна – все время убегает. Она думает, что идет домой.
Кажется, все началось с туфель. Глянцевых, лакированных, красных, как яблочные леденцы, с бесконечными каблуками. Я нашла их фотографию в одном журнале и вырезала. Время от времени, когда никого не было рядом, я доставала картинку и смотрела. У меня кружилась голова, и я чувствовала себя немного глупо – непонятно почему. Можно подумать, это была фотография мужчины или чего-нибудь такого. А это всего лишь обувь. Мы с Надеждой носим одинаковые туфли: неуклюжие, без шнурков, из кожзаменителя цвета овсянки, бесспорно и чрезвычайно «подобающие». Но втайне стонем над шестидюймовыми прозрачными каблуками от Маноло Бланика, над ярко-малиновыми замшевыми мюлями от Джины или расписанными вручную шелковыми туфлями от Джимми Чу. Конечно, это абсурд. Но я захотела эти туфли с такой силой, что самой страшно. Хотела хоть разок ступить в глянцевую, ликующую журнальную страницу. Попробовать рецепты; посмотреть фильмы; прочитать книги. Все это воплотила в себе пара туфель: жизнерадостный, беззастенчивый красный цвет, откровенно невозможные каблуки. В этих туфлях можно делать что угодно: вальяжно раскинуться в кресле, возлежать, красться, гордо вышагивать, летать, – но только не ходить.
Я держала вырезку в сумочке, иногда вынимая и разворачивая, словно карту места, где спрятан клад. Надежда вскоре поняла, что я что-то скрываю.
– Это глупо, я знаю, – сказала я. – Может, я съезжаю с катушек. Наверное, я в конце концов стану как миссис Баннерджи – буду носить десять плащей разом и воровать чужое нижнее белье.
Надежда засмеялась.
– Нет, Вера, вряд ли. Я тебя очень понимаю. – Она пошарила рукой по столу, нащупывая свою чашку с чаем. Я знала, что помогать ей нельзя. – Ты жаждешь чего-нибудь неподобающего. Я хочу «Лолиту». Ты – пару красных туфель. То и другое совершенно неподобающе для таких, как мы.
Она склонилась ко мне и понизила голос.
– Там адрес есть?
Адрес был. Я ей об этом сказала. В Найтсбридже.[6]
С тем же успехом мог быть в Австралии.
– Эй! Буч и Сандэнс! – Это жизнерадостный Крис пришел мыть окна. – Ограбление замышляете?
Надежда улыбнулась.
– Нет, Кристофер, – лукаво сказала она. – Побег.
Мы все спланировали с хитростью и скрытностью военнопленных. У нас было громадное преимущество: внезапность. Мы не были склонны к побегу, как миссис Макаллистер, – нам доверяли, как приятно вменяемым и надежно нетранспортабельным.
Я предложила применить отвлекающий маневр. Как-то убрать дежурную сестру от конторки, оставив входную дверь без наблюдения. Надежда стала околачиваться у двери, слушая звук нажимаемых кнопок, пока не обрела почти полную уверенность, что может воспроизвести комбинацию. Мы все рассчитали с точностью опытных стратегов. В пятницу утром, без девяти девять, я взяла в гостиной окурок мистера Бэннермана и спрятала у себя в комнате, в металлической мусорной урне, полной бумаги. Без восьми мы с Надеждой уже были в вестибюле и направлялись в комнату для завтрака. Через десять секунд, как я и ожидала, сработала пожарная сигнализация. Из нашего коридора донеслись крики миссис Макаллистер: «Пожар! Пожар!»
Дежурила Келли. Смышленая Люси не забыла бы запереть дверь. Тупая Клэр могла вообще не уйти с поста. Но Келли схватила со стены ближайший огнетушитель и помчалась на шум. Надежда подтолкнула меня к двери и стала нащупывать панель управления. Без семи девять.
– Скорей! Она сейчас вернется!
– Ч-ш-ш. – («Пи-пи-пи-пи».) – Отлично. Все-таки не зря меня в детстве гоняли на уроки музыки.
Дверь открылась. Мы с хрустом выкатились на освещенный солнцем гравий.
Вот тут Надежде уже нужна моя помощь. Это реальный мир, тут пандусов нет. Я старалась не пялиться, как завороженная, на небо, на деревья. Том уже полгода не вывозил меня наружу.
– Прямо вперед. Налево. Стоп. Впереди рытвина. Осторожно. Опять налево.
Я помнила, что автобусная остановка сразу у ворот. Автобусы ходят как часы. Каждый час – в двадцать пять минут и без пяти. Из гостиной всегда слышно, как они гудят и скрипят, словно капризные пенсионеры. Секунду я в ужасе думала, что остановки больше нет. На ее месте велись дорожные работы; край тротуара был отгорожен тумбами. Потом увидела в пятидесяти метрах от себя на невысоком металлическом столбике знак временной автобусной остановки. На гребне холма показался одышливый автобус.
– Быстро! Полный вперед!
Надежда отреагировала мгновенно. Ноги у нее длинные и все еще мускулистые; в детстве она занималась балетом. Я наклонилась вперед, сжимая сумочку, и подняла руку. За спиной послышался крик; обернувшись на дом престарелых «Поляна», я увидела в окне своей спальни Келли, которая что-то кричала, открыв рот. На секунду я испугалась, что автобус не возьмет старуху в инвалидном кресле, но это был «больничный» маршрут и автобус со специальным пандусом. Водитель безразлично посмотрел на нас и махнул рукой: заезжайте. И вот мы с Надеждой в автобусе, цепляемся друг за друга, как легкомысленные девчонки, и хохочем. Люди смотрят, но в большинстве своем равнодушно. Мне улыбнулась маленькая девочка. Я поняла, что уже очень давно не видела детей.
Мы сошли у станции. На деньги, вытащенные из-под сиденья, мы купили два билета до Лондона. Я было ударилась в панику, когда кассир потребовал пенсионное удостоверение, но Надежда хорошо поставленным голосом кембриджского профессора сказала, что мы поедем за полную стоимость. Кассир долго чесал в затылке, потом пожал плечами.
– Дело ваше, – сказал он.
Поезд был длинный, в нем пахло кофе и паленой резиной. Я направляла Надежду вдоль платформы туда, где проводник спустил пандус.
– Едем в город проветриться, а, дамочки?
Проводник говорил чуть похоже на Криса, фуражка его была залихватски сдвинута на затылок.
– Милочка, дай я, – сказал он Надежде, имея в виду инвалидное кресло, но она покачала головой:
– Спасибо, я сама.
– Прямо, дорогая, – сказала я.
Я увидела, что проводник заметил слепые глаза Надежды, но промолчал. Это хорошо. Мы с ней таких вещей терпеть не можем.
Бумага с найтсбриджским адресом была все еще у меня в сумочке. Мы устроились в вагоне (жизнерадостный проводник принес кофе и лепешки), и я опять развернула вырезку. Надежда услышала, что я делаю, и улыбнулась.
– Это смешно? – спросила я у нее, снова глядя на туфли, сияющие и красные, как леденцы Лолиты. – Мы смешны?
– Конечно, смешны, – безмятежно ответила она, отхлебывая кофе. – И это здорово, правда?
Мы ехали всего три часа. Я думала, будет дольше, но поезда теперь стали гораздо быстрее, как и все остальное. Мы выпили еще кофе, поговорили с проводником (которого, как выяснилось, звали не Крис, а Барри), и я стала рассказывать Надежде о видах из окна, слегка расплывавшихся оттого, что мы проносились мимо со страшной скоростью.
– Не беспокойся, – сказала Надежда. – Не обязательно рассказывать про все прямо сейчас. Смотри и запоминай как следует. Когда вернемся, у нас будет куча времени, чтобы все обсудить.
В Лондон мы приехали почти к обеду. Вокзал Кингз-Кросс был гораздо больше, чем я себе представляла, – стекло и величественная копоть. Я старалась разглядеть его как можно лучше, одновременно управляя Надеждой, пробирающейся через разновозрастную, разномастную толпу; на мгновение даже Надежда растерялась, и мы застряли в нерешительности посреди платформы, недоумевая, куда делись все носильщики. Кажется, все, кроме нас, точно знали, куда им надо, люди с портфелями то и дело толкали кресло, прокладывая себе путь к выходу, а мы все стояли, пытаясь понять, куда нам идти. Моя храбрость начала убывать.
– Ох, Надежда, – прошептала я. – Я, кажется, больше не могу.
Но Надежду было не сбить с пути.
– Чепуха, – уверенно сказала она. – Сейчас найдем такси – они вон там, откуда сквозит.
Она показала налево, и я увидела высоко над головами табличку «Выход».
– Будем делать то же, что и все. Возьмем такси. Вперед!
И с тем мы тронулись с места, раздвигая толпу на платформе. Надежда приговаривала кембриджским голосом «разрешите», а я вспомнила, что должна говорить ей, куда ехать. Я опять проверила сумочку, и Надежда хихикнула. Но на этот раз я полезла не за вырезкой. Двести пятьдесят фунтов в «Поляне» казались невообразимым богатством, но по билетам на поезд я поняла, что и цены тоже выросли за годы нашего отсутствия. Я засомневалась, хватит ли нам денег.
Мрачный таксист неохотно засунул мое кресло в черный кеб, пока Надежда меня поддерживала. Я уже не такая худая, как была, и, пожалуй, слишком тяжела для нее, но мы справились.
– Может, позавтракаем? – спросила я, утрированно жизнерадостно, словно в противовес кислому выражению лица водителя.
Надежда кивнула.
– Все равно где, лишь бы там не подавали рисовый пудинг, – ехидно сказала она.
– А что, «Фортнум и Мейсон»[7] еще на месте? – спросила я у водителя.
– Да, дорогуша, и Британский музей тоже, – сказал он, нетерпеливо газуя.
Мне показалось, что он пробормотал: «Вот там вам самое место». Надежда неожиданно хихикнула.
– Может, мы потом туда и отправимся, – кротко предложила она.
Я тоже рассмеялась. Водитель подозрительно посмотрел на нас и тронулся с места, продолжая что-то бормотать.
Некоторые места вечны. Универмаг Фортнума – одно из таких мест, маленькое преддверие рая, сверкающее затонувшими сокровищами. Когда все цивилизации рухнут, «Фортнум» выстоит – вежливые швейцары, стеклянные люстры, последний, неприкасаемый, легендарный оплот веры. Мы вошли на первый этаж, минуя горы шоколада и когорты засахаренных фруктов. Воздух был прохладный и сливочный, ванильный, гвоздичный, персиковый. Надежда осторожно поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, вдыхая аромат. Здесь были трюфели, икра, фуа-гра в крохотных баночках, огромные оплетенные бутыли зеленых слив в выдержанном бренди и вишни цвета моих найтсбриджских туфель. Здесь были перепелиные яйца, грильяж в шоколаде, «кошачьи язычки»[8] в пакетиках из рисовой бумаги и сверкающие батальоны бутылок шампанского. Мы отправились в лифте на верхний этаж, в кафе, пили «эрл грей» из фарфоровых чашечек и хихикали, вспоминая пластиковый чайный сервиз «Поляны». Я бесшабашно, стараясь не думать о своих тающих сбережениях, сделала заказ на двоих: копченая лососина и яичница-болтунья на булочках, легких, как дуновение ветра, крохотные канапе с рулетиками анчоусов и вяленными на солнце помидорами, пармская ветчина с ломтиками розовой дыни, абрикосово-шоколадное парфе[9], подобное нежнейшей ласке.
– Если в раю так же хорошо, пусть меня заберут туда прямо сейчас, – пробормотала Надежда.
Даже неизбежный заход в туалет стал откровением: чистый, сияющий кафель, цветы, мягкие розовые полотенца, душистый крем для рук, одеколоны. Я попрыскала Надежду фрезией и посмотрела на наше отражение в одном из огромных сверкающих зеркал. Я боялась, что мы выглядим уныло, может, даже глуповато в кофтах из дома престарелых и в безликих юбках. Может, и так. Но мне показалось, что мы изменились, словно покрылись позолотой: я впервые увидела Надежду такой, какой она, должно быть, была раньше; и себя увидела.
Мы пробыли в «Фортнуме» очень долго. Посетили этажи со шляпами и шарфами, сумочками и платьями. Я запечатлела все в памяти, чтобы потом вспоминать вместе с Надеждой. Она терпеливо катила меня сквозь чащи женского белья, пальто, вечерних платьев, подобных дуновению летнего ветерка; проводила худыми изящными пальцами по шелкам и мехам. Уходить не хотелось; улицы были прекрасны, но им недоставало блеска; при виде спешащих мимо людей, высокомерных и равнодушных, я опять почти испугалась. Мы подозвали такси.
Теперь я начала нервничать; мурашки побежали по спине, и я опять развернула вырезку, уже побелевшую на сгибах. Я снова ощутила себя старой и унылой. А вдруг меня не пустят в магазин? Вдруг надо мной только посмеются? Еще хуже было подозрение – нет, уверенность, – что у меня не хватит денег на туфли, что я слишком сильно потратилась, что у меня с самого начала было недостаточно… Я заметила книжный магазин, обрадовалась возможности отвлечься, попросила водителя остановиться, мы выбрались наружу с его помощью и купили Надежде «Лолиту».
Никто не сказал, что это неподобающая книга. Надежда держала ее, улыбаясь, водя пальцами по гладкому, ни разу не раскрытому корешку.
– Как хорошо пахнет, – тихо сказала она. – Я почти забыла.
Водитель, чернокожий, длинноволосый, ухмыльнулся нам. Он явно наслаждался жизнью.
– Куда теперь, дамы? – спросил он.
Я не смогла ответить. Дрожащими руками я протянула ему вырезку с найтсбриджским адресом. Если бы он засмеялся, я бы, наверное, разрыдалась. Я уже была готова заплакать. Но водитель только ухмыльнулся еще раз и направил такси в гудящий поток.
Магазин был маленький – одна витрина со стеклянными полками, по одной паре обуви на каждой. За ними виднелся интерьер в светлых тонах, стекло и бледное дерево, на полу – высокие вазы с белыми розами.
– Стой, – сказала я Надежде.
– Что такое? Закрыто?
– Нет.
В магазине никого не было, я видела. Один только продавец, молодой, одетый в черное, с длинными, чистыми волосами. Туфли на витрине – бледно-зеленые, крохотные, как бутоны, что вот-вот раскроются. Ценников не было вообще.
– Вперед! – скомандовала Надежда кембриджским голосом.
– Не могу. Это…
Я не смогла договорить. Я опять увидела себя – старую, бесцветную, не тронутую магией.
– Неподобающе, – презрительно рявкнула Надежда и вкатила меня внутрь.
Мне вдруг показалось, что она вот-вот врежется в вазу с розами у двери.
– Левее! – завопила я, и мы проскочили мимо вазы. Чудом.
Молодой человек поглядел на нас с любопытством. У него было умное, красивое лицо, и я с облегчением увидела, что глаза его улыбаются. Я показала вырезку.
– Я хотела бы посмотреть вот эти, – сказала я, подражая повелительному тону Надежды, но голос вышел старческий и нетвердый. – Четвертый размер.
Он чуть округлил глаза, но ничего не сказал. Повернулся и ушел в подсобку – там виднелись коробки, лежащие в ожидании на полках. Я закрыла глаза.
– Я знал, что у меня осталась пара.
Он осторожно вынул туфли из коробки, блестящие, словно облизанные, и красные, красные, красные.
– Можно посмотреть?
Как елочные украшения, как рубины, как небывалые плоды.
– Желаете примерить?
Он ничего не сказал про инвалидное кресло, про старые, шишковатые ступни в бежевых туфлях без шнурков. Вместо этого он встал передо мной на колени, и темные волосы упали на лицо. Он осторожно разул меня. Я знала, что он видит червяки синих вен, оплетшие щиколотки, слышит фиалковый запах талька, который Надежда втирает мне в ноги перед сном.
Он очень осторожно надел мне туфли; я почувствовала, как опасно выгнулись своды стоп, когда туфли скользнули на место.
– Позвольте, я вам покажу. – Он осторожно выпрямил мою ногу, чтобы мне было видно.
– Джинджер Роджерс, – шепнула Надежда.
Туфли, в которых можно гордо выступать, дефилировать, шагать, парить. Что угодно – только не ходить. Я долго смотрела на себя, сжимая кулаки, ощущая в сердце жаркую, яростную сладость. Интересно, что сказал бы Том, если бы видел меня сейчас. Голова у меня шла кругом.
– Сколько? – хрипло спросила я.
Молодой человек назвал цену, настолько ошеломительную, что сначала я была уверена, что ослышалась, – больше, чем стоил мой первый дом. Осознание с лязгом упало мне в душу, словно что-то уронили в колодец.
– Дороговато, к сожалению, – донесся откуда-то издали мой собственный голос.
Судя по лицу продавца, он чего-то такого и ожидал.
– Ох, Вера, – тихо сказала Надежда.
– Ничего, – сказала я, обращаясь к обоим. – Они мне на самом деле не очень подходят.
Молодой человек покачал головой.
– Не могу согласиться, мадам, – сказал он, криво улыбнувшись. – По-моему, они вам очень подошли.
Он осторожно уложил туфли – цвета валентинки, леденца, гоночной машины – обратно в коробку.
В магазине было светло, но, когда туфли исчезли, мне показалось, что свет чуть потускнел.
– Вы только на день приехали, мадам?
Я кивнула.
– Да. Мы замечательно провели время. Но нам уже пора домой.
– Очень жаль. – Он протянул руку к вазе у двери и вытащил оттуда розу. – Не желаете ли взять с собой?
Он вложил розу мне в руку. Совершенный, благоухающий, едва раскрывшийся бутон. Запах летних вечеров и «Лебединого озера». В эту секунду я забыла про красные туфли. Мужчина – не мой сын – подарил мне цветы.
Эта роза до сих пор у меня. На время, пока мы ехали обратно в поезде, я поставила ее в бумажный стаканчик с водой, а дома перенесла в вазу. Желтые хризантемы все равно уже засохли. Когда роза увянет, я засушу лепестки – они все еще необычно сильно пахнут – и буду закладывать ими страницы «Лолиты», которую мы с Надеждой сейчас читаем. Может, это все и неподобающе. Но пусть только попробуют отобрать.
Сестра
Мне всегда было немножко жалко старших сестер Золушки. И я всегда подозревала, что сказки, мультфильмы и пьесы чего-то недоговаривают.
Злым старшим сестрам живется непросто. Особенно под Рождество, в сезон детских спектаклей, – мишура, фальшивый блеск, свист и топанье, плоские шутки, ахи, охи, берегись, вон он прячется за кустом. И визгливые липкие дети, перемазанные мороженым, в тебя плюются или девчонка в костюме принца осыпает мукой, а потом все радостно отправляются в диско-бар «У Золушки» поесть пирожков, «счастливый час» после спектакля, выпивка со скидкой.
Нет, спасибо.
Конечно, в стародавние времена было еще хуже. Этому Гримму за все придется ответить, и Шарлю Перро тоже, и дураку-переводчику. «Стеклянный башмачок», тоже мне. Эти pantouflesdeverre[10] стали проклятием всей моей жизни, и даже не важно, что в оригинале они были vair, то есть из горностая, и гораздо свободней в подъеме (может, даже налезли бы, то-то сюрприз был бы принцу с его шлюшкой). Нет, стародавние времена были гораздо суровей, и вороны выклевывали нам глаза – после свадьбы, конечно, нельзя же испортить мадам Д’Фу-ты-Ну-ты такой большой день, – и всех злодеев ждали справедливо заслуженные пытки.
Сейчас, конечно, нас карают Диснеем. От этого не легче: зло, которое плюхается на задницу, осыпаемое бомбочками из муки, становится смешным. Быть негодяем нынче унизительно. Очередная толпа на рождественском спектакле в актовом зале мэрии какого-нибудь Трентона-на-Болоте или Барнсли, с участием бывших звезд третьесортных мыльных опер и какого-нибудь типа, один раз засветившегося в передаче «Алло, мы ищем таланты».
Но я не жалуюсь; я профессионал. Не то что эти «артисты до первого дождя», убивающие время между сезонами, между «кушать подано». Быть Злой сестрой – почетно и одиноко, никогда не забывай об этом.
Мы – сестра и я – родились где-то в Европе. Версии расходятся. Впрочем, наша история никого особо и не интересует. Как не интересует, что случится с нами, когда опустится занавес. «И с тех пор они жили долго» – это не про Злую сестру, не говоря уже о «счастливо».
Отец нас баловал; мать, как все матери, лелеяла надежду, что мы устроимся поскорее (и желательно подальше). Потом случилась трагедия. Любящий отец убился, упав с лошади. Мать снова вышла замуж за вдовца с одной дочерью, и вот тут наша история началась по-настоящему. Вам она, конечно, известна – по крайней мере известна ее версия: вдовец умер; мы поработили дочь, очаровательную хрупкую девочку, прозванную Золушкой; сделали из нее прислугу, заставили нас обшивать и готовить нам огромные обеды; по злобе не дали ей стать царицей бала в ночном клубе «У Принца»; мыши, платье, фея-крестная и прочая чушь.
Чушь, я сказала. На самом деле все было не так.
Конечно, она была хорошенькая, если вам нравятся задохлики. Крашеная блондинка; тощая; столь же бледная и хрупкая, сколь мы были полнокровны. Она это нарочно делала: увлекалась сыроедением; одевалась в черное; занималась спортом как ненормальная. Полы у нас вечно сверкали как не знаю что (еще бы; ведь подметание сжигает четыреста калорий в час, а полировка – пятьсот). Она редко говорила с нами, но самозабвенно слушала романтические сказки заезжих менестрелей и никогда не пропускала дешевых пьесок, что разыгрывались воскресным утром на деревенской площади. Она пользовалась успехом у мальчиков (еще бы), но ей нужен был принц. Деревенские парни нашей мисс Д’Фу-ты-Ну-ты не годились.
Конечно, мы ее ненавидели. Мы выглядели обыкновенно (это уже потом, по злобе людской, стали безобразными). При беге у нас тряслись отдельные части тела. У нас были прыщи и косматые волосы, которые не победить никакой укладкой. А мисс Д’Фу-ты-Ну-ты была вся тонкая, гладкая, идеального восьмого[11] размера. Да ее кто угодно возненавидел бы.
Конечно, она всегда ходила в лохмотьях. Ей это очень шло. К тому же «рваный» стиль в том сезоне был самый писк моды – лохмотья от лучших модельеров, за безумные деньги. Но это стиль для худых; я, с моими ногами, выглядела бы как корова из спектакля. А туфли! Видели бы вы, сколько у нее было туфель в гардеробе, и не только из горностая: крокодильи, норковые, плексигласовые, страусовые, ящеричные, шелковые; все с шестидюймовыми каблуками, из узеньких ремешков, даже зимние (страшно представить, что будет с ее сводом стопы через двадцать лет) – вот так. Вы бы глазам своим не поверили.
Вы когда-нибудь обращали внимание, что история жалует красавчиков? Генрих Восьмой – плохой пиар. Ричард Львиное Сердце – хороший пиар. Катерина Арагонская – плохой пиар. Анна Клевская – хороший пиар. Во многом виноваты придворные художники, и сказочники тоже. Что было потом, вы знаете: ей достался принц (кстати говоря, он был коротенький, толстый и плешивый), замок, золото, свадьба, белое платье, розовые лепестки, все дела, а мы достались воронам. В чужом пиру похмелье.
Но дальше было еще хуже. Как я уже сказала, Злой сестре не светит «долго и счастливо». Никто даже не подумает написать про нее что-нибудь такое: все слишком заняты суетой вокруг ее величества Д’Фу-ты-Ну-ты и ее идеальных пальчиков на ножках. А что же мы? Просто исчезли? Нет, вот что с нами случилось: мы, забытые сестры – которым скоро суждено было стать Злыми сестрами, Вещими сестрами, сестрами из Божественной комедии, – плавно перекатились в легенду, собрав на себя по дороге, как мусор, всяческие пороки. Мы мимоходом столкнулись с Гриммом и Перро (неудачно для себя), пофлиртовали с Теннисоном, но опять безрезультатно. Мы надеялись, что в двадцатом веке станет полегче, но тут явился Дисней, и тогда мы уже были готовы душу продать за хороший отзыв в прессе.
Но мы уважаем свое ремесло. По крайней мере я; сестра в последнее время все больше подлизывается к зрителям, на мой взгляд, даже слишком, – но я на Рождество всегда в театре, лицо блестит от грима, пудреный парик и юбка с кринолином. Мне хотелось бы думать, что в моей роли есть что-то благородное, почти героическое; скрытый пафос, видимый лишь немногим избранным. Правда, большинство зрителей на меня и не смотрит; они видят только ее – мадам Д’Фу-ты-Ну-ты в юбочке с оборками и туфельках с блестками. Мои реплики обычно заглушает свист или смех. Но меня это не остановит. Я профессионал. Под нелепым костюмом, размалеванным лицом прячется тайна. Однажды, повторяю я себе, меня кто-нибудь заметит. Мой принц придет однажды.[12]
Вчера был канун Рождества. Лучший вечер года. Конечно, спектакли бывают и после, до конца января, но канун Рождества – особый вечер. Затем волшебство иссякает и воцаряется депрессия; все отяжелели и едва шевелятся, тянут время, пережидая выморочный конец сезона. Ряды зрителей редеют. Актеры забывают слова. Труппа увозит спектакль куда-нибудь в Блэкпул или еще какой-нибудь вымерший на зиму курортный городок тихо разлагаться до будущего года. Костюмы уложены в сундуки. Гирлянды распиханы по коробкам. Но сегодня – канун Рождества. Все громче, ярче, визгливей обычного; зрители свистят и топают энергичней; дети липнут сильнее; принц выглядит еще слащавей; коровы в пантомиме – спортивней; Пуговица[13] – нелепей… И конечно, старая добрая Золушка, звезда спектакля, – милее, прекраснее, хрупче, блестит еще сильней и больше обычного похожа на эльфа.
Но ближе к последнему акту я почувствовала себя как-то странно. У меня разболелась голова. Мелькнула мысль – а может, вообще завязать с театром: уехать, выйти на покой, покинуть Европу, поселиться там, где меня никто не знает.
Разбежалась, подумала я. Злой сестре деваться некуда.
И все-таки эта мысль меня не оставляла. Что со мной такое сегодня? Я потрясла головой, чтобы прочистить мозги, и впервые за всю свою театральную карьеру удивилась так, что чуть не пропустила реплику.
Из партера на меня смотрел мужчина. Он сидел близко к сцене, наполовину в тени: высокий, длинноволосый, плечи слегка сгорблены под мохнатой серой шубой, и не сводил с меня глаз.
Это необычно – да что там необычно, поразительно; была как раз ударная сцена Золки: та, где мы с сестрой прихорашиваемся перед зеркалом, а она поет свою унылую песню, и весь театральный скот, рассевшись кругом, сочувственно блеет. И все же сомнений не было (я отважилась бросить украдкой еще один взгляд сквозь тусклое стекло, гадательно[14]): он смотрел на меня.
На меня. Сердце смешно подпрыгнуло. Он отнюдь не прекрасный принц, это ясно; в жестких волосах проседь – ясно, что и немолод. Но с виду крепок и силен, и большие глаза под копной волос – блестящие, пытливые. Я внезапно очень остро ощутила, как по-дурацки одета – огромный турнюр, громадные ботинки, идиотский подкладной бюст. Я строго сказала себе: ему смешно на меня смотреть. Но он не улыбался.
До конца сцены я чувствовала, что он не сводит с меня глаз. Когда я вернулась на сцену после омерзительно слащавого дуэта Золки с принцем, он ждал меня; ждал и потом. Когда мучная бомбочка попала мне в лицо и зал взорвался злорадным смехом, он один не смеялся. Вместо этого – опустил голову, словно печалясь (подумала я) об унижении благородной, гордой женщины. У меня бешено колотилось сердце. Я отыграла финальную сцену словно в забытьи, механически произнося реплики, и все время возвращалась взглядом к мужчине, который все так же следил за мной из теней. Нет, он не красавец; но в лице видны характер и какая-то дикая романтика. Руки – огромные, почти лапы, – кажется, могут быть и нежными. Глаза в темноте светились золотом обручального кольца. Я вся дрожала.
Вот и последний акт подошел к концу. Мы вышли на поклон. Взявшись за руки, подошли к краю сцены, и, когда я наклонилась, он вскочил и настойчиво шепнул мне на ухо:
Встретимся на улице. Пожалуйста.
Я дико заозиралась, все еще наполовину ожидая, что какая-нибудь другая женщина – красивей, достойней меня – шагнет вперед, показывая, что просьба адресована ей. Но он смотрел на меня не отрываясь золотыми колечками глаз. Уставясь на него, совсем забыв про дурацкую потную руку рядом стоящего актера, я увидела, как он кивнул, словно в ответ на невысказанный вопрос:
Я?
Да, ты.
И исчез в толпе, быстро и бесшумно, как охотник.
Мы выходили кланяться четырнадцать раз. Серпантин пролетал у самого носа, падало конфетти, нашей мадам и ее слащавому Прекрасному Принцу поднесли цветы. Я видела зрителей, которые вопили и аплодировали (плюс немного свиста и топота сами знаете для кого), но в голове у меня воцарилась великая тишина, огромное удивление. Словно на темечке открылся третий глаз, о существовании которого я не подозревала. Когда занавес опустился совсем, я сорвала с себя парик и кринолин и помчалась к служебному выходу, уверенная, что его там нет, что это была шутка, что он – кто бы он ни был – ушел навсегда и забрал с собой кусок моего сердца.
Он ждал в проулке за театром. Неоновая вывеска диско-бара «У Золушки» через дорогу расцветила его волосы странными оттенками. Я побежала к нему, снег хрустел у меня под ногами. Я не доставала ему и до плеча, хотя я довольно высокая. Впервые в жизни я ощутила себя маленькой, хрупкой.
– Я сразу понял, – прорычал он, когда я влетела в его объятия. – Как только тебя увидел. Совсем как в сказках. Как по волшебству.
Говоря это, он яростно целовал меня, терся лицом о мои волосы, словно изголодавшись.
– Пойдем со мной. Прямо сейчас. Уедем вместе. Брось все. Рискни.
– Я? – прошептала я, едва дыша. – Но я же Злая сестра.
– Хватит с меня примадонн. Они все одинаковые. Была у меня одна девочка… – Он помолчал, опустив голову, словно ему было больно вспоминать. – Теперь-то я ученый. Умею видеть сквозь маски.
Он опять помолчал, глядя на меня.
– Сквозь твою – тоже.
Он говорил, а я цеплялась за него, уткнув лицо в косматый серый мех его шубы. Я слышала, как бьется мое сердце – еще быстрее, чем раньше.
– Но я же… – начала я опять.
– Нет. – Он нежно провел пальцами по моему лицу, стирая грим. – Неправда.
На мгновение я попыталась представить себе, каково не быть Злой сестрой. Слово «злая» тащилось за мной всю жизнь; оно меня определяет. Кто же я буду без него? От этой мысли я вздрогнула.
Незнакомец увидел выражение моего лица.
– Это всего лишь роли, – сказал он. – «Хорошие», «Плохие» и «Злые». Мы тоже герои в своем роде. Те, кто уползает с проклятьями, когда падает занавес. Те, кого списали со счетов. Те, кому не светит «долго и счастливо». Мы с тобой – одной породы. После всего, что нам выпало, мы имеем право на кусочек своей жизни.
– Но… а как же сказка… – слабо возразила я.
– Другую напишем. – Голос был очень уверенный, очень сильный.
Остатки моей решимости рушились. Позади нас диско-бар «У Золушки» запульсировал ударным ритмом. Начинался «счастливый час».
– Но я тебя даже не знаю! – запротестовала я.
Я, конечно, имела в виду, что не знаю себя; что прожила всю жизнь в Злом сестричестве и не умею быть никем другим. Впервые в жизни мне захотелось плакать.
Незнакомец ухмыльнулся. Я заметила, что у него довольно большие зубы, но глаза добрые.
– Зови меня Волчок, – сказал он.
Гастрономикон
Многим не верится, что «Злое семя» и «Спи, бледная сестра»[15] написаны тем же автором, что «Шоколад» и «Ежевичное вино». Я написала этот рассказ, чтобы перекинуть мост через пропасть. И еще потому, что еда – это тоже иногда страшно.
Каждый раз, как мы приглашаем гостей к ужину, непременно что-нибудь случается. В прошлый раз появился странный запах, откуда-то изнутри стены послышался лязг и еще внезапно материализовался небольшой и чрезвычайно омерзительный гомункулус, которого я быстро сунула в измельчитель мусора, пока он не успел потоптаться по волшебным булочкам[16], только что покрытым глазурью. Свет в столовой как-то потускнел, замерцал, принял странный красноватый оттенок, но все решили, что это неполадки с проводкой, и я относительно легко вышла из положения, предложив гостям кофе и напитки в гостиной.
Кажется, никто не слышал звуков, доносящихся с кухни через сервировочное окошко (шорохи, словно там что-то ползало), а если и слышали, то из вежливости не подали виду.
Должно быть, все дело в пудинге.
Остальное было относительно безобидно: коктейль из креветок, жареная курица, зеленый салат, ростбиф с картофельным пюре, зеленым горошком и морковью. Эрнест попросил на десерт пирог с яблоками; он всегда просит пирог с яблоками. Но мне хотелось попробовать приготовить что-нибудь поинтереснее: торт «Черный лес», например, а может, лимонный. Конечно, из-за вкусов Эрнеста особо не разбежишься: в поваренной книге есть целые разделы, которыми я никогда не пользуюсь, потому что Эрнест не ест ничего необычного, ничего иностранного. Совсем непохоже, что он сам частично иностранец. Он такой типичный англичанин – не выходит из дому без галстука, не пропускает «Арчеров»[17], голосует за консерваторов и любит маму.
Надо сказать, я видела ее всего раза два, еще когда Эрнест за мной ухаживал. Ее вид меня слегка удивил. Она, конечно, переменила имя, но видно было, что она не здешняя. У нее длинные черные волосы, схваченные серебряной заколкой, и очень темные глаза. У Эрнеста волосы не такие темные, глаза скорее зеленоватые, чем темно-карие, и кожа не так золотится, но все же видно, что он на нее похож.
Она оделась в английское, как Эрнест, но у нее получилось хуже: в нормальном платье, но без чулок, и босые ноги обуты в маленькие золотые сандалии. Вместо кардигана у нее было что-то вроде расшитой шали, с какими-то надписями, вышитыми золотой нитью по краям. Я, помню, втайне очень растерялась оттого, что мать Эрнеста оказалась такая иностранка; он, кажется, тоже этого слегка стеснялся, хотя видно было, что он к ней очень привязан. По мне, так даже чересчур привязан: гладил ее по голове и все время суетился вокруг нее, словно она больная или старая. Она не была ни больной, ни старой; на вид ей было от силы лет тридцать пять, и она была прекрасна. Я редко говорю так о людях, но тут уж другого слова не подберешь: она была прекрасна. Мне стало слегка не по себе: я никогда не отличалась особой красотой, а вы же знаете, что говорят про мужчин и их мамочек.
Отца Эрнеста я никогда не видела. По словам его матери, он был англичанином, но исчез из виду давным-давно, когда Эрнест еще был маленьким. Фотографий у нее не было, и ей, кажется, не очень хотелось о нем говорить.
– Женщинам нашего рода вообще не везет на мужчин.
Больше она ничего не сказала. Должно быть, его родители были не в восторге, что сын женился на иностранке. По правде сказать, мои родители тоже были бы не в восторге, если бы знали.
Но она, кажется, меня одобрила. А после свадьбы она уехала – кажется, их семья была из Персии или какой-то из арабских стран, и, хотя Эрнест никогда об этом прямо не говорил, я думаю, она уехала обратно домой. Я старалась не показывать виду, но втайне была очень довольна. Не знаю, что сказали бы наши соседи, если б ее увидели.
Поваренную книгу она подарила нам на свадьбу. Эрнест, кажется, догадался, что это, стоило ему завидеть большой сверток в алой бумаге, – он схватил мать за плечи и быстро-быстро заговорил на неизвестном языке. Его лицо исказилось от наплыва чувств, и мне показалось, что у нее в глазах стояли слезы. Хорошо, что, кроме меня, этого никто не видел.
Наконец Эрнест взял сверток. И мне почему-то показалось, что с неохотой. Потом, бросив взгляд на мать, он вручил сверток мне.
– Это фамильное достояние, – мягко сказал он. – Оно передавалось от матери к дочери на протяжении многих поколений. Это самое дорогое, что у нее есть. Она говорит, что знает: тебе можно это доверить.
Мать молча кивала, в глазах ее все еще стояли слезы.
Я содрала алую бумагу (не очень свадебный цвет, подумалось мне). Честно говоря, я не поняла, отчего столько шуму. Обыкновенная старая книга в кожаном переплете, потемневшие, засаленные листы. Неровно обрезанные страницы испещрены мелкими буковками. Местами страницы так запачкались, что ничего не прочитаешь, даже если знать язык.
Все страницы разной толщины, кое-где на полях и между строк иностранного текста что-то вписано от руки. Местами на страницы наклеен новый текст. В самое начало книги кто-то вставил пачку страниц, исписанных другим почерком. Что-то по-английски, что-то на других узнаваемых языках: в основном по-французски и по-немецки. На обратной стороне обложки – кажется, список имен.
– Все женщины нашей семьи, – показав на него пальцем, сказала мать Эрнеста. – Все наши имена тут записаны.
По-английски была только последняя строчка. Зулейха Алажред Пател. Ничего себе. Неудивительно, что она переменила имя.
– Это поваренная книга? – В обрывках английского текста на полях я разглядела списки ингредиентов. – Я очень люблю готовить.
Эрнест с матерью переглянулись.
– Да, поваренная книга, – сказала она наконец. – Очень старая, очень драгоценная.
– Матушка… очень… дорожит ею, – добавил Эрнест. – Матушка была… ее хранительницей… с тех пор, как умерла ее матушка.
– Спасибо, – вежливо сказала я. – Замечательная книга.
Ох уж эти мужчины, подумала я. Лучше мамочки никто не умеет готовить. Я решила, что теперь Эрнест потребует от меня блюд из мамочкиного репертуара, и надеялась только, что это не будет что-нибудь уж слишком иностранное. Вы же знаете, как липнет запах карри к мягкой мебели. А на нашей улице… ну, сами знаете, как люди любят посплетничать. А Эрнест на вид такой англичанин.
Но я зря волновалась. Когда мамочка уехала, Эрнест сразу стал гораздо спокойнее. Он на самом деле очень тихий человек, безо всяких… страстей, если можно так выразиться. Тогда, с матерью, был единственный раз, когда он при мне проявил сильные чувства. Я, конечно, никогда не сказала бы об этом самому Эрнесту, но, мне кажется, она на него плохо влияла. Без нее ему гораздо лучше.
Хотя насчет рецептов я оказалась права. Он всегда настаивает, чтобы я готовила по мамочкиной книге, даже если у меня есть почти такой же свой рецепт. Сначала мне не хотелось этого делать – сказать по правде, я думала, что это очень негигиенично, всякие там пятна и отпечатки пальцев, но потом я заказала для книги пластиковую обложку, и все пошло на лад. И конечно, Эрнест – человек с очень устоявшимися привычками. Стоит мне добавить лишний ингредиент или изменить рецепт хоть на волосок, он сразу замечает; а если варьировать рецепт, Эрнест очень сердится. Так что я приучилась дословно следовать книге (надо сказать, что некоторые слова в ней довольно странные, но это потому, что часть рецептов – старинные) и не слишком экспериментировать. У Эрнеста есть любимые блюда, все – из самого начала книги: старые добрые английские рецепты, «пастуший пирог»[18] и пудинг с мясом и почками[19]. Изо всей книги я использую только эту часть. Во-первых, все остальное написано в основном по-арабски, или какой это там язык. И во-вторых, насколько я могу разобрать, те рецепты для нас вообще слишком экзотичны. Должна сказать, мне иногда хочется попробовать, просто из любопытства, но я знаю, что скажет Эрнест: «Дорогая, это что-то уж очень сложное. Может, просто свиные отбивные пожаришь?»
Так что я ограничиваюсь его любимыми блюдами. Пирог с яблоками, заварной крем. Рулет с джемом. Ирландское рагу. Мясо, запеченное в тесте. Эрнест ничего не говорил, но я догадываюсь, что эти блюда в детстве готовила ему мама. Может быть, его отец их любил. По-моему, это очень трогательно.
Нам с Эрнестом везет. Сразу после того, как мы поженились, он получил работу в большой компании по производству химикатов: постоянное продвижение по службе, удобные часы работы, три недели отпуска в год. Мы купили хорошенький домик в новой застройке и приличную семейную машину. У нас двое детей, Шерил и Марк, оба, конечно, уже почти взрослые, студенты, и учатся хорошо. Мы не болели, не попадали в аварии, нас даже не обокрали ни разу. Месяц назад Эрнест получил очередное повышение – это частенько случается после моих званых ужинов, Эрнест даже шутит, что все дело в моих кулинарных талантах, – и теперь он региональный директор. Конечно, нельзя сказать, что он гребет деньги лопатой. Но куда нам больше? Я не люблю сорить деньгами, не увлекаюсь мехами и бриллиантами. У нас хороший, удобный дом, и мы только что пристроили к нему зимний сад, где так хорошо сидеть. Я хожу в кружок по икэбане, а Эрнест играет в гольф. С детьми все в порядке. С нами ничего не случится.
Но все же я иногда задумываюсь, куда делся мужчина, за которого я выходила замуж. Нет, я не хочу сказать, что несчастна или что-нибудь такое. Я страшно рада, что Эрнест не оказался одним из тех безответственных мужчин, против которых меня предостерегала мать. Но надо признать, что я иногда задумываюсь – а что, если бы он был чуть-чуть более… страстным, что ли. Не таким стопроцентным англичанином. Интересно, что было бы, если один раз провести отпуск в Бомбее или Марракеше, а не в Скегнессе или Заливе Робин Гуда[20]. Чуть-чуть опасности, капелька внезапности – просто для разнообразия. Один раз приготовить на ужин не пудинг с мясом и почками, а «гоби сааг алу».[21]
Месяц назад у нас была серебряная свадьба. Двадцать пять лет, просто не верится. И я задумала приготовить особенный ужин. Эрнест задерживался на работе – того требовала новая должность, – и я решила сделать ему сюрприз. Я достала поваренную книгу и машинально открыла первый раздел, почти полностью переведенный на английский и вполне читабельный в отличие от всего остального.
За двадцать пять лет я выяснила, что первые десять страниц абсолютно безопасны. Конечно, все равно слышатся странные звуки, непонятные запахи, меркнет свет, перспектива заметно искажается, стены словно перекашиваются, но я думаю, это можно потерпеть ради действительно легкого йоркширского пудинга или по-настоящему пышного творожного суфле. Тем более что все эти вещи обычно случаются, только когда пробуешь рецепт первый раз; потом, как правило, все успокаивается. А рецепты действительно невероятно хороши: никакой экономии на ингредиентах, никакого покупного теста, все специи измельчаются вручную в большой каменной ступке, которую Эрнест подарил мне на первую годовщину свадьбы. Я совершенно не против: приготовление еды не терпит спешки. И я получаю удовольствие. Я не очень люблю всякие там устройства, экономящие время, – миксеры, блендеры, микроволновые печи и прочее. Эрнест говорит, что они экономят на вкусе.
Но все-таки двадцать пять лет – это двадцать пять лет. В поваренной книге, должно быть, не меньше тысячи рецептов, а я за все эти годы использовала от силы тридцать. Они самые новые: видно по состоянию страниц. Дальше страницы имеют цвет застарелого кондитерского пергамента, а чернила ржавые и выцветшие. Пометки на английском доходят едва до сотой страницы, притом написаны корявым почерком и почти нечитаемы. «Истолките калебас сырой кукурузной муки с Драконовой Кровью, когда луна в последней четверти…» Ну право же, это несерьезно.
Но все было не так плохо. Полистав книгу, я нашла несколько новых рецептов, с виду интересных, но не слишком замысловатых. Я остановилась на жареной баранине в качестве основного блюда, а на сладкое будет персиковый кобблер с мороженым, но я хотела подать что-нибудь интересное в плане закусок. Ведь не то чтобы Эрнест прямо запрещал мне выходить за пределы десятой страницы, и в конце концов, у нас годовщина свадьбы. Бывают дни, когда креветочный коктейль, даже идеально приготовленный, все-таки не отвечает важности случая.
Я нашла рецепт примерно на сороковой странице. Часть перевода была на французском, но я почти все поняла, и рецепт мне очень понравился. Кроме того, я напомнила себе, что в школе у меня были хорошие оценки по французскому. Я справлюсь. Entrиe. Это значит «закуска», верно ведь? Я вполглаза пробежала список ингредиентов. Кажется, все в порядке. Некоторые слова были записаны сокращенно (я предположила, что «йог.» означает йогурт) или с причудливой орфографией, так что не сразу и поймешь, что имелось в виду. С длительностью готовки тоже было неясно – я разобрала что-то вроде «долго», не очень понятно, прямо скажем, но решила, что если помариновать мясо с травами час или два, то оно хорошо пропитается.
Сначала все было просто. Я, как обычно, измельчила травы в ступке, добавила чуть-чуть сухого хереса, йогурт и сахар. Маринад показался мне бледноватым, так что я добавила чайную ложку «Услады джентльмена»[22] – во французском переводе стояло «rapace d’homme»[23], думаю, это оно и есть, только по-французски. В рецепте говорилось просто viande[24], так что я взяла хорошенький кусочек куриной грудки без кожи, нарезала полосками, положила в миску с маринадом и занялась бараниной. Стемнело, но, только дойдя до снятия кожицы с бланшированных персиков, я заметила, что огни кухонных ламп съежились до булавочных головок и приняли красный оттенок. Послышался запах: словно помойное ведро день простояло на жаре. Это, должно быть, от соседей: я всегда дважды в день протираю кухонный мусорный контейнер с хлоркой. И шум: гулкие удары за стеной кухни; видно, подросток, сын соседей, опять включил магнитофон на полную громкость; слава богу, у нас с нашими детьми никогда не было таких проблем. Я попрыскала в воздухе освежителем и закрыла все окна.
Я начала делать тесто для кобблера, и тут раздался звон: словно подземный колокол повторял снова и снова одну и ту же зловещую ноту. Меня это так выбило из колеи, что я едва не забыла помешать лежащую в маринаде курицу.
Я взглянула на часы в кухне. Эрнест вернется в восемь; значит, у меня осталось чуть больше часа. Если электричество опять начнет дурить, придется поставить свечи на стол. Если подумать, это даже хорошо. Придаст романтики.
Баранина вышла идеально. На гарнир будут запеченный в духовке пастернак, картофельное пюре и свежая зелень. Персиковый кобблер уже стоял под грилем – чтобы получилась хрустящая карамельная корочка. Я опять помешала курицу в маринаде и налила себе в награду бокальчик красного вина.
Половина восьмого. Я выключила гриль, под которым стоял кобблер, и вытащила его, чтобы немного остыл (он гораздо вкуснее теплый, чем горячий, особенно со сливочным мороженым). Я подумала, что курице можно сделать мгновенную обжарку на очень горячей сковороде, а оставшийся маринад уварить – получится отличный соус. По понятиям Эрнеста, это граничит с авантюризмом, но в конце концов, на случай, если ему не понравится, можно заготовить пару креветочных коктейлей.
Колокол все звонил. Я подумала, не постучать ли в стенку, но решила, что не стоит. С соседями лучше жить в мире. Но открыток на Рождество они от меня больше не дождутся.
Я включила радио. Станцию, которая всегда передает классическую музыку – ничего особо причудливого, известные вещи, – и сделала звук как можно громче, чтобы заглушить колокол. Так-то лучше. Я налила себе еще вина.
Я выставила духовку на самую низкую температуру, только чтобы мясо не остыло, и начала накрывать на стол. Пол казался неровным, стены слегка перекосились, и скатерть все время соскальзывала на пол. Я придавила ее посеребренным подсвечником и поставила в середину стола композицию из красных гвоздик. Кажется, я зря выпила, потому что у меня кружилась голова и руки тряслись, так что свеча, которую я пыталась зажечь, все время гасла. Запах тоже возобновился: что-то жаркое, потное, и звон колокола перекрывал даже радио. По правде сказать, с радио было тоже что-то не то: время от времени музыка прерывалась и раздавалось страшное шипение, белый шум – я каждый раз вздрагивала. В комнате стало очень жарко – когда я готовлю, всегда бывает жарко, – так что я установила на термостате температуру пониже и стала обмахиваться газетой.
Без четверти восемь; в комнате совершенно нечем дышать. Только бы грозы не было, думала я, – так стало темно. Из радио уже не слышно было ничего, кроме треска и шума, совершенно никакого толку, так что я его выключила, но шипение все доносилось откуда-то издали, какой-то сухой, словно ползущий, пустынный шорох. Может, опять что-то с электропроводкой. Колокол все звонил, и я вдруг поняла, что рада этому. Мне казалось, что, если он умолкнет, я услышу те, другие звуки – гораздо яснее, чем хотелось бы.
Я присела. Откуда-то сквозило, но горячим воздухом, не холодным. Я пошла в кухню, проверить, не оставила ли дверцу духовки открытой. Все было в порядке. Тут я заметила, что сервировочное окошко приоткрыто на пару дюймов. Красный отсвет падал на кухонный стол. Дверь кухни затворилась, очень медленно, с еле слышным щелчком.
Я никогда не была, что называется, женщиной с причудами. Это одна из черт, которые Эрнест ценит во мне больше всего: я никогда не делаю много шума из ничего. Но когда закрылась дверь, я затряслась. Звуки из-за сервировочного окошка стали доноситься отчетливей: одинокий звон колокола, шорох, словно тащат тяжелое, и что-то очень похожее на голоса – бормочущие, сдавленные голоса, но на языке, которого я не знаю и даже опознать не могу. Свет, падающий на кухонный стол, был совсем не похож на электрический: ближе к дневному, но как-то краснее и темнее, словно от солнца гораздо более древнего, чем наше. Легко было вообразить, что за сервировочным окошком уже никакая не гостиная, а совершенно другое место – страшно старое, страшно безжизненное. Там шуршит пыль, там развалины некогда блистательных городов виднеются лишь холмиками в песке; и там, где красное небо сходится с красной землей, движутся скрюченные твари, за пределами видимости и (слава богу) воображения. Я медленно протянула руку к сервировочному окошку, чтобы закрыть его, но, приближаясь дюйм за дюймом, вдруг ощутила уверенность, что с другой стороны другая рука – омерзительно, невообразимо другая – так же медленно тянется к окошку, что она сейчас заденет мою, коснется пальцев и что, если это случится, я закричу и буду кричать, кричать и никогда не перестану…
Конечно, все из-за вина. Отчего же еще? Но я знала, что если останусь в этой кухне еще хоть секунду, то совершенно опозорюсь. Так что я сдернула фартук, схватила сумочку, пулей вылетела в дверь, захлопнула ее и заперла. Конечно, ужин погибнет безвозвратно, но даже эта ужасная перспектива не заставила бы меня снова войти внутрь.
Я уверена, что в ту секунду, как повернулся ключ в замке, я что-то услышала за дверью, в кухне: шорох, словно ползло что-то тяжелое, и жалобное звяканье посуды, словно что-то очень большое проломилось через сервировочное окошко и чашки с блюдцами раскатились по линолеуму. Конечно, скорее всего, у меня просто фантазия разыгралась. А может, все из-за вина. Но я не собиралась рисковать. Только не в годовщину свадьбы. Эрнест меня поймет.
Я столкнулась с ним на дорожке, ведущей к дому, – он прибыл, как всегда, вовремя.
– Поздравляю тебя с серебряной свадьбой, милый, – сказала я, тяжело дыша, и поцеловала его в щеку.
Он скользнул взглядом по окну кухни, где за тюлевыми занавесками стояло красное зарево.
– Дорогая, ты что-то готовила? – осторожно спросил он. – Ты вся раскраснелась.
Я улыбнулась ему храбро, как только могла.
– Я подумала, что можно устроить что-нибудь необычное, сегодня ведь наша годовщина, – сказала я.
Услышав это, он как-то замялся и снова взглянул на окно. На секунду мне показалось, что тюлевые занавески дрогнули и за ними прошла тень – чудовищно бесформенная, чудовищно огромная.
– Что-нибудь случилось? – спросил он.
– Нет, конечно нет, – твердо сказала я, разворачивая его спиной к дому. – Я просто подумала, не попробовать ли что-нибудь новенькое. Как насчет рыбы с жареной картошкой? И может быть, сходим в кино? В «Маджестике» показывают фильм с Клинтом Иствудом. А потом можно в паб пойти.
– Э… да, это ты хорошо придумала, – с облегчением отозвался Эрнест.
Мне показалось, что за спиной зазвенело стекло и задребезжала кухонная дверь. Но мы не оглянулись.
– Точно все в порядке? – переспросил он.
– Ну конечно. Просто маленькая авария на кухне. Все будет хорошо. В конце концов, не могу же я каждый день ради тебя горбатиться у плиты? – пошутила я, закрывая за нами калитку.
Мы пошли рука об руку по Акациевому проезду. Я все уберу, когда мы вернемся, решила я. Если повезет, может, даже удастся спасти баранину. Тогда я подам ее холодной завтра на обед с молодой картошкой и салатом. Кобблеру тоже ничего не сделается оттого, что он остыл.
Насчет курицы я не была так уверена.
Мираж
Общеобразовательная школа в Лидсе, где я провела десять насыщенных лет, подарила мне множество рассказов – и во время моего пребывания, и позже. Место действия этих рассказов – обычно частная школа Святого Освальда для мальчиков, вымышленная, но для меня она постепенно становится все более и более реальной. Вот один из этих рассказов. Возможно, будут и еще.
Последний рассказ на свете был написан между без пяти восемь и половиной девятого утра, в пятницу, 1 декабря 2002 года. Видимо, в основном за завтраком, но корявый почерк и режущее глаз отсутствие больших букв и знаков препинания в двух последних абзацах наводили на мысль, что их дописывали в автобусе по дороге в школу. Тетрадь лежала девятнадцатой в стопке из двадцати двух, и это означало, что мистер Фишер дошел до нее ближе к пяти вечера.
Мистер Фишер жил один в маленьком домике в ряду других таких же в центре города. Машины у него не было, поэтому он старался проверить как можно больше домашних заданий по вечерам, в классе, после уроков. Но все равно ему, как правило, приходилось тащить домой в автобусе две-три стопки книг и тетрадей. Мистер Фишер уже сорок лет ходил со старым кожаным портфелем, и тот все еще был в приличном состоянии, хотя истрепался и швы растянулись под тяжестью десятков тысяч – да что там, сотен тысяч сочинений по английскому. Но сегодня в углу обнаружилась дыра, через которую могли выпасть и затеряться ручки, линейки и прочие мелкие коварные предметы. На улице уже стемнело, и пошел редкий, мокрый, неромантичный снег. Но, желая уберечь портфель от дальнейших страданий, по крайней мере до тех пор, пока дырку не удастся заделать, мистер Фишер решил задержаться еще немного, заварить последнюю чашку чая и закончить проверку тетрадей.
Семестр в школе Святого Освальда выдался неудачный. Для большинства мальчиков из класса 3F писание сочинений стоит во вселенской иерархии где-то рядом с народными танцами и кулинарией. А сейчас, когда Рождество на носу и экзамены придвинулись вплотную, желание творить и вовсе на нуле. Конечно, он пытался пробудить в них интерес. Но книги уже не вызывали того энтузиазма, как в былые дни. Мистер Фишер помнил времена – причем не столь давние, – когда книги были золотом, когда воображение парило в небесах, когда мир был наполнен историями: они мчались, как газели, бросались, как тигры, взрывались, как шутихи, освещая умы и сердца. Он сам был тому свидетелем; видел, как лихорадка захватывала целые классы. То были дни героев, драконов и динозавров, космических приключений, авантюристов и гигантских обезьян. В те дни, думал мистер Фишер, нам снились цветные сны, хотя кино было черно-белое, добро всегда побеждало и никто, кроме американцев, не говорил по-американски.
А теперь все стало черно-белым, и, хотя мистер Фишер продолжал преподавать, столь же верный долгу, как и сорок лет назад, он втайне осознавал, что нынче ему недостает убежденности в голосе. Этим мальчикам, угрюмым, с уложенными гелем прическами и идеальными зубами, все было скучно. Шекспир был скучен. Диккенс был скучен. Кажется, на свете не осталось истории, которой они не слыхали бы раньше. И как ни противился мистер Фишер, когда-то сам так страстно мечтавший стать писателем, после многих лет его начала одолевать апатия, ужасное осознание своего поражения. Он понял, что пласт выработан. Книги, которые можно было бы написать, кончились. Магия выдохлась.
Это была нехарактерно пессимистичная мысль. Мистер Фишер оттолкнул ее от себя и зашарил в портфеле в поисках утешительного печенья в шоколадной глазури. Не все мальчики страдают отсутствием воображения. Взять, например, Алистера Тиббета; ничего страшного, что он делает часть домашних заданий в автобусе. Дружелюбный мальчик, еще более приятный в общении из-за лежащего на нем неопределенного отпечатка неряшливости и какого-то отсутствующего выражения лица. Отнюдь не отличник, но все же в нем есть искра, стоящая внимания.
Мистер Фишер набрал в грудь воздуха и посмотрел на тетрадь Тиббета, стараясь не думать про идущий на улице снег и пятичасовой автобус, который он теперь почти наверняка пропустит. Еще четыре тетради, сказал он себе, потом домой: ужин, постель – утешительная рутина обычных зимних выходных. И так случилось, что мистер Фишер выпил последний глоток остывшего чая и принялся читать последний рассказ на свете.
То, что это – последний рассказ, до него дошло лишь через несколько минут. Постепенно, сидя в натопленном классе, обоняя запах мела и воска для полировки полов, мистер Фишер начал испытывать очень странные ощущения. Сначала у него что-то сжалось под ложечкой, словно заработал давно бездействовавший мускул. Дыхание участилось, прекратилось совсем, возобновилось и снова участилось. Он вспотел. Дойдя до конца рассказа, мистер Фишер отложил красную ручку и вернулся к началу, очень медленно, внимательно перечитывая каждое слово.
Должно быть, так чувствует себя золотоискатель, отчаявшийся, разоренный, готовый сдаться, когда вытряхивает из ботинка самородок размером с кулак. Мистер Фишер снова перечитал рассказ, на сей раз критически, отчеркивая абзацы красным карандашом. Надежда, которую он сначала не смел сформулировать словами, набухала и крепла в нем. Он обнаружил, что улыбается.
Если бы в этот момент кто-нибудь спросил, про что, собственно, рассказ Тиббета, мистер Фишер затруднился бы ответить. Там были узнаваемые темы – смутно знакомые элементы сюжета: приключение, поиск, ребенок, мужчина. Но передавать таким образом рассказ Тиббета было столь же бессмысленно, как описывать любимое лицо через словесный портрет. Это было нечто новое. Нечто совершенно оригинальное.
За сорок лет преподавания английского мистер Фишер уверился, что в литературе ничего нового нет. Вновь и вновь повторяются одни и те же сюжеты: трагическая любовь, поиск, плутовство, месть, спаситель, взросление, борьба добра со злом. Большая часть этих сюжетов была заезжена еще до Шекспира; даже в Библии относительно мало нового. Там сменились костюмы, тут декорации; истории не умирают, они лишь возрождаются с каждым поколением, в ином времени, с иными идиомами. Именно это убеждение много лет назад положило конец устремлениям самого мистера Фишера – гневная уверенность в том, что все написанное им будет, даже в лучшем случае, лишь бледной тенью чего-то другого.
Но перед ним лежало опровержение этой теории. Тиббетов рассказ стоял особняком. Совершенно оригинальный замысел – возможно, впервые за сто лет, – Грааль литературы, последний рассказ на свете.
Тут мистеру Фишеру пришло в голову, что очень много кто заинтересуется таким рассказом. Например, Голливуд – они вечно в поисках нового материала и нынче не брезгуют рыться даже в комиксах и компьютерных играх. Книгоиздатели, газеты, журналы. Новая идея может породить династию, поколения родственных историй. Зарегистрировав авторское право на такую идею, обретешь не просто известность, не просто богатство. Обретешь бессмертие.
Мистер Фишер еще раз представил себе Алистера Тиббета. Дружелюбный мальчик без особых талантов. Волосы длинноваты, рубашка не заправлена, вечно опаздывает на уроки. Не стилист – чудовищные ошибки в правописании – и, конечно, не сможет как следует подать себя прессе. Обидно. Тиббет вряд ли в состоянии оценить всю значимость открытия; даже по почерку сразу понятно, что голова у него во время написания рассказа была где-то совершенно в другом месте. Мистеру Фишеру было ясно, что роль Тиббета вторична – он, если хотите, слабоумный гений, который может случайно открыть математический принцип, но совершенно не способен объяснить его действие. Нет, если оставить рассказ Тиббету, он пропадет совершенно зря. И потом, кто учитель Тиббета? Кто научил его всему, что он знает? Сорок лет упорного труда заслуживают награды; и вот наконец эта награда нашла его через Тиббета.
За все годы преподавания мистер Фишер так и не забыл своих когдатошних скромных мечтаний. С годами он пришел к мысли – как выяснилось, ошибочной, – что для писательства ему недостает таланта и вдохновения. Теперь он понял, что его просто сковывали страх и неуверенность. Теперь он наконец знал, что хочет сказать и как ему оставить след в мире. Он начал понимать, как можно разработать этот сюжет – в объеме примерно трехсот страниц, в виде романа. А разработка очень важна: без нее любой сюжет, каким бы вдохновенным он ни был, остается лишь несбывшейся мечтой. В конце концов, и Шекспир черпал сюжеты у Боккаччо.
Мистер Фишер прикинул, что к концу воскресенья набросает сюжет, в понедельник уже разошлет по почте. Конечно, придется принять меры предосторожности: положить в банк подписанную заявку, чтобы сохранить за собой авторское право. Среди издателей очень много нечистоплотной публики, а среди кинематографистов еще больше. Если повезет, к Рождеству он уже начнет получать предложения.
А Тиббет? В своем волнении мистер Фишер почти забыл про мальчика. Ему ведь тоже что-то причитается? Разумеется, объявлять его автором сюжета нельзя ни в коем случае. По нынешним сутяжническим временам это значило бы просто напрашиваться на неприятности. Мистер Фишер на некоторое время тяжко задумался. Потом взял свой красный карандаш и аккуратно написал под сочинением: «Содержание хорошее; форма требует доработки. 5–». Это справедливо, подумал мистер Фишер; средняя по классу оценка редко поднималась выше четверки с минусом.
Двадцать пять минут шестого. Слышно, как уборщики собирают ведра и швабры. Следующий автобус в полшестого: если постараться, можно успеть. Оставив стопку тетрадей третьеклассников на углу стола – кроме Тиббетовой, которую он сунул в портфель рядом с пачкой печенья, – мистер Фишер ополоснул кружку под краном, запер стол и надел пальто.
Снег все еще шел. Снежинки хаотически валились с неба, подобные белому шуму. Мистер Фишер с портфелем в руке пробивал себе путь к автобусной остановке. Было очень холодно. Он понял, что в спешке оставил шарф и перчатки в столе; но была уже почти половина шестого, и он решил не возвращаться. Ему не хотелось пропустить автобус.
Машин на дороге было мало, и серая каша уже начала поглощать бордюр тротуара. Автобус опаздывал. Мистер Фишер ждал в изуродованной хулиганами остановке, грел дыханием руки и думал о своей книге. Сердце билось опасно быстро, но он ощущал странный прилив энергии. Словно ему снова тринадцать: пальцы в чернилах, металлический привкус юности во рту и уверенность, что в один прекрасный день он тоже достигнет величия, тоже прославится…
Окна школы гасли одно за другим. Без десяти шесть, автобуса все нет. Мистер Фишер решил идти пешком. В конце концов, до города всего мили две и по дороге он сможет хорошенько обдумать свою книгу.
Он сказал себе, что отнюдь не стоит бросаться на первое же предложение. Лучше подождать пару месяцев, пусть издатели перебивают друг у друга цену. К счастью, он немного разбирается в издательской кухне. Опыт пойдет ему на пользу.
Мистер Фишер быстро шагал по дороге, улыбаясь про себя, затерявшись в теплом облаке фантазии. Через некоторое время он понял, что проголодался; он вспомнил про печенье и полез в портфель.
Печенья не было. Мистер Фишер нахмурился. Может, оно осталось в столе? Нет, он помнил, как взял одну штучку и положил пакет обратно в портфель. Он подошел поближе к уличному фонарю и опять заглянул в портфель. Печенья не было, и теперь, в оранжевом свете, он понял почему. Дырка в углу портфеля разошлась на всю длину шва, а мистер Фишер, поглощенный мыслями о книге, этого не заметил. Мистер Фишер рассердился. Он терпеть не мог терять вещи. По правде сказать, он рассердился так сильно, что лишь через несколько секунд сообразил проверить, на месте ли тетрадь Тиббета.
Тетради не было. Внезапно едкий пот защипал мистеру Фишеру глаза. Тетрадь! Он еще раз на всякий случай провел трясущейся рукой вдоль разодранного шва. Вот классный журнал в твердом переплете и пластиковая папка – слишком велики, чтобы пролезть в дыру. Пенал тоже на месте. Но рассказ, последний рассказ на свете, пропал. Мистер Фишер запаниковал. Он, должно быть, уронил тетрадь где-то по дороге. Но где? Он уже отошел от школы больше чем на милю; тетрадь могла быть где угодно между ним и школой. Но делать нечего; надо идти обратно и смотреть под ноги, пока тетрадь не найдется.
Тяжело дыша, он повернул назад. Но быстро идти не получалось: встречный ветер перехватывал дыхание, а снег был словно каменная крошка. Гораздо хуже было другое: мистер Фишер понял, что рассказ не так уж хорошо запечатлелся у него в памяти; хотя он помнил отдельные части – поиск, мальчик, мужчина, – лучше всего ему запомнились орфографические ошибки Тиббета и то, что он дописывал сочинение в автобусе.
Обочина дороги была уже совершенно белой, и школа едва виднелась темным пятном в снежной круговерти. Мистер Фишер шел по собственным следам, пока не дошел до места, где они исчезли под снегом, но ничего не нашел. На остановке тоже ничего не было. Мистер Фишер даже дошел по дорожке до школьных ворот, но и там не было никаких следов пропавшей тетради.
Когда полицейские нашли его в восемь вечера, он голыми руками рылся в сугробе, наметенном у обочины, и что-то лихорадочно бормотал про себя. Глаза его были дикими, лицо – обветренным и красным. Хорошо, что мы нашли его, сказал сержант Мерль дежурному офицеру, иначе бедный старикан концы бы отдал. Отвезли его прямо в больницу. Оказалось, он искал чью-то тетрадку с домашним заданием, уронил по дороге. Вот что значит чувство долга. Учителям не платят и половины того, что следовало бы, вот что я вам скажу. Но все-таки надо отдать должное старикану, он копал как бешеный. Можно подумать, там золото лежало.
Выпуск восемьдесят первого
Этот рассказ был первоначально написан для сборника в пользу инициативы «Magic Million» – сбора средств для помощи семьям с одним родителем. Предполагалось, что рассказ будет про магию, но получилось скорее про то, что бывает, когда магия кончается…
В классе выпуска восемьдесят первого года нас было двенадцать человек. Вот мы все на фотографии, как обычно, справа налево: Ханна Чернокот, Клэр Эльф, Анна Вещая, Джейн Баньши, Глория Карга, Изабелла Фей. В нижнем ряду: я, невероятно молодая, потом Морвенна Ведун, Юдифь Каббал, Каролина Метла, Деззи Русалья – она в очках с толстенными, словно донышки бутылок, стеклами, и рыжие космы беспорядочно спадают на воротник форменного платья. Крайний слева – Пол Привид, по кличке Белый, вечный первый ученик и единственный мальчик в классе. С ведьмовством всегда так: девочек с самого начала больше, чем мальчиков, хотя высокие должности с большой зарплатой, кажется, все достаются мужчинам. Интересно, относится ли это к Полу Привиду, и если да, то женился он уже или пока холост.
Мне было не по себе. Мы дали друг другу обещание двадцать лет назад – невообразимая пропасть времени для нас восемнадцатилетних. За это время до меня доносились слухи, пару раз попадались заметки в газетах, но, помимо этого, я мало общалась с бывшими одноклассниками, кроме разве что открыток на Купалу или Солнцеворот. Телеграф джунглей докладывал, что Каролина вступила в ковен где-то в Уэльсе, Ханна замужем за астральным целителем из Милтон-Кинса, Изабелла работает в Сити каким-то консультантом. Ничего из ряда вон выходящего. Но сплетни из вторых рук не доносили главного: кто растолстел, кто утратил магическую силу (или, наоборот, связался с Хаосом), кто сделал себе тело и потом врал, отрицая это.
Конечно, за исключением Деззи. Кто же не знает Дезире Русалью? Ее имя практически стало брендом – ее лицо уже пятнадцать лет смотрит на нас со страниц желтой прессы, с афишных стендов, с телеэкранов. Она поставляла привороты членам королевской семьи и голливудским звездам. Мы знали о ее романах и разводах, завидовали ее платьям и дивились ее утоньшающейся талии.
Я нахмурилась, вспомнив о собственной талии. Даже в школе я никогда не была худой в отличие от Анны, Деззи или Глории. Я тщетно отказывалась от сладкого – несмотря на все усилия, достичь худобы мне было не суждено. Через двадцать лет ситуация не изменилась. Интересно, сердито подумала я, чья же это была дурацкая идея – отметить двадцать лет выпуска в ресторане «Белла Паста».
Я пришла слишком рано. Приглашение на половину первого, а сейчас едва десять минут. Я немного поторчала в дверях, на сквозняке, пытаясь изобразить лоск и уверенность в себе, но входящие все время проталкивались мимо меня, и я решилась наконец сесть за самый дальний стол, где стояла табличка «Стол заказан» и лежали карточки с именами. Две девушки хихикнули, когда я протиснулась мимо них, и я почувствовала, что краснею. Я же не виновата, что проход такой узкий. Для безопасности я вцепилась в сумочку, задела бедром вазу с цветами и чуть не опрокинула ее. Девушки опять захихикали. Я поняла, что мне предстоит кошмар.
Я нашла свое место (фамилия была написана с ошибкой). На столе уже стояли четыре бутылки вина и четыре – минеральной воды. Я налила себе стакан красного и тут же выпила, потом отодвинула бутылку на противоположный край стола, надеясь, что никто не заметит. Если подумать, это как раз из тех мелочей, которые вредина Глория Карга обожает замечать – и привлекать к ним всеобщее внимание. Я вернула бутылку на прежнее место.
Двадцать лет. Уму непостижимо. Я снова посмотрела на фото. Вот я – в черной школьной форме, гордо сжимаю в руке свою первую метлу. Конечно, в наши дни метла – по большей части лишь символ. Ни одна взрослая ведьма не вздумает тратить энергию «ци» на полеты метлой. Какой смысл, если в бизнес-классе гораздо удобнее? Я, правда, бизнес-классом все равно не летаю. Алекс говорит, это выброшенные деньги. Он даже посчитал это однажды: на стоимость билета в бизнес-класс можно купить три билета в эконом-класс, полбутылки шампанского, два сэндвича в фастфуде, индийскую шаль, парфюмерный набор и еще останется. Правда, он все равно ничего из этого никогда не покупает. Это, по его мнению, тоже выброшенные деньги. Если вдуматься, последний раз мы летали в 1994 году, по дешевой путевке в Алгарве, и Алекс всю дорогу жаловался, что я занимаю слишком много места. Может, метлой все-таки было бы лучше.
Я налила себе еще бокал вина. Ведь на самом деле ты вполне довольна жизнью, сказала я себе. Зачем магия, если есть уверенность в завтрашнем дне? Тридцать восемь лет; домохозяйка; замужем за организационным консультантом; домик в южной части Лондона; два сына, пятнадцати и двенадцати лет, и фамильяр (по старой памяти). Безумно счастлива. Ну, может, и не так уж безумно, но, во всяком случае, счастлива. По крайней мере, иногда.
Ну вот, теперь кажется, что я выпила три четверти бутылки. На самом деле, конечно, гораздо меньше; просто бутылки так устроены – сверху горлышко узкое, и стоит налить хоть маленький стаканчик, как уже кажется, что половины не хватает. Теперь, когда придут остальные, они все заметят. Глория Карга посмотрит миндалевидными синими глазами и что-то шепнет, прикрыв рот ладонью, Изабелле Фей – в школе они всегда были лучшими подружками, – а потом они обе примутся разглядывать меня, как сиамские кошки, чуть не мурлыча от злорадного разгула фантазии («Дорогая, ты думаешь, она пьет? Какой ужас!»).
Так что я избавилась от улик, спрятав бутылку под стулом подальше от своего места. И как раз вовремя: высунувшись из-под скатерти, я заметила женщину – ведьму, – которая пробиралась ко мне, и меня охватила колючая паника. Уже вставая, торопливо вытирая рот тыльной стороной ладони, я узнала Анну Вещую.
Она не изменилась. Высокая, элегантная, светловолосая, в черном брючном костюме, под которым, как мне показалось, совершенно ничего не было. Я ее никогда не любила – она входила в троицу спортсменок, благовоспитанных и милых ведьмочек. Еще мгновение – и появились остальные две, Морвенна Ведун и Клэр Эльф, тоже элегантно одетые в черное. В приступе злорадства я тут же отметила про себя, что Морвенна начала красить волосы, потом с разочарованием обнаружила, что ей это идет.
– Дорогая, – произнесла Анна. – Ты совсем не изменилась.
Ни на волосок не сместив сияющей улыбки, она скосила глаза на лежащую передо мной карточку. Я пробормотала что-то невнятное насчет того, как хорошо она выглядит, и опять села.
– Ты же понимаешь, милочка, приходится за собой следить, – сказала Анна, наливая себе минеральной воды. – Нам ведь уже не восемнадцать, верно?
Начали прибывать остальные. В вихре объятий и восклицаний показались Глория с Изабеллой, еще больше, чем всегда, похожие на сиамских кошек, с одинаковыми блондинистыми стрижками и сонными глазами, и Каролина Метла, которую я приветствовала с теплотой, никогда не наблюдавшейся между нами в школьные годы.
– Каролина, слава богу, – воскликнула я. – Я уж думала, я тут одна буду не в черном.
Каролина в школе была прилежной ученицей – пухленькая, с прямыми жидковатыми волосами, серьезная, больше интересовалась травами, чем пиротехникой, и при игре в метелки ее всегда выбирали последней. Она сильно похудела, на ней была длинная фиолетовая бархатная юбка и огромное количество серебра, волосы заплетены в косы и уложены кольцами. Я вспомнила про слух, что Каролина присоединилась к какому-то радикальному ковену в Уэльсе, и мне внезапно стало не по себе. Надеюсь, она не собирается весь обед рассказывать нам про пентакли, атхамы и пляски в голом виде. У меня слегка упало сердце, когда я заметила ее карточку рядом с собой.
– Твоя аура в совершенно ужасном состоянии, – сказала Каролина, садясь рядом и наливая себе воды. – Ох! Газированная! Официантка! Принесите, пожалуйста, натуральной воды, и я должна поговорить с вами насчет меню.
Официантка, замотанная девушка с прической «конский хвостик», подошла неохотно (я могла ее понять). Громкий невыразительный голос Каролины отчетливо разносился по залу.
– Похоже, у вас нет меню для вегетарианцев, – обвиняюще сказала она.
Ох. Я виновато покосилась на меню. Я-то собиралась заказать отбивную.
– Ну, можете взять омлет с грибами или фузилли… – начала официантка.
– Я не ем яиц, – отрезала Каролина, – и вы бы не ели, если бы знали, что они делают с кармой. Что же касается фузилли…
Она склонилась к меню. Глаза, увеличенные линзами очков, были похожи на два зеленых стеклянных шарика.
– Это из пшеничной муки? Я не ем макаронных изделий из пшеничной муки, – объяснила она мне, когда сердитая официантка удалилась беседовать с поваром. – В ней слишком много «инь» для моей конституции. От избытка «инь» аура мутнеет. Думаю, мне лучше всего ограничиться обычной свежей, нефторированной водой и органическим зеленым салатом.
Я, довольно сильно расстроенная, отодвинула меню. Моя отбивная с жареной картошкой, похоже, накрывалась медным тазом. К счастью, тут явились новые ведьмы, и я приветствовала их с плохо скрываемым облегчением. Ханна Чернокот мне всегда нравилась; а вот и Джейн Баньши, в твидовой юбке и жакете, какая-то резкая и мужеподобная.
– Привет, подруга, давно не виделись! – воскликнула она, окатив меня на миг запахом шерсти и нафталина. – А где бухло?
Она плюхнулась на стул рядом со мной (там лежала карточка Юдифь Каббал) и щедро плеснула себе красного вина, не обратив внимания, что Каролина неодобрительно пискнула.
– Сколько лет, а?! Помнишь, как прикольно было?
Теперь, с появлением Джейн, я начала припоминать: как мы пировали ночью в спальне, нарисовав на двери магический знак, чтобы предупредил нас о приближении заведующей; как гоняли на метлах по верхнему коридору; как стащили у профессора ЛеМага порнографические карты таро и гадали, у кого какой фетиш… Впервые мне начало казаться, что в идее встречи выпускников что-то есть.
Явилась Юдифь Каббал, бесцветная ведьма с плохой кожей. В школе она была еще менее популярна, чем Каролина, а сейчас выглядела гораздо старше всех остальных. Она ничего не сказала, увидев, что Джейн заняла ее место.
– Ой, вон страхолюдина Каббал, – шепнула Глория Изабелле. – Быстро придвинь стул, а то она сюда сядет.
Юдифь наверняка слышала, но промолчала. Она пробралась к свободному месту рядом с Ханной и тихо села, сложив руки на коленях. Мне было ее жалко, хотя мы никогда особенно не дружили. Непонятно, зачем она сегодня пришла.
Без четверти час нас было только десять. Джейн выпила еще три бокала красного, Ханна учила меня отделять астральную руку от телесной, Изабелла и Клэр Эльф обсуждали людей, делающих тело («Дорогая, это уже больше не черная магия, абсолютно все это делают, считается совершенно нормальным»), Глория и Морвенна сравнивали привороты, Анна гадала по винной гуще из стакана Джейн, Каролина ругалась с поваром («Послушайте, представьте себя на месте этого помидора»), а Юдифь только что обнаружила у себя под стулом полупустую бутылку красного вина, – но тут все умолкли, и, полностью осознавая производимый ею эффект, явилась Деззи Русалья.
Я помнила ее малявкой, бледненькой, тощенькой, с копной рыжих волос, в некрасивых очках с толстой черной оправой. Ныне очки исчезли, открыв огромные глаза с ресницами, подобными крыльям бабочек; волосы – искусно гладкие, грациозная фигура едва прикрыта облегающим черным джерси, и все это удерживается на невероятно высоких алых каблуках. Все внимание обратилось на нее; другие посетители ресторана пялились, открыв рты; Деззи делала вид, что не обращает внимания. Я услышала, как на той стороне стола Глория шепнула Изабелле: «Тело сделано». Краем глаза я видела, что Каролина сложила пальцы в защитный знак; даже у Джейн отвисла челюсть. Деззи, словно не подозревая, что привлекла столько внимания, походкой манекенщицы на подиуме подошла к нашему столу и элегантно поместила себя на стул рядом с Юдифью.
– Простите пожалуйста, я опоздала, – мило извинилась она. – У меня была встреча с очень важным клиентом, у которого ужасные проблемы с прессой.
– Кто это? – спросила Глория, сделав круглые глаза.
– Я не имею права говорить. Это очень конфиденциальная информация, – мурлыкнула Деззи. – Больше ничего не могу сказать. Надеюсь, вы меня поймете.
Она обвела взглядом стол.
– Кажется, кого-то не хватает?
Все стали оглядываться.
– Пола Привида нет, – сказала наконец Анна. – Я и забыла про него.
И неудивительно, подумала я: Пол блестяще учился, был полностью поглощен занятиями и держался подальше от наших девичьих забав. Все считали, что с его стороны это уловка, чтобы заинтриговать и соблазнить нас, но, как мы ни пытались, очаровать его не удалось. Я думаю, он был по-настоящему честолюбив; не мог допустить, чтобы девушки мешали учебе. Скорее всего, он и не придет сегодня.
– Уже почти час, – сказала Деззи. – Раз он до сих пор не пришел, я думаю, можно заказывать. У меня назначена встреча в четверть третьего.
Каролина сказала, что обед как таковой не должен занимать больше получаса, Юдифь не сказала ничего, а все остальные согласились не ждать Пола Привида.
Так что мы сделали заказ. Каролина получила особо приготовленный салат из кармически нейтральных овощей («В корнеплодах вообще слишком много “ян”, а у редисок есть душа»); Глория и Изабелла заказали суп с чиабаттой; Ханна – тальятелле с морепродуктами; Клэр, Морвенна и Анна – фузилли; Джейн – отбивную, слабо прожаренную, с двойной порцией жареной картошки; я завидовала, жалея, что у меня не хватило смелости на то же самое, и под пронизывающим взглядом Каролины Метлы наконец выдавила из себя заказ на вегетарианскую пиццу, хоть и потенциально опасную («От избытка углеводов чакры разбалансируются»), но по крайней мере безвредную для кармы.
Десерт заказала только Джейн. Анна, Глория и Изабелла, кажется, сидели на вечной диете; Деззи все время глядела на часы; а остальные, думаю, наслушались неодобрительных комментариев Каролины. Вместо десерта мы болтали. Кто-то (кажется, Деззи) позаботился о том, чтобы вино не кончалось (к большому удивлению официантки), и языки, поначалу скованные, развязались. Может, даже чересчур развязались – наступил момент, которого я больше всего боялась: вопросы, похвальба, вранье. Сначала разговор вела Деззи – она рассказывала занятные случаи из колдовской журналистики, но скоро инициативу перехватила Анна, специалист по очистке домов и изгнанию злых духов («Фэн-шуй – это из прошлого тысячелетия, дорогая, сейчас писк моды – шаманство»); потом Изабелла, которая работает с пирамидами; Клэр, которая исцеляет с помощью хрустального шара и замужем за одинистом, владельцем двух воронов-фамильяров и волка; Глория, которая развелась уже в третий раз и сейчас преподает курс тантрического секса и медитации в Уорикском университете; даже Ханна, которая (тут все, кроме меня, выразили глубочайшее возмущение) бросила работу, чтобы посвятить себя мужу и явно обожаемой ею дочке, очаровательной будущей ведьмочке, в четыре года уже подающей надежды.
– А ты что все молчишь? – заметила наблюдавшая за мной Каролина. – Ты-то чем занимаешься? Расскажи-ка про свои достижения.
Этого момента я и боялась. Рассказать про Алекса и мальчиков было довольно просто (хоть и нелестно для меня), но если она как-то догадается про главный секрет, про ужасное, невыразимое… Я сказала что-то банальное насчет того, что в материнские заботы уходишь с головой, и подумала: хорошо бы Каролина доставала своими расспросами кого-нибудь другого. Но она присосалась как пиявка.
– У тебя очень мутная аура, – не отступала она. – Неужели ты подзапустила свой дар, а?
Я пробормотала, что в последнее время немного не в форме.
– Очень плохо, – сказала Каролина. – Может, попробуем поупражняться? Как насчет простенького заклинания?
– Наверное, лучше не надо, – в ужасе сказала я.
Если б только она говорила потише!
– Ну же, – настаивала Каролина. – Ну хоть маленькое. Никто не будет над тобой смеяться, клянусь Богиней.
Теперь уже все смотрели на меня. Прищуренные глаза Глории сияли.
– Ну правда, Каролина, – слабо сказала я.
– Но маленькое-то ты можешь! – Дезире радостно вступила в игру. – Может, полевитируешь? Или сотворишь что-нибудь?
Очень смешно. Если б я могла что-нибудь сотворить после всех этих лет, сотворила бы яму побольше, чтоб было где спрятаться.
– Ну хорошо, – сказала она, взяла подсвечник из композиции в центре стола и подтолкнула его ко мне. – Зажги эту свечу. Проще не бывает. Все равно что летать на метле. Раз научишься, никогда не забудешь.
Ей легко говорить. Я и раньше-то не очень умела летать на метлах, даже когда все время тренировалась. Я чувствовала, что на лбу выступил пот.
– Ну же, – сказала Деззи. – Покажи нам. Зажги свечу.
– Зажги! Зажги! – начали скандировать остальные, и я затряслась.
Сейчас все узнают ужасную тайну, признаться в которой невыносимо для любой ведьмы. Это все Алекс виноват, думала я, беря подсвечник и устремляя пристальный взгляд на холодный фитиль. Выйти замуж за неведьмака – все равно что за некурящего: ежедневное столкновение интересов. В конце концов кто-то должен уступить. И уступала я: ради нашего брака и детей. Даже мой фамильяр – черный кот по имени Мистер Тиббс – принадлежит скорее мальчикам (у них на двоих не найдется ни одной искорки магии, они интересуются только футболом да кибердевочками) и о волшебстве даже не вспоминает, а все больше линяет на ковры да гоняет мышей. Но все равно, отчаянно думала я, чувствуя, как глаза начинают слезиться от напряжения, хоть что-то да должно было остаться, крупица магии, которую можно пустить в дело. Я слышала, как Глория шепчется с Изабеллой; краем глаза видела, как Деззи смотрит на меня, жадно и весело, словно Мистер Тиббс у мышиной норки.
– Дорогая, по-моему, она не может.
– Ты шутишь…
– Она потеряла…
– Ш-ш-ш…
Хоть это простейшее, крохотное заклинание… Я побагровела, подмышки защипало – это я вспотела от нервов. Ни огонька, ни даже искры. Я отчаянно огляделась, надеясь увидеть хоть одно сочувственное лицо, но Ханна была смущена, Юдифь, кажется, почти заснула, а Джейн была слишком занята второй порцией десерта и не обращала внимания на мою немую мольбу. Я смутно представила себе, как выгляжу со стороны: бесполезная тупая корова, не может даже свечку зажечь.
Внезапно у меня из пальцев вылетел сноп пламени, и почти тут же послышался запах гари. Я отдернула голову, и как раз вовремя: с подсвечника струилось пламя; сама свеча почти исчезла в языках сине-зеленого огня. Через полсекунды свеча слетела с подсвечника и взорвалась под потолком снопом разноцветных искр. Кажется, за другими столиками никто ничего не заметил – кто-то укрыл наш стол магическим щитом.
Глория, которая сидела, жадно подавшись вперед, отскочила и взвизгнула, забыв о чувстве собственного достоинства. Каролина в изумлении уставилась на почерневший подсвечник.
– А ты сказала, что не в форме! – наконец произнесла она.
Я соображала очень быстро и изо всех сил. Кто-то мне помог, это ясно; кто-то не хотел моего унижения. Я подняла взгляд, но на лицах окружающих увидела только злорадство, любопытство, ярость или удивление. Деззи лихорадочно вычесывала искры из длинных волос. Огарок упал Изабелле в стакан, обрызгав ее вином.
– Ой, блин! – сказала потрясенная Джейн. – Что это было?
Я попыталась улыбнуться.
– Шутка, – едва слышно ответила я.
– Та еще шутка, – проворчала Глория. – Ты мне чуть брови не сожгла.
– Не рассчитала, наверное, – пробормотала я.
С невыразимым облегчением я налила себе вина. Каролина в кои-то веки промолчала. Я видела, что внушаю ей невольный трепет. Затем какое-то время я уворачивалась от ее вопросов: где я повышала квалификацию, имею ли я духовное посвящение, кто мой наставник? Когда я скромно отказалась отвечать, она спросила:
– Ты, случаем, не влезла во что-нибудь запретное, а?
– Ты про Хаос? Не говори глупостей. – Я чуть не рассмеялась.
Чтобы добиться посвящения в Хаос, нужно долго и тяжело работать, а я и двадцать лет назад не способна была постичь даже основные принципы. Каролина некоторое время подозрительно глядела на меня, потом, к моему облегчению, разговор перешел на другое. Воскресали старые ссоры, вспоминались мелкие шалости, вновь переживались грубоватые шутки. Шум нарастал; временами мне едва слышно было, что говорят на дальнем конце стола. Даже я, подбодрившись от выпитого вина и нежданного чуда взлетевшей свечи, почувствовала себя менее скованно. Может, вино крепче, чем я думала. Или это компания так на меня действует.
Но что именно происходит, я поняла, лишь когда Анна, Морвенна и Деззи принялись яростно ругаться из-за давнишнего критического замечания по поводу формы икр Морвенны, Юдифь явно уснула, Изабелла стала объяснять Джейн тонкости секс-магии, рисуя иллюстрации ручкой на скатерти, а Глория решила продемонстрировать превращение солонки в хомячка. Это не обычное веселье, слегка вышедшее из-под контроля. Кто-то заколдовал минеральную воду.
– Это просто гадко, – сказала Каролина. Кажется, только на нее вода не подействовала. – Вы беситесь, как банда гоблинов. Я думала, что наша встреча будет соприкосновением умов, что мы обменяемся опытом двадцати лет следования путем Мудрости…
– Ой, заткнись, Карри, – сказала Анна, у которой в результате дискуссии растрепались волосы. – Ты вечно была такая вумная овца. То-то и живешь теперь в деревне с овцами.
– Слушай, – сказала Каролина, резко утратив самодовольство, – мне плевать, что ты три года подряд была капитаном ковена…
– Девочки, девочки, – вмешалась Деззи, – что вы себе позволяете?
– И ты заткнись, – ответила Каролина. – Со своей магической журналистикой. И если хочешь знать, это твое сделанное тело выглядит просто чудовищно…
– Сделанное?! – завизжала разъяренная Деззи. – Чтоб ты знала, у меня тело абсолютно натуральное! Я за собой слежу! Спортом занимаюсь!
– Да ладно, дорогая, – ласково сказала Морвенна. – Ничего такого, не переживай. Теперь многие припасают парочку заклинаний на случай, когда уже не будет той упругости.
– Да на твои толстые икры парочки заклинаний явно не хватит!
Я попыталась вмешаться. Я чувствовала, как электризуется воздух, волоски на руках стали дыбом, кожу покалывало. Накапливалась мощная магия. И быстро. Интересно, что именно добавили в напитки. Зелье правдивости? Или еще что похуже?
– Слушайте… – произнесла я.
Но было уже поздно. Началось. Морвенна вцепилась в волосы Деззи, Деззи протянула руку к Морвенне, и внезапно обеих обвили шипящие струи магии. Ведьмы отскочили друг от друга, словно кошки, которых окатили водой.
– Что ты сделала? – рявкнула Деззи, с которой полностью слетел лоск.
– Ничего! – взвыла Морвенна, тряся онемевшими пальцами. – Это ты что-то сделала!
Я только радовалась, что магический покров нашего стола пока держится. По ту сторону спокойно жевали ничего не подозревающие люди.
– Прикольно, – с удовольствием сказала Джейн, поглощая вторую порцию шоколадного торта. – Совсем как в старые добрые времена.
– Точно, – чуть саркастически произнесла Юдифь Каббал.
Я про нее почти забыла; она, кажется, проспала большую часть ужина и, насколько я помнила, не произнесла ни слова. Она и двадцать лет назад была такая же: молчаливая, некрасивая ведьмочка, освобожденная от физкультуры по состоянию здоровья; она никогда не получала писем из дома и даже солнцеворотные каникулы проводила в школе. Мне тоже однажды пришлось: мои родители уехали в Новую Зеландию на оккультную конференцию, а я осталась в школе, в ужасном унынии, несмотря на присланный мне сундук подарков. Все мои подруги разъехались на каникулы, только Юдифь осталась. Я знала, что она не ездит домой на Солнцеворот, но никогда об этом не задумывалась. Теперь задумалась. Если бы она была чуть менее неприступна, не так сильно погружена в учебу, мы могли бы, воспользовавшись случаем, стать друзьями. Но я быстро выяснила, что Юдифь сама по себе была такой же скучноватой и немногословной, как Юдифь в толпе. Она не искала моего общества, ей, кажется, нравилось проводить время в одиночестве – в библиотеке, в саду магических трав, в обсерватории. Но все равно, кроме нее, в школе никого не было, если не считать нескольких учителей и их фамильяров, и как-то вечером я разделила с ней остатки солнцеворотного полена[25]
