Одинокое дерево
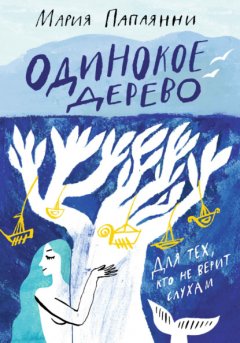
Мелине Каракоста
«– Мать, отчего твои слёзы льются солёной рекою?
– Плачу водой, сеньор мой, водой морскою»[1].
Федерико Гарсиа Лорка
Симеоновы дни
Фото́[2] положила руку на живот.
– Богородица моя, сделай так, чтобы не сегодня я родила, и пусть дитя не выйдет меченым.
Со дня, как узнала, что родит после Трех святителей, обливалась Фото холодным потом.
– Доброго Сретенья тебе, моя девочка, зима уже почти позади, и хорошо. Скоро придет пора разрешиться тебе от бремени. А зима не помогает растить детей.
– Бабушка, откуда ты знаешь, что я рожу именно тогда? А вдруг днем позже?
– Все будет хорошо. Не тревожь себя дурными мыслями.
Но дурные мысли тревожили Фото. Снова и снова она считала и пересчитывала дни, всякий раз отмеряла время по великим праздникам, коих после Трех Святителей еще три. День Святого Трифона – покровителя виноградарей. Принесение во храм, или день Богородицы, останавливающей мельницы, потому что и мельницы будут стоять, и мели-не мели, всё одно – молоть не будут. И – Симеон Богоприимец. В него-то дети и рождаются мечеными. И захоти Фото, забыть об этом она бы не смогла.
Разве не слышала она десятки историй о страшных событиях, что происходили в Симеонов день? Разве не в такой день на острове напротив родился ребенок с кривым ртом, ушами на затылке, глазами на макушке? Мать ничего не сказала из страха перед деревенскими: боялась, что те заберут малыша и оставят на перекрестке без воды и хлеба. Спеленала его хорошенько и никому не показывала. Рос этот ребенок, и росли его рот, уши на затылке, глаза на макушке. И таким он стал большим, что пеленки теперь его не укрывали. И взяла его мать как-то ночью, и поглотила их обоих черная тьма. С тех пор никто их и не видывал, никто о них и не слыхивал.
Фото перекрестилась. Поднялась и воскурила ладан, пройдя по всему дому, чтобы не было в нем места для злого. Но если зло и ушло, то мысли остались. И если бы только мысли, так еще же и тошнота, которая не оставляла ее целых девять месяцев.
Все эти месяцы Фото будто странствовала по бурному морю и на каждой волне изливала желчь. Она все наглаживала живот – вдруг да и успокоится, но как же, без толку. Поймала волну, встала и пошла. От подушки не отрывалась, да вовсе не отдыхала. Спала на ходу, и ничего ей не помогало. Двери, окна, каждую мачту чувствовала.
Тихую деревню, уцепившуюся за края скал, день напролет укрывала тень соседней горы. Море простиралось в двух шагах, но здешние люди чувствовали себя горными жителями. Рожденные под сенью Кофины – так гора звалась, – то же имя они дали и своему поселению.
Под Кофиной родилась и Фото, на пять лет позже Стратоса, своего мужа. С детства они были неразлучны. Жили в соседних домах. Впереди шел Стратос, позади Фото вышагивала. За всю свою жизнь она на всё привыкла смотреть именно так – из-за его спины.
Однажды Стратос обернулся и взглянул на нее:
– Что ты ко мне привязалась, малявка?
Фото чуть не ударилась в слезы – подумала, что ее сейчас прогонят. Мальчики в деревне были суровыми, с малых лет привыкали к трудностям. Когда они появлялись на свет, имена им давали по тому занятию, что ждало их, когда подрастут. Один должен был стать дровосеком, другой – возделывать землю, третий – ходить за свиньями, четвертый – за ослами. Стратос смотрел на Фото, и ей казалось, что она вовсе язык проглотила. Она знала, что Стратос идет кормить свинью, и в смятении выпалила то же и про себя:
– Я иду к нашей свинье.
– Да что ты говоришь, малявка, вроде как у вас и свиньи никакой нет?
Теперь Фото захотелось сбежать. Мало того, что она таскалась за ним безо всякой причины, так у них еще и свиньи не было. Стыдно-то как… В деревне семьи, которые не могли позволить себе свинью, считались самыми бедными. Говорили даже, что в дома, где в канун Рождества не раздастся визг свиньи, которую режут, новый год не придет.
Своими словами Стратос ранил Фото в самое сердце. Все отец виноват: покинул дом, уехав в другую страну и оставив семью. Мама делала что могла, лишь бы Фото росла без забот, но свинью они в этом году не купили. Фото толком и не помнила отца, но простить ему жизнь без свиньи не могла:
– Мама, я не перейду в следующий класс в этом году?
– Если умеешь читать, перейдешь.
– Но мы же не купили свинью.
– Фото, новый год и с вареной курицей прекрасно наступит, свинья для этого не нужна.
Фото маме не поверила. Во взглядах других детей ясно читалось: с ее семьей что-то не так. Она слышала плач и вздохи бабушки. Все дело было в свинье. Все, чего Фото страстно желала, – получить свинью. Этого она хотела даже больше, чем возвращения отца.
И теперь она стояла за спиной Стратоса.
Он засмеялся, как будто жалея, что был так резок.
– Ладно, малявка. Раз уж ты таскаешься за мной везде, пойдем к нашей свинье. Не плачь. Будем вместе за ней ухаживать.
С этого дня Фото собирала для свиньи Стратоса все объедки. Оказанную им великую милость Фото так и не забыла, все детство была ему благодарна. Они стали неразлучны: каждый день шли одной и той же тропой к свинарнику, сначала кормили свинью, а затем играли с ней. И какие только истории не выслушала та первая свинья. На Рождество ее зарезали. Фото плакала навзрыд, но Стратос сказал, что свиньи на то и существуют, чтобы их есть.
Вот так они и влюбились друг в друга – ухаживая за свиньей. Шло время. Фото потеряла уже обоих родителей. Они со Стратосом выросли. Однако даже спустя годы все самые важные разговоры они вели возле свиньи – как привыкли. Именно здесь Стратос рассказал о своей мечте – уйти во флот. Фото стало страшно – она не представляла своей жизни без него. А потом Стратос добавил, что на самом деле у него две больших мечты: море и Фото. Стратос получил и то и другое. Он сделал Фото своей женой, а через несколько дней после свадьбы уехал наниматься на корабль. К счастью, он не оставил Фото одну, их страсть уже принесла плоды. Фото чувствовала, как растет в ней любовь Стратоса. Она написала мужу, и тот обещал вернуться к рождению ребенка.
Фото не рассказывала ему в письмах о головокружении и тошноте: боялась показаться недовольной и сварливой. По морям ходит он, а на бури и шторма жалуется она, сидящая в тени Кофины. «В следующий раз, – решила она, – точно напишу». Фото никак не могла взять в толк, что тому было причиной. Может, ребенок плавал в ее животе неустанно? Или она каким-то загадочным образом следовала за Стратосом в его долгих путешествиях? Она ничего не знала о море, и ее беспокоило, что, тоскуя по мужу днем и ночью, она видела его только в бушующих волнах. «Стратос, – выдохнула она, но что-то в ней договорило остальное, – Ах, Стратос, пожалуйста. Брось все и приезжай. Я больше не выдержу без тебя».
Фото почувствовала, как толкается ребенок, и прижала руку к животу.
– Не торопись, детка. Завтра тоже будет день. Не надо рождаться сегодня. Давай потерпим еще денек.
Пришла бабушка, совсем крохотная от прожитых лет, и сразу отправилась на кухню. Фото услышала, как бабушка зажигает лампадку и кладет девять земных поклонов, и прошептала:
– Бабушка, мне страшно.
Бабушка вошла. Она подошла к Фото, поцеловала во взмокший лоб, а затем, опустив взгляд, прикоснулась к ее животу.
– Началось?
– Нет, бабушка, я могу продержаться до завтра. Скоро стемнеет. Завтра, он родится завтра. Мне страшно, бабушка. Я боюсь, что ребенок будет меченым.
– До полуночи, Фото, ты родишь до полуночи. Так что будь готова. Этого не изменить. Если уж суждено ребенку родиться сегодня, сегодня он и появится на свет.
Бабушка бросилась в свою комнату, зашуршала чем-то в сундуке. Слушая этот звук, Фото вдруг почувствовала, как ускоряется дыхание. Теперь она втягивала и выдыхала воздух часто-часто – как лошадь, идущая в гору.
– На дикие горы, на бесплодные деревья, на птиц в долине пусть перейдут оспины да рябины.
Наконец появилась бабушка – в руках у нее была длинная белая рубашка.
– Давай, детка, смени-ка одежду на эту, из поденного полотна. За один день моя мать спряла ту пряжу и соткала полотно, и я хранила эту рубашку долгие годы.
Фото, просияв, скинула платье и надела рубашку.
– Нет такого зла, что не исправило бы поденное полотно. Так говорила моя мама. Все оно отгоняет, все, от болезней до ворожбы.
Фото легла на кровать, отпустила бабушку за повитухой и погладила свой живот. Усмирила волны Стратоса и призвала его к себе. Море ее тела словно бы улыбнулось ей, впервые за девять месяцев шторм унялся, и она жалобно закричала, чтобы хоть так успокоить свою душу.
Ребенок родился, и был это мальчик. Бабушка положила его Фото на грудь, на полотно рубашки, сотканное за один день. И дитя, будто услышав биение сердца матери, затихло.
– Все у него в порядке. Настоящий мужчина – твой сын, – прошептала ей бабушка.
Фото обняла сына, погрузилась в сон, и теперь уже вместе они плавали в волнах. И добралась Фото до Стратоса, и показала ему сына.
– Смотри, я справилась. Все для тебя, Стратос мой. Настоящий мужчина – твой сын.
Тот поднял ребенка над свиньей. «Откуда на корабле взялась свинья?», – подумала было Фото. Но в своем крепком сне она уже ни о чем не могла спросить Стратоса.
Морская виола
Симос как угорелый бежал по деревенским закоулкам. Он поспорил, что не боится темноты. Остальные ждали его на площади – ждали и следили с самого верха за тем, как его тень змейкой скользит по переулкам.
Вдоль домов наверху это легче легкого, каждый сможет. Двери открыты, да к тому же еще немного света просачивается через замочные скважины. Вот Симос уже промчался мимо закрытой кофейни кир-Фомаса[3]. Запрыгнул на ящики, где догнивало несколько забытых помидоров. Какая-то кошка громко мяукала. В спешке Симос наступил на пластиковую бутылку, потерял равновесие и зашатался. Дети еще не успели отсмеяться, как увидели, что тень поднимается и снова пускается бежать.
Симос услышал смех друзей, резко остановился и устремил взгляд к площади. Но он увидел лишь тьму и на мгновение – маленький огонек, что заставляет ночь улыбнуться. Кажется, Йоргос включил фонарик, чтобы подать знак. Симосу тоже предлагали взять фонарик с собой, но он отказался.
– Да не боюсь я темноты, говорю вам. Если уж я и пускаюсь во все это, так хочу обойтись безо всякой помощи.
С самого полудня мальчишки спорили: измеряли разницу в росте, делая зарубки на коре кипариса, который высился на площади. Маркос достал складной нож и выцарапывал отметки – новые над сделанными в прошлые годы. Каждый посмотрел на свою черточку, потом все их сравнили. Маркос превосходил остальных на целую ладонь; за ним шел Йоргос, потом Вретос, Илиас и, наконец, Симос. Все обернулись и воззрились на него с жалостью. Ну не позор ли оказаться ниже всех? Однако Симос не сдался. Нет, он не рассчитывал с таким ростом стать вожаком в играх: так или иначе Маркос был старше всех. Ему уже много месяцев как исполнилось тринадцать, и он был прирожденным главарем, никому не уступал дороги. Он громко разговаривал, дрался, кричал на всех и каждого. В последние годы он окончательно отвоевал свое право лидерства, тут и вопросов не было. Все это знали. Симос принял это так же, как другие. Никто сегодня и слова не сказал, когда зарубка Маркоса на израненном кипарисе оказалась куда выше их собственных. Маркос тогда торжествующе вскинул руки, повернулся и показал им язык.
– Старший всегда останется старшим! – прокричал он. – Падите ниц перед вашим вождем.
Мальчики растерянно переглянулись. Маркос это всерьез, или это еще одна из его дурацких шуток?
– Что вы таращитесь, тупицы, сказано же, падите ниц перед вождем вашим!
Все слегка наклонили головы, Илиас упал на колени. Симос даже не шелохнулся.
– Ты почему не кланяешься, а?
– Ты выше всех, да. А я ниже всех, но никому кланяться не буду, да и тебя не боюсь.
– А чего же тогда ты боишься, ягненочек?
– Ничего не боюсь.
– И даже Аневалус или Леракий не боишься?
– Даже их.
Все обернулись и уставились на него. Даже Маркос не нашелся, что сказать.
Аневалусы и Леракии были злыми ночными духами. Они появлялись в селении Аневалуса и еще одном, чуть дальше, – в Леракиа. Эти существа были разными, да и вообще в каждом окрестном уголке водились свои темные силы. Не было в деревне человека, который бы не слышал о них.
Духи являлись только по ночам, потому что не желали иметь с людьми ничего общего. Симос немало слышал о них от маленькой бабушки – она была почти самой старшей в округе. Маленькая бабушка рассказывала, что духи живут здесь испокон веков, их видят с давних времен. Они похожи на младенцев – безволосые, с вытянутыми как кабачки головами. Но страшнее всего глаза – горящие угольки, что не погаснут никогда.
– То некрещеные детки, мальчик мой. Они лишены тела и крови Христовой и ищут свою мамочку, чтобы отнять ее душу и с этой взятой в долг душой войти во врата Нижнего мира, – так рассказывала Симосу маленькая бабушка. Она знала бесчисленные истории обо всем на свете, в том числе про русалок и злых духов, что жили в деревне.
Сказки не нравились Симосу, но слушать прабабушку он обожал. Он заставлял ее рассказывать то про одно, то про другое, и не было конца ее историям, и все они казались всамделишными. У каждого духа были имя и своя печальная история. Симос настолько сжился со всем этим, что где-то в глубине души и верил. Может, он даже хотел бы повстречать какую-нибудь одинокую тень с глазами, похожими на горящие угольки. Прабабушка обнимала его и говорила:
– Тебе, мой Симос, нечего бояться. Ты один во всей деревне родился на полотне, сотканном за день. Поденное полотно изгоняет все. И ворожбу, и демонов, и духов. Никогда ничего не бойся.
Эти слова звучали в мыслях Симоса, когда он выпрямился во весь рост перед Маркосом. В руках у того все еще был раскрытый нож. Маркос приблизился к кипарису и указал на зарубки.
– Ну, смотри сюда. Видишь, где я и где ты. Я тебя почти на две ладони, причем раскрытые, выше. А ты, птенчик, не хочешь признавать меня вожаком?
– Я уже сказал. Ты выше всех. Ты старше всех. Ты знаешь больше всех. Но кланяться тебе я не буду.
– Изображаешь тут умника, а сам несешь околесицу. Как это ты не боишься Аневалус и Леракий?
– Вот так – не боюсь, и все.
– Бери свои слова обратно, ты, грязный трус.
– Не возьму. Тебе-то что до того? Может, это ты боишься?
– Кто еще здесь боится, ты, малявка?
– Тогда почему бы тебе не прогуляться по всем деревням в низине? Через заброшенные дома, через Леракиа, через Дурную реку и через Обрыв.
– Захочу и прогуляюсь.
– А я вам говорю, что один, без кого-либо из вас, пройду до Камней Виолеты.
Мальчишки обернулись. Каждый взглянул на Симоса так, словно он только что выругался самыми страшными словами в мире. До Камней Виолеты? Да никого в целом свете не найдется, кто рискнул бы пойти туда. Лучше уж отправиться к краю вселенной без еды и воды, чем к дому безумной. Дома, конечно, уже толком не было – камни одни остались, обглоданные ветром и дождем. Прежде, когда там еще жили сестры Виолеты, это была большая крестьянская усадьба. Теперь от нее уцелела лишь малая часть – она выдерживала еще натиск времени, времени, которое пришло и превратило в руины все остальное.
Некоторые деревенские женщины поговаривали, будто дом уничтожило не время, но грехи – какое-то смертоубийство там случилось. Виолета была младшей из сестер и с первых своих дней отличалась от прочих: разговаривала с деревьями, с цветами, с птицами и животными. По утрам ее находили спящей в птичнике или в конюшне в обнимку с новорожденным жеребенком. Поначалу семья скрывала ее выходки, но чем старше Виолета становилась, тем хуже шли дела. А потом случилось что-то, и после смерти матери она стала дни и ночи проводить на кладбище. Сестры жаловались, что из-за Виолеты ни один жених и близко к их дому не подойдет. Отец подписал бумаги, Виолету заперли в клинике, чтобы вылечить; там ее и забыли. Годы шли, женихов так никто и не увидел, отец умер, а за ним одна за другой ушли сестры. Словно бы какое проклятие поразило дом. Усадьба впала в запустение, и мыши обгладывали ее.
И вот однажды кто-то из деревенских увидел, как из трубы вьется дымок. Он рассказал об этом всей округе, и каждый принялся судить на свой лад, что же там такое происходит. Одни утверждали, что это призраки, другие – что какие-то лиходеи превратили руины в тайное убежище. Наконец мужчины деревни собрались, отправились к тому дому и постучали в дверь. Им открыла женщина. Это была Виолета.
Как она добралась до деревни, не знал никто. Никто не видел, как она приехала. Она излечилась? Или из-за того, что все умерли, некому было больше подписывать бумаги, продлевая ее заточение?
Первое время все в деревне только и делали, что судачили о Виолете. Рассказывали истории о том, как она была маленькой. Каждый хоть что-то, да припоминал. Не было дома, где бы по вечерам про нее не болтали, но едва поблизости оказывались дети, разговоры тут же стихали. А уж если хотели их припугнуть, пугали Виолетой: «Вот ужо я тебе Виолету сейчас позову» или «Я тебя брошу в Камнях Виолеты». И вот теперь Симос бросает вызов всем их страхам.
– Да, говорю вам, пойду к Камням Виолеты.
– Придержи коней, никуда ты не пойдешь, а то…
Маркос попытался придумать что-нибудь ужаснее, однако не сумел, ведь ничего ужаснее на свете не существовало. Камни Виолеты были самым мрачным кошмаром мальчишек.
– Сказал, пойду.
– Иди, только сам будешь виноват, если вернешься в слезах! Так что не надо говорить своей матери, будто это мы тебя туда отправили. Эй, вы, дурачье, вы – свидетели. Он сам сказал, что пойдет туда.
– Не ходи, Симос. Свихнешься, как и она.
– А если она тебя съест?
– Если она меня съест, вряд ли я вернусь.
Йоргос отдал ему свой фонарик. Сколько Симос ни просил его раньше, друг ни за что не соглашался расстаться с фонариком, а теперь сам протянул.
– Он мне не нужен, Йоргос. Я сам должен это сделать, без помощи. Я справлюсь.
– Смотри не наделай в штаны от страха, – прошипел Маркос.
Симос попрощался со всеми и понесся по улочкам. Он был полон решимости. Ни за что не вернется, если не доберется до Виолеты. Он и раньше пробовал туда отправиться, безо всякого спора. Пробегал по пустынному селению в низине и на повороте к Камням Виолеты тормозил, карабкался на скалы и пытался разглядеть ее.
Однажды он видел Виолету меж камней: смотрел, как ее волосы развеваются на ветру, и не мог пошевелиться, пока та вдруг не обернулась и не устремила взгляд в его сторону. Невозможно – она не могла его увидеть. Но Симос испугался. Он кинулся прочь так, будто за ним гнались. Упал, ударился, вернулся с разбитыми коленками, чтобы услышать мамины причитания: «Ну, почему, мой мальчик, ты так неосторожен? Почему ты все время падаешь? Но ты не виноват. Это все крестный, которого тебе нашел твой отец. Одно прозвание, что капитан, а в карманах ветер свищет. Даже пары ботинок тебе не прислал. И что, нельзя было хоть разочек расщедриться? Хоть когда-нибудь? Как ты научишься правильно ходить, если не носил ботинки от крестного?»
Вот так она всегда: начинала его бранить, но на полпути обращала ярость на кого-то другого. Один Симос был у матери, отец же вечно пропадал в море. Ей всю жизнь приходилось все решать самой. И ей не нравилось его ругать.
Симос представил, как мама и маленькая бабушка сидят перед камином и ждут его. Прабабушка вовсе не была маленькой, она давно разменяла восьмой десяток, но все звали ее – такую крошечную и хрупкую – маленькой. Тростинка в юности, с годами, что легли бременем на плечи, она сгорбилась и стала совсем крошечной.
Свою бабушку Симос не знал: мама была совсем юной, когда осиротела. Вырастила ее прабабушка. Мама привыкла звать ее просто бабушкой, а Симос – маленькой бабушкой.
Наконец Симос домчался до края деревни. Тени следовали за ним все это время, трепетали, ложась на дорогу и на стены домов. Добежав до стены последнего дома, с ним простилась и последняя тень.
По грунтовой дороге он понесся еще быстрее. На следующем повороте начинались Аневалусы – маленькие усадьбы, участки. Как и в деревне Симоса, дома здесь тесно жались друг к другу, почти сливались, дворов не было. Сады каждого семейства находились за пределами деревни, и выращивали там только самое необходимое: салат, кабачки, помидоры, а летом можно было и арбузы увидеть.
В кустарнике за спиной Симоса послышался какой-то звук, и он остановился как вкопанный. Он не сомневался: еще мгновение – и вспыхнут два глаза-уголька, и появится одно из созданий, скитающихся по этой деревне. Шум не стихал, переходя теперь в чей-то плач. Все один в один, как рассказывала маленькая бабушка.
Симос бросился было бежать подальше от страшного звука, но тот его преследовал. Симос вернулся, подошел к кустам и услышал громкий лай. Наклонившись, он увидел собаку, привязанную за лапу к изгороди, – какой-то крестьянин, должно быть, оставил ее, чтобы отпугивать нежеланных гостей, да и забыл на много дней. Пес был весь в грязи и листьях и ощерился, когда Симос его погладил.
– Ты чего хочешь, чтобы я бросил тебя здесь или чтобы выпустил на волю, глупая ты псина?
Пес, словно поняв, что ему говорят, распластался на земле и больше не шевелился. Симос принялся бороться с веревкой – никак не мог ее распутать. Казалось, еще немного, и он придушит собаку. Когда руки задрожали, Симос наклонился, попытался потянуть узел зубами, и тот наконец поддался. За следующие несколько секунд Симосу удалось освободить пса.
– Ну, ты – счастливчик. Беги теперь. Ты свободен. Беги, тебе говорю.
Пес стоял и смотрел на него, не двигаясь с места.
– Ну, если ты не уходишь, то я точно пойду. У меня дела.
Симос сделал два шага, два шага сделал и пес.
– Ну, беги же, кому говорят.
Симос наклонился и сделал вид, что подбирает камень; пес в испуге снова спрятался в кустах. Симос бросился бежать. Он не оглядывался. Ему жаль было пса, но он не смог бы взять бедолагу с собой: мать и слышать не хотела о собаках. Не говоря уже о том, что Симоса мог увидеть тот, кто привязал пса, и принять за вора. Да и потом, как бы он вернулся на площадь с шелудивым псом? Так что все к лучшему.
Симос пулей пронесся через Леракиа, потом через высохшее поле. Чуть дальше он увидел Одинокое Дерево – так его называли в деревне, потому что оно стояло само по себе среди скал. Дерево. Гора. А дальше до самого горизонта – только море.
Когда-то, рассказывала маленькая бабушка, люди праздновали день Одинокого Дерева: один раз в году, в конце весны. Двадцать седьмого мая собирались здесь, принося еду, и пировали под его раскидистыми ветвями, взрослые даже и выпивали по рюмочке чего-нибудь покрепче. У всех было хорошее настроение, случались и танцы. Теперь же Дерево стояло в одиночестве. Вот уже много лет минуло с последнего счастливого праздника. «Вот когда вырастешь, Симос, сводишь меня на прогулку к Одинокому Дереву. Чтобы увидела я бесконечное море. Чтобы мы посидели и перевели дух. Что такой тени пропадать даром? Такой тени ни одно дерево не дает. Только это. Оно нуждается в компании. Мы и отцу твоему пошлем весточку на корабль, чтобы вернулся побыстрее и посмотрел на тебя, каким ты стал настоящим мужчиной», – так говорила Симосу бабушка.
Теперь же под покровом ночи Одинокое Дерево – предвестник волн – застыло молчаливым путником, остановившимся передохнуть.
Издалека увидел Симос Камни Виолеты. Как же доказать всей компании, что он сюда добрался? Он замедлил шаг. Ароматы тимьяна, орегано и базилика окружали его – точно такие же доносились к нему в комнату через окно. Он медленно-медленно подвигался вперед, чувствуя под ногами камни, оцепеневшие в дремоте. Полная темнота. Ни лучика света. Ни капли тени. Где Виолета? Что же ему взять с собой? Камни же везде одинаковые. До двери – два шага. Там внутри, должно быть, спит безумная Виолета.
Симос заметил окно, а на нем – три горшка. Он протянул руку, тронул листья базилика и замер, испугавшись, что поплывший от растения аромат выдаст его. И тут жутким проклятием загремел громкий лай. Пес – он шел следом, не отставая. Симос погиб. Теперь точно погиб! В отчаянии он замахал руками, чтобы прогнать пса, но тот стоял на месте, виляя хвостом. За спиной Симоса послышался женский голос:
– Где ты был, мой хороший? Где ты был, Мани? Три дня и три ночи я сижу здесь и слышу, как они зовут меня. Внутри моей головы. Их голоса. Как только их рты выдерживают такие слова? Они желают отмщения, Мани, слышишь меня? Что я им сделала? Мани?
Пес прошел мимо. Симос проводил его взглядом и только тогда обернулся. Виолета стояла метрах в двух от него, наклонившись и раскрыв объятия навстречу собаке.
– Кого это ты привел? Ты друг или враг? Почему ты молчишь? Кто ты такой?
На Симоса устремился взгляд, полный любопытства. Один глаз Виолеты был белый как молоко, мертвый, второй – черный как смоль, живой.
– Это просто я, госпожа. Я нашел вашу собаку, она была привязана в Аневалусах.
– Так ты ребенок? Мне нравятся маленькие дети!
На мгновение Симос представил, как Виолета вместе с Мани обгладывает его косточки, и тут же подумал, не броситься ли наутек, чтобы спасти свою жизнь. Но что-то в выражении лица Виолеты заставило его устыдиться собственных мыслей.
– Я не так уж хорошо вижу, потому и не встретила тебя поприветливее. Мне очень не хватало моего Мани, я уж решила, что потеряла его. А ты привел его обратно. Ты – его спаситель. Ты – мой маленький герой. Так, давай-ка начнем все сызнова. И давай познакомимся, как положено. Я – Виолета, а это – Манис. А тебя как зовут?
– Симос.
– Симос как Симеон, серебряное имя, драгоценное… Благодарю, мальчик мой.
– Не за что, госпожа, пес просто попался мне по дороге.
– Правда? А где ты живешь? Я уже много дней не говорила с людьми.
– Я живу в деревне, но пошел на наше поле в Аневалусах. По пути нашел вашего Маниса и так дошел сюда.
– Как же мне везет сегодня. И как бы я жила без Маниса? Он – мой друг, глаз, которого мне недостает, теплые объятия по ночам.
– Госпожа, мне уже пора идти.
– Не уходи так скоро и зови меня Виолетой. Теперь мы уже не незнакомцы. Друзья однажды – друзья навсегда. Предатель однажды – предатель навсегда. Так, господин Драгоценный?
– Так.
– Присядь-ка здесь, а я принесу тебе подарок.
Симос украдкой оглядел комнату, видневшуюся за приоткрытой дверью. Чисто и аккуратно прибрано. Цветастое покрывало брошено на кровать. Рядом – кресло-качалка. На столе – маленькая ваза со свежими полевыми цветами. Симос услышал шорох – Виолета что-то искала, затем – ее шаги, и торопливо устремил взгляд в сторону моря.
– Вот, я нашла.
Виолета села рядом с ним. В руках она держала маленькую подушечку в форме сердца. Ее украшала вышивка – цветок и под ним каллиграфически выписанная буква В.
– Это фиалка? – спросил Симос, дотронувшись пальцем до цветка.
Виолета тоже положила руку на подушечку. На мгновение ее пальцы коснулись ладони Симоса.
– Морская виола, дикая фиалка. Фиалка – знаменитый цветок, а виола более тихая, скромная, она расцветает на берегу моря весной. Похожа на фиалку, но цветы у нее не такие крупные. Фиолетовые, розовые, белые и красные. Виолы, дикие фиалки, счастливы на своем берегу. Они свободны.
– Очень красивый цветок.
– Я сама его вышила.
– Это слишком ценный подарок, я не могу его принять.
– Нет, я хочу, чтобы эта подушечка была у тебя. Ты еще совсем дитя. Такой же маленькой была и я, и, как и ты, я когда-то вылезала в окно и носилась по ночам. Знаешь, в те времена моя семья звала меня Виолой. Если придешь ко мне когда-нибудь еще, я могу рассказать тебе много историй. Тебе нравятся истории?
Симос кивнул.
– Придешь еще раз?
– Приду, госпожа.
– Виолета.
– Приду, Виолета.
– Манис и я будем ждать тебя.
Симос прижал подушечку к груди и помчался обратно. Он все бежал и бежал, остановился только неподалеку от Одинокого Дерева, обернулся и всмотрелся вдаль. Ему удалось разглядеть Виолету. Она все сидела на том же камне, а рядом, на соседнем, – Манис. Темнота, подобно реке, стекала к морю, а эти два белых пятнышка казались барашками на его первых волнах.
Прощайте, прошлого счастливые сны
Сгустилась ночь. Снова. Как вчера. Снова день сменился ночью. Как каждый день.
По ночам я больше всего сожалею о том, что земля сливается с морем и мой глаз, тот, что видит, не может его различить. Что бы я там ни говорила, море – это компания. Лучшая, если не считать тебя, Манис. Манис, ты вернулся, и теперь мне не нужно разговаривать самой с собой, я снова все рассказываю тебе. Ты мне еще и друга привел сегодня вечером. Маленький слиток серебра. Симоса. Я не видела детей с тех пор, как сама была ребенком. В клинику детей приводить не разрешали, да и вправду, вряд ли это подходящее для них место. А я, маленькая, для клиники вполне подходила. Пусть заплатит за это отец, который со всей своей любовью подписал бумаги и запер меня там. Кто знает, сколько земли ему пришлось продать, чтобы меня туда взяли.
Незадолго до того, Мани, незадолго до того, как ты вернулся, я сидела в комнате и чувствовала биение бабочки, играющей со светом. Мне было страшно. Кто на этот раз, думала я. Кто из них пришел теперь, чтобы пугать меня. Я говорила тебе, что мертвые становятся бабочками? Что же, они никогда меня не забудут, вечно будут терзать? Что я должна им? Что я им сделала? Они погубили лучшие мои годы и теперь снова приходят, ненасытные. Чтобы не дать мне покоя.
Не бойся, Манис. Я не сбегу. Я не покину тебя. Вот что я скажу. Это им пусть будет страшно, пусть они бегут. Меня преследуют их голоса. «Виола, Виола, тупая Виола!», – так они называли меня, когда я была маленькой. Но меня это не задевало. Виолы были так прекрасны, что я спасала их от морских волн каждый раз, когда мы с матерью спускались по скалам набрать соли. Хочу как-нибудь выбрать время и спуститься к морю снова, с тобой, и показать тебе, где растут виолы. Боюсь только, что ты слишком слаб, а скалы там внизу слишком обрывистые для тебя. С одним глазом и мне трудно бегать там, как прежде.
Но сегодня мы не будем говорить о грустном. Ты вернулся домой, и мы отпразднуем это. Пойдем-ка, ты, должно быть, очень голоден. Я тебе сказала? Я снова нашла сверток у двери, и внутри было все самое необходимое. Должно быть, это Василия прислала. Но почему она не приходит повидать меня? Как только буду готова, сама схожу и найду ее. Вместе с тобой. Вот увидишь, она и тебе понравится. Но теперь давай-ка я приготовлю тебе что-нибудь, а потом поставлю для нас с тобой музыку. Помнишь, как я тебе рассказывала о своем друге из клиники? Да-да, о Поэте. Родственники оставили его там, потому что он не очень-то радовался жизни. Забавно, правда? Меня там заперли, потому что во мне радости было даже слишком много.
Помню, мы со старшей сестрой, мне было шесть, ей – восемнадцать, пошли в церковь. Я бегала и хохотала. Аспазия схватила меня, подтащила к иконам и показала одного святого – разгневанного. «Видишь, как он на тебя смотрит? Ему совсем не по нраву, что ты так хохочешь». Я отвернулась и посмотрела в другую сторону, на свою любимую икону. На Богородицу с маленьким Христом на руках. Она глядела на меня с едва заметной улыбкой, притаившейся в уголках губ. Я испугалась того, что мне сказала Аспазия, но в то же время поняла, что вера, как и радость, не одинакова для всех и каждого. Разгневанный святой преследовал меня с тех пор, но каждый раз, когда его образ возникал в моем сознании, я представляла, как Богородица с той, другой, иконы улыбается мне. С того дня, бывая в церкви, я и близко не подходила к иконе разгневанного, целовала только икону Богородицы, что улыбалась мне. Никакую другую. Только ее и люблю.
Так вот, тот Поэт знал многое. Я-то школу не закончила. Он научил меня любить книги, понимать музыку. Он научил меня всему. В первые дни в клинике было очень страшно. По ночам слышались крики, и плач, и вой. Я сдергивала одеяло и затыкала им щель под дверью, но крики просачивались сквозь стены. Они преследовали меня. Я уже много дней не спала, когда однажды увидела его в саду. Поэта. Печального. Всегда печального. Очень тихого. Я думала, что он слеп, – так неподвижен был его взгляд, устремленный в одну точку, так странно сидел он, вовсе не двигаясь.
Однажды я начала прыгать прямо перед ним, и он спросил:
– Как тебя зовут?
– Виолета.
Вместо ответа он вдруг пропел: «Прощайте, прошлого счастливые сны».
Минуло немало времени, мы стали друзьями, и я наконец решилась спросить Поэта, почему каждый раз он начинает петь одну и ту же песню, стоит ему завидеть меня. Он поднялся и поставил пластинку в проигрыватель. Впервые я тогда услышала оперу – и вообще музыку. Впервые увидела проигрыватель. Впервые мне сказали, что я ношу имя одной из самых знаменитых оперных героинь. Виолета Валери. «Травиата». Когда Поэт рассказал мне историю той Виолеты, я рыдала навзрыд: она была еще ужаснее, чем моя.
Пришел день, когда я услышала, что моего Поэта выписали из клиники. Я помчалась в его комнату. Пусто. Только проигрыватель в углу и пластинка на нем. «Травиата». Он оставил их для меня. Проигрыватель перенесли в мою комнату. Еще он оставил короткую записку.
«Почему же то, что определяет счастье человека, становится и источником его несчастий?»
Я ничего не поняла в ней. Целыми днями, месяцами я сидела взаперти у себя в комнате, слушая «Травиату». Прописанные лекарства я прятала под матрасом. Когда это обнаружилось, мне пригрозили, что отнимут проигрыватель. Я не сопротивлялась. Проигрыватель забрали, но музыка уже играла в моей голове. Мне не нужно было нажимать на кнопку, чтобы запустить ее. Она играла постоянно. И все еще играет. Прощайте, старые мечты.
Иногда, Мани, я думаю о том, что я слишком сильно любила жизнь и семья мне за это отомстила. Теперь я старуха, слепа на один глаз, но я все еще хочу жить, вот только жизнь меня прогоняет. Но мы, Мани, сделаем так, что она полюбит нас снова. Просто меня не было столько лет, и это место меня все еще не вспомнило. Как же мне не хватало моря. Как не хватало этой соленой бесплодной земли. И люди, Мани, не так уж и плохи. Они держатся от нас подальше, потому что боятся. А вот ты разглядел этого друга, которого привел, Симоса? Ему понравился, как мне кажется, наш подарок. Мы – счастливчики, Мани. Один друг приведет и других.
Жестокость
Симос разглядывал еду перед собой – безо всякого аппетита. Тушеные улитки. Он не раз наблюдал, как в дождь они ползут по земле, оставляя след из слизи. В это время, говорит мать, улитки становятся жирными-жирными. Сытная еда – и дешевая. В такие дни Симос отправляется с друзьями на улицу, и они собирают улиток, ползущих по дороге, что ведет к монастырю. Мальчики смеются и кричат друг другу:
– Побежали переловим их, пока они в монахи не ушли.
Если улитки станут монахами, если уединятся в своих домиках-кельях, спасаясь от жары и влажности, то начнут худеть и перестанут быть такими сытными. Позавчера Симос собрал пятьдесят улиток. Лучше бы ни одной не нашел, но, с другой стороны, ему не хотелось, ни чтобы мальчишки смеялись над ним, ни чтобы мама расстроилась. Симос закрыл глаза и попытался представить, что ест крошечные колбаски. Даже начал улыбаться, но, как только улитка проскользнула по горлу, накатило отвращение.
– Ну, давай, Симос, ты что, только две съел? По крайней мере десять нужно. Давай же, мальчик мой.
Симос взял вилку и тайком препроводил вынутую из раковины улитку в салфетку, а за ней еще одну и еще, до тех пор, пока в красном соусе не осталось плавать десять пустых «домиков». Симос погрузил в соус кусок хлеба, подержал, пока тот не стал кроваво-красным, а затем запихнул в рот.
– Браво, мальчик мой, ты дочиста всё подобрал. Видишь, как это вкусно? Ну, беги теперь. А когда зазвонит колокол, возвращайся, пойдем в церковь! – сказала мама, а затем перекрестилась, ругаясь сквозь зубы.
Каждый раз, как речь заходит о церкви, она крестится и бранится.
– Мама, разве это правильно, ругаться, когда крестишься?
– Крещусь я ради святости и благодеяний Его, во имя Его великое, но этот козел, поп, которого прислали по наши души, вот уже где у меня сидит, – бросила она и провела рукой по горлу.
– Так ты отца Манолиса поносишь?
Она только отмахнулась, словно прогоняя Симоса. Его забавляли эти мамины дрязги с религией. Он спрятал салфетку с улитками в карман и побежал к курятнику, вытряхнул там несъеденный обед, и куры жадно набросились на таких жирных червяков. На Страстной неделе он с матерью пойдет причащаться, а перед этим в монастырь – на исповедь, к монаху. Большинство деревенских исповедуются священнику в церкви, но мать ни видеть его не желает, ни уж тем более поверять ему свои прегрешения.
– Его собственные – в самый раз для тюрьмы. Не ему рассказывать, сколько мне каяться за то, что возмечтала о чем-то большем, чем у меня есть.
Все священники считают Кофину местом ссылки. В такую даль никто не хочет ехать. За деревней нет даже никакого пути, дорога здесь и кончается. Почтальон, который появляется в Кофине раз в месяц, добирается сюда почти без сил.
– Мул вашу дорогу протаптывал, это уж точно. Нигде больше она так не кружит. Что ж за наказание такое! И что я такого сделал, что Господь меня так наказывает?
Почтальон, конечно, ни в чем не виноват. Он хороший человек, просто по долгу службы надо ему и в Кофину добираться. Она всего-то в двадцати километрах от последней деревни в долине, но проселочная дорога проложена абы как, вся в ямах. Зимой Кофину отрезает от мира на несколько месяцев. Лавины заваливают дорогу обломками скал, а в сильные дожди она и вовсе превращается в непролазное болото, кипящее водоворотами грязи.
До Кофины доезжают только те, кто здесь живет. И только в теплое время года раз в неделю, каждую пятницу, сюда добирается, пыхтя и задыхаясь, маленький грузовичок, а с ним – Димитрис Тактикос. Он газует, не двигаясь с места, у въезда в деревню и кричит:
– Хозяйки, сюда! К вам приехал Димитрис Тактикос, ваш бакалейщик! Фасоль, бобы, клубника и черешня! Нитки, гребенки и ленты!
При каждом доме в деревне есть свой крошечный огородик. Там растет все, что нужно: зелень, артишоки, помидоры, огурцы, дыни. Даже кира-Деспина, у которой сада нет, выращивает салат в ящиках у входа в дом. А нет сада, потому что продала она его ни за грош какому-то туристу, который в один прекрасный день потерялся в горах и забрел в их деревню. Никто даже не понимает, как это ему удалось. Всю ночь этот иностранец кричал: «Help! Help![4]».
Господин Никос проходил тогда поблизости, возвращаясь со своего скотного двора. Он услышал крики, но продолжил идти куда шел. Решил, то воют духи, собирающиеся ночами на холмах, и горе тебе, если вздумаешь остановиться и помочь им. Они затащат тебя в хоровод и не остановятся, пока ты последний свой вздох не отдашь Творцу. Господин Никос – хороший человек, но не дурак. Так что он не остановился, и остался чужеземец на всю ночь в саду киры-Деспины.
Утром, проснувшись и обнаружив вокруг дикие скалы, орлов и далекое море, он почти рехнулся: вообразил, будто умер и попал в Рай. Он лежал без движения, а потом проголодался – тут-то и понял, что все еще жив. Дошел до первых деревенских домов. Местные собрались вокруг, но никто не мог уразуметь, что он там толкует. Наконец пришел Стратос, отец Симоса, который в то время оказался в деревне. Он знал какие-никакие слова по-английски благодаря своим плаваниям. И попытался объясниться с иностранцем. Стоило тому обмолвиться, что дед его был немцем, как половина стариков взялась за камни, чтобы прогнать его, но Стратос их удержал.
– Да вы что, совсем на бедолагу не смотрите? Он даже не родился, когда его дед бесчинства творил. Чем он-то провинился за всю немчуру и за Гитлера? Оставьте его в покое и дайте сказать, что он хочет.
Оказалось, второй дед иностранца, по матери, был австралийцем и рассказывал ему множество историй про эти горы, где местные жители прятали союзников и помогали им бежать морем*. Вот он и приехал в Грецию и на Крит, чтобы найти тех, кто спас когда-то его деда. Так он сказал.
– И как его звали, того, кто спас твоего деда?
– Тодоросом, Тодораки.
Деревенские были потрясены – иметь таких несхожих дедов, немца и австралийца, причем последний воевал в их горах, ел вместе с ними и прятался в их домах! Они пообсуждали это все, взвесили, и возобладало в них в итоге волнение от того, что внук идет по следам прошлого своего деда. Они побросали камни на землю и начали думать, какой такой Тодоракис мог помочь тому австралийцу.
В каждой деревне хоть по одному Тодоракису да есть, как есть и Йоргос, и Николас. Поди разберись, что за герой спас человека от верной смерти. В Кофине единственным Тодоракисом был отец киры-Деспины, который скончался, когда ей было три месяца от роду. Слыл он, конечно, красавцем мужчиной, жена в нем души не чаяла. Когда он умер, так вдова над ним убивалась, что на три дня и три ночи бросила младенца в люльке некормленым; и крики ее заглушали детский плач. И кого винить – горькую вдову или Господа с великими его благодеяниями, одарившего ее столь богатым злосчастьем? Не менее матери была несчастной всю жизнь и Деспина – одинокой, невенчанной. Кому занадобится сирота? Мать ее умерла, когда Деспина была девушкой на выданье. Так она и куковала сама с собой – сама за животными ухаживает, сама в саду работает.
Да, единственный на всю деревню Тодоракис умер, но иностранец, поняв, что провел ночь в его саду, счел это знамением свыше. Напрасно ему твердили все подряд, что их Тодоракис в горах не воевал; напрасно пытались его образумить, говоря, что ничего тут не сходится. Иностранец уверился: ничто не случайно, суждено ему было заблудиться в этих горах, попасть в это прекрасное место, которое он даже не собирался посещать, и провести одинокую ночь в саду, принадлежащем дочери того самого Тодоракиса. Он был даже уверен, что здесь и прятался его дед, так что он бросился вперед, а вся деревня – за ним по пятам. Так добежал он до священного сада, начал целовать землю, точно там, где гадили курицы и все было в помете. Женщины совершали крестное знамение. Первое возмущение вскоре сменилось всеобщим изумлением, а затем все согласились, что происходящее только на чудо и похоже.
Вот так Тодоракиса, хотя узнать об этом он уже никак не мог, произвели в герои. А кира-Деспина обнаружила, что вся деревня относится к ней с почтением – как к дочери героя, не то что прежде. И так велико было ее удовольствие, что на радостях она согласилась уступить иностранцу свой садик.
Вначале не хотела даже и гроша принять в уплату, но иностранец настаивал, так что взяла, что дали. Много это было, мало, кто знает. Как будто кто-то здесь хоть клочок земли продал. В деревню приехал нотариус и поинтересовался у киры-Деспины, есть ли у нее бумаги, подтверждающие, что это – ее садик.
– Да что ты такое говоришь, мальчик мой? Что за разговоры? Моя это земля. Хоть кого спроси.
Тогда кире-Деспине, правду сказать, до того обидным показалось, что в ее словах сомневаются и требуют какие-то бумаги! И едва ей пришло это в голову, она сделала важное лицо и, как дочь героя, которой теперь стала, произнесла:
– Бумаги, мальчик мой, рвутся и теряются, тогда как слово остается. Стоит сказать его, оно пускает корни, и попробуй только забрать назад.
Нотариус склонился к уху иностранца и шепотом перевел ему услышанное. Иностранец взволнованно поцеловал кире-Деспине руку. Ей впервые целовали руку, и хотя была она от этого не в восторге, все же поняла: так ей выражают почтение. Забывшись на какое-то мгновение, она почувствовала вдруг, что могла бы начать жизнь заново и более того – начать ее как дочь героя.
Чего только она не вообразила в своем забытьи. Что, может, этот молодой человек хочет отблагодарить – всеми способами – дочь героя. Теперь же, когда он поцеловал ей руку, двадцать лет, разделяющие их, обрушились на нее. Пожалела она о проданном садике, да только о пути назад и речи быть не могло. Не она ли сказала, что слово пускает корни?
Райнер, так звали молодого человека, на следующий же день принес кире-Деспине чековую книжку, которую завел ей в банке. Впервые кира-Деспина видела такую книжку. И что делать с деньгами? Только сахар и кофе она покупала. Собирая соль с приморских скал, Деспина зарабатывала так, что хватало и на сахар, и на кофе. Она взяла книжку и, чтобы порадовать иностранца, положила на иконостас – рядом с коллекцией ракушек, за рогом тритона. Там, на этом подобии витрины, она хранила все, что ей очень нравилось.
Райнер просил ее оставить куриц и огород как есть. Но кира-Деспина сочла своим долгом перенести огород к себе. Она поставила три ящика в переулке перед домом и там выращивала все необходимое. Куриц она тоже пообещала перевезти, но, чем больше проходило времени, тем больше ее все устраивало. Пусть лучше куры будут подальше от дома – хороший повод прогуляться. Каждый раз, идя проведать их, она останавливалась и думала об иностранце, о Райнере то есть. Он мог бы быть и ее сыном. Как годы летят! Прежде Деспина их не считала, а теперь сочла разом все, наперечет. Сорок семь.
Большинство деревенских женщин не приходили к сорока годам с непокрытой головой. У каждой была причина надеть платок; хоть один родственник да покинул этот мир. Платок означал траур, и траура без платка не бывало. Кира-Деспина долгие годы носила платок, но после того как появился иностранец, сняла – сама не знала почему.
Первое время ее видели с тугим пучком. Волосы у нее были иссиня-черными, даже и одного седого не найдешь. Затем пучок стал свободнее и пышнее, затем превратился в растрепанную косу, что падала на спину. Однажды Деспина встала перед маленьким осколком зеркала, не вмещавшим ее целиком, и вгляделась в себя. Сорок семь лет, дева и старуха. Деспина сдернула резинку, и волосы волнами заструились по спине. Она же дочь героя, никто больше не осмелится сделать ей замечание, что неприлично взрослой женщине ходить с распущенными волосами.
Один только раз показался иностранец в Кофине, а сколько перемен принес. Деспина стала ощущать себя гораздо лучше, словно бы вместе с пучком распустила и узел несчастий, что связывал ее с рождения. Не такие уж это мелочи – когда ты собственной матери не нужна. Не то чтобы та вовсе не любила ее, пока она росла, но каждый раз, встречая взгляд матери, Деспина видела в нем все то же «почему». Почему выжил ребенок, а не Тодорос? Словно она могла их поменять местами. Словно смерть отца была платой за жизнь дочери. Но почему такой дорогой?
Когда мать заболела, Деспина была подле нее днем и ночью: мыла ее, переодевала, кормила – прямо в кровати. Но даже и тогда, кроме благодарности, Деспина читала в глазах матери все то же первое «почему». Почему ты жива?
Даже когда душа отлетает, «почему» остаются. Деспина унаследовала их вместе с крошечным наделом земли, который продала иностранцу. И в придачу к собственным вопросам теперь у Деспины были и «почему» от матери – чтобы терзать ее и не давать покоя. Почему ей жить, почему ей никогда не быть любимой?
На следующий день Симос мчался по переулкам деревни, чтобы встретиться с другими мальчиками. Подарок Виолеты он не стал брать с собой: вот только этого не хватало – проскакать по всей округе с подушкой в руках. Но если Маркос не поверит, Симос швырнет ему эту подушку в лицо.
Симос притормозил на подъеме – отдышаться – и увидел, как кира-Деспина машет ему из окна. Он вспыхнул, как если бы та могла прочесть его мысли. Но женщина улыбнулась, будто желая прогнать все его страхи. «Прекрасная кира-Деспина», – вдруг подумал Симос и сам поразился этой мысли. Еще совсем недавно она была одной из многих деревенских тетушек, а теперь стала куда меньше тетушкой и куда больше девушкой. Но как так? В деревне все женщины – или девушки, или тетушки. Девушки – это незамужние, только что вышедшие замуж или молодые матери. Все остальные – тетушки.
Черные волосы Деспины развевались. Это напомнило Симосу о Виолете, о том, как свободно ветер играл ее белоснежными прядями. Интересно, а Деспина считает Виолету выжившей из ума колдуньей?
Карабкаясь в гору по деревенским улочкам, Симос снова задумался о вчерашней встрече с Виолетой и о лжи, которую ей наплел: якобы он отправился на прогулку, нашел пса и привел ей обратно. Ну, а что он должен был сказать? «Знаете, госпожа Виолета, я поспорил, что доберусь до вашего дома, и вообще все в деревне считают вас сумасшедшей, а я вам не друг!», так, что ли?
«Друг однажды – друг навсегда. Предатель однажды – предатель навсегда». Он вспомнил слова Виолеты и почувствовал, как волна стыда нахлынула на него. Возле речки он услышал голоса мальчишек и бросился по спуску им навстречу.
Он не переставал сомневаться: рассказать им правду или нет? Если выложить все как есть, это уменьшит ценность его безумного приключения. Можно наболтать друзьям кучу жутких небылиц, ну, например, что он видел, как Виолета режет кур и пьет их кровь, или слышал, как она воет волком. Наверняка что-то такое они хотят услышать, и тогда он точно покажется им еще бесстрашнее. Может, они даже сделают его вожаком.
Он так и не решил, как поступить, и, может, даже остановился бы ненадолго, чтобы обдумать все хорошенько, но тут услышал воинственные кличи. Еще чуть-чуть – и он добежит до мальчишек. Вскоре он увидел их среди деревьев. Мальчишки выбрали себе мишень – злосчастную черепаху – и издалека швыряли в нее камни, соревнуясь, кто бросит точнее. Черепаха скрылась под панцирем и неподвижностью своей и сама напоминала камень. Симос подумал было остановить их, но малодушие победило. Только это ему и осталось сделать, чтобы стать всеобщим посмешищем. Его и так уже держат за блаженного. «И правильно, что тебя зовут Симосом, – сказал ему однажды Маркос. – У тебя точно есть отметина, дефект и пунктик».
Еще издалека Симос увидел, что Маркос попал камнем в цель. Черепаха слегка качнулась, затем снова замерла.
– Это должно было быть больно, что ты тут, святоша оцепеневшая, нам дохлой притворяешься! – закричал Маркос, и все засмеялись.
Но едва Симос показался из-за дерева, они оставили черепаху в покое и бросились к нему. Краем глаза Симос заметил, как черепаха поползла прочь, словно почуяв единственный шанс сбежать. «Вот и хорошо, – подумал Симос, – хоть чего-то мне удалось добиться своим появлением».
– Ну что, Симос? Виолета не съела тебя? Или, может, ты обмочился от страха и бросился наутек?
– Я расскажу тебе, как выглядят ее двор и дом. Если хочешь, пойди сегодня вечером и сам проверь, правду ли я говорю, – отозвался Симос, подначивая Маркоса.
Все хором загалдели:
– Брось эти свои глупости и расскажи, что делала старуха!
– Так что она делала, приятель? Ты что, язык проглотил?
– Да нет, вот только она ничего не делала, – сказал Симос.
– Чего ничего?
– Ну… Она спала… – прошелестел Симос так, будто и сам не особо верил своим сказкам.
– Она одна? У нее есть хоть какое-то животное?
– Нет, – ответил Симос, солгав и здесь.
– Отлично! – выкрикнул Маркос. – Сгинула наконец эта шелудивая псина.
– Какая шелудивая псина? О чем ты, Марко? – изумились остальные.
– Слушайте вы, отрепье, я эту Виолету сам с ума сведу, если она сама еще не рехнулась. Однажды, когда мы с отцом спускались собрать соли, наш осел вдруг встал как вкопанный посреди дороги. И на тебе. Какая-то убогая псина давай на нас лаять. Отец сказал, это собака помешанной. Он то и дело видел, как она проходит мимо и разговаривает с этим псом словно с человеком. Хорошо, что у нее собака есть, хоть кто-то ей компанию составляет, сказал отец. Одиночество сводит с ума и разумных, и безумных.
Все смотрели на Маркоса разинув рты, а тот, чувствуя их нетерпение, нарочно растягивал рассказ.
– Как вы понимаете, я с отцом отправился по делам, но по пути назад приотстал – там, где мы видели собаку. Отцу я наплел, что пойду собирать апельсины и вернусь домой позже, а сам, когда осел скрылся за поворотом, начал поиски. Псина растянулась у дороги и грелась на солнце. Едва меня заметив, она снова залаяла, но я сел рядом и сделал вид, что хочу ее погладить. Тупица потянулась ко мне – а я вытащил из кармана веревку, которую до того стянул из нашего мешка, обернул вокруг ее шеи да и привязал скотину к изгороди. Она и шагу не могла сделать. Там она и останется, а хозяйка пусть побегает поищет ее.
Маркос засмеялся. Один. Остальные мальчики, казалось, оцепенели от дикости услышанного. Может, они и хотели бы плюнуть в своего вожака, но кто станет мериться с ним силой? Да и потом, все они – одна компания. Если кому и хотелось возмутиться, тот боялся остаться один, без друзей, без компании. Никто не произнес ни слова, только Илиас спросил:
– И где ты привязал пса, Марко?
– Да за оградой госпожи… – Маркос осекся, будто хорошенько обдумав что-то. – Так, ничего я говорить не буду, а то этот недоросток, – тут он повернулся и указал на Симоса, – побежит отвязывать его и отдавать сумасшедшей старухе. Я-то в отличие от нее еще в своем уме, чтобы Симосу все рассказывать.
– Тоже мне преступление, – фыркнул Симос. – Все в деревне привязывают своих собак, чтобы они не давали козам пройти. А потом забывают их, оставляя без еды и воды целыми днями.
Симос будто снял камень с души у остальных. И то правда, все деревенские привязывают собак в одиночестве. Только однажды, когда появился тот иностранец, они побежали собирать своих сторожей по пустым полям: Райнер, если видел привязанную собаку, тут же ее освобождал, и козы заполонили даже главную площадь в деревне. Собаки для того и нужны, тут все были согласны, – чтобы пугать коз и не давать им зайти в поля. Никто в Кофине не держал собак в доме, да даже и во дворе. Райнер рассказал, что у него в городе собак пускают в дом, на кровать. Все посмеялись над такими странностями, но никто ничего не сказал чужаку, так как он им нравился. А вот между собой решили сделать цепи подлиннее и проведывать собак каждый день. Пока иностранец был с ними, все того соглашения держались, но, как уехал, оно подзабылось. Но уж на второй-то день никто собаку не оставлял голодать. Держали в уме, что надо позаботиться о живой душе. Однако во дворы их так и не пускали.
Маркос свирепо воззрился на Симоса: сказанным тот снова подпортил его триумф. Но он этого так не оставит.
– Говоришь, старуха не так уж и убивается по своей грязной собачонке? Так я пройду мимо вечером да и прикончу ее, – рявкнул он.
– А что бы тебе и не пойти? – пожал плечами Симос, зная, что Манис безмятежно пребывает под присмотром Виолеты. Однако надо бы предупредить ее, чтобы она не давала псу сбежать, потому что Маркос своего обещания не забудет.
Маленькое признание
От речки до площади обычным шагом будет с четверть часа ходьбы. Но дети не ходят, они бегают. Йоргос, Симос, Илиас, чуть позади – Вреттос. Он вечно отвлекался собрать цветов для матери, которую потерял в прошлом году. У него это вошло в привычку.
Кладбище было у въезда в деревню. Вреттос перепрыгнул через ограду, подбежал к маминой могиле, поцеловал ее фотографию и положил рядом цветы. Симос и Йоргос ждали его за забором, наблюдали, как Вреттос на бегу перепрыгивает могилы, чтобы добраться до маминой. Им было жаль его, но они не произносили ни слова. Да и Вреттос ни разу и слезники не проронил. Внезапно им стало холодно. Сырость стояла такая, что, казалось, до костей пробирало. Листья деревьев тут были вечно влажные, словно хранили слезы человеческие. Такое крошечное местечко, в двух шагах от деревни, а все же тут как будто стояла своя погода.
«В загробном мире тоже будет холодно», – подумал Симос, а потом вспомнил картинку с изображением Ада, которую ему показывал отец Манолис. Везде огонь.
Отец Манолис позвал его помочь с уборкой в церкви. Симос бесшумно вошел и увидел, как священник пересчитывает деньги в свечной лавке, а потом снова бросает в ящик. Отец Манолис обернулся в ярости и обрушился на Симоса с бранью за то, что тот как вор прокрадывается в церковь. Симос хотел было ответить, что тот сам же его и позвал и что в церкви, как говорил отец Григорис, нельзя шуметь, ведь здесь нас Господь поджидает. Но, испугавшись разъяренного вида нового священника, ничего не сказал.
Отец Манолис спросил, знает ли он что-нибудь о приношениях, издавна хранившихся в церкви, а потом исчезнувших. Симос проговорил, что ему ничего не известно, и пусть то была великая ложь, и пусть он находился в доме Божьем. Симос знал, но поклялся ни слова о том не проронить ни одной живой душе. Он узнал, когда исчезла икона Богоматери, та, что была древнее самой церкви. Затем начал пустеть и ящик в свечной лавке.
«Кто-то оказался в великой нужде, потому и взял эти деньги», – только и сказал отец Григорис, а отец Манолис потребовал, чтобы всех допросили. А как-то вечером отец Григорис окликнул Симоса и попросил помочь закопать все подношения за деревней. «Так мы их сохраним, – добавил он. – А когда-нибудь вернем туда, где они должны быть». Симос ни о чем не спросил отца Григориса, зная, что тот – святой человек и ничего худого замыслить не может. Отправившись в церковь на другой день, отца Григориса он не обнаружил, узнал только, что тот уехал – отшельничать, подальше от остального мира. Так новый священник остался один.
Отец Манолис ухватил Симоса за плечо и подвел к иконе, на одной половине которой был изображен ад, а на другой – рай.
– Станешь говорить неправду – сам знаешь, куда попадешь, прямиком в ад, – пригрозил он, и Симос вгляделся в языки адского пламени, горящие на иконе.
Йоргос толкнул Симоса.
– Слушай, ты правду говоришь?
На мгновение Симос подумал, что тот прочел его мысли и спрашивает про подношения, но Йоргос, видимо, заметил недоумение у него на лице и пояснил:
– Я про Виолету спрашиваю. Это правда, что ты с ней не разговаривал?
Симос пожал плечами и ничего не ответил. Да Йоргос и не дал ему заговорить:
– Пока ты бежал к Виолете, Маркос рассказывал нам жуткие вещи. Что видели, как Виолета ночью заходит на кладбище. Что она собирает ящериц, а потом их жарит. Что в полнолуние она воет волком.
Симос припомнил спокойный взгляд Виолеты и хотел было рассказать Йоргосу правду, но понял, что оказался в ловушке собственной лжи.
