Русская елка. История, мифология, литература
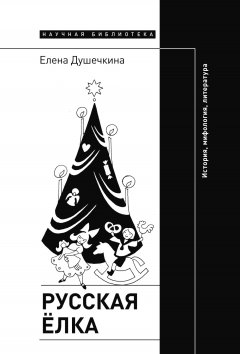
© Е. В. Душечкина, наследники, 2002, 2012, 2014, 2023
© И. Дик, дизайн обложки, 2023
© OOO «Новое литературное обозрение», 2023
От автора
Когда я работала над этой книгой, меня не раз с удивлением спрашивали, как мне пришла в голову мысль сделать предметом своего исследования елку. Действительно, наряженное еловое деревце, стоящее в доме на Новый год, кажется нам столь естественным, само собой разумеющимся, что, как правило, не вызывает никаких вопросов. Подходит Новый год, и мы по усвоенной с детства привычке устанавливаем его, украшаем и радуемся ему. А между тем обычай этот сформировался у нас относительно недавно, и его происхождение, его история и его смысл, несомненно, заслуживают внимания.
Мой научный интерес к елке возник в середине 1980‐х годов, когда я занялась изучением истории и художественных особенностей русского святочного рассказа. Собирая материал по этой теме, я обратила внимание на то, что до начала 40‐х годов XIX века святочные рассказы использовали мотивы, связанные с русскими народными святками (гаданье, ряженье, всевозможная «святочная чертовщина» и пр.), в то время как рождественские мотивы оставались в них совершенно незатронутыми. Однако начиная с этого времени и далее – в течение всего XIX и начала ХХ столетия – рождественская тематика в произведениях, приуроченных к зимнему праздничному циклу, стала разрабатываться столь же часто и столь же охотно, как и святочная. При этом во многих рождественских рассказах важную сюжетную роль начинает играть образ елки.
Для того чтобы понять смысл этого образа и его роль в рождественских текстах, мне необходимо было уяснить историю елки в России. И тут обнаружилось, что, несмотря на большое количество исследований, посвященных зимним праздникам русского народного календаря, святочным, рождественским и новогодним обычаям, работы о елке в России практически отсутствуют. Ее происхождение, ее история, смысл и символика до сих пор во многом остаются неизученными. По-видимому, это объясняется тем, что западный обычай использовать на Рождество хвойные деревья, как правило, не привлекал к себе внимания этнографов и фольклористов. Они либо вообще о нем не упоминали, либо же говорили вскользь как об обычае, явно не заслуживающем внимания из‐за своей молодости и некоренного происхождения.
Едва ли не единственной попыткой разобраться в вопросе о елке явилась адресованная воспитателям и родителям популярная книжка, вышедшая в Петербурге сто с лишним лет тому назад. Ее автор, священник, педагог и литератор Б. Быстров (известный под псевдонимом Е. Швидченко), писал:
В наше время обычай зажигать на святках елку для детей все более и более распространяется по России. Редкая школа даже по деревням и редкий частный дом в городах не устраивает в это время для детей елки. Все уже так привыкают к этому обычаю, что без елки святки – не в святки, рождественские праздники – не в праздники [507: 3][1].
Недостаток этнографических и исторических работ о елке в России с лихвой восполняется громадным, буквально неисчислимым литературным материалом. Это стихотворения, рассказы, очерки о рождественских праздниках (которыми с середины XIX столетия стали заполняться святочные и рождественские номера газет и журналов), а также дневники и мемуары, авторы которых, вспоминая годы своего детства, как правило, не только не забывают рассказать о первых «елочных» впечатлениях, но, наоборот, описывают их тщательно и подробно. Занимаясь историей елки в России, я убедилась в том, насколько эта история сложна, интересна и поучительна.
В наше время новогодняя или рождественская елка представляет собой совершенно ординарное, привычное и всем хорошо знакомое явление. В последние десятилетия этот обычай распространился по всему миру и постепенно усваивается даже нехристианскими народами, в том числе и живущими на территории нашей страны. Однако процесс «прививки елки» в России был долгим, противоречивым, а временами и болезненным. Этот процесс самым непосредственным образом отражает настроения, пристрастия и состояние различных слоев русского общества. В ходе завоевания популярности елка вызывала восторг и неприятие, полное равнодушие и даже вражду. Прослеживая историю русской елки, можно увидеть, как постепенно меняется отношение к этому дереву, как в спорах о нем возникает, растет и утверждается его культ, как протекает борьба с ним и за него и как елка наконец одерживает полную победу, превратившись во всеобщую любимицу. Нетерпеливое ожидание елки детьми и ее явление в Рождественский сочельник или в новогодний вечер становится одним из самых счастливых и памятных переживаний ребенка. Елки детства запечатлеваются в памяти на всю жизнь.
Как сможет убедиться читатель, излагая историю и мифологию русской елки, я широко использую как документальные свидетельства о ней (мемуары, дневники, газетную и журнальную информацию), так и художественные тексты (прозаические и стихотворные). Я понимаю, что последнее обстоятельство может вызвать недоумение: разве можно при воссоздании истории того или иного явления полагаться на художественный вымысел? Это недоумение вполне оправдано. Постараюсь объяснить свою позицию. Во-первых, литературные произведения не в меньшей, если не в большей, степени, чем документальные тексты, предоставляют возможность проследить, как возникали и не раз менялись приписываемые елке символические значения. Мифология елки создавалась и поддерживалась в большой мере именно художественной литературой. Во-вторых, собирая материал о елке, я не раз убеждалась в том, что если в литературном произведении описываются те или иные подробности праздника елки, то это означает, что они уже вошли в жизнь. Так, например, если в печати появляется стихотворение, рассказывающее о празднике елки в детском приюте, то это свидетельствует о том, что в детских приютах уже начали устраивать елки. Если в том или ином рассказе мимоходом сообщается, что под елкой или на рождественской магазинной витрине установлена фигура старика с елкой, можно не сомневаться, что в обществе уже возникло представление о Деде Морозе как главном «елочном» персонаже. И наконец, если в каком-нибудь рассказе конца XIX века упоминается о висящей на елке электрической гирлянде, то это значит, что помимо традиционных свечей при освещении дерева уже начали использовать электрические лампочки. Разумеется, с подобного рода «художественной информацией» я старалась обращаться как можно осторожнее, хотя использовала ее достаточно широко.
Излагая материал, я привожу множество цитат, зачастую довольно объемных. Нетерпеливый читатель может спокойно их пропускать (они, как правило, выделены в отдельные абзацы), следя за развитием сюжета. Тот же, кто любит подробности, характеризующие как эпоху, так и описывающего эти подробности человека, может получить (как мне хочется надеяться) такое же удовольствие от этих цитат, которое получала от них я. Так, например, читатель встретится с воспоминаниями о семейном изготовлении елочных игрушек. Такие рассказы убеждают нас в том, сколь цепкой и прочной оказывается человеческая память, позволяющая много лет спустя до мельчайших деталей воспроизводить процесс делания китайских фонариков; как хранят руки ощущения от прикосновений к выпуклостям и извилинам орехов, которые золотились этими руками десятилетия назад; как губы, много лет назад отдувавшие легкие, сияющие листки тончайшей серебряной и золотой бумаги, помнят ласковые прикосновения этих листков.
Обычай устраивать на зимних праздниках елку тесно связан с исконным в мировой мифологии культом деревьев. Поэтому я начинаю свой рассказ о русской елке кратким обзором, посвященным образу дерева у разных народов, после чего следуют очерки о мифологии ели. Эти части моей работы не претендуют ни на новизну, ни на полноту: дереву как одному из самых универсальных мифологических образов посвящено множество серьезных исследований.
Сюжет о русской елке в основном излагается в исторической последовательности, хотя иногда мне приходилось то забегать вперед, то возвращаться назад. Заключается книжка очерками о главных «елочных» персонажах – Деде Морозе и Снегурочке, историю формирования которых в русском сознании я стремлюсь проследить с самого начала и до настоящего времени. В последние два десятилетия мы явились свидетелями (а в определенной степени и участниками) глобальных перемен в нашей жизни. Эти перемены не могли не отразиться и на елке. Современная елка требует специального исследования. Мною эта тема почти не затронута.
Я писала эту книгу для всех, кому может оказаться интересной судьба русской елки, и мне хотелось, чтобы она была понятна всем: и школьникам, и студентам, и уже немолодым людям, которым она напомнит, быть может, их детские новогодние праздники. Адресуясь к так называемому широкому читателю, я тем не менее сохранила весь справочный аппарат, для того чтобы каждый заинтересованный в истории елки в России смог обратиться к источникам, которые я использовала, и для того, чтобы каждый желающий смог продолжить, дополнить и исправить мое исследование.
В процессе работы мне помогали многие люди – справками, участием, заинтересованностью в теме моего исследования. Всех здесь не перечислить, но к каждому из них я испытываю чувство глубокой признательности.
Научный интерес к елке поддерживался и подогревался моим личным отношением к ней. С тех пор как я помню себя, ее образ присутствует в моем сознании. Я помню свою первую елку, которую мама устроила для меня и моей старшей сестры. Было это в конце 1943 года в эвакуации, на Урале. В трудное военное время мама все же сочла необходимым доставить своим детям эту радость. С тех пор в нашем доме ни одна встреча Нового года не проходила без елки. Среди украшений, которые мы вешаем на нашу елку, сохранилось несколько игрушек с тех давних пор. К ним у меня особое отношение.
2011
Дерево в мировой мифологии
Одухотворение и почитание деревьев, вера в то, что деревья являются живыми существами, в которые перешли души умерших, и что боги выбирают себе те или иные деревья для того, чтобы жить в них, издавна были свойственны всем народам. Переселившись в дерево, духи защищают человека от злых сил и неблагоприятных природных явлений. Существовали представления о «духе» или «душе» дерева. Их необходимо было «уважать соблюдением всех ритуальных требований от момента срубания живого дерева до момента его окончательной гибели» [241: 13].
Дерево воспринималось «носителем жизненных энергий, связывающих в единое целое мир человека, природы и космоса» [406: 12]. В зависимости от географических и климатических условий, а также местных традиций возникал культ дерева определенной породы, а вместе с ним и поддерживающие его обычаи. Объектом поклонения могли быть дуб, сосна, кипарис, ясень, эвкалипт и прочие деревья, в наибольшей степени характерные для той или иной климатической зоны. При этом считалось, что духи находят себе пристанище по преимуществу в наиболее раскидистых и высоких деревьях [см.: 159]. Особое предпочтение обычно отдавалось вечнозеленым растениям: сосне, ели, можжевельнику, кипарису и другим, поскольку, согласно бытовавшим верованиям, наполненность вечной силой проявляется в них в большей степени, чем в деревьях лиственных.
Благоговейное отношение к вечной зелени известно с древнейших времен. В Греции главным священным деревом считался кипарис, в Риме поклонялись фиговому дереву Ромула, а также кизилу, росшему на склоне Палатинского холма. Признаки увядания этих деревьев вызывали чувство ужаса, поскольку их засыхание, утрата ими свежести воспринимались как болезнь живущего в дереве духа, который заболевает и умирает вместе с деревом [см.: 482: 131]. Во многих первобытных культурах порубка деревьев в запретные дни и их порча расценивались как преступление, убийство: виновник гибели дерева подвергался жестокому наказанию [см.: 241: 11–13]. Поэтому индейцы, например, использовали для хозяйственных нужд только те деревья, которые упали сами. Вдыхание дыма горящих ветвей священного дерева могло вызвать временную одержимость, которая, как считалось, наделяла человека способностью к предсказаниям [см.: 482: 8–11].
Стремясь получить от дерева поддержку, люди совершали различного рода обряды, в которых проявлялось поклонение ему и почитание его. Иногда ритуальные действа совершались вне дома, за пределами «домашнего» пространства. Люди шли в лес, в поле или к источникам, где росло почитаемое ими дерево или группа деревьев (священная роща, лес), которые могли служить предметом культа в течение многих лет или даже десятилетий: «…священное дерево, растущее возле источника, – явление едва ли не универсальное в религиозной практике» [337: 8].
Иногда культовое дерево срубали и использовали в праздничных процессиях, неся его впереди шествия. В результате само дерево погибало, но уверенность в том, что его использование, по существу «участие», в церемонии благотворно скажется на судьбе людей, побуждало из года в год повторять этот обряд. Умершее дерево, согласно верованиям, не теряло своих магических свойств и после окончания празднества – его увядшей листве и стволу приписывалась способность благотворно влиять на судьбу человека: излечивать больного, повышать урожайность зерна, плодородие скота и людей, охранять человека от опасности. Поэтому по окончании обряда использованное дерево сжигали, пепел развеивали по полю, а уголья употребляли для лечения людей и скотины. Как пишет Т. А. Агапкина, «дерево, его части и предметы из него широко используются в семейной, календарной, хозяйственной и окказиональной обрядности и магии, а также в народной медицине» [5: 60].
Культовое отношение к деревьям обычно связывалось с определенным праздничным сезоном. Так, например, египтяне в день зимнего солнцестояния украшали дома зелеными пальмовыми ветвями; римляне во время празднования сатурналий прикрепляли к ветвям деревьев зажженные свечи; то же самое в дни рождения «нового солнца» за 2000 лет до нашей эры делали и друиды – жрецы древних кельтов. В Европе в первый майский день был распространен обычай поклонения «майскому дереву» (высокому, ярко украшенному шесту), которое в конце праздника сжигалось. Грузины к 31 декабря заготавливали для очага грабовые дрова и «чичилаки» (толстые ветки мелкого орешника), служившие у них ритуальным новогодним деревом, символом изобилия. В Сванетии на Новый год в доме обычно устанавливалась березка. У других кавказских народов ель и береза (береза с орехом или ель с дубом), поставленные рядом, рассматривались как средоточие жизненных сил, воплощение символики оплодотворения – как соединение мужского и женского начал [см.: 406: 12]. Молодежь кавказских горских евреев ночью в первый день весны шла в лес на поиск «шам агажи» («дерева-свечки»), которое срубали, разводили из него костер, прыгали через него и при этом пели [см.: 507: 15].
У ряда европейских народов во время рождественского сезона издавна использовалось рождественское (или святочное) полено – громадный кусок дерева, колода или пень, которые зажигались в очаге в первый день Рождества и понемногу сгорали в течение двенадцати дней праздника. Согласно распространенному верованию, бережное хранение кусочка рождественского полена защищало дом от огня и молнии, обеспечивало семье обилие зерна и помогало скотине легко выносить потомство. В качестве рождественского полена использовались еловые или буковые деревья. У южных славян это так называемый бадняк (серб. – хорв. бадгъак) [см.: 454: 127–131], у скандинавов – juldlock, у французов – le bûche de Noёl (рождественский чурбан).
В Европе с языческим празднеством зимнего солнцестояния издавна была связана омела (кустарниковое растение, паразитирующее на ветвях других деревьев и имеющее зеленовато-белые плоды, которые появляются в середине зимы). Поклонение омеле известно со времен кельтов. Ее использование в качестве священного растения было характерно и для древних римлян (вспомним строки из стихов Иосифа Бродского: «Провинция справляет Рождество. / Дворец наместника увит омелой…» [60: 27]). Языческое происхождение поклонения омеле подтверждается тем, что христианские священники долгое время не разрешали вносить ее в церковь. Даже в наше время омелой (а также остролистом, плющом и хвоей) украшают по преимуществу жилые дома, в то время как «другой зеленью – падубом, плющом, самшитом – украшают как дома, так и церкви» [181: 86]. Только в Англии, где культ омелы особенно распространен, на Рождество ее вьющимися ветвями украшают и жилые дома, и церкви. В основании до сих пор существующего у англичан мистического отношения к омеле лежит идея вечной жизни [см.: 538: 230].
В космогонических мифах (то есть в мифах, объясняющих происхождение и устройство мира) у всех народов присутствует образ мирового дерева, «где оно рассматривается как опора, обеспечивающая стабильность миропорядка» [406: 12]. Организация мира свершилась благодаря превращению мирового дерева в космическую опору. В мифологических сказаниях оно всегда помещается в сакральном центре мира и занимает вертикальное положение, отчего вертикаль стала преобладающей чертой, определившей структуру вселенского пространства. В мировом дереве выделяются три составляющие его части: корни, ствол и ветви, каждая из которых соотносится с определенными мифологическими персонажами. С помощью мирового дерева, «воплощающего, – как отмечает В. Н. Топоров, – универсальную концепцию мира», описываются все его основные параметры [457: 398].
Одним из вариантов мирового дерева является древо жизни, главный смысл которого состоит в хранящейся в нем жизненной силе. В образе древа жизни отразились представления о библейском дереве, посаженном Богом среди рая, вкушение плодов которого дает человеку бессмертие. Противоположностью древа жизни стал образ древа познания добра и зла; съедание его плодов делает человека смертным, лишая его райского блаженства. Именно это и случилось с Адамом и Евой после того, как они, искушенные дьяволом, попробовали его плод: Бог прогнал их из рая, и в результате древо жизни стало для людей недоступным [см.: 337: 8–9]. Впоследствии оба эти дерева – древо жизни и древо познания добра и зла – соединились в одном мифологическом образе. В памятнике древнерусской письменности XVII века «Повести о Горе-Злочастии» Бог «запрещает вкушать плода виноградного от едемского древа великого». Тот же образ встречается и в других фольклорных и древнерусских текстах: в «Стихе о Голубиной книге», в апокрифах, в народных (лубочных) картинках. В Средние века шли жаркие споры о том, какой породы было райское древо познания добра и зла: одни называли яблоню, другие – апельсиновое дерево, третьи – виноградный куст. У германских народов считалось, что райским деревом была ель, которая со временем и превратилась у них в символ древа жизни. Райское древо, увешанное плодами, изображалось в священных книгах и на иконах. Из европейских средневековых мистерий, представляющих райскую жизнь, этот образ перешел в украинские, галицкие, польские и румынские колядки.
