Собрание сочинений в шести томах. Т. 6. Наука и просветительство
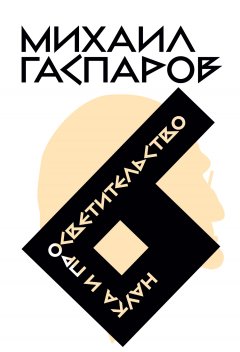
УДК 94(470+571)«19»(093.3)
ББК 83г
Г22
Редколлегия
Н. Автономова, М. Андреев, С. Гардзонио, Н. Гринцер, А. Зотова, О. Лекманов, И. Пильщиков, К. Поливанов (координатор проекта), Д. Сичинава, А. Устинов
Cоставление К. М. Поливанова, А. Б. Устинова
Михаил Леонович Гаспаров
Собрание сочинений в шести томах. Т.6: Наука и просветительство / Михаил Леонович Гаспаров. – М.: Новое литературное обозрение, 2023.
Первое посмертное собрание сочинений М. Л. Гаспарова (в шести томах) ставит своей задачей по возможности полно передать многогранность его научных интересов и представить основные направления его деятельности. Собранные в шестом – финальном – томе материалы знакомят нас с мыслями ученого о науке и людях в ней, о профессии и об исследовательских методах, о просветительстве и образовании, о месте филологии и вообще гуманитарного знания в нашей повседневной жизни. Том открывает книга «Записи и выписки», составленная Гаспаровым из фрагментов его записных книжек, дополненных воспоминаниями, письмами, ответами на анкеты и интервью. Статьи, рецензии, предисловия, заметки, программы и конспекты небольших лекционных курсов, мемуарные фрагменты, письма, анкеты и интервью, также включенные в том, в значительной степени дополняют эту книгу. Читатель – как будто изнутри, глазами одного из ярчайших ученых, одновременно филолога-классика, исследователя истории русской поэзии и стиховеда – сможет посмотреть на плодотворнейшую эпоху развития гуманитарного знания, которой оказались последние четыре десятилетия ХX века, представить логику исследовательской мысли, познакомиться с научными и литературными вкусами и предпочтениями М. Л. Гаспарова.
ISBN 978-5-4448-2310-4
© А. М. Зотова, 2023
© К. М. Поливанов, А. Б. Устинов, составление, 2023
© К. М. Поливанов, Д. В. Сичинава, статья, 2023
© Д. Черногаев, обложка, макет, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
РЫЦАРЬ ФИЛОЛОГИИ
ГАСПАРОВ О ЖИЗНИ, О ЛЮДЯХ, О НАУКЕ
Шестой том собрания сочинений М. Л. Гаспарова может показаться самым пестрым, но вовсе не следует полагать, что сюда просто собрано все, что не поместилось в предыдущие тома. Составители стремились не столько представить результаты трудов Гаспарова-ученого, сколько показать читателю самогó познающего Гаспарова.
Том открывает книга, сразу ставшая интеллектуальным бестселлером. «Записи и выписки» печатались сперва на страницах журнала, а затем, в 2000 году, были выпущены издательством «НЛО» как отдельное издание. Этой книге трудно подобрать точное жанровое определение, она, как и сам автор, многогранна и во многом парадоксальна. В значительной степени это коллекция заметок Гаспарова из его записных книжек, так что можно было бы говорить о прозе ученого, но – и, быть может, с не меньшим успехом – подошло бы к ней и определение «собрание верлибров». Тут, наверное, стоит вспомнить, что статьи, рецензии, заметки Михаила Леоновича всегда производили впечатление почти художественной прозы, при абсолютно строгой системе обстоятельного и доказательного научного рассуждения. Сам Гаспаров определял этот жанр как нечто традиционное, но в то же время можно увидеть в нем предтечу и едва ли не прообраз современных записей в «Фейсбуке», провоцирующих к комментариям и разнородным «лайкам». Это книга обо всем на свете: прежде всего, конечно, о слове, словесности и филологии, но также и о современности и древней истории, о языке и современниках, о политике и просвещении, об античности и постмодернистской поэзии, и, конечно, о людях, самых разных. Буквально каждый фрагмент книги все время провоцирует к соразмышлению.
В предисловии к первому изданию «Записей и выписок» Гаспаров писал:
У меня плохая память. Поэтому, когда мне хочется что-то запомнить, я стараюсь это записать. Запомнить мне обычно хочется то же, что старинным книжникам, которых я люблю: Элиану, Плутарху или Авлу Геллию, – интересные словесные выражения или интересные случаи из прошлого. Иногда дословно, иногда в пересказе; иногда с сокращенной ссылкой на источник, иногда – без. Сокращений я здесь не раскрывал: занимающимся историей они понятны, а остальным безразличны. Я не собирался это печатать, полагая, что интересующиеся и так это знают; но мне строго напомнили, что Аристотель сказал: известное известно немногим. Я прошу прощения у этих немногих.
Эти записи печатались в журнале «Новое литературное обозрение». Для книги я добавил к ним несколько статей на ненаучные темы – писанные по заказу, они тоже когда-то кого-то интересовали – и несколько экспериментальных стихотворных переводов, сделанных для себя.
Здесь, как и во всей книге, безусловно присутствует доля лукавства, несомненная игра с читателем, которому явно предлагается вспомнить о самых разных шутливых предисловиях, где авторы отчасти открывали свои карты, отчасти готовили к самого разного рода неожиданностям. То и дело присутствующая в книге ироничная игра совершенно не отменяет глубочайшей серьезности множества и коротких, и длинных фрагментов, составивших книгу.
Читатель вовлекается в игру всем наполнением и структурой книги: записи и выписки – длинные, короткие и совсем короткие – это цитаты из книг, воспоминаний, газет, архивных документов, отдельные слова и фразы из разговоров со знакомыми, их рассказы о чужих репликах (иногда бывает названо имя собеседника, иногда даются инициалы или одна буква), рядом могут оказываться и чисто филологические наблюдения, опять же иногда свои, иногда собеседников. Записям в книге даны заголовки, часто повторяющиеся («Жизнь», «Перевод», «Подтекст», «Заглавие», «История», «Престиж», «Предки», «Прогресс» – так озаглавлены многие записи), иногда уникальные («Зайцы и лягушки»); для других записей заглавием служит их первое слово. Некоторые записи и выписки включают и поясняющие реплики автора, которые тоже бывают и краткими, и развернутыми, но многое выписывается без комментариев. Какие-то записи целиком строятся как собственное наблюдение. Логику заглавия записей иногда бывает легко понять (как, например, в нескольких записях, названных «Подтекст»), а иногда читателю явно предлагается загадка.
Все записи расположены в четырех последовательностях, названных автором «От А до Я». (В первом издании алфавитный порядок касался только первых букв: так, после нескольких записей, озаглавленных «Любовь», шли несколько других, а затем еще несколько «Любовей», «Жизней», «Языков» и т. д. – сам этот «беспорядок», конечно, входил в состав игры с читателем, которую вел автор, во всех своих исследованиях всегда стремившийся к максимальной и ясно видимой упорядоченности.) Записи с одним и тем же заглавием помещаются часто в разных частях книги. Между четырьмя «алфавитами» Гаспаров поместил свои воспоминания «Моя мать», «Мой отец», «Война и эвакуация», «Школа», «Университет» и другие, об институте мировой литературы, где он много лет служил, о своих университетских профессорах, а также свои письма нескольким адресатам, ответы на разнообразные анкеты и интервью 1990‐х, статьи о переводе, стиховедении, античности, семиотике.
Замечательный книговед и редактор Аркадий Эммануилович Мильчин в книге «Как надо и как не надо делать книги. Культура издания в примерах» посвятил «Записям и выпискам» главу «Алфавитный беспорядок», упрекая издательство «НЛО» в том, что они не снабдили книгу алфавитным указателем вокабул:
Оригинальная книга М. Л. Гаспарова «Записи и выписки» (М., 2000) не может не восхищать любого читателя, способного ощутить интеллектуальную силу включенных в нее неординарных текстов.
К великому сожалению, эта прекрасно изданная книга, которую даже брать в руки приятно, подпорчена одним редакционным недоглядом.
Свои выписки автор оформил в виде словаря с вокабулами, расположенными по алфавиту в каждом из четырех блоков, одинаково названных «От А до Я». Внутри блока за статьями с заглавием на букву А следуют статьи с заглавием на букву Б, затем на букву В и т. д.
Однако если алфавитный порядок групп статей с заглавиями на одну начальную букву строго соблюден, то внутри каждой группы в расположении статей никакого порядка нет. Например, на с. 137–138 статья «Кукушка и петух» (с. 137) значительно опережает статьи «Катарсис» и «Канонизация» <…>. Да «Канонизация» и должна была бы предшествовать «Катарсису» <…>. И так по всей книге, во всех словарных блоках.
Правда, автор мог выбрать такое расположение вокабул на одну начальную букву вполне сознательно, исходя из замысла известного одному ему (например, по ассоциативной или иной связи между статьями). В конце концов, читать словарные блоки можно и подряд. Так что этим алфавитным беспорядком можно было бы пренебречь и даже не заметить его, если бы автор изредка не отсылал читателя от одной статьи к другой. Например, в первой статье «Коллективный труд» (их во втором словарном блоке две) содержится ссылка: см. также «Институт». В каком из блоков «словаря» нужно смотреть так озаглавленную статью, не указано. Приходится просматривать все статьи на И во всех четырех блоках. <…> Она нашлась только в четвертом блоке, причем между статьями «Исход» и «Извощичьи слова», то есть там, где, следуя алфавитному порядку, ее ожидать было нельзя1.
Собираясь напечатать вышеприведенные слова, Мильчин счел необходимым послать свои замечания Гаспарову и получил письмо, которое также опубликовал:
Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Я, действительно, очень виноват перед Вами и перед другими коллегами, которые серьезно относятся к книге «Записи и выписки», – я понимаю все указанные Вами трудности, потому что и мне самому при необходимости очень трудно найти в ней нужные места (поэтому, в частности, мне не удалось истребить в ней некоторые повторения). Но это были требования жанра – не научного, имитирующего домашность. Поэтому же и алфавит соблюдает только первую букву: моими образцами были Элиан, Авл Галлий (и Стобей), а досужие греки соблюдали алфавит только в первых буквах. Простите мою покорность жанру и поверьте, что я бесконечно тронут Вашим вниманием. Я тоже много редактировал в жизни, понимаю Ваши заботы и со вниманием читал Вас в НЛО. Всего Вам самого хорошего…
Весь Ваш М. Г.2
Конечно же, ответ Гаспарова написан не без лукавства, «кажущаяся беспорядочность» записей, безусловно, в высшей степени продуманная, читателю, как уже было сказано, не всегда легко разгадать логику, но в этом очевидно присутствует элемент авторской игры с нами. Про одно можно сказать с уверенностью. В одной из дарственных надписей на шестой странице первого издания под предисловием и рядом с картинкой зайца Михаил Леонович написал «от зайца познающего». Познающий – это тот, кому абсолютно все собранное в книгу очень интересно, а дальше, как искусный педагог и искусный писатель, он умеет сделать это интересным своим собеседникам и своим читателям.
Наверное, почти все, кому довелось встречать Гаспарова, помнят, как он доставал записную книжку и записывал услышанную фразу, слово, наблюдение, многим доводилось и слушать, как он эти записи читал собеседникам. Записные книжки велись на протяжении десятков лет. Биолог Борис Николаевич Головкин, учившийся с Михаилом Леоновичем в последних классах школы, рассказывал:
Он все заносил, как уже было сказано, в записные книжки своим мелким, убористым, очень четким почерком. Мы дарили ему эти книжки, потому что они очень быстро кончались. Он всегда носил их при себе в кармане. Причем тематика была самая разнообразная. Я не буду говорить, какой тематике были посвящены две книжки, которые у меня есть и которые я на память храню, потому что это детские книжки, касающиеся наших детских, условно говоря, игр. Но это тоже страшно интересно, потому что там есть некоторые такие пародии, я не знаю, на какой оригинал, вроде «Голубая кошка вышла на дорожку. Было удивительно, удивительно слишком. Кошка не знала, лето иль зима. Оранжевую мышку взяла она под мышку, и мышка подумала, не сошла ли она с ума». Вот такие были стихотворения. Потом были другие, более «взрослые» стихи3.
Вошедшие в том кроме «Записей и выписок» статьи, заметки, рецензии, предисловия, конспекты, интервью, письма – так же как и сама эта книга – о литературе и науке, об их сходствах и границах, о нужности филологической профессии, о месте филологии и филологов в окружающей жизни.
Включенные в том интервью и ответы на анкеты дополняют материалы, которые в «Записи и выписки» включил сам Гаспаров. В 1990‐е годы, которые, наверное, были едва ли не лучшим десятилетием в истории страны, даже не только в ХX веке, самые разные издания обращались к Михаилу Леоновичу с просьбой об интервью. Оценка происходящего здесь и теперь, казалось бы, кабинетным ученым, погруженным в такие специальные области знания, как классическая филология и стиховедение, оказалась востребованной. И это не удивительно. Гаспаров постоянно и внимательно читал газеты и журналы, следя за жизнью страны не менее внимательно, чем за современной поэзией. Он отлично чувствовал и точно и продуманно формулировал свои ответы (интервью никогда не бывали устными).
Как Сергей Сергеевич Аверинцев («филологов много, а Аверинцев был один» написал Гаспаров) называл филологию службой понимания, так Михаил Леонович сформулировал, что филология – служба общения. Именно здесь, по его мнению, одна из обязанностей филолога в самом широком смысле: переводы («переводчики – скоросшиватели времени»), языки, адаптация для современников культуры давнего и сравнительно недавнего прошлого. Вспомним, что одной из самых популярных книг Гаспарова оказалась «Занимательная Греция»4. Автор стремился максимально облегчить, сделать одновременно доступным и увлекательным далекое прошлое, которое в его книге ощущается как имеющее самое прямое отношение и к настоящему. Гаспаров ценил издания, помогающие читателю, он сетовал, что только два раза напечатали «Войну и мир», где в качестве оглавления даны сверхлапидарные характеристики каждой главки, что не делают популярных кратких переложений длинных текстов разных эпох прошлого. Нельзя требовать от общества, чтобы все были историками и филологами, говорил Гаспаров, но именно историки и филологи, занимающиеся реконструкцией прошлого, должны облегчать восприятие накопленного за столетия опыта, мягко советовать не делать крышу из того, что в прошлом служило фундаментом, и наоборот.
Гаспаров был оптимистом, он надеялся, что следующим поколениям доведется жить чуть легче. Чрезвычайно выразительны его оценки политического прошлого:
– Чем был ХX век в истории России – революция, культ личности, война, оттепель, перестройка, распад СССР, социально-политические и нравственные итоги?
– Был цепью причин и следствий. В начале века Россия торопливо индустриализировалась вслед Западу. Будучи нищей, она делала это на французские (и иные) займы. За это нужно было платить участием в непосильной войне 1914 года. Такая война неминуемо вела к революции. (Отчего бывают революции? Оттого, что всякому народному терпению бывает конец; а заметить этот конец заблаговременно власть не умела.) Если бы русская революция слилась с германской, как рассчитывал Ленин, то во главе мирового социализма стояла бы Германия на месте России, а в хвосте его Россия на месте Китая. Европу спасла Польша: сто лет русской власти родили в ней такую всенародную ненависть, что она нашла силу для отпора 1920 года. России осталось строить социализм в отдельно взятой нищей стране. Такой социализм (кажется, Ленин считал его «государственным капитализмом»?) мог обернуться только сталинским режимом. О Сталине лучше всего сказано в Британской энциклопедии: «он сделал Россию из страны сохи страной атомной бомбы, но он хотел управлять страной атомной бомбы так, как управлял страной сохи». Чтобы выйти из этого противоречия, понадобилась оттепель, перестройка и демократизация. А демократизация означает деколониализацию, то есть распад Союза. Россия и за ней СССР был колониальной империей, хотя колонии были и не заморскими; в Европе пик деколониализации был в 1960 году (со всеми тяжкими последствиями для колоний и для беженцев из колоний), у нас этот пик – сейчас: как всегда, Россия отстает ровно на одно поколение. Никаких итогов нет: цепь причин и следствий продолжается.
– Кто в наибольшей степени (со знаком плюс или минус) оказал воздействие на ход истории ХХ века?
– В мире – наверное, Эйнштейн; в Европе – к сожалению, Гитлер; в России – заведомо Ленин: без него бедствия России были бы иными.
Из анкеты для Литературного музея
Для Гаспарова было чрезвычайно важно представление о просвещении, в котором он видел едва ли не главную миссию филолога. Гаспаров писал, что потребность узнавать новое заложена в природе человека так же, как стремление к утолению голода и размножению. Он преподавал не очень много, но публикуемые в настоящем томе материалы конспектов, которые он предварительно раздавал своим слушателям, позволяют увидеть эту сторону его просветительской деятельности как будто немного «изнутри». В своих лекциях, так же как и в докладах и статьях, он всегда умел достигать фантастической ясности. Сергей Аркадьевич Иванов в небольшой сопроводительной заметке к интервью Гаспарова в журнале «Итоги»5 обращает внимание на то социально-политическое значение, которое обретала эта ясность:
Основным видом антикоммунистической фронды была для советских гуманитариев нарочитая усложненность. <…> Правящая идеология навязывала примитивную картину мира, элементарные мотивации, безвариантные объяснения – фрондерствующая гуманитария отвечала бесконечным умножением числа факторов, ходов и связей. <…> Михаил Леонович Гаспаров – один из немногих, кто шел в это время совершенно противоположным путем – путем предельной божественной ясности. И оказалось, что она столь же, если не более убийственна для режима. Помню свое первое впечатление от лекции Гаспарова в середине 1970‐х о каких-то строго академических вещах, но мой приятель шепнул мне: «Такое ощущение, что сейчас воронки приедут», – и я чувствовал то же самое. Работы Михаила Леоновича помимо того, о чем они рассказывали, несли другое важное послание, причем не исключаю, что помимо воли автора: они указывали на оборотную сторону официальной идеологии, на ее лукавое велеречие, на синдром «голого короля», на тайное порочное пристрастие к непроговоренности, непроясненности, смутности, смазанности и недодуманности6.
Сам Гаспаров о связи политической жизни и просвещения отвечал в уже цитированной анкете литературного музея в начале 1990‐х:
– Как события современной общественной жизни воздействуют на ваше творчество, внутреннее состояние и социальное поведение? Какие из них считаете важнейшими? Участвуете ли в партиях и движениях?
– Важнейшие события: оттепель, потом перестройка, теперь борьба за демократизацию. По ним вижу, как нужно России просвещение, и стараюсь для него делать, что могу. Но в экономике и политике я не специалист и партиям и движениям бесполезен.
Гаспаров неоднократно подчеркивал, как важно для человека найти свое место в жизни, для него это был прежде всего выбор профессии, в которой он достиг чрезвычайно многого. Исследования культуры, выраженной в слове (снова цитируем его слова), строились на убеждении, что «литература отвечает человеческой потребности в прекрасном». Профессию он и понимал как службу доступа к прекрасному.
В этом томе, пожалуй, больше, чем в других, составители не стремились к строгой структуризации материала, разместив его в духе не раз обсуждавшейся Гаспаровым античной «пестроты», «разнообразия» (ποικιλία). Именно этим духом, несомненно, проникнуты сами «Записи и выписки», а материалы, размещенные в нескольких разделах этого тома, по-разному перекликаются с первым текстом и друг с другом. Читатель встретит схожие пассажи в разных жанровых контекстах (часть таких случаев отмечена редакцией) и может проникнуть в творческую лабораторию ученого, следя за трансформацией текста на пути от записной книжки или конспекта лекции к публикациям.
ЗАПИСИ И ВЫПИСКИ
ЗАПИСИ И ВЫПИСКИ 7
Моей жене
Алевтине Михайловне Зотовой
с благодарностью за всю жизнь
и на всю жизнь
Первое издание этой книги вышло в 2000 году. Главная ее часть – это действительно выписки из записных книжек, накопившиеся за тридцать лет и оказавшиеся интересными не только для меня. В новом издании набор их значительно обновлен. Добавлены материалы мемуарного характера, сокращена специальная терминология, исключены некоторые сугубо лингвистические или литературоведческие понятия. Несколько изменена и композиция книги.
Я филолог-античник, образцами моими были такие писатели, как Элиан, Плутарх и Авл Геллий, которые любили коллекционировать интересные случаи, мысли и словесные выражения. Иногда дословно, иногда в пересказе; иногда с сокращенной ссылкой на источник, иногда без.
Эта книга не научное сочинение, поэтому я позволил себе опустить большинство точных ссылок на источники или вообще обойтись без них. Кавычки в таких случаях означают, что мысль принадлежит не мне, а где-то услышана или вычитана, но я нахожу ее интересной. Сокращений я не раскрывал: занимающимся историей и филологией они понятны, а остальным безразличны. Пусть читатель простит мне эти вольности.
М. Гаспаров
I. ОТ А ДО Я
У этой книги 200–300 авторов, из которых я выбрал фразы, показавшиеся мне справедливыми.
Стендаль
Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова.
О. Мандельштам
А «Если ты сказал А и видишь, что ошибся, то говорить Б не обязательно», – говорит персонаж у Брехта (кажется, в «Ja-Sager»). – Не надо делать культа даже из верности самому себе. Впрочем, еще раньше говорилось: сказав А, не будь Б.
Авария «Христианство, а потом раскольничество начинались в расчете на скорый конец света, а потом переходили на аварийный режим: это и был мораторий страшных судов».
Автопародия У Пушкина в «Оде Хвостову» стих «А ты глубок, игрив и разен» копирует собственное «К морю»: «Как ты, могущ, глубок и мрачен». А из стиха «Прощай, свободная стихия» получилось «Прощай, любезная калмычка»; из «И блеск, и тень, и говор волн» – «И блеск, и шум, и говор балов», а из «Твой грустный шум, твой шум призывный» – «Мой первый друг, мой друг бесценный». Редкое скопление реминисценций.
Автопародия («Онегин» как автопародия южных поэм и т. д.). Не казался ли Пушкину «Беппо» автопародией «Дон Жуана»?
Авторитарность Когда Бахтин пишет: «Тургенев не понимал, что такое настоящий роман», – это похоже на марксистское «Пугачев не понимал, что такое настоящая революция».
Ад Вл. Соловьев: «Государство существует не затем, чтобы создать на земле рай, а затем, чтобы не дать ей превратиться в ад».
Ад На обсуждении диссертации в отделе теории ИМЛИ было сказано: «Так как Блейк был порождением ада, то не следует изображать его вдохновителем английского романтизма». Мне показалось, что это всерьез.
Адам В начале XVIII века объявили, что нашли список сочинений Адама и среди них… «Всемирную историю».
Актуализация второстепенных значений слова, по Тынянову, – это все равно что читать книгу, при каждом слове вспоминая весь набор его значений из толкового словаря. Приблизительно так работают искатели подтекстов. А еще более современные вместо толкового словаря смотрят в «Мифы народов мира».
Акцент Н. Трубецкой говорил: идеи Марра становятся менее бредовыми, если читать его статьи с грузинским акцентом (а Э. Чансес говорила, что «Улисс» понятнее с ирландским акцентом). А. Долинин: «Набоков отгораживался от американской культуры: в магнитофоне у него британский акцент вперемежку с русским».
Анаграмма «Поиски анаграмм – художественная работа: нужно, чтобы после тебя уже нельзя было ее не заметить», – сказал О. Ронен (по поводу того, что «Анчар» – сублимация от «саранча», на которую его послал «князь» Воронцов).
Была детская игра: из букв длинного слова составлять короткие слова, кто больше составит. (М. Ю. Лотман говорил, что у них в школе такая игра называлась «словяга».) Сколько можно составить слов в четыре и более букв из слова «электростанция»? Более 200. Поэтому мне не казалось странным, что из любого четверостишия можно вычитать какую угодно анаграмму. Однако думалось, что не зря же этим увлекались большие ученые; хотелось проверить. В. С. Баевский написал мне, что готовит для блоковской конференции доклад об анаграммах у Вл. Соловьева. Я спросил: «По каким стихотворениям? хочу попробовать сам, а потом свериться». Он назвал. Я взялся за первое (не помню какое), стал высчитывать особо частотные буквы, и из них безоговорочно сложилось слово «масло». Тут я понял, что хоть анаграмма, может быть, и великое дело, но мне оно противопоказано. (Работа Баевского напечатана: сб. «Целостность художественного произведения и проблемы его анализа…», Донецк, 1977; ср. «Блоковский сб.», III.) Это была та самая конференция, где Тименчик сказал: «если наша жизнь не текст, то что же она такое?»
- кстати сказать
- сукин ты сын
- кто тебе сказал
- что ты
- текст?
Что анаграмма все-таки великое дело, меня обнадеживает Свифт, который в третьей части «Гулливера» уже издевался над этим методом; а Свифт гениально выбирал для издевательств только самые перспективные идеи во всех науках: всемирное тяготение, кибернетические машины, хлорофилл, мозговые полушария…
В детской книжке были головоломки: слова с переставленными буквами, восстановите слово – что такое «сляратюк»? «цинемаль»? «кечелов»? (кастрюля, мельница, человек).
Анакреон («А мне бы стать рубашкой, / Чтоб ты в меня оделась, / А мне бы стать водицей, / Чтоб мною ты умылась…») Ему подражала Цветаева: Штейгер был богат, но она купила и послала ему куртку с запиской: «Я хотела бы быть этой курткой» (С. Карлинский).
Ананас был нецензурным словом после одного манифеста около 1900 года, где абзац начинался: «А на нас Господь возложил…» (Ясинский).
Анекдот (одноклеточный, простейшая схема). Телефонный звонок: «Это номер такого-то?» – «Нет» (вариант: «У меня и телефона-то нет»). – «Тогда чего вы берете трубку?»
Анекдот Я сказал сыну: я – тот козел, которого в анекдоте вводят в тесную комнату, чтобы потом выгнать и людям стало бы легче. Сын, привыкший ко всему, сказал: «Никогда не мог подумать об этом с точки зрения козла!»
Анна Каренина «А ты трудись, я тебе помогу, вон Анна Каренина семь раз переписывала „Войну и мир“…» (Л. Рахманов). Естественно, потому что ритм имен одинаковый. Знаменитую хабаровскую железнодорожную станцию Ерофей Павлович я оплошно называл Ерофей Маркович (а собеседники мои – Ерофей Петрович).
Аполлон «Слог пиитический и аполлиноватый» хотел видеть в поэзии В. Тредиаковский.
Аристотель «Нехорошо читать опровержения Маймонида на Аристотеля, потому что человек засыпает над Аристотелем, не дочитав до опровержений». Эту хасидскую мудрость учитывали и при советской власти, но тоже непоследовательно.
Архаисты и новаторы Жуковский раздражал Тынянова тем, что был новатором, не будучи архаистом, а провинциал Тынянов ценил архаизм.
Архив Человек – точка пересечения социальных отношений. Вяземский об этом сказал: «Бог не дал мне фасы, а дал много профилей». Виднее всего это в архиве, где образ человека вырисовывается из писем к нему от разных лиц. Повесть об этом написал Апухтин. Человек в литературе – совокупность фрагментов, соответствующих этим отношениям. В традиционалистической литературе они располагались синхронистической мозаикой, в так называемой реалистической стали располагаться в диахронической перспективе: «Блажен, кто смолоду был молод…» и т. д.
Архипелаг «Жаботинский, как Гарибальди, представлял человечество архипелагом, где каждый народ – отдельный остров».
Архипелаг Э. Панофский писал: образованность немецкого студента – архипелаг цветущих островов, разъединенных безднами невежества; образованность американского – мощное сухое плоскогорье.
Ассигнации Щедрин писал в письме: «Говорят, будут продавать ассигнационную говядину, которая будет относиться к настоящей так же, как ассигнационный рубль к настоящему. Но если мы и дальше будем печатать ассигнационные стихи г-на Боровиковского, то журнал наш долго не продержится…» (цит. по памяти).
Аутентичность Набоков вносил изменения в свои поздние английские автопереводы и объявлял их самыми аутентичными, чтобы они быстрее нашли разноязычных переводчиков, чем если бы с русского. А. Н. Толстой переделывал «Гиперболоид» (и проч.) для каждого переиздания ровно настолько, чтобы получить гонорар как за новый текст. Когда планировали объем нового академического издания А. Толстого со всеми вариантами, об этом никто не подумал.
Афоризм «Мысли вприкуску» (источника не помню.) Жанр, в котором великие люди состоят при собственных изречениях.
Ахилл Издательская марка на книге: черепаха, а вокруг надпись: «Следом следует Ахилл».
Бабочки «Его эпитеты и метафоры, как бабочек, можно накалывать на булавки» (рец. на Набокова в «Современных записках»). В «Strong Opinions» Набоков отмечал, что бабочек коллекционировал Марат. Я вспомнил апокрифический херсонский сборник футуристов «Бабочки в колодце» / «Рыбочки в колодце».
Базаров Ю. Даниэль говорил: «Чем же плохо, что из человека будет лопух расти? Большой сочный лопух, которым прикроет голову от солнца красивая женщина». А Чуковскому в детстве мать сказала, когда он потерял ее рубль: «Что ж, подумай, как обрадуется тот, кто его найдет».
Башня «Не поэты, а публика живет в башне из слоновой кости», – цитирует Берберова Кл. Брукса.
Башня «По-французски – башня из слоновой кости, а по-русски – келья под елью», – переводил М. Осоргин.
Бедный «Упрощенность стихов Демьяна Бедного превзойдена лишь упрощенностью обычного изучения их» (из статьи о нем).
Бедный Слонима называли Мирским для бедных. «Для очень бедных», – поправлял Адамович.
«Безнаказанность – промежуток между преступлением и наказанием» (А. Бирс).
Безукоризненно Стихи харьковского поэта: «Хотел бы написать стихи я / Безукоризненно плохие, / Чтоб Раскин написал пародию / И тем прославился в народе я». В самом деле, какая редкость – безукоризненно плохие стихи! Впрочем, Ахматова говорила, что из каждого поэта можно отобрать книжечку безукоризненно плохих стихов. Подразумевала ли она исключение для себя?
Белесоватый Последние слова Тургенева: «Прощайте, мои милые, мои белесоватые». А у Толстого: «Не понимаю» (есть варианты). Ибсен, пролежав несколько лет в параличе, привстал, сказал: «Напротив!» – и умер. О. Люмьер, в 92 года (1954): «Моя пленка кончается». Кант: «Das ist gut». Ср. у Юшневского на могиле в Иркутске: «Мне хорошо. – Последние слова покойного». Наоборот, Ахматова, после камфоры: «Все-таки мне очень плохо». Н. Я. Мандельштам сиделке: «Да ты не бойся». Последние слова Эйнштейна остались неизвестны, потому что сиделка не понимала по-немецки.
Белка «Как живете?» – «Как все». – «Полоса черная, полоса белая?» – «Нет, пожалуй, колесо так быстро вертится, что они сливаются в очень серое».
Белка «Я готов быть белкой в колесе, но не в ста же колесах» (из письма).
Белые медведи И. Аксенов (в письме к С. Боброву): когда был у Пикассо, то сказал: «Что ж вы меня не спрашиваете о белых медведях, вы ведь полагаете, что они у нас по улицам бегают?» – «Нет, не полагаю, тогда бы их шкуры дешевле стоили; а то я хотел подарить одной даме, но цена – не подступишься! – И, помолчав, с надеждой: – Ну а волки-то хоть бегают?»
Белый Вера Станевич писала ему, что они с подругами на спиритическом сеансе вызвали его дух и он продиктовал им стихи [очень плохие]: «Люблю солнце, Шопэна, Пшибышевского и шоколад. Когда встречаю Вас на улице – восклицаю: это Андрей Белый!», – просила авторизовать. Потом приходила к нему под видом своей сестры, потом присылала открытку «22-го. Отчего? Вера» и т. д. (указано Н. А. Богомоловым). Это напомнило мне рассказ Нины Всеволодовны Завадской о том, как она познакомилась с Пастернаком: «на пари: „А вот слабо тебе позвонить Пастернаку, Шервинскому или Любошицу!“ – сказала Ксеня Коган; я тут же позвонила, сказала: „Я не могу сейчас объяснить, почему я вам звоню, но потом объясню“». Потом разминовывались; вернувшись из Марбурга, он сказал ей: «Знаете, боюсь, что вы опоздали… Выходите за Костю Локса, он очень хороший человек». Потом они дружили. Когда начинался дождь, Пастернак звонил ей, и они выходили гулять по Пречистенскому бульвару. Локсу был посвящен «Близнец в тучах», Поллукс – его анаграмма.
Сон в Петрозаводске . На букинистическом прилавке – книги: сборник Юнны Мориц, изданный за год до ее рождения; однотомник Мандельштама в изд. «Федерация», 1933, со статьей Тарасенкова, оранжевая серийная обложка, крупный шрифт, последнее стихотворение – «Держу пари, что я еще не умер…»; «Под сенью девушек в цвету», роман Милонии Пац, переплет желтый; П. Тычина, «Заметки о переводческом мастерстве: литературные курьезы, часть 3»; Ю. Герман, «Рассказы о майоре Г.», Л., «Сов. писатель», 1940. Я стою перед этим прилавком рядом с майором Г., он обменивается с продавцом непонятными словами о том, что, по моему разумению, должен знать и сам; а его вспомогательный лейтенант в это время за окном идет по следам неизвестного преступника, только что на наших глазах купившего в соседней лавке бидон керосину, чтобы поджечь в гавани шлюп «Диана», отправляющийся в кругосветное путешествие…
«Берберова не любила Пушкина». – «Несмотря на Ходасевича?» – «Именно из‐за Ходасевича. Она очень старалась идти в ногу со временем: даже Ходасевича не объявляла великим поэтом, пока к ней сами не потянулись интересующиеся. Но неприязнь к Пушкину была прочна» (разговор с Роненом).
Бердяева, Набокова и Камю сотрудница купила в селе Ночной Матюг близ Мариуполя. Был 1989 год. «Населенные пункты, названия которых можно произносить разве что в Государственной думе», – говорилось в фельетоне «Летописи» 1916 года.
Bildungsroman Считается, что развитие личности пришло в литературу с христианством: обращение преображало человека. Однако такое преображение было уже у Светония: приход к власти изменял Августа и Тита к лучшему, а Тиберия и Домициана к худшему. А есть ли развитие героя в «Гэндзи», где он все время движется по служебной лестнице и меняет имена-звания? («Римляне открыли понятие карьеры, – сказал В. Смирин, – афинянин к каждой новой должности шел от нуля, римлянин – от предыдущей должности».) Для Бахтина, конечно, нет; а для японца?
Благо А местный священник даже всенародно однажды выразился, что душа ее всегда с благопоспешением стремится к благоутешению ближнего, а десница никогда не оскудевает благоготовностью к благоукрашению храмов Божьих. Но Марья Петровна и сама знает, что она хорошая женщина (Салтыков-Щедрин).
Благо Во благоприсноувеселении и во всяких присноденственных благоключимствах с благопрозябшими от тебя чады твоими благодетельми моими во многочисленные веки здравствуй (письмо 1695 года из Азовского похода, «Русская старина», 1894, № 74, с. 247).
Благоутробие
- Повсюду зрятся новы домы,
- Благоутробием блюдомы…
Благоутробие «С цесарекралевским благоутробным дозволением» – подзаголовок в «Славеносербских ведомостях».
Близ Курс лекций «Античность в русской поэзии конца XIX – начала ХX века» приходилось начинать «Спором философов об изящном», а кончать «Древней историей по „Сатирикону“». Вся поэзия укладывалась в эти рамки. «Голливудская античность», – сказал завкафедрой. Пушкин написал: «Феб однажды у Адмета близ угрюмого Тайгета», и отсюда появился Тайгет у Мандельштама, хотя от Адмета до Тайгета – как от Архангельска до Керчи. («Ассоциация со словом „тайга“», – сказал О. Ронен.)
Бог «Пора не о человеке, а о Боге подумать». А ему это нужно? – тогда я готов. Но если бы я был Богом, я не хотел бы, чтобы обо мне думали. – Так рассуждал Эпикур.
Бог В кружке Н. Грота и Вл. Соловьева тайным голосованием решали, есть ли Бог; большинство было в один голос (Письма Вл. С.).
Бог В. В. Розанов одним и тем же инициалом обозначал Бога и Боборыкина.
Бог Добрая старушка, умирая, говорила: «Да будет вознагражден Господь Бог за его милости ко мне» (Вяземский, Старая записная книжка).
Бог Киплинг после «Recessional» боялся, что его поймут как проповедь мирной политики. Так Цветаева в «Бог прав <…> вставшим народом» сказала больше, чем хотела, и делала испуганную приписку, что понимать надо наоборот.
Боз Статья С. Куняева в «Слове», 1989, № 12, про Л. Войно-Ясенецкого, «окончившего свой путь в бозе и в звании архиепископа Крымского», – судя по маленькой букве, это не Бог, а что-то другое. В той же статье была фраза: «но в ответ, несмотря на новые времена, опять услышал постылые кивоки в прошлое» (с. 6).
Болезнь «Чтобы болезни не очень мешали работе, а работа болезням» (из новогоднего письма). «Болезни земли» Пастернака – от сентенции «У земли много болезней, одна из них – человек».
Брюсов Как критик Брюсов умел откликаться даже на книги, которых не было: «Вчера, сегодня и завтра…» (VI, 507): «как стихотворец решительно ниже себя во всех своих новых стихах был и А. Белый (Королевна и рыцари 1921, Первое свидание 1921, Зовы времен, Берлин, 1922, и др.)».
- Умер великий Брюсов,
- Но он оставил в жизни много плюсов.
Вера В «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина Редедя рассказывает о Египте: арабы верят в Аллаха, а феллахи – во что прикажут. Точно таково было государство и у Платона, и у св. Владимира.
Верблюд «Ulbandus Review», славистический журнал Колумбийского университета: заглавие – готское слово, которым Ульфила обозначал элефанта, а в славянском оно дало верблюда. К символике взаимопонимания России и Запада.
Верлибр «Гитара спасла русскую поэзию от верлибра», – сказал В. М. Смирин.
- Отец у танца – ритм, а мать его – работа;
- Работа, следственно, есть бабушка фокстрота.
Вийон А вдруг Вийонова прекрасная кабатчица, плачущая о молодости, вовсе никогда и не была прекрасной и это плач о том, чего не было? Так Мандельштам, по Жолковскому, пьет за военные астры, зная, что вина у него нет.
Вкус Не принимать плохое настроение за хороший вкус.
Вкус З. Гиппиус писала Адамовичу: «Сирина я, извините, не читала: отчасти по недостатку времени, отчасти из страха: а вдруг мне понравится? Понимайте это как знаете». Сам же Набоков (будто бы) считал первоклассными писателями Ильфа с Петровым, Зощенко и Олешу, а второсортными – Элиота и Паунда («Strong Opinions»). А в письмах хвалил Багрицкого и Сельвинского.
Власть Первым стихотворением Брюсова, которое я прочитал, было: «Власть, времени сильней, затаена / В рядах страниц, на полках библиотек…» Когда в «Мастерах перевода» выходил сборник Брюсова и нужно было название из автора, я предложил: «Власть, времени сильней». Б. Шуплецов сказал: «Нет, про власть не надо». Под стеклом на столе у него лежали фотография Солженицына и листок с надписью: «Моя дочь, уезжая, сказала: не могу жить в стране, где жестоко относятся к животным и к людям». Сборник озаглавили «Торжественный привет» – хотя это было из перевода французского стихотворения Тютчева, которое кончалось: «Торжественный привет идущих умирать».
Внешторг был при Петре I, ГПУ при Малюте, колхозы при Аракчееве, комсомольцы и выдвиженцы образовывали служилое сословие, а запрет на выезд был и при Грозном, и при Николае I.
Возведение в степень «Что отличает человека от животного? Being aware of being aware of being» (Набоков, «Strong Opinions»). Больше всего это похоже на парафразу Декарта у малоуважаемого Бирса: «Я мыслю, будто я мыслю, – стало быть, я мыслю, будто я существую».
- Ворону хвалит мир,
- Когда у ней во рту бывает сыр.
Возраст У внучки – кризис трехлетнего возраста. В Америке говорят «horrible two’s». Это Россия, как всегда, отстает: в онтогенезе как в филогенезе. (Впрочем, по мнению нынешних психологов, у детей нет года без кризиса.)
Война «Для Ленина, по Клаузевицу, политика – продолжение войны другими средствами» (М. Вишняк в «Современных записках»).
Война «Революция завершает неудачную войну, война удачную революцию».
Волость Modern parochial states, – выражался Тойнби; волостная великодержавность – вот чего хочется некоторым деятелям. (Журнал «Слово», 1989, № 12, с нападками на Сахарова, вышел через несколько дней после его смерти. «Они не знали, что управились и без них», – сказала А.)
Время В тюркских языках будто бы есть время: недостоверное прошлое.
Время Сабанеев, вспоминая башню Вяч. Иванова, удивленно писал: «…по-видимому, у всех нас было много свободного времени». Степун в «Современных записках» подтверждал: «У писателей, поэтов, публицистов, профессоров, присяжных поверенных и артистов было очень много свободного времени». М. Е. Грабарь-Пассек, дивясь толстым томам патрологии Миня, говорила: «Как только они успевали? впрочем, у них не было заседаний…» Я отвечал: «Зато какие долгие службы приходилось отстаивать!»
-вцы «Не случайно ведь толстовцы были, а достоевцев не было».
- Пророки сидели по тюрьмам.
- Саранча летела и села.
- Наступил экономический кризис.
- Тут вспомнили про мед и акриды.
- Пророков выпустили на волю.
- Их было три тысячи триста.
- Они говорили речи,
- Утоляя голод саранчою,
- А народ их трепетно слушал.
- Скоро кризис был ликвидирован,
- И пророков вернули в камеры.
Гадания К. вырезал из газетных объявлений слова, склеивал в непонятные фразы, приклеивал на стенах комнаты, из-под потолка висела стрелка на нитке, каждое утро он раскручивал ее и вдумывался в фразу (Белоусов. Литературная Москва).
Гален писал: старику вреднее всего молодая жена и хороший повар.
Гегель Сухово-Кобылин в старости не узнавал родственников, но о Гегеле говорил не сбиваясь (Измайлов).
Гений Моцарт говорил о Бомарше: «Он же гений, как ты да я», а Пастернак писал Д. П. Гордееву о Божидаре: «Он же ничтожество, как вы да я».
Герб Сын сказал: гербом Москвы был, собственно, не св. Георгий, а «московский ездец», без нимба, чтобы не сквернить святое государственным (сейчас чувства противоположны); потом, что меньше известно, обелиск Свободы на скобелевском месте; позже, в 1990‐м, среди проектов – памятник Долгорукому. «В девизе можно написать: свято место пусто не бывает», – сказал я. «Ленинградцы обидятся», – возразил сын.
«Гигес пораздумал и предпочел остаться в живых» – самая психологически богатая фраза Геродота (I, 11).
Голова Выписка Эйзенштейна из Гране: в Китае человек называет свой рост только по плечи, потому что на плечах поклажа, а голова солдату не нужна.
Горло Е. В. А. заметила, что из‐за отвычки от русских разговоров у нее болит горло, а когда привыкала к французскому языку, болели лицевые мышцы.
Грех Она же спрашивала знакомого священника (библиографа по призванию), с какими грехами люди приходят на исповедь. Он ответил: «Один сказал: накричал на канарейку». Это или святой, или, наоборот, великий грешник, предпочитающий вспоминать пустяк, а не затаенное (от себя же) былое душегубство.
Грех «А какой самый большой грех, по-вашему? – Самосовершенствование, – сказал гнутый, – без боли другому не обходится» (Ремизов. Мартын Задека).
Гроб В Китае на гробовых лавках написано: «Товар долговечности» (В. Алексеев).
Грудь Смерть спасла Гумилева от участи Брюсова, которому кусали грудь оттого, что зубки выросли. «„Памятник“ Брюсова напоминает мне памятник Скобелеву», – писал И. Аксенов С. Боброву.
Гусиные перья: ими писали еще Клемансо и Анатоль Франс.
Да «„Да!“ – сказала она с мукой. – „Нет!“ – возразил он с содроганием. – Вот и весь ваш Достоевский!» – говорил Бунин Адамовичу. О. Ронен сказал: «Вы думаете, Набоков написал „Дар“ ради Чернышевского? Ему интересно было, почему вся Россия любила убогого Чернышевского, чтобы понять, почему вся Европа любит убогого Достоевского». (А потом в свой решающий момент Набоков сам воспользовался приемом Достоевского. В русской эмиграции он был элитарный писатель, а в Америке такой элитарностью никого было не удивить. Тогда, подобно тому как Достоевский взял криминальный роман и нагрузил психологией, Набоков взял порнографический роман и нагрузил психологией; получились «Лолита» и слава.)
Дальтонизм Николай I не различал некоторых цветов: на чертеже он спутал Днепр с шоссе, а Клейнмихель за это кричал на инженеров.
Дата К. Пигарев доказывал, что такое-то стихотворение Тютчева написано летом, потому что в нем описано лето. Хотя Фет, по точным датам, писал о весне в январе, а у Ахматовой «Мартовская элегия» написана в феврале.
Двадцать Жирмунский говорил, задумавшись среди лекции: «через двадцать лет пошлость становится стилем». Хочется добавить: а стиль пошлостью. Таков сейчас сталинский соц-арт.
Дворянство Гете: его «уездная жизнь предводителя литературного дворянства» (выражение Алданова).
Дебелые хозяйства немцев-колонистов. А ведь сначала Потемкин хотел было заселять Новороссию импортными английскими каторжниками (Кизеветтер).
14 декабря После первого залпа на Сенатской площади было странно тихо: с близкого расстояния картечь поражала смертельно, без стона (свидетельство современников).
«Дележ бывает опасен: вот если бы св. Мартин разрубил не плащ, а штаны…» – сказал И. О.
Дети Анахарсис на вопрос, почему не заводит детей, сказал: из любви к детям (Стобей, III, 120).
Дети З. Гиппиус писала в 1924 году, что кроме отцов и детей всегда есть дядья и племянники – не детьми же были Блок и Белый Брюсову и Бальмонту, а Есенин с Маяковским – Блоку. Марину Цветаеву Бальмонт называл своей литературной падчерицей.
Дети М. Цветаева (по Белкиной, с. 322): вначале дети родителей любят, потом дети родителей судят, потом они им прощают. Это она повторяет сентенцию Тэна (заметил К. Душенко), переиначенную потом Уайльдом.
Дети Меншиков говорил о Клейнмихеле: достроенный Исаакиевский собор мы не увидим, но дети увидят, мост через Неву мы увидим, но дети не увидят, а железную дорогу – ни мы, ни дети (Вяземский).
Дети Отцу новорожденного дают каши перловой с горчицею, перцем, хреном, солью, уксусом по ложке под сахаром, чтобы несколько помучился, как роженица (А. Терещенко. Быт русского народа). Родители крещаемого не присутствуют при крещении. «Почему?» – спросил некто. «Должно быть, чтобы совесть не зазрила», – отвечал священник (Вяземский).
Дети У А. Б. Куракина от разных любовниц было их около 70 (Рус. Старина, № 61, с. 213). Филарет за это отказался от похвального слова над ним.
Диалектика «Так как НН был диалектиком, т. е. хорошо понимал разницу между трупом и не-трупом, то он побежал по улице зигзагами и пригибаясь» (С. Бобров. Восстание мизантропов). Моя десятилетняя дочь, услышав это, сказала: «Неправда, при мизантропах ружей не было». Она имела в виду питекантропов. Декан филфака в Киеве имел прозвище Псевдантроп.
Диалог – быстрые обмены ролями между камнем и скульптором: то я его – долотом, то он меня – долотом.
Диалог со студентом: он распускает хвост, я подставляю ему зеркало.
Диалог Для меня в диалоге межсубъектного нет: я в диалоге только быстро меняюсь из субъекта в объект и обратно. При этом я – субъект, когда слушаю и от этого преобразовываюсь, а не когда говорю и влияю. Так же можно преобразовываться и в общении с камнем или «уважаемым шкафом».
Диалог Книги А. Зиновьева – образцовая модернизация жанра платоновского диалога. Как она непохожа на то, что под этим имел в виду Бахтин.
Дисциплина партийная. Когда Якобсона спрашивали: кто пять лучших поэтов после Блока? – он говорил: «Хлебников, Маяковский, Мандельштам, Пастернак, – а
