Василий Пушкарёв. Правильной дорогой в обход
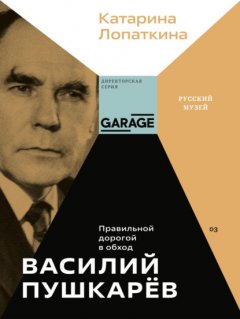
ДИРЕКТОРСКАЯ СЕРИЯ
© Музей современного искусства «Гараж», 2023
© Катарина Лопаткина, текст, 2023
© Наталья Шендрик, макет, 2023
«Русского музея хозяин»
При поиске сведений о Василии Алексеевиче Пушкарёве – советском искусствоведе и директоре Русского музея в 1951–1977 годах – одним из первых встречается слово «хозяин». Эта характеристика накрепко пристала к человеку, четверть века проработавшему в государственному музее и всю жизнь прожившему в стране, где собственность, в основном и по большей части, была государственной. Пристала, судя по всему, быстро. В ноябре 1965 года в газете «Советская Россия»1 была опубликована статья, которая так и называлась – «Русского музея хозяин»2. В тексте описывалась и прошлая, и актуальная (на тот момент) деятельность предприимчивого ленинградского директора. Отмечались его труды по собирательству икон, в самом начале которых в 1950-е годы «Пушкарёву приходилось действовать на свой страх и риск». Говорилось о внимании к работам классиков русского искусства («увозил к себе произведения Голубкиной, а сколько волнений было с приобретением работ Эрьзи, Рериха, чьи работы были не в чести»). Подчеркивался интерес к современным авторам («Василия Алексеевича можно увидеть в мастерских молодых московских и ленинградских художников, и не случайно лучшие произведения Конёнкова, Пластова, Моисеенко, Аникушина, Стамова, Игнатьева, Чуйкова находятся в Русском музее»). Из статьи становится очевидно, что «хозяин» – это, прежде всего, собиратель.
Через сорок лет после выхода этой заметки искусствовед Михаил Герман в своей книге «Сложное прошедшее» (2006) излагает биографию Пушкарёва в несколько иной тональности, но приходит к тем же выводам: «Василий Алексеевич Пушкарёв … был подлинным героем пятидесятых. После демобилизации его – партийца и потенциального идеологического лидера – зачислили в аспирантуру академии, имея в виду, что готовят именно директора Русского музея. После защиты диссертации он почти не писал, только предисловия у официальных альбомов. Исповедовал достаточно реакционные взгляды и, если верить рассказам сотрудников, не стесняясь говорил: «В Русском музее должны работать только русские люди». В Союзе художников бичевал формалистов и кадил соцреализму. И вместе с тем был, что называется, «не так прост, как казался». Не знаю, в самом ли деле он любил и чувствовал запретный тогда авангард или просто, будучи человеком умным, действовал, так сказать, на множество ходов вперед. Но, воспевая на официальных «форумах» официальные идеи, безжалостно критикуя либеральных своих коллег, особенно угнетенных «пятым пунктом»3, он последовательно сохранял собрание начала 1920-х годов, по возможности множил его, старался не давать его на слишком заметные заграничные выставки и уж тем более оберегал от желания высшего начальства подарить иные картины Малевича или Татлина каким-нибудь иностранным друзьям очередного генсека»4. Что ж – сам Пушкарёв свое профессиональное кредо в итоге уместил в чеканное: «собрать и безусловно сохранить»5.
Выставок тоже было сделано немало: за годы его директорства их состоялось около двухсот. Некоторые приходилось делать вне зависимости от личных симпатий или антипатий (выставки Евгения Вучетича, 1959 и Владимира Серова, 1964), другие же становились по-настоящему революционными. В марте 1966 года в Русском музее открылась персональная выставка Кузьмы Петрова-Водкина – первая за долгие годы выставка авангардного художника. «Пожалуй, – вспоминал Пушкарёв, – ни одна выставка не пользовалась таким бешеным успехом. <…> Все поздравляли Русский музей с возвращением одного из лучших советских живописцев. И странно, не было ни одного начальственного окрика, выражения неудовольствия. Министерское руководство, Академия художеств, руководство Союзами художников – все вели себя так, как будто ничего выдающегося не случилось. А в Русский музей на выставку началось буквально паломничество! Не будучи уверены, что выставка откроется в столице, москвичи хлынули в Ленинград. Целыми группами ехали московские художники, искусствоведы, деятели культуры, чтобы посмотреть эту экспозицию, это чудо»!6 В Лектории Русского музея была прочитана первая публичная лекция о творчестве Петрова-Водкина, на которую билеты спрашивали уже при выходе из метро на Невском проспекте. «Полгода Русский музей держал эту выставку в своих залах, ждал, пока Третьяковская галерея наберется смелости и откроет её у себя. Это нужно было для полной реабилитации мастера»7.
Выставка Петрова-Водкина стала «блокбастером» Русского музея – на ней были показаны 164 живописные работы и 127 листов акварелей и рисунков, а также гравюры и эскизы декораций. Запрос на авангард в обществе был огромным и такой масштабный показ, конечно, не мог остаться незамеченным. Но состоялась она почти случайно – благодаря административным талантам Василия Пушкарёва. В 1964 году исполнялось 25 лет со дня смерти Кузьмы Петрова-Водкина, и Правление московского Дома литераторов решилось организовать его выставку. С письмом-запросом на выдачу произведений в Русский музей обратился Константин Симонов8. Лауреат шести Сталинских премий, Секретарь Союза писателей СССР, Симонов был исключительно влиятельным человеком – отказать ему было невозможно. В статье «Выставка, которой могло не быть»9 Пушкарёв вспоминает и с восторгом (но очень скрупулезно!) описывает все хитросплетения организации этого проекта, приводя последовательно свою переписку с Министерством культуры СССР по этому поводу. Если кратко резюмировать: обратившись в Министерство «через голову» Симонова, Пушкарёв расставил своему руководству ловушку. Он написал, что Русский музей выдаст картины в Центральный дом литераторов только после собственной выставки – как бы поставив таким образом министерство перед фактом её проведения. «Афера» Пушкарёва сработала – и наилучшим образом, Министерство культуры СССР не усмотрело за всем этим ничего криминального. В итоге небольшая выставка – всего четыре живописных произведения – была открыта в Москве в марте 1965. Первая большая советская ретроспектива Петрова-Водкина в ленинградском Русском музее прошла в марте 1966 и в сентябре этого же года в Москве, в Третьяковской галерее. А затем в 1967 году – в несколько сокращенном виде – в Чехословакии, Румынии, Болгарии и Польше. «Петров-Водкин из полузабытого живописца предстал явлением мирового масштаба», – резюмировал Пушкарёв10.
Пушкарёв стремился «ввести» Петрова-Водкина и в постоянную экспозицию советской живописи. В отделе советского искусства с момента приобретения музеем в 1935 году находилось лишь одно полотно мастера – «1919 год. Тревога» (1934). Но при генеральной реэкспозиции 1962 и 1965 годов в постоянную экспозицию была включена картина «Смерть комиссара» (1928), которую Пушкарёв в 1962 году смог получить из запасников Центрального музея Вооружённых сил СССР, где она «пылилась» практически с момента своего создания. «В 1962 году, – вспоминал Пушкарёв, – музей выбраковывал ненужные ему картины, в числе которых оказалась и картина «Смерть комиссара». Думалось, что её можно получить сравнительно легко. Но не тут-то было. Начальник управления ИЗО Министерства культуры РСФСР тов. Тарасов категорически воспротивился этому именно из-за того, что картина принадлежала кисти Петрова-Водкина. Пришлось долго доказывать, буквально выворачиваясь наизнанку, что в Русском музее нет тематических картин, что нужен нам не Петров-Водкин, а сюжет – смерть комиссара, что это имеет идеологическое значение, что картина воспитывает советский патриотизм и так далее в том же духе. Под напором таких доводов Тарасов сдался и картину, наряду с другими вещами из того же музея, передали Русскому музею»11.
