Виланд
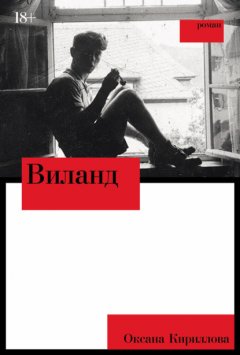
Редактор Вера Копылова
Издатель Павел Подкосов
Главный редактор Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта Мария Ведюшкина
Ассистент редакции Мария Короченская
Художественное оформление и макет Юрий Буга
Корректоры Елена Барановская, Ольга Смирнова
Компьютерная верстка Максим Поташкин
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© О. Кириллова, 2024
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
Пролог
…И опустошители твои будут опустошены…
КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ, 30:16
Апрель, 1943
Из запроса компании «Байер» в административное управление Аушвица: «…Стоит отметить, что партия из 150 женщин прибыла в хорошем состоянии. Однако нам не удалось получить заключительные результаты, потому что все они скончались во время испытаний. Любезно просим вас прислать еще одну группу женщин, в таком же количестве и по такой же цене (то есть 170 рейхсмарок за каждую). С уважением…»
Из телеграммы в Главное управление имперской безопасности, отдел IV B-4, Берлин, от 10.07.1942: «…Аресты евреев без гражданства в Париже будут проведены французской полицией с 10.7 по 18.7.42. Можно ожидать, что после этих арестов останется около 42 000 еврейских детей. Для этих детей изначально предусмотрена общественная помощь во Франции. Однако поскольку длительное совместное пребывание этих еврейских детей с нееврейскими нежелательно, а Союз французских евреев может разместить в своих приютах не более 400 детей, прошу срочно сообщить по телеграфу ваше решение: можно ли, начиная примерно с 10-го эшелона, отправлять вместе с подлежащими выдворению евреями без гражданства и их детей. Отмечу, что премьер-министр Пьер Лаваль лично выступил с предложением депортации детей, не достигших шестнадцати лет.
Гауптштурмфюрер СС Даннекер. Париж».
Хайфа, август, 1960. Допрос
Капитан полиции Авнер Лесс. Когда концентрационные лагеря отправляли в Главное управление имперской безопасности отчеты об умерших, разве они не должны были попадать и к вам, если там были евреи?
Подсудимый Э. По евреям этого не делали. Когда вначале были приказы об отдельных экзекуциях, тогда, конечно, были личные дела, а когда пошли уже списки, это стало уже… массовое дело. У нас списков не было. Я думаю, что такой… поименный список вряд ли… Зачем центральной инстанции отдельные имена? Нам бы понадобились для этого отдельные папки, целые шкафы, чтобы вместить поименные списки… Понимаете?
Октябрь, 1962
Из частной переписки: «…бывшая узница Езерская. Она уже помогала комиссии, если ты помнишь. Неизвестно, она знала или указала наобум, но на территории третьего крематория по ее наводке была обнаружена очередная уникальная находка. Банка была прикопана всего-то сантиметров на двадцать. Удивительно, как ее не нашли местные, когда перерывали тут все в поисках мифического еврейского золота. Не знаю, в курсе ли ты, но после официального закрытия лагеря поляки из окрестных деревень устроили здесь настоящий золотой прииск со всеми вытекающими. Они копали землю рядом с крематориями Биркенау и промывали ее в огромных мисках, говорят, кто-то даже нашел золотой зуб да пару монет, но по большей части намывали только человеческие кости. Ума не приложу, что чувствовали эти кладбищенские гиены, копаясь в могиле, в которой упокоились миллионы. Возвращаясь к нашей находке – вот что действительно на вес золота! Хорошо, что ее догадались обернуть в листовое железо, иначе треснула бы. Внутри, дружочек мой, были листы – небольшие, сантиметров десять на пятнадцать, очевидно, блокнот для записей, – соединены скрепкой, которая от времени проржавела настолько, что нам стоило большого труда отделить ее от бумаги, не повредив сами листы. Они плотно исписаны с двух сторон, и каждое слово для нас имеет невероятную ценность, сам понимаешь. По моим прогнозам, расшифровать удастся меньше половины, бумага сохранилась не лучшим образом. Но самое ужасное (о чем, кстати, предупреждал Томаш, когда мы удаляли скрепку), мы умудрились перепутать все листы, а они без нумерации. Теперь предстоит долгая и кропотливая реконструкция. У меня было не так много времени для изучения, только беглый осмотр, пока лишь могу сказать, что все на идиш, за исключением одной страницы, она на польском, но именно она содержит важные данные касательно евреев, отправленных в газ в октябре сорок четвертого…»
Ноябрь, 1980
Из стенгазеты Лесного техникума города Бринке: «…наш ученик Леслав Дурщ. Эту уникальную находку он обнаружил во время раскорчевки местности недалеко от руин третьего крематория. Рукопись находилась в стеклянной колбе от термоса, закупоренной пластмассовой пробкой. По сравнению с предыдущими находками эта скромнее – всего тринадцать страниц, но ее нужно выделить особо, она написана не на польском или идиш, а на греческом языке! Несмотря на пробку, грунтовые воды все же сумели просочиться внутрь колбы, повредив листы, однако отдельные фразы поддаются расшифровке, и они поражают своим оптимизмом, силой веры и мужества этого греческого узника: "Каждый день задумываемся над тем, есть ли еще Бог, и, несмотря ни на что, я верю, что Он есть и что все, чего Он хочет, есть Его воля… Я не о том жалею, что умираю, а о том, что не смогу отомстить так, как я этого хочу и как могу". Остается только догадываться…»
Август, 1961
Из газетной заметки: «…бывший электрик, обслуживавший крематории Биркенау (Аушвиц II). Он сумел указать точное место одного из так называемых схронов зондеркоманды. Бумага, исписанная на идиш, отсырела и потемнела от времени, но музейный реставратор заверил, что больше пятидесяти процентов текста возможно восстановить. Расшифровка найденных записок ведется, но уже сейчас можно сказать, что эти триста сорок восемь листов являются бесценной находкой для истории. По свидетельству Порембского, таких схронов на территории крематориев не меньше сорока. В этом же тайнике найдены остатки человеческого пепла и перемолотых костей…»
Сколько же они насовали в тот пепел? Как было уследить? Чего они хотели? Чтобы мир услышал, чтобы мир узнал? Утописты-трупоносы. Вы не нужны были миру тогда и утомили его своим плачем сегодня. А впрочем, копайте, копайте, ройтесь в пепле памяти, дышите им, не только мне задыхаться тем пеплом. Сомневаюсь, что вам нужна та правда, – половина ворошит эти останки, надеясь найти многострадальное еврейское золото. Ищите, ищите – не обрящете, все отдано за пайку. Нет там ничего, кроме их плача на бумаге. Да разве он вам нужен? Он мне больше нужен, мне, тому, кто убивал. Я с ними буду плакать.
Помню грека одного, сокрушался, что не может отомстить за себя и за весь народ свой. Жалел об этом. А я все думал после, когда и грека того уже не стало: а если невозможность совершить то мщение была благостным проявлением Божественного вмешательства? Меня Он лишил подобной благости, не услышал, как я молил Его об этом: «Избави меня от необходимости отбирать жизнь у себе подобных…» Он услышал лишь ваши молитвы, грек: «Избави меня от необходимости отбирать жизнь у себе подобных. Оставь это тем, кого Ты не возлюбил, Господи…»
Май, 1985
– Дора-Дора-помидора!
Звонкий детский голосок располосовал больничную тишину. Кажется, это была девочка. Хохотнув, она продолжила кого-то дразнить:
– Дора-Дора-помидора…
Кто-то шикнул на нее, и она резко замолчала. Послышались удаляющиеся шаги.
– Дора-Дора-помидора, – тихо повторил хриплый старческий голос, помолчал, затем еще тише, словно пытался распробовать слова на вкус: – Дора-Дора-Миттельбау… – Совершенно никаких эмоций, высохший, мертвый голос. Мой голос.
Я с трудом повернул голову и уперся взглядом в стену. На ней висела современная карта Европы. Кто додумался? Черточки, деления, штрихи, границы, мне непонятные и тяжелые. Вот здесь, в центре Германии, недалеко от Веймара, я вижу красную точку – это Бухенвальд. Точно такая же точка рядом с Мюнхеном – Дахау. Мой Дахау. Взгляд пополз выше – Флоссенбюрг, ад в аду Дора-Миттельбау, наш последний главный лагерь, там, где были похоронены глубоко под землей еще дышавшие и работавшие, затем еще выше к Гамбургу – Нойенгамме и Берген-Бельзен – лицемерная патология в концлагерной системе, там, где не уничтожали всех подряд, но хранили на продажу, на возможный обмен за наши никчемные жизни. Взгляд переместился в долину Рура – небольшой Нидерхаген, да, совсем небольшой, другое дело близ Берлина – Заксенхаузен, который я по привычке называю Ораниенбург. Тут же близко Равенсбрюк, приют слабых душ. Я перепрыгнул взглядом через нелепую границу в Австрию – и я уже в Маутхаузене с его филиалами, Гузеном и Эбензее. Теперь я в Чехии на берегу реки Огрже – здесь Терезиенштадт. Еще один прыжок во Францию – Нацвайлер, в Голландию – Герцогенбуш, в Югославию – Лойбл-Пасс. Еще одна невидимая граница, и я в Прибалтике – Кайзервальд, шикарный курорт, ставший транзитным адом в сорок третьем. Оттуда я направился на северо-восток, в поселок Вайвара, где лагерь вырос за несколько недель. Окидываю взглядом его про́клятый спутник Клоогу. Ими про́клятый. Ими, погибавшими там в нечеловеческих условиях на добыче сланца и торфа. Сколько их там, похороненных заживо в болотах? Захлебнувшихся, упокоенных в так необходимом нам торфе. На карте нет цифр. Вайвара, Вайвара – как имя звонкой прыткой девушки с толстыми косами, налитой, полнотелой, мягонькой, кровь с молоком. Но таких там не было, были изможденные существа, не мужчины и не женщины, что-то страшное, затаившееся на пути от женского к мужскому. Ползу взглядом обратно, ниже, по невидимому рейхскомиссариату Остланд. Там, в Каунасе, – третий прибалтийский узел смерти, вылупившийся из местного гетто. Сланцевые рабы, болотные мученики. Я двигаюсь дальше, в Польшу, – Майданек на окраине Люблина, пропитавшийся кровью восемнадцати тысяч человек за один день. Восемнадцать тысяч за один день – кровавыми пара́ми был напоен воздух всего Генерал-губернаторства[1]. И раненые рыдали и выли под телами мертвых, и венский вальс разносился из громкоговорителя с ними в унисон. И стих последний аккорд с последним выстрелом, и уснул последний узник, и полился шнапс рекой. Одни спали вечным сном, а другие упивались, будучи давно пьяными от кровавых испарений, мутивших больной разум. В бреду я бреду дальше, в Штуттгоф под Данцигом – поставщик рабских рук для немецких поселений в Западной Пруссии. Далее Гросс-Розен, Плашов, трудовой поначалу, но также не избежавший всеобщей участи. Весной сорок четвертого и его обитатели переоделись в концентрационные полосатые робы и провалились в пучину террора. Мы успели. Успели и здесь устроить ад. Я двигаюсь в следующие его круги – лагеря Глобочника: Собибор, Треблинка, Бельзен и, наконец, он… Аушвиц, моя боль, мое проклятие… Я вижу не только главные лагеря, я вижу десятки их спутников. «Моя» карта испещрена точками, нет живого места на теле Европы. Ничего живого не осталось. Господи, почему никто из них не видит этих кровавых точек? Снимите ее, проклятую…
Я медленно закрыл глаза.
Когда я открыл их снова, точек на карте не было. Они были у меня в голове. В моей памяти, которая никак не желала прогнуться под натиском старческого маразма. Как же я завидую старикам, жалующимся, что «память уже не та». Я помню. Я все помню. Память – самое тяжелое наказание, на какое можно обречь человека. И, вопреки всеобщему заблуждению, забыть, увы, гораздо сложнее, чем хранить в голове ясно и отчетливо. Кому-то страшно жить воспоминаниями, потому как это значит, что ты уже одной ногой в могиле, но много страшнее, когда твои воспоминания такие… Лай сторожевых собак и крики заключенных не дают мне спать. Я хочу спать. Господи, как же я хочу спать. Без снов.
Я повернул голову, на тумбочке лежала газета. На первой странице была статья, посвященная двадцатилетней годовщине окончания репарационных выплат Израилю. Покаянная, как и следовало ожидать.
Мне вдруг стало тяжело дышать. Воздух проходил в легкие мелкими порциями и не насыщал. Кажется, я захрипел. Нащупав на столике колокольчик, я попытался позвонить, но руки не слушались. Колокольчик выпал и укатился под кровать. В ту же минуту в палату вошла дежурная медсестра. Я посмотрел на нее долгим вымученным взглядом. Кажется, из новеньких. Раньше я ее не видел.
Очевидно, выглядел я отвратительно – она испуганно кинулась ко мне и начала щупать пульс. Я с трудом вырвал руку и положил ее на тяжело вздымающуюся грудь. Она тут же приложила к моему лицу маску. Дыхание восстановилось, и я уже сам отнял маску.
– Новенькая?
Она кивнула, поправляя на мне одеяло.
– Как зовут?
– Ривка, – коротко ответила она.
Губы мои сами собой разъехались в улыбке.
– А что, Ривка, мы с вами окончательно расплатились? Читала, во сколько сребреников вы оценили шесть миллионов своих?
На кой черт я назвал эту цифру, когда до сих пор не знаю, к какому количеству причастны мои руки? Да и как можно посчитать? Пытались, конечно. От Хёсса я слышал, помнится, предположение в три миллиона, но это до суда, а на суде в Варшаве он, конечно, был скромнее – миллион, хотя и деление на три его не спасло. Повесили. Русские утверждали, что четыре миллиона, в Нюрнберге – пять миллионов семьсот тысяч, евреи кричали о шести. Выходит, повторяю за евреями. Не впервой, с избранностью тоже плагиат вышел. Точно я знаю лишь одно число – выбитое на руке. С ним и буду умирать.
Ривка проигнорировала мой вопрос. Я продолжил:
– Ривка-еврейка, тебе в самом деле нравится ухаживать за стариком и подтирать за ним говно?
Мне до осточертения надоела эта палата. Я подозревал, что скорее сдохну здесь от скуки, нежели от язвы, никак не желавшей меня кончать, и я хватался за любую возможность развлечься, пусть даже таким низким способом.
– Ривка-еврейка, – повторил я, наслаждаясь едва сдерживаемым гневом девушки.
– Слушайте, – наконец не выдержала она, – я знаю, кто вы, меня предупреждали. Но вы, похоже, забылись.
Внутри у меня все заклокотало от глухого хохота, но наружу не пробился ни единый смешок, на что нужны были силы. Они знают, кто я! Да они и близко не подозревают, чем я занимался, иначе не лежал бы сейчас на попечении государства в замечательной, чистой больнице на западе Кёльна, а гнил бы в могиле, как остальные. А может, и могилы бы не удостоился, развеяли б прах по ветру.
– Ты говоришь, что знаешь, кто я, Ривка?
– Да, знаю, – кивнула девушка, – вы стоите на учете как бывший член СС. Вы все на виду, так что ведите себя прилично.
Если бы у меня достало сил, я бы все-таки расхохотался ей в лицо. Буквально пару лет назад я столкнулся с бывшим командиром подразделения СС, действовавшего на Восточном фронте. Он занимался карательными операциями. Иногда вместо расстрелов его подразделение заживо сжигало людей. И он приказывал делать это под музыку. Горит намертво заколоченный сарай, трещат старые, рассохшиеся доски, нервно пляшет грязное, чадящее пламя, и изнутри этого пекла раздаются вопли, полные муки, ужаса и нечеловеческой боли. И все это под звуки вальса из старого граммофона. Иногда командир смеялся в ответ на чью-то шутку, рассказанную тут же. Вот здесь впору добавить: нечеловеческий, мефистофельский смех, от которого кровь стыла в жилах. Но нет, смех был вполне себе человеческий, иногда прерываемый кашлем, вызванным едким дымом. Дело ведь в чем – то была не сцена из литературного произведения, то была реальность. Он действительно любил музыку, и она отвлекала его от происходящего, а сжигание экономило время – можно было оформить сразу большую партию, а заодно решался и вопрос последующей утилизации трупов. Потом, если мне не изменяет память, он проявил себя в подавлении Варшавского восстания, даже был награжден. Из заварухи выбрался легко – сумел скрыть свою принадлежность к СС благодаря поддельным документам, которые благоразумно подготовил заранее. После войны его страсть к музыке вновь проявилась, и он устроился в хор Ассоциации молодых христиан, с которым гастролировал по всей Европе. В старинных соборах они распевали религиозные гимны и немецкие народные песни, наслаждаясь рукоплесканием благодарных слушателей. Потом женился, а когда молодая жена забеременела, он, как ответственный глава семьи, задумался о более серьезной работе, которая должна была позволить ему достойно обеспечивать семью. К моменту нашей встречи он возглавлял отдел кадров в солидной фармацевтической компании. За рюмкой коньяка признался, что ему нравится работать с людьми, он легко находит с ними общий язык и быстро понимает, кто для какой работы годится. За свой карьерный взлет он благодарил… свой прошлый опыт службы. Что ж, принципы, заложенные СС, оказались не так уж и плохи в обыденной жизни. Строгая дисциплина, четкая исполнительность, тяга к порядку – все это помогло ему выделиться среди коллег. И сколько еще таких? Сегодня, наверное, исчисление идет на сотни, но в первые месяцы только в Южной Америке затаились тысячи, сумевшие бежать крысиными тропами. Один я знал местонахождение как минимум пяти десятков, а дюжину из них сумел бы даже перечислить по именам и званиям. И она говорит, что все мы на виду. Да она даже не представляет, сколько нас сейчас раскидано по миру, неприкаянных, живущих воспоминаниями и не имеющих возможности вскинуть голову и осмотреться вокруг из страха встретиться глазами либо с преследователями, либо с выжившими. И то и другое – одинаково страшно. Господи, нас даже слепые узнают: я поверить не мог, когда услышал об Эйхмане[2]. Говорят, его сдал незрячий еврей, пропущенный сквозь сито нацистских репрессий. Удивительно, даже слепое око начинает видеть, когда на кону отмщение и, кажется, еще десять тысяч американских долларов, обещанных в качестве награды. Кстати, странно, что разведка Израиля не сделала этого раньше, ведь Эйхман так «наследил», что – вот ирония – и слепой нашел бы. Его супруга даже не удосужилась поменять свое удостоверение личности в Буэнос-Айресе и продолжала щеголять фамилией мужа. Такую же фамилию они дали и своему четвертому сыну, родившемуся уже там. А вишенкой на торте стало интервью какому-то голландскому охотнику до сенсаций, которое в разное время выходило и в американской печати, и в аргентинской. Только совсем далекие люди не сумели бы углядеть личность анонимного рассказчика в этих статьях, а такого никак нельзя было сказать о тех, кто работал в израильской разведке. Правда в том, что Эйхман уже не скрывался. Он устал от этого. Как и все мы.
Я хорошо помнил нашу последнюю встречу, его потерянное лицо: «Я ведь пытался. И в Палестину их отправить пытался, и в Польше строил для них целый мир, чем не компромисс? Но нет, им нужно было подтолкнуть нас к… к этому!»
По Эйхману выходило, что во всем были виноваты… они. Впрочем, ничего нового в человеческом сознании. Бюрократ до мозга костей, он сохранял каждую бумажку, имевшую какое-либо отношение к особым акциям, каждый приказ сверху он тщательно визировал и копировал. Поначалу я думал, что это предусмотрительность, но потом я понял: объясняя очередной телеграммой от Мюллера[3] или Кальтенбруннера[4] всякое действие, он являл свое нутро почтальона. Вот кем были мы все. В этом даже было свое извращенное благо – иногда это дарило несколько дней жизни обреченным. Так, в июле сорок второго в пересыльном лагере в Дранси застряли четыре тысячи еврейских детей, которых отделили от родителей. Вряд ли Эйхман хотел подарить им дополнительные десять дней жизни, но именно столько заняло ожидание ответа из Берлина на запрос об этих детях. Он знал наверняка, каков будет ответ, но без бумажки не пошевелил и пальцем. Получив ее, он дал отмашку Даннекеру[5] отправить детский транспорт в Аушвиц. А там… работники из голодных детей были, откровенно говоря, никакие…
Лишь в конце маниакальная тяга к порядку Эйхмана дрогнула и он позволил себе невероятное – проявить инициативу и отправить венгерских евреев пешим маршем в Австрию. Но тогда все мы уже были на взводе и совершали глупые поступки.
Но одно действие не было официально прописано на бумаге. Ни у Эйхмана, ни у кого бы то ни было еще. Массовое уничтожение евреев. Не существует ни одного документа, где это приказывалось бы прямо, без обиняков. Что касается остального, то можно было не сомневаться – на любое распоряжение Эйхмана в его личном архиве нашелся бы приказ за подписью его начальников, санкционирующий это распоряжение. Все мы тогда послушно следовали приказам, в том мы видели свое назначение, а позже и оправдание. Что бы нам ни приказали, толковать было запрещено, задумываться и переспрашивать – запрещено, обосновывать – запрещено, можно было лишь выполнять. Ослушание приказа во время войны – трибунал. «Солдаты во все времена закованы в броню присяги. Так было всегда. Тут ничего не попишешь». Так мы все повторяли словно заведенные. Такую же линию гнул на суде и Эйхман. «Разумеется, повиновался. Я повиновался приказам, которые я получал, я повиновался, да. Присяга есть присяга. Я ей слепо следовал. Я бездумно следовал присяге», – раз за разом повторял Эйхман, будто перед ним сидел человек, слабый умом, которому нужно растолковывать все простейшими предложениями по нескольку раз. «Я не подлежу никакой ответственности, потому что присяга, которую я принял, обязывала меня к верности и послушанию. Мне приказал высший руководитель! Я находился в положении подчиненного и был обязан исполнять приказ. Это же ясно». Но в том зале суда это было ясно только ему одному.
Конечно, попытка прикрыться приказом у Эйхмана с треском провалилась. А впрочем, попытка не пытка, как говорится. Пытка была у других.
Но с другой стороны, я вспоминаю потуги Эйхмана еще в самом начале реализовать безумные проекты по переселению евреев в Палестину, на Мадагаскар, в район реки Сан в Польше, вспоминаю его отчаяние, когда одна за другой эти попытки терпели крах, и начинаю думать: может, действительно все так – по сути своей никто из нас не был юдофобом, лишь чертов приказ… Но эту мысль опасно завершать. Так, чего доброго, можно дойти и до самооправдания. Надо заставлять себя помнить: Эйхман уверовал в то, что эти акции истребления действительно необходимы, что они – залог безопасности немецкого народа в будущем. Истинно уверовал в то, что поступает единственно верно. Уверовал… по приказу. Именно так, он был одержим своей миссией по приказу, как бы нелепо это ни звучало. Равно как и все мы.
Интересно, видел ли я когда-нибудь того слепыша, сдавшего Эйхмана? Вполне возможно. Сколько их было, разве упомнишь. Бесчисленное множество обреченных и будущих калек просочились сквозь мою жизнь, как бесплотные тени. Или это я бесплотной тенью мелькнул в их жизнях? Помнят ли меня выжившие? Не просто собирательно, как некоего злого нациста, поступавшего в их понимании плохо, но меня как личность? Впрочем, с памятью у них все хорошо. И они отчаянно хотят, чтобы и весь остальной мир помнил. А если забыл, то вспомнил и еще раз устыдился того, что попустил. Такова была цель той показательной судебной постановки с Эйхманом в Израиле, собравшей аншлаг. Претензии понятны – мир, который кричал в первые годы, что «никогда не забудет», забыл очень быстро. Он просто хотел двигаться дальше, не испытывая ни малейшего желания продолжать копаться во всем этом в поисках уже никому не нужной истины. Первыми это прочувствовали книгоиздатели, сделавшие в свое время хорошую выручку на публикациях пронзительных мемуаров «выживших» и «прошедших сквозь горнило ада». Они громко жаловались на падение тиражей, на растущее безразличие и отсутствие всякого читательского интереса ныне, и то была правда, потому как тема перестала вызывать хоть какие-то эмоции. Сострадание стало дежурным, ибо наелись, пресытились и для умов сам факт произошедшего стал обыденностью. Хотя что говорить о мире, когда даже те, кто победно вошел в Германию и лично столкнулся с прозрачными существами без пола и без имени, вышедшими им навстречу из лагерей, быстро позабыли. Поначалу с их стороны не было никакого сочувствия ни к маленьким голодным оборванным Гансам, попрошайничавшим на улицах, ни к замерзавшим исхудавшим Лизхен и Гретхен, которых испуганные матери подталкивали в сторону солдат-победителей, ни к побиравшимся старикам, потерявшим в той страшной войне детей-кормильцев, – они охотно соглашались с коллективной ответственностью всего немецкого народа за эти ужасы. И долго так было: аж целых сколько-то дней. А потом оккупационные штабы завалили заявления от английских и американских солдат с просьбами разрешить вступить в брак с немками. Только в английской зоне их было без малого четыре тысячи. Помнить стало неудобно обеим сторонам.
Жаль, что мне не забыть об этом, в отличие от них, кричавших «никогда не забудем». Хотел бы, отчаянно жаждал, но не способен. Я, как евреи, не забываю. А евреям нужно отдать должное. Виртуозы. Все свели исключительно к себе. В лагерях сгинули коммунисты, социалисты, гомосексуалисты, политически неблагонадежные, цыгане, поляки, русские, черт, да кто там только не сгинул, долгое время евреи даже не составляли большинства среди заключенных. Но останови сейчас любого на улице и скажи ему «концлагерь», он в ответ бросит «евреи». Эта короткая ассоциативная цепочка прочно обвила людское сознание. В массовом восприятии общий геноцид, о котором говорилось в Нюрнберге, постепенно истаял до одного лишь холокоста. В Нюрнберге они были одними из, но позже затмили собой других напрочь, всё замкнули на себе и прочно заняли нишу мученичества, не позволяя кому-либо еще претендовать на нее. Сцена страданий стала принадлежать лишь им.
И вся суть того периода свелась лишь к одному горькому пониманию – мы верили, трудились и закладывали свои души лишь для того, чтобы впоследствии отчаянно разочароваться. Сейчас любое воспоминание тех вымороченных, безнадежных лет вызывает во мне не гордость, в которой я тогда пребывал, но болезненные ощущения. «Вымороченные, безнадежные годы» – как страшно говорить так о своей молодости, надеждах и истовой вере, о том, что тогда казалось поворотным моментом истории, пиком всего человеческого существования и свершением чего-то грандиозного. Еще страшнее… не признать этого. Есть и такие, кто не способен сделать этого до сих пор, как и тогда находились такие, кто еще на заре происходившего осознал, что нация не воспаряет, но летит в пропасть. Да, были примерившие на себя роль непрошеной совести, насмехавшиеся над триумфом, который все мы интуитивно предчувствовали. Я ненавидел их тогда. Я ненавидел собственного отца. Я был прилежным, педантичным и верным исполнителем, что вызывало у него лишь насмешку. «Покорность, возведенная в ранг добродетели, – суть и основа диктаторского государства, которое всех нас погубит» – кажется, так он тогда сказал мне. Но по сути своей я не был убийцей, я не был жестоким чудовищем, и, что самое главное, я не был глупым человеком. Каждое мое действие было осознанно и определялось исключительно верой в его необходимость, оно определялось истинной любовью к своей стране. Я верил в нужность этой тотальной войны на всех фронтах, и на нашем внутреннем лагерном в том числе, со всей искренностью, на которую только был способен, а потому все, что я делал, я делал с чистой совестью. За идеи, которым был предан, я готов был работать без устали, не жалея себя, потому что у меня были идеалы, видит бог! Ради них я готов был пожертвовать собственной жизнью без раздумий. А вместо этого жертвовал чужими жизнями. Также, впрочем, без раздумий. Но это не шло вразрез с законом, ибо закон сказал вначале: «Можно». А затем: «Нужно!» Тем самым превратив нынешних патриотов и законопослушных граждан в будущих преступников. Необходимо понимать, что новое клеймо прилепили новые обстоятельства, понимаете? То, что считалось законом, потом стало злодеянием. Так сложилось. Вот и все. Мне просто чертовски не повезло – я родился не в том месте не в то время. Кстати, я не один в своем убеждении касательно невезения. «Гражданину, у которого хорошее правительство, повезло, гражданину, у которого правительство плохое, не повезло. Мне удача не сопутствовала» – так говорил на суде и Эйхман. Что ж, не раскаялся, но хотя бы пожалел.
Черт бы побрал эту немощь, даже усмехнуться больно. Без ложной скромности скажу, я был талантлив, да, определенно талантлив, сообразителен, исполнителен, энергичен, я обладал всеми качествами, чтобы сделать блестящую карьеру. И что же? Все это было бездарно сожрано реалиями времени и места и похоронено под толстым слоем мирового осуждения и презрения. Да, не повезло. Говорил уже? Возраст, ничего не попишешь. Я думал, что рожден для того, чтобы построить мир, в котором хочется жить и любить, заложить фундамент безбрежного счастья для своих детей, а вместо этого стал архитектором могильника, с которого кровь стекала потоками. Разрушенные и горящие дома, невспаханные поля, разлагающиеся трупы, люди, потерявшие веру во все, живущие ожиданием скорой и неизбежной смерти, – вот мои достижения. Если уж на то пошло – будь моя воля, я бы никогда не родился. Но нет на такое воли нашей, без спросу выплевывают в эту жизнь. Нашей воли ни на что, собственно, не было, ни на жизнь, ни тем более на смерть. И я говорю не только о выборе, умирать ли, но и о выборе, убивать или нет. Это много страшнее собственной смерти. Когда ты не убийца по сути своей, но руки твои по локоть в крови. Ведь с этим надо жить. Хоть бы и по приказу. Только оглянувшись назад, можно увидеть, где свернул не туда. Ведь дело в том, что тогда история еще не рассудила, а творилась. Момент тонкий. Это для вас Гитлер теперь как некая историческая абстракция, сгусток абсолютного зла, понятного лишь по прошествии десятилетий. Для нас он был реальным человеком, нашим избранным правителем, способным одним лишь словом вознести или уничтожить – действительным образом влиять на наши жизни здесь и сейчас, понимаете? Сложно все проанализировать и понять «во время», а не «спустя». Такой проницательностью немногие могут похвастаться, а ведь к этой проницательности необходима еще и какая-никакая смелость. Впрочем, это проблема всех времен, даже тех, когда существует видимость выбора.
Но снова подчеркиваю, что это не попытка оправдаться, я не на суде, и надо мной не завис карательный меч, от которого надо увертываться. Напротив, я в теплой и чистой койке, и за мной заботливо ухаживают, так что есть время поразмыслить: действительно, какого черта я исполнял те приказы, преступные по своей сути? Почему только теперь понял, что они нарушали все законы человеческого бытия? Ломали всякую нормальность того, что мы называем цивилизацией? Почему только время и итоги способны развеять наши заблуждения, что то был триумф, а не время попустительства и слепоты? Но я продолжаю рассуждать дальше: да, на своем уровне я подчинялся приказу, уровнем выше тоже были приказы, но если дойти до вершины этой страшной пирамиды, то там будет лишь… пустота. Теперь уже нам известно, что он сознательно никогда не давал четких приказов уничтожать столько и так. Он лишь рисовал картину идеального в его понимании мира, а свита кидалась претворять ту картину в жизнь способами… разными способами, сообразными их возможностям и фантазии. И поскольку та картина идеального мира отменяла существование миллионов людей, то эти способы были страшными. Он обсуждал цели, но от их реализации абстрагировался, заставив свою свиту осознать, что залог успеха не только в выполнении приказов, но и в их предвосхищении. А потому это зло растекалось от всех них… нас, с самого верха до самого низа, оно было общим, от каждого по вкладу согласно должности и чину, что вместе явило миру нечто неимоверное в своей ужасности и огромности. Оно не могло быть плодом мысли и действий лишь одного человека. Либо не человека вовсе, а истинного дьявола во плоти. Но, узрев, весь мир вздрогнул, ошибочно судив, что все это идет от него и только от него, и наделил его поистине дьявольской личиной и мифологизировал, табуировав даже имя его. Но он был настолько обычен, мелок, малодушен и труслив, что боялся даже произнести вслух то, что претворилось в жизнь от его имени, но нашими силами – силами обыкновенных людей, которые не были ни злыми по своей сущности, ни тем более убийцами. Не погрешу, если скажу, что он и не знал тонкостей, что да как там происходило в тех душевых. Понимаете? Не он сыпал гранулы в трубу, не он закрывал заслонку, его там никогда и не было. Это делали те, кто уверовал в то, что правда за ним. Человек убивал человека по слову другого человека – вот что в сухом схематичном остатке. Как и всегда, на протяжении истории всего того человека. И оттого тошно, что схема-то немудреная, а видишь, попался на нее, как болван необразованный. А ведь был неглуп, да, совсем неглуп. Но попался, черт бы побрал, попался! Как и тысячу лет до того человек попадался.
Как же горько осознавать, что моя жизнь пошла под откос, потому что я уверовал в обычного провокатора, сумевшего прорваться наверх. В этом суть зла – оно до тошноты обыденное, трусливое, сонное и ленивое. Нужно признать, что в Нюрнберге на скамье подсудимых мир ожидал увидеть высокорослых светловолосых монстров, с кровью в глазах, в которых навсегда застыло надменное господское выражение, со сжатыми кулаками, с набухшими жилами, возможно, даже с пеной у рта, страшных, психически больных людей, извращенцев с явной садистской патологией. Вместо этого мир увидел самых обыкновенных людей, со своими проблемами, страхами и недомоганиями, с расстроенным стулом, неприятным запахом изо рта, плохим зрением и выпадающими от нервов волосами, стареющих, с незаладившейся карьерой, не представляющих, что их ждет, и от этого еще активнее портящих воздух. И у половины из них были степени докторов, полученные в лучших и старейших университетах Европы. В конечном итоге люди увидели таких же, как они сами. И вот эти-то обыкновенность и посредственность делали ситуацию еще страшнее. Ведь если они такие же, как и все, то не способны ли и все на то, что делали они, в соответствующих обстоятельствах? Задавайте себе этот вопрос почаще. Ведь беда в том, что ни одна кара, ни одно решение какого-то суда никогда не обретут абсолютную сдерживающую силу, необходимую для предотвращения злодеяния, уже когда-либо случившегося на этой земле. Все, что разум человеческий уже претворял в жизнь, может повториться, каким бы ужасным это ни было и сколько бы от того ни зарекались. Такова натура человека. И, несмотря на все нелепые потуги Гиммлера, страдавшего тягой к мистицизму и недугом «великой избранности», в СС не было ничего инфернального. Вопреки общему восприятию, массовое уничтожение не было каким-то страшным судом над неугодными. Все было до тошнотворности буднично и регулировалось исключительно с практической точки зрения. Мы пришли к тому, что всего лишь решали вопросы экономического и социального характера, возможно, еще земельного, что, правда, можно отнести к экономическому сектору. Не более. Закупки сотен килограммов «Циклона Б»[6] шли в накладных рядом с канцелярскими и хозяйственными принадлежностями. Истребление целого народа стало делом рутинным и, пожалуй, само собой разумеющимся. Никто не осознавал, что поступает неправильно, потому что все происходящее стало новой обыденностью. Нормой, если угодно. И неудобный факт таков: самые ужасные преступления в истории человечества на счету не кровавых маньяков и умалишенных убийц, а простых интеллигентных людей, получивших достойные по меркам своего времени воспитание и образование. Не демоны, не вампиры, не людоеды, не ведьмы и даже не психически больные, увы. Самые обычные люди, жившие по перевранным понятиям: мы не уничтожали, не истребляли, не воевали – но проводили «чистки», «особые акции», «умиротворение недовольных», «борьбу с партизанами», «реализовывали свое природное право на Востоке», действовали в рамках «особого режима», по «особому приказу», «решали еврейский вопрос». Такая подмена понятий помогала верить, что наш образ мыслей и наши действия по-прежнему соответствуют всем нормам права. Так же как и везде, от нас требовали высоких показателей, и мы их давали, полагая, что труд всякий бывает. А потом цифры, факты, методы, весь масштаб содеянного тобою вскрывают, словно гнойный нарыв, смердящий за многие километры. И только тогда все осознаешь. Но с убийственной четкостью осознаешь лишь итоги, не умея понять и объяснить причины или хоть немного приблизиться к их логическому обоснованию.
Были хотя бы единичные проблески в нашем сознании? Очевидно, что-то было. Я помню доктора Зиверса, секретаря «Аненербе» – общества, изучавшего древнюю германскую историю, он подбирал в Аушвице для профессора Августа Хирта заключенных, которым предстояло стать частью анатомической коллекции в институте в Страсбурге. Изучив черепа этих заключенных, профессор Хирт должен был дать детальную характеристику «еврейско-большевистским человекоподобным существам» и подготовить материал для школьных пособий. Та идея была горячо поддержана самим Гиммлером, а потому я тогда помогал Зиверсу в организации транспорта. Мне прислали подробные указания по транспортировке: голова заключенного не должна была ни в коем случае быть повреждена, ее следовало аккуратно отделить и прислать в специальном жестяном ящике, заполненном жидкостью, исключающей процессы гниения. Каждый образец должна была сопровождать подробная анкета, содержащая данные о месте и времени сбора материала, антропометрические данные, дату рождения и все прочее, что можно было установить, а также, по возможности, предварительно сделанные снимки. К счастью, я тогда отвлекся на исполнение другого распоряжения и не успел отправить эти инструкции в Аушвиц, так как спустя несколько дней Зиверс сообщил мне, что профессор Хирт передумал насчет транспортировки, теперь он хотел, чтобы бо́льшую часть пути материал преодолел «в первоначальном виде». Признаться, я тогда несколько растерялся, не понимая, что имелось в виду. «Живыми, – уточнил Зиверс, видя мое замешательство, – привезем их в Нацвайлер, а там уже заспиртуем и расфасуем под личным руководством профессора». В итоге сто пятнадцать человек – семьдесят девять евреев, тридцать евреек, два поляка и четыре среднеазиата, каждый с подробной спецификацией, – отправились в лагерь Нацвайлер, что недалеко от Страсбурга, «в первоначальном виде». Так вот, уже уходя, Зиверс сказал мне словно между делом, но сейчас понимаю, что это было главное: «Они еще где-то ходят, дышат, а для них уже подготовлены застекленные тумбы и таблички с описанием костей. Черт бы меня побрал, если это когда-нибудь уложится в голове…» И он повел своими залихватскими усами, гордо топорщившимися в стороны, подкрученными и густо сдобренными блестящим воском, который позволял им весь день держать свою смехотворную форму. На процессе в Нюрнберге эти усы уже, конечно, не выглядели столь роскошно. Тогда британский обвинитель Джонс изрядно попотел, пытаясь взять Зиверса за эти самые усы и за жабры заодно, но тот, словно угорь, ловко ускользал от всех неудобных вопросов, ссылаясь на плохую память и невозможность восстановить детали дела. Он с тупым упрямством доказывал, что не помнит о важных мероприятиях военного периода, одновременно с легкостью вспоминая незначительные события, случившиеся до войны. Тем самым он выдавал себя с потрохами, но, в общем-то, это была единственно верная линия защиты для тех, кто еще питал какие-то надежды в Нюрнберге. С проклятой отчетливостью осознав, что натворили, все с яростью кинулись искать формальные оправдания, чтобы не получить приговор от мира и в первую очередь не вынести его самим себе.
И тут у угрей, сидевших на скамьях Нюрнберга, проявилась еще одна любопытная черта – менять свою значимость в зависимости от обстоятельств. Вначале все стремились перещеголять друг друга в цифрах, после – в их преуменьшении. Насколько важными и влиятельными персонажами все желали казаться прежде, настолько громко кричали о преувеличении собственной роли в залах суда. Так и Зиверс: «Я лишь передавал приказы и распоряжения дальше, пересылал отчеты, не вдаваясь в подробности. Я не мог иметь своего мнения в этом вопросе. Я не имел никакого отношения к непосредственному убийству тех людей. Я выполнял роль почтальона. Я уже не помню…» А между тем штандартенфюрер СС Вольфрам Зиверс был единственным человеком, который каким-то непостижимым образом умудрился пережить глобальную чистку «Аненербе» в тридцать седьмом, когда полетели головы всех, вплоть до руководителя общества доктора Германа Феликса Вирта. Зиверс же не только сохранил свою должность, но и пошел в гору. Гиммлер лично поручил ему создать и возглавить при «Аненербе» Институт военных исследований, который должен был взять на себя создание всей технической и хозяйственной базы, необходимой для исследовательских лабораторий в концлагерях. Я готов дать руку на отсечение, что Зиверс до самой последней минуты своей никчемной жизни помнил все детали, даже самые незначительные. Хотел бы забыть, но не мог. Как и все мы. Как и все, он пытался убедить обвинителей, что был лишь частью механизма, выполняя какую-то роль пересыльного, снабженца, производителя, доставщика, роль, которая ничего не значила, и, откажись он ее выполнять, ничего бы не изменилось. «Всего лишь звание, всего лишь должность, никакой реальной власти, я лишь винтик… Я лишь перевез тела… Я лишь доставил печи… Я лишь произвел синильную кислоту… Я лишь сконструировал газваген…[7] Я лишь предоставил помещение…» Понимаете, роль была у всех, к слову, не только у немцев, но каждый утверждал, что именно он не нес конечной ответственности, поскольку и без его вклада случилось бы то, что случилось. «Я лишь сопровождал поезд до польской границы, а там уже транспорт переходил в немецкие руки. Что они с ними делали далее, не ведаю…» – так говорил словацкий солдат Глинковой гвардии, тоже винтик без персональной ответственности, не забывший, правда, по пути до этой границы отобрать у евреев все самое ценное. Тот самый, который, по воспоминаниям одной словацкой еврейки, испражнялся на пол, а потом заставлял их убирать это голыми руками, приговаривая: «Мы научим вас, еврейских шлюх, работать».
Вершиной этого «я лишь» были слова Эйхмана на собственном процессе касательно той самой конференции в Ванзее[8] в январе сорок второго, запустившей историю нашей нации в обратном направлении. «Я молча сидел там со стенографисткой в углу, и никто о нас не побеспокоился, никто. Мы были слишком маленькими людьми». Великий архитектор механизма «окончательного решения», один из главных нацистских преступников приравнял себя к стенографистке. Я бы рассмеялся, если б не чертова боль в груди.
А как вам интервью бывшего начальника одной из канцелярий Рейхсбана[9] на востоке в нашумевшем документальном фильме?[10] Он занимался планированием железнодорожных маршрутов. Железные дороги Восточного фронта в разгар войны – знаете, что это значит? Он был вершителем сотен тысяч судеб. Своего рода царь на местах. Мощный винтик механизма, скажу я вам. Такой винтик не мог не знать. Но он настаивал: «Я всего лишь занимался координацией движения поездов. Были среди них и специальные, да, но я понятия не имел, кто в них. Моей задачей было скоординировать их путь из точки А в точку Б. Откуда мне было знать, что точка А – это дом, из которого их увезли насильно, а Б – лагерь, в котором их ждет газовая камера? Я был всего лишь простым чиновником в департаменте по планированию маршрутов. Шла война, понимаете, а после, когда все раскрылось, это стало для меня полнейшей неожиданностью, я не имел ни малейшего…» Ни малейшего, понимаете? Каждый день он переводил стрелки на своей подотчетной железной дороге в сторону лагеря, отправляя туда тысячи узников, каждый день с осознанием того, что происходит, с осознанием того, что он непосредственно причастен к этому, упокой, господи, идиота. Ему тоже пришлось нелегко, еще один калека нашего восхождения. Как он сказал, «специальные»? А другие их называли «поезда смерти» – те, другие, кто ехал в них. Но в одном тот царек, быстро отрекшийся от своего железнодорожного престола, был прав – ему пришлось складывать путевой пазл изо всех поездов, и из обычных пассажирских, и из «специальных». Всеми ведала самая обычная транспортная компания – «Центральноевропейское трансагентство» – та самая, в которой мы с тетей Ильзой покупали билеты на отдых в Бад-Хомбург. Кто-то в лагеря смерти, а кто-то на лечебные курорты, и все через одно агентство. Цинично? Удобно. Что ж, железнодорожный царек выкрутился, переведя стрелки. Сила профессиональной привычки, если позволите такой каламбур. На вопрос «А кто знал?» его стрелка указала на Эйхмана. Но тому, в принципе, должно было быть все равно – стрелкой больше, стрелкой меньше, когда на тебя устремлены копья всего послевоенного мира. Отчаянно отбиваясь от них на собственном процессе, Эйхман тоже заверял, что не отдавал ни приказаний, ни распоряжений, не указывал, кого гнать в газ, а кого расстреливать. «С этим я никогда, никогда, никогда, никогда дела не имел», – заверил он суд. И ведь не соврал: затворку в душевую он «никогда, никогда, никогда» не открывал, «Циклон» не закидывал, это верно. Просто усердно гнал эшелон за эшелоном со всей Европы. А потом, спустя годы, заявил в глаза дознавателю Авнеру Лессу, чей отец, фронтовик Первой мировой, кавалер ордена Железного креста, был умерщвлен в газовой камере Аушвица: «Мы же с этим не имели никакого дела, совершенно никакого. Мы не имели с этим никакого дела», – будто Лесс не понимал с первого раза, – «нисколько, нисколько, нисколько… Это же ужасно, что там делалось… Как же можно вот так просто палить в женщин и детей? Как это возможно? Ведь нельзя же… Я был сыт по горло таким заданием! Доложил группенфюреру Мюллеру: это не решение еврейского вопроса… Пожалуйста, не посылайте меня туда. Пошлите кого-нибудь другого, кто покрепче. Ведь хватает других, кто может на это смотреть, кто не свалится в обморок. А я не могу такое видеть, я ночью не сплю…»
Тут Эйхман не врал, таких действительно хватало, кто не валился в обморок. Я, например. Даже в свой первый раз. Стоял и смотрел, борясь с дурнотой, подкатившей к горлу, а позже и того не было. Были мысли исключительно об отчете, который мне предстояло подготовить. Возможности своего вестибулярного аппарата Эйхман тоже, конечно, принизил. Он был крепким парнем. Лживым, как оказалось, но крепким. «Заказ ста килограммов синильной кислоты – никакого, никакого понятия не имею! Я не знаю об этом, не знаю!» «Может, Гюнтер заказал?» – услужливо подсказывали бывшему оберштурмбаннфюреру на процессе. И он, как ребенок, радостно хватался за эту соломинку. Конечно же, это Рольф Гюнтер, его сотрудник, заказал почти центнер яда у главного гигиениста рейха доктора Герштейна, руководителя технической службы дезинфекции в Главном управлении СС. Но дело в том, что Гюнтер без ведома Эйхмана и опорожниться не смел, не то чтоб по собственной инициативе заказать такое количество яда. В принципе, не мне осуждать Эйхмана: он пытался спасти свою шкуру, но как-то слишком уж нелепо у него выходило. Неужели у него была хоть капля надежды на то, что он выберется из этой передряги живым? Что евреи дадут ему и дальше дышать тем же воздухом, что и они? Дурак. Шансов на том представлении у него не было: все свидетели защиты – немцы были исключены, ведь, ступи кто-то из них на землю обетованную, их бы тут же арестовали и судили вместе с Эйхманом. Большинство свидетелей обвинения были евреи из Израиля, и тут был элемент шоу, ведь всех их отбирали по заявкам, которых были сотни. Каждый жаждал личного триумфа справедливости над «исчадием ада». Но где они его искали? В суде? Серьезно? Если я что и понял наверняка в своей бесцельно прожитой жизни, так это то, что суд человеческий – гнилое заведение, не дай вам бог попасть туда, потому как правосудие – это последнее, что влияет на приговор в этой конторе, и это одинаково погано как для подсудимого, так и для остальных сопричастных, им же потом с этим жить. Я знаю, что говорю. Но продолжим: еще пятьдесят три человека приехали на суд из Польши и Литвы, я специально это подчеркиваю, ведь именно там Эйхман фактически не имел никаких полномочий. Что могли рассказать те пятьдесят три человека? О своей боли, ужасе пережитых страданий? Безусловно. О непосредственной вине Эйхмана? Уверен, половина из них даже не знала о нем в то время, когда все происходило. Им нужно было выплеснуть свою боль, и не важно, кто сидел на скамье подсудимых: Эйхман ли, Гиммлер, Хёсс, Гитлер… я. Им нужно было еще раз проговорить это: нельзя было переживать молча то, что с ними случилось. Я молчал – ничего хорошего из этого не вышло. Надеюсь, ни у кого не повернулся язык укорить их в показаниях, совершенно не относящихся к делу. У них было право на тот грандиозный сеанс психотерапии. И это самое большее, что мог дать им тот суд. В конце концов, не думает же кто-то, что хоть один из них мог удовлетвориться смертной казнью подсудимого? Уверен, что ни один не почувствовал себя отомщенным. Переиграть Эйхмана в сфере наказания человека человеком невозможно. Уж простите. Да и в целом затея тухлая. Даже если бы тот суд бесстрастно решал вопрос исключительно в правовом поле, без эмоциональных составляющих, вопрос Эйхмана выходил далеко за его пределы. Он сдерживался лишь границами сознания тех, кого он загнал в эшелоны, шедшие в лагеря смерти. Желали ли они просто вздернуть его – вопрос.
Увы, Эйхман тоже был обыкновенным. Маленький человек, карьерист-неудачник. Не редкость среди нас. И как враг он был не опасен, и как друг бесполезен. Говоря об убийстве в классическом понимании, он действительно не лукавил – лично он никого не убивал, думаю, ему бы не хватило духа собственноручно лишить человека жизни. Я познакомился с ним в Дахау, где он служил в австрийском полку. В тот период он изнывал от однообразия службы. Его предприимчивую натуру раздражало каждодневное ползание по-пластунски, и он жаждал стать частью чего-то нового и перспективного. Узнав его лучше, я понял, что в этом и была суть его натуры – он постоянно вступал в какие-то общества и организации, в детстве это было Общество христианской молодежи, затем движение юных туристов «Перелетная птица», позже каким-то образом нарисовалось молодежное отделение Германо-австрийского объединения фронтовиков. Когда на горизонте замаячили СС, Эйхман был уже одной ногой в масонской ложе «Шлараффия», как гордо именовала себя группа бездельников, собиравшаяся ради хорошего вина и юмористических выступлений. СС стали для него лишь одними из. В конце концов, почему бы и нет, если с масонами не задалось? В этом был весь он – вступал не по убеждениям, а потому, что надо было быть частью какого-то движения, потока, который рано или поздно куда-нибудь да вынесет, и желательно на сытые и благополучные берега. И, собственно, таких было большинство, и именно из таких получались самые надежные и исполнительные наци. Он постоянно говорил о будущем, строил планы, его деятельный мозг не знал покоя, впрочем, как не знал и партийной программы НСДАП[11]. Это выяснилось совершенно случайно в разговоре, тогда он пожал плечами и сказал, что позже изучит. Не уверен, что он в итоге сделал это. Как это ни парадоксально, но на заре нашей дружбы он не был хоть сколько-нибудь одержим антисемитизмом. Основными мотивами его поступков были банальный карьеризм и здоровое служебное рвение. Как любой рядовой бюргер с типичным воспитанием и без преступных наклонностей, он не испытывал какого-то явного наслаждения от осознания власти над жизнью и смертью. Тот, кого мир назовет одним из главных архитекторов смерти, стал им исключительно под влиянием условий, в которые поместили не только его одного, но весь Германский рейх. И лишь случай решил, что в этих условиях именно ему пришлось оказаться на слуху. Если бы Гитлер так же люто возненавидел, к примеру, протестантов и гневно указал своим перстом на них, то история содрогалась бы от имени штурмбаннфюрера Эриха Рота, ведавшего в РСХА[12] отделами IV B-1 и IV B-2 – делами католиков и протестантов соответственно. Но был избран народ избранный, а значит, и Эйхман, возглавлявший еврейский отдел IV B-4. Еще большей значимости ему придал Нюрнбергский процесс, на котором его… не было. Воспользовавшись этим, большинство обвиняемых постарались переложить именно на него всю ответственность, он же ничего не отрицал по банальной причине отсутствия. Тогда и появились первые эпитеты, придавшие «неуловимому» Эйхману ореол демоничности: «архитектор смерти», «дьявол во плоти, ответственный за отправку на смерть миллионов» и прочие, которые с радостью подхватила охочая до подобной дешевой крикливости пресса. Что ж, как бы иронично это ни звучало, тут Эйхман наконец-то получил свою порцию славы, которая ранее всегда проходила мимо него, недооцененного сверху и воспринимаемого мелким чином на местах, из-за чего он чрезвычайно страдал. Впрочем, новые обстоятельства, в которые его опрокинула жизнь, заставили Эйхмана с легкостью отказаться от той славы: «Это не я» – квинтэссенция всего допроса Эйхмана. «Я получил приказ от группенфюрера Мюллера». Мюллер от Гейдриха[13], Гейдрих от Гиммлера, Гиммлер – намек от Гитлера. Кто виноват? Очевидно, все. Никакой персонификации – это и пытался доказать Эйхман в суде, это же делала и вся послевоенная Германия. Он действительно не отдавал приказа уничтожать тех, кто попадал в его эшелоны, – ему попросту не надо было этого делать. Машина исправно работала и без его слов. Механизм был запущен однажды, и все молча обеспечивали его действие как нечто само собой разумеющееся. Не один, так другой действовал бы точно так же, как он, на основе распоряжений и приказов сверху – и вот в этом я склонен ему верить. Мне до сих пор сложно понять, какую часть персональной ответственности за это несет каждый из нас. Я сейчас не говорю о моральных уродах, действия которых имеют лишь одну возможную оценку, такие, безусловно, тоже были. Взять хотя бы дегенерата Глобочника[14]. После совещания в Ванзее, на котором Гейдрих окончательно дал понять, что отныне мы добиваемся не эмиграции евреев, а их истребления, в Люблин бригадефюреру Глобочнику полетел приказ подвергнуть этому решению сто пятьдесят тысяч евреев. Глобочнику пришлось в срочном порядке испрашивать себе еще один приказ с новыми цифрами, ведь к тому времени он умертвил уже не меньше двухсот пятидесяти тысяч. Но сейчас речь не о таких, а об остальных, не проявлявших инициатив, но лишь исполнявших. Как я уже говорил, когда подобные действия совершает вся нация, они перестают трактоваться как преступление, но становятся новой нормой. И с таким подходом любая, даже самая извращенная мораль начинает усваиваться мозгом как нормативная. Именно поэтому основной целью было вовлечь в процесс каждого. И каждый стал крохотным, но винтиком целого механизма, каждый просто существовал и даже не осознавал, что спустя десятилетия его будут рассматривать не как единицу массы, которая всего-то хотела достойно и сытно прожить свою жизнь, но как часть движущего процесса истории. Как часть, которая осознает, что ничто не делается само по себе, но все итог какого-либо действия человека или бездействия. Которая ответственна, которая творила, потворствовала, не воспрепятствовала и тому подобное. Тот винтик не осознавал, что его персона в принципе удостоится того, чтобы быть рассматриваемой, настолько он считал себя не влияющим ни на что, но исключительно выполняющим то, что должно. Тот винтик считал все происходящее естественным процессом, которого просто не может не быть, для него это было обычное течение жизни, закономерность. Но истина в том, что без того винтика, сколь бы крохотным он ни был, весь огромный механизм мог дать сбой. И потому все эти «я лишь…» не были оправданием. Кто-то был этим винтиком осознанно, кто-то – бессознательно, кто-то только делал вид, что бессознательно. Но цель была достигнута – в окончательное решение так или иначе была вовлечена вся нация, все общество. Когда в Заксенхаузене в сентябре сорок первого начали расстреливать по три сотни советских военнопленных в день, полноценного крематория в лагере еще не было. Трупы жгли в передвижном, не удерживавшем ни дым, ни смрад. Все это быстро достигло домов Ораниенбурга. Я помню одного белобрысого, в коротеньких коричневых шортиках, лет пяти, не больше. Он подошел ко мне и деловито осведомился: «Герр офицер, а когда снова будут жечь русских?» Все знали. Это просто началось с малого, не как нечто грандиозное и невероятное, а просто как очередной процесс, которых сотни тысяч происходят в любом государстве. И если кого-то это покоробило в самом начале, то он оглянулся по сторонам, убедился, что все молчат, и решил, что ему показалось, будто в этом есть что-то дьявольское, нечеловеческое, противное нашему естеству. Но дело в том, что точно так же оглянулись все и подумали то же самое. Все молчали и прилежно трудились, как если бы это была обувная фабрика или машинный завод. Взять хотя бы тех же врачей. О медицинских экспериментах в лагерях заговорили после войны с придыханием, с расширенными от ужаса глазами, тоном, в котором сквозило откровенное неверие. Но разве были они для кого-то секретом во время войны? Я говорю о медицинских кругах. Их широко обсуждали на различных врачебных и фармацевтических конгрессах, где горделивые публичные доклады о проведенных исследованиях зачитывались один за другим, где на трибунах в открытую сообщалось, кто был использован в этих экспериментах и что с ними стало. Но хоть кто-то в зале выразил озабоченность этической стороной вопроса тогда? Многие профессора, которым был дан полный карт-бланш на их лагерные изыскания, печатались в научных журналах. Я лично помню восторженного специалиста из «Байера»[15], который приезжал к нам в Дахау тестировать сульфаниламиды на заключенных. Тестировал самозабвенно. Благодарил за подаренную возможность. Потом еще раз приезжал во время эпидемии тифа, привозил очередную партию препаратов.
Перебирая все это в памяти, я понимаю, почему не пытался бежать из Германии после окончания всего того ужаса, как многие, теми крысиными аргентинскими тропами. Не было более безопасного места для бывших эсэсовских преступников, нежели Германия, погрязшая в прозрении того, что совершала и позволяла совершать. Ведь нет ничего более связывающего, нежели соучастие. Все мы оказались связаны круговой порукой. А потому одни не имели никакого морального права призывать к ответу других. И общество это ощущало в массе своей, ведь всей нации сломали человеческое мировосприятие и постепенно адаптировали к насилию. Сломали настолько, что однажды один сердобольный водитель, везший меня в Хелмно, заметил про евреев: «Пожалуй, прикончить их быстро и безболезненно милосерднее, нежели они будут медленно подыхать от голода в гетто». А как вам такое проявление человеколюбия: вначале айнзацгруппы[16] расстреливали только мужчин, но что было делать с их женщинами и детьми, у которых больше не было кормильца? Ведь они были обречены на нищету и голод. И уже в августе сорок первого решено было расстреливать всех. Видите, одно цепляло за собой другое, ужас ситуации нарастал постепенно, а не вдруг. И по той больной логике в какой-то момент мы увидели в решении расстреливать вместе с мужчинами женщин и детей проявление сострадания или, того страшнее, гуманизма. Так поэтапно, шаг за шагом, мы спустились на самое дно человеческой природы, заставив колесо эволюции крутиться вспять. Изначально за понятием «окончательное решение еврейского вопроса» стояла лишь эмиграция, богом клянусь. А потом как-то наросло… Я не оправдываюсь, господи, я просто объясняю, как оно было. Чтоб вам было проще понять. Хотя где уж тут понять подобную степень повреждения разума у целой нации. Нации, ставшей венцом человеческого развития, олицетворением того, что мы называли высокоразвитой цивилизацией. Наконец, нации, которая в двадцатые годы благостно следила за тем, как евреи Восточной Европы пытаются скрыться в ее сени от ужасающих проявлений антисемитизма: погромов, избиений и унижений. Вот уж поистине дьявольский выверт истории. Но нужно быть честным – нация позволила сделать это. Нация не сильно сопротивлялась. Какое у нее оправдание? Те несчастные заключенные хоть могут сказать: «Нам угрожали оружием». А немцы? Угроза концлагеря? Никакой концлагерь не смог бы вместить весь немецкий народ! Правда в том, что сладкая возможность спихнуть все свои лишения, проблемы и неустроенную жизнь на другой народ, который не спешил давать жесткий отпор, дурманила голову. Это пьянило сильнее всякого вина. И вся нация опьянела, за исключением некоторых «трезвенников». Правда, и такие набрались смелости подать голос за пределами дома только после войны, например мой дурак-отец, которого я уже упоминал. Несчастный человек. Его действительно переполняли ярость и жгучий стыд. Напившись до беспамятства, он начинал буянить в местных пивных, горлопаня о постыдной и сознательной слепоте немцев, обвиняя всех и вся вокруг. Его пытались утихомирить: «Люди этого не заслужили, Эмиль. Они не знали, что творится за колючей проволокой». – «Разве? Мировое господство всем пришлось по вкусу. Низложение Франции? Конечно! Присоединение Австрии и Чехии к рейху? Отлично! Стадо рабов – поляков и русских для удовлетворения всех нужд арийцев? Замечательно! Задушить мировое еврейство, сосущее нашу кровь? Обязательно! Правду все знали, каждый день с трибун она вещалась в открытую. Разве по радио не слушали мы речи фюрера, который заверял, что наше право на все это лежит в самом законе природы? И все согласились». – «А если б не согласились, то оказались бы там же, за колючей проволокой, Эмиль». – «Восемьдесят миллионов! Восемьдесят миллионов немцев, черт бы нас побрал! Да у них бы проволоки не хватило! Мы не хотели раскрыть глаза, иначе это потребовало бы от нас определенных выводов. Это добровольная слепота. Мы видели, как запломбированные вагоны, полные полуголых истерзанных женщин, стариков и детей, мучимых голодом и жаждой, двигались из городов в лагеря и возвращались обратно пустыми. И мы не задавались вопросами. Хотя каждый знал, что творится в этих лагерях! Колонны этих несчастных, оголодавших, избитых гнали через города и деревни, не таясь! Мы видели нескончаемый дым из труб! Мы все это видели, но предпочитали не лезть. Мы считали, что нас это не касается. А это касалось любого здравомыслящего человека! Худшее, что мы могли сделать, – это не сделать ничего…» – обычно на этих словах его выталкивали на улицу, чтобы он не смущал остальных, пришедших расслабиться после тяжелого трудового дня и пропустить кружку-другую. Чего хотел добиться старик? Все уже давно уверовали: раз вся нация преступна, значит, никто не в ответе за это преступление. Хотел оправдаться? Перед кем нужно было бы – тех уже не было. Перед будущими поколениями? Обойдутся. Как бы сами не вытворили чего хуже. Перед самим собой? Пожалуй, что неплохо бы.
Я тоже жажду хотя бы примирения – с самим собой, конечно, на большее не рассчитываю. Но, к сожалению, мне это чувство недоступно. Для меня оно лежит в области полного искупления, которое невозможно, и глупо верить, что это удастся кому-нибудь из нас. «Понимание не обязательно ведет к оправданию и прощению» – уж не упомню, где я это услышал, но это верно: я способен объяснить, как так сталось, возможно, вы даже поймете, как постепенно произошел тот слом, заставивший незаметно переступить черту дозволенного, но, даже поняв, вы вряд ли сумеете оправдать или, того сильнее, простить. Постижение и уразумение не всегда ведут к прощению, уж точно не в нашем случае. Так стоит ли пытаться? Любопытное, конечно, человеческое качество – прощать. Совершенно для меня необъяснимое. Многие искренне веруют, что способны на это, и даже заявляют об этом во всеуслышание, когда кто-то молит их о том, но вы никогда не узнаете, так ли это на самом деле, теорема эта недоказуема. Возможно, прощать было бы легче, если бы каждый осознал, что делает это в первую очередь для себя, а не для подлеца-обидчика, потому как обида, гнев и ненависть к тому, кто оступился, нещадно терзают в первую очередь наш разум, и не только разум, но и само физическое здоровье наше. Но пока мы верим, что прощение нужно исключительно оступившимся, мы будем малодушно его придерживать, не понимая, почему через годы шалит давление и колет сердце. А ведь не только честное прощение, но даже самое обыкновенное безразличие на месте обиды и гнева при определенных условиях способно высвободить. Но человеку проще гневаться и ненавидеть. Я это проходил, я тоже ненавидел, вначале их, потом… самого себя. И теперь я так до конца и не разобрался, чего во мне больше сейчас – горькой вины или жгучего стыда? Говорят, стыд мы испытываем, когда нас волнует внешняя оценка других, а вина идет рука об руку с внутренним самоедством и только по тем дорогам, где хаживала совесть. В этом смысле вина была бы предпочтительнее. Благословенно будет место, где единственной властью станет совесть и чувство вины. А если верите, что для человека главным ограничителем является карательный орган, как принято считать в обществе, то ошибаетесь. Скорее его фантазия и то, что мы прозвали здравым смыслом.
В этой связи я вспоминаю Отто Олендорфа – командира айнзацгруппы D. Он был из тех редких людей, кто действительно беспокоился за своих солдат и их будущее чувство вины. Он никогда не позволял им устраивать расстрелы по отдельности, приказывая всему взводу жать на курок одновременно. Таким образом он решал вопрос личной ответственности и психологического давления, потому как считал, что все эти экзекуции были равно тяжелым испытанием как для жертв, так и для… его парней. Уравнял, что ж. Но я вдруг понимаю еще одно: по сути, у его парней была отличная возможность промазать. По большому счету, все мы имели возможность тщательно взвесить, оценить законность своих действий и их последствия, а затем взять и «промазать», если уж на открытое выступление не хватало решительности. Мы были не свободны в действии, но могли проявить подобие воли в бездействии. И только единицы так поступили. А потому не тешьте себя мыслями, что это дело рук маленькой группки умалишенных, дорвавшихся до власти, и что всего несколько больных чинов в СС ответственны за этот кошмар. Ведь если бы это было так, то режим пал бы в результате восстания немецкого народа против этого ужаса, но он пал всего лишь из-за поражения вермахта совсем на других фронтах борьбы. В действительности это было миллионное сплочение, иначе мы бы попросту не выстояли столько лет против могущественных держав и сил.
И сейчас вам нужно набраться сил и посмотреть правде в глаза: они – это все мы, по сути. Кто смелее, возможно, найдет в себе силы еще сильнее персонализировать: тот, сбрасывавший синие гранулы ядовитого пестицида, – это я. Признайся, хоть ты никогда не видел, что творится за высокой колючей проволокой под серым тягучим дымом, но это ты вел их, закрывал тяжелую герметизированную дверь, сбрасывал кристаллы синильной кислоты вниз, наблюдал через мутные смотровые щели, ворошил багром влажную слипшуюся кучу тел, пропитанную экскрементами, растаскивал этот липкий скорченный ком, вез его части на тележках к печам крематория, укладывал как можно компактнее, затем вычищал пепел… И все заново. По кругу. Признай: не только потому, что не нашел в себе сил выступить против, не только потому, что трусливо молчал, глядя на тяжелый, вязкий дым на горизонте и чувствуя тошнотворный запах, но и потому (быть может, тогда ты еще даже не родился), что сам бы это делал, если бы провидение было не столь милосердно к тебе и поставило на его место. Не обманывайся: если бы тебе приказали, если бы тебе платили за эту работу, если бы ты видел, что это происходило повсеместно, стало нормой, что каждый так поступает, если бы тот, кому ты верил, сказал, что это правильно, в конце концов, что в этом высшая справедливость, историческая и природная закономерность, – да ты бы и сам в это уверовал, глядя, как дисциплинированно они идут на это газовое заклание, словно и сами верят, что так надо и роптать против этого не до́лжно и бессмысленно, – ты честно и усердно, как любой исполнительный гражданин и патриот своей родной земли, делал бы свою работу. Безусловно, ты мог не быть тем, чья рука непосредственно ворошила пепел и закрывала заслонку в печи, но будь уверен, ты бы занял свое место в этом адском устройстве, стал бы его винтиком. И вскоре эта работа сделалась бы для тебя рутиной. Думаешь, мы были другими? Никто из нас и помыслить не мог, что способен на такое, пока не начал это делать. Думаешь, это в прошлом? Знай, что и сейчас где-то среди вас живут такие же несостоявшиеся охранники, капо[17], пулеметчики с вышки, лагерные врачи-исследователи. И узники. Это уж непременно. И нужна лишь подходящая ситуация, чтобы они проявились вновь.
Я могу привести сотни примеров добропорядочных граждан, тех самых, которые поначалу «и помыслить не могли». Знал я талантливого ученого-химика и не менее талантливого дельца Бруно Теша, который держал вполне себе безобидное предприятие – фирму по производству дезинфицирующих средств. Выработка на загляденье: две тонны кристаллического цианистого водорода в месяц. Он же синильная кислота – основа для «Циклона Б». Теш вполне мог избежать виселицы после войны, заявив, что продавал свою продукцию исключительно для дезинфекции, а уж как там в лагерях ею распоряжались… Но вот ведь какое дело, все это стало такой обыденностью, что химик, прекрасно зная, для чего используется его продукция, не задумываясь предложил Рудольфу Хёссу[18] поставлять не только «Циклон Б», но и специальное вентиляционное оборудование для газовых камер. Переписка эта была случайно найдена во время процесса. Теш и его первый заместитель Карл Вайнбахер были повешены. Но я хочу сказать, что таких была уйма: промышленники, директора, предприниматели – завидные отцы семейств и добропорядочные мужья, ревностные христиане, необъяснимым образом подладившие свой бизнес под реалии времени и сумевшие извлечь из этого немалые барыши. Когда в руководстве «ИГ Фарбен» встал вопрос об открытии очередного завода по производству синтетического топлива и каучука, оно обратило свои взоры на непримечательное польское селение Дворы близ Аушвица. Отличное транспортное сообщение и все природные ресурсы под рукой, а то, что рядом подневольные рабочие, – любопытное совпадение, не более. Рабский труд заключенных? Боже упаси! А если серьезно, какой делец откажется от фактически бесплатных рабочих рук по соседству? После того как «ИГ Фарбен» торжественно объявил о строительстве завода возле Аушвица, Гиммлер так же торжественно приказал расширить лагерь с десяти тысяч заключенных до тридцати. Четыре года эти тысячи надрывались и умирали там. Умирали на строительстве завода, с конвейера которого впоследствии не сошло ни грамма синтетического каучука. Он выдавал на-гора лишь трупы. До полного изнеможения работали и на заводах Густава Круппа – на радость и материальное благосостояние старого барона, которому уже и не нужно было то космическое состояние, а скорее добротная утка и исполнительная сиделка, поскольку старик впал в полный маразм. После войны судебные разбирательства вскрыли рыло респектабельной набожной промышленности, продемонстрировав ее глубокие познания в концлагерной действительности. Но будем честны, первоначальный шок от увиденного в лагерях прошел довольно быстро, гнев и ярость утихли, потому как мир торопился жить дальше, как я уже говорил. И многие действительно ответственные за страшное, бизнесмены, без зазрения совести пользовавшиеся принудительным трудом узников, сумели всеми правдами и неправдами дотянуть до периода «оттепели», когда уже даже судейский корпус был утомлен воплями выживших о возмездии. И они получили довольно мягкие, а некоторые – так и вовсе оправдательные приговоры. Помню одного охранника, который попал в Аушвиц на закате существования лагеря, хромой фронтовик после серьезного ранения, на передовой уже совершенно бесполезный. Оказавшись в лагере, он даже форму СС отказывался носить, предпочитая свое вермахтовское обмундирование, впрочем, тогда уже всем было плевать, кто во что одет, – мы стремительно двигались к краху. Это был утомленный и разочарованный ветеран, которому было не до узников. Нет, хлеб он им, конечно, не подавал, но и не поднял руку ни на одного из них. Держу пари, он даже не сподобился на оскорбление хоть одного заключенного. И он был казнен в апреле сорок шестого, как и многие другие рядовые охранники, личные водители, курьеры, помощники – те, которым просто не повезло, которые когда-то были отправлены в распоряжение не того человека. В то время как, например, тот же сынок Круппа, еще в сорок третьем перехвативший бразды правления империей у батюшки-маразматика, был приговорен к двенадцати годам, да и того не отсидел, будучи выпущен на свободу через три года по общей амнистии, – вернули и корпоративное имущество, и личное состояние, разве что не извинились вдогонку, хотя, может, и извинились, откуда мне знать.
Суть в том, что нельзя было надолго отправить в тюрьмы весь цвет высшего промышленного общества, оно и так терпело крах, а потому сошлись на том, что обвиняемых назвали оступившимися коммерсантами, которых заведомо ввели в заблуждение и которые исключительно по незнанию сумели извлечь всю возможную выгоду из суровых реалий режима. В конце концов, оступившиеся принесли извинения.
Подобная судебная чертовщина происходила повсеместно. Бывший комендант Гросс-Розена Йоханнес Хассебрёк, руководивший лагерем с октября сорок третьего и до самой эвакуации, прожил долгую и счастливую жизнь. Когда он был назначен на должность, в Гросс-Розене было не более трех тысяч заключенных. За время его службы эта цифра увеличилась до восьмидесяти тысяч. Кроме того, Хассебрёк отвечал и за тринадцать филиалов Гросс-Розена, куда отправляли умирать на тяжелых работах тех, кого уже не вмещал основной лагерь. Всего в хозяйстве Хассебрёка погибло около сотни тысяч. Во времена оны им были довольны: главный инспектор концентрационных лагерей, всесильный алкоголик Рихард Глюкс не скрывал, что радуется успехам своего протеже на службе. Англичане приговорили Хассебрёка к смертной казни. Позже это решение заменили на пожизненное, еще позже на пятнадцать лет, а вышел он и вовсе в пятьдесят четвертом и подался в бизнес, кажется, открыл лавку в Брауншвейге. Выжившие узники пытались прижать к ногтю бывшего коменданта и после этого, но он был оправдан как местным судом, так и Федеральным конституционным судом Германии после апелляции обвинения. До последних дней Хассебрёк не скрывал, что сожалеет о крахе Третьего рейха, о чем с ностальгической грустью поведал одному израильскому историку, вздумавшему написать про него в своей книге.
Еще один пример. В Сербии немецкая армия столкнулась с сильным партизанским сопротивлением. На всякий случай расстреляли всех евреев мужского пола. Встал вопрос, что делать с их семьями, армейцы не хотели брать на себя ответственность и спихнули несчастных вдов с детьми на местного командира полиции и безопасности доктора Эмануэля Шефера. Шефер посчитал, что правильнее всего будет умертвить их в газвагенах. Шесть тысяч двести восемьдесят женских и детских душ. В пятьдесят третьем наконец и он предстал перед судом в Кёльне. Он получил шесть с половиной лет тюрьмы. За шесть тысяч двести восемьдесят душ. Это по девять часов и шесть минут тюрьмы за каждого убитого. Как вам такой расклад? А если я скажу, что Шефер вышел досрочно спустя три года? Получается по четыре часа и восемнадцать минут за каждого. После освобождения Шефер переехал в Дюссельдорф, где работал рекламщиком до самой смерти. А потому, повторюсь, суд человеческий – сомнительное заведеньице. Я не увидел в нем правды ни во времена нашей силы, когда судили евреев и противников режима, ни после, когда мы поменялись местами. Приговор всегда и везде заказывали режим и его нужды на данный момент. И не дай вам бог уверовать, что чистое правосудие, основанное на справедливости, может стоять в основе того приговора. То, что один суд сегодня назовет «форсированной эмиграцией» и законной «конфискацией», другой завтра назовет «гоном на смерть» и «разграблением чужого имущества». Смотря кто у власти в день заседания.
По большому счету всем нам нужно было извернуться и продержаться в тени до того времени, когда трибуналы союзников над военными преступниками завершились и эстафетную палочку в этих делах приняли немецкие и австрийские суды. Случилось это в пятьдесят пятом, тогда утвердили знаменитый сто четвертый закон[19], который передавал денацификацию полностью в немецкие руки. Это должно было помочь Германии «восстановить доверие мира», так говорилось в преамбуле того закона. Фактически союзники передали бремя наказания немцев немцам и с интересом следили, что сами творившие думали о своих делах, какова степень осознания и какую меру считали заслуженной за то, что сотворили. Немцы со всей свойственной им педантичной основательностью приступили к делу, начав делить всех на категории, подкатегории и подподкатегории: на тех, кто творил, и тех, кто извлекал выгоду, на тех, кого просто зацепило, кто оказался не в том месте не в то время, на тех, кто числился, но не делал, и тех, кто делал, но не числился, на тех, кто преследовал по приказу и кто – по инициативе, кто сочувствовал, но ничем не помогал, кто помогал, но молчал, кто занимал должность, но не извлекал из этого дивиденды, кто сорвал куш, но в партии не состоял, кто участвовал, но не проявил себя, кто проявил, но не состоял, на тех, кто… кто… кто… Были даже созданы судебные палаты, которые сортировали всех по группам. В палаты входили председатели, заместители и бесчисленное множество заседателей, чьи кандидатуры утверждал министр по делам политического освобождения (и такого придумали). Только в американской зоне было рассмотрено три с половиной миллиона дел. От этого утомились даже бесчисленные заседатели, сидевшие на окладах. И как-то постепенно занялись перевоспитанием: обязательные экскурсии в концлагеря, лекции, просмотр документальных фильмов. Работа ведется, и бог с ней. Перевоспитание случилось, «доверие мира» было восстановлено, а старое позабыто, при разработке новых указов немецкие законодатели обратились к новоявленному мерилу, отныне почитавшемуся за образец, – Конституции США. Конституции, при создании которой в свое время опирались на европейские принципы законности англичан, французов… и немцев (и снова гомерический хохот про себя, ибо проклятая боль в груди по-прежнему не дает этого сделать вслух). Что ж, все круги имеют свойство замыкаться. И когда наказание уступило место порицанию, тогда даже у самых отъявленных появился шанс. Если они не Эйхман, конечно. Доходило ведь до абсурда. Так, один австрийский суд, в Инсбруке, если мне не изменяет память, внимательно заслушав показания свидетелей-евреев, бывших заключенных Плашова[20], заявил, что описанное ими насилие просто не укладывается в голове, а потому не могло происходить на самом деле. «Невообразимо» – так было сказано этим свидетелям. Идиоты. Вообразимо все. Тем более то, что происходило на самом деле. На самом. Деле. И вот тут-то в отдельно взятом случае во всей красе исполнилась одна из наших старых надежд: мир просто не поверит в это, ведь де-юре мы были одной из самых просвещенных наций цивилизованной Европы. Но мы не умели даже скрыть все это должным образом. Мы верили в свою победу, а потому закапывали неглубоко во всех смыслах. А потом… потом все случилось так быстро, что закопать глубже уже не было времени, об этом не думали, просто отступали, опять же во всех смыслах. И надо же было такому случиться, действительно нашлись идиоты, не поверившие, – обвинения в том австрийском суде были сняты.
Я продолжаю анализировать, снова и снова пропуская всё сквозь мелкое сито моих старческих воспоминаний, терзаю себя и зарываюсь еще глубже. Ведь не могло все сводиться к банальному исполнению приказа. Даже с напрочь искаженным восприятием действительности, с разумом, поврежденным «новой нормальностью», были необъяснимые попытки абстрагироваться, совершаемые будто бы бессознательно. Даже в лучшие времена, когда немецкая армия атаковала на всех фронтах и тень расплаты не маячила на горизонте, мало кто желал афишировать свою явную причастность к акциям. Да, мы могли обвинять евреев во всех бедах и грехах, кричать об этом во всеуслышание и одобрительно кивать головой, слушая радио и читая партийные газеты, но это не то же самое, что быть персонально ответственным за смерть конкретных Сары, Ривки, Авраама или маленького Шломо. Никто не желал, чтобы соседи узнали, что именно он расстрелял того мальчика, жившего на их улице, никто не желал, чтобы родные узнали, что именно он отдал приказ уничтожить ту семью, державшую швейную мастерскую неподалеку. Помню, рейхскомиссар Остланда Генрих Лозе, окончательно запутавшийся в устных распоряжениях, приказал остановить расстрелы евреев в одном из подконтрольных ему латвийских городков и в отчаянии запросил официальную инструкцию по их уничтожению. Но найти подобную директиву на бумаге ему тогда так и не смогли. И дело не только в том, что вопрос был деликатный, запрещенный к разглашению, но мало кто жаждал оставлять истории свою подпись под подобным распоряжением. Очевидно, ту истину, что происходившее преступно и наказуемо, ответственные постигли интуитивно, а потому, выходит, где-то в глубине наш организм чувствовал неправильность. Я специально не говорю – разум. Разум наш в тот момент умер – с этим приходится согласиться, и это лучшее, что он мог сделать для процветания той системы. Но что-то пробивалось в наше нутро сквозь общенациональный морок, если ответственные избегали прямых приказов на бумаге, и это, увы, лишает последнего оправдания, за которое можно было уцепиться. Ну что ж, виновны по всем статьям.
Тот, кто и по сей день отчаянно цепляется за верность присяге, за подчинение, дисциплину и долг, объясняя творившееся, искренне веруя, что это может стать оправданием, живет и ныне мертвым разумом. Что не самый плохой вариант для них.
В какой-то мере я даже завидую таким. Я, к своей горечи, теперь ясно понимаю, что мы, солдаты СС, были совершенно свободны в своем выборе. Тогда мы полагали, что если откажемся убивать, то убьют, скорее всего, нас. И по своему невежеству или гордыне мы не видели в той ситуации выбора. Но в том он и состоял: убивать или быть убитым. Варианты, которые предоставляют обстоятельства, не всегда могут быть по душе, но этот выбор неизменно есть, и мы свободны в нем. Даже там и тогда мы могли проявить свою свободу воли. И теперь я понимаю, что всякое мое действие есть мой выбор. Не приказ, не распоряжение, не просьба – это исключительно мое решение.
Теперь, конечно, миллионы людей, которых тогда еще и на свете-то не было, уже составили свое собственное мнение о случившемся – я имею в виду произошедшее под названием «Третий рейх», – и это мнение давно утвердилось и пересмотру, конечно же, не подлежит. Но в действительности все было несколько сложнее, да. Говорят, молодым теперь страшно от осознания того, что было бы в случае нашей победы. А что было бы? Тут все просто: не было бы преступников-нацистов, были бы нацисты-триумфаторы, а победителей, как известно, не судят. Я не был победителем, поэтому отец судил меня. Судил и прятал после войны в подвале нашего старого дома в Мюнстере, отчаянно оберегая от другого суда. Такая вот семейно-правовая драма или комедия, тут как вам угодно. В первые годы я еще пытался малодушно искать свою правду в творившейся вокруг чертовщине, с тупым упорством указывал отцу, что только спустя три года ООН догадалась официально признать геноцид преступлением и определить наказание за него.
– Так за что судили в Нюрнберге, если такого преступления юридически не существовало? Задним числом, отец? Но закон не имеет обратной силы. Видишь, на всяком суде нашлось место лицемерию!
– Спрашиваешь, по какому закону судили? По закону человеческого бытия. От человека не должно вонять трупами, сынок.
Я заткнулся. Он меня уел. На это мне нечего было ответить. Несмотря на такие вспышки, я тепло вспоминаю период наших подвальных споров и молчаний. Не потому, что тогда мы вдруг стали чем-то напоминать семью, но потому, что тогда мне не надо было убивать… Сидеть месяцами под собственным домом – невелика цена за такую благость. Сны, правда, были истинной мукой, да, впрочем, это и сейчас так. Меня корежит во сне и скручивает в потный, липкий ком ядовитого страха. Я прикрываю глаза и вижу сквозь небольшие отверстия, как люди наползают друг на друга, карабкаются, невольно и безостановочно давят один другого, отчаянно пытаясь добраться до массивной двери, как раздирают собственные лица и цементные стены с одинаковой легкостью, как безнадежно вгрызаются в воздух в попытке захватить хоть каплю того, что поможет их легким дышать, но вместо этого заглатывают еще больше газа. Я слышу их хрип, который, оказывается, может быть истошным, вижу их выкатившиеся глаза и вывалившиеся языки, слышу, как сочатся жидкие испражнения из их обмякших тел. Каждую ночь я задыхаюсь под горой тех тонконогих трупов с раздутыми животами и заострившимися треугольными черепами, обтянутыми синей кожей, каждую ночь я пытаюсь выбраться из-под них и глотнуть воздуха, но вместо этого в мой горячечный рот с сухой белой пленкой у кромки губ попадает окаменевшая рука или посеревшая стылая пятка. Я вижу эти скрученные тела-веревки, их опавшие подбородки, черные осколки зубов и чувствую вкус того, что вижу, – гной, гниль разложившегося могильника, испещренного мелкими опарышами, которым и поживиться-то нечем, ибо плоти почти не осталось. Но вдруг одно из тел начинает шевелиться, то, что когда-то было головой, приподнимается и уставляется на меня темными пустыми глазницами. Я просыпаюсь. Обмочившись. Лежу в мокрых кальсонах, смотрю в белый потолок.
– Как мало ты знаешь, Ривка. – Я откинулся на подушку.
Дыхание опять стало тяжелым и прерывистым. Ривка поспешила приложить маску к моему лицу. Сделав несколько вдохов, я убрал ее.
– Если вам хуже, я могу позвонить вашей жене, – смягчившимся голосом проговорила медсестра.
Еще чего не хватало. Я внутренне содрогнулся от подобной перспективы.
– Ривка, ты видела мою жену?
Девушка отрицательно покачала головой.
– Не вздумай звонить этой глупой корове. А вдруг я умру и ее бессмысленные глаза будут последним, что я увижу в этой жизни? Это страшно, Ривка. Нет-нет, нужно свести к минимуму ее посещения. В моей корове нет ни капли правды, ни грамма истины, ни в ней, ни в ее выкормышах, которых она, на свою радость, понесла от меня. Ничего нет и никогда не было. Она прах и тлен. Ривка, ты представляешь, каково это – спать с прахом, совокупляться с тленом? Это страшно, Ривка.
Медсестра растерянно смотрела на меня, не зная, что ответить. Пытаясь скрыть замешательство, она полезла под кровать за колокольчиком.
– Это страшно, Ривка, – повторил я, глядя в белый потолок.
Девушка вытащила колокольчик и положила его на прикроватную тумбочку.
– Зачем же вы женились на ней?
Я пожал плечами.
– С женой меня спарили обстоятельства. Обычные, жизненные. Ей нужен был статус замужней дамы, а мне – чистые носки и рубашки. А впрочем, почему бы и нет, не она, так другая. Кто-то же должен был тушить мне капусту и отбеливать воротники.
– И вы ее никогда не любили? – с недоверием спросила медсестра.
Я усмехнулся и посмотрел на нее, но черты лица не мог разглядеть.
– Дай-ка мне очки, – попросил я.
Она достала из ящика тумбочки футляр, вытащила из него очки и помогла мне нацепить их на нос. Я еще раз внимательно посмотрел на девушку. Хорошенькая, с большими серыми глазами, в которых светилось и любопытство, и опаска, и еще черт знает что.
– Ее – никогда, – честно ответил я.
– А вообще? – Ривка присела на край моей кровати.
Я задумался. И вновь начал вспоминать. Всю свою жизнь я бежал от воспоминаний, но от воспоминаний о ней в особенности. Моей единственной искренней надеждой было то, что когда-нибудь смерть избавит меня от этой тяжелейшей пытки памятью… соединив нас вновь.
Я начал вспоминать скрупулезно, тягуче и болезненно, день за днем своей никчемной жизни, чтоб еще раз попытаться понять, как могло статься то, что сталось.
Виланд
Я родился девятнадцатого марта тысяча девятьсот тринадцатого года в баварском Розенхайме. Меня назвали Виланд Кристоф Райнер фон Тилл в честь дедов по обеим линиям и какого-то друга детства моего отца. Первые годы жизни я провел словно в тумане, помню только постоянные слезы матери, испуганные глаза бабки, у которых на устах было одно слово – «война». Еще не зная, что это означает, я боялся вместе с ними заодно, потому что так надо было, это было общепринято. Все вокруг боялись и с замиранием сердца ждали вестей с фронта.
Отца своего я впервые увидел, когда мне было пять лет. Мы тогда только схоронили бабку. Помню, возвращались с матерью из лавки, и вдруг она бросила корзину и кинулась на шею какому-то незнакомому мужчине. Он мне сразу не понравился. Какой-то посеревший, худой, с искривленным, изуродованным носом, он внимательно осмотрел меня темными, глубоко запавшими глазами. Но мне ничего не оставалось, кроме как принять его и свыкнуться с его существованием. Именно от него я узнал, что такое война и почему все ее боятся. Отец служил в артиллерии, был произведен в фельдфебели и награжден Железным крестом первого класса, но награду эту цеплял только по необходимости, чаще она пылилась в материнском бюро, завернутая в платок. Когда никто не видел, я доставал ее и с благоговением рассматривал. Я сдувал с нее пыль и, придерживая за черную ленту с белой окантовкой, с трепетом прикладывал к своей груди. На ордене была чуть заметная царапина, по которой я осторожно проводил ногтем. Однажды отец застал меня за этим делом и дал ощутимую затрещину. В испуге я подумал было, что он боялся, будто я испорчу его орден, но, глядя, как он выхватил его у меня из рук и небрежно швырнул вместе с платком в бюро, я осознал, что дело не в этом. Отец молча вышел из комнаты. Я продолжал стоять на месте, злобно глядя на его уходящее отражение в зеркале.
Я уже вступил в тот возраст, когда многое начал понимать. Мать рассказывала, что отец ушел на войну, будучи полон мыслей о славных делах, которые ему предстояло совершить во имя отечества, и даже маячившая на линии фронта возможность гибели ради этого ничуть его не пугала. Я же увидел разочарованного и уставшего старика двадцати семи лет от роду, придавленного чем-то, что он называл «разбитыми иллюзиями». По вечерам после ужина в нашей семье велись разговоры всё больше о христианской справедливости, перемежаемые литературными обсуждениями, политические же темы были под запретом. Я чувствовал, как в моих родителях взращивался непоколебимый пацифизм, чего они не скрывали, а скорее наоборот. Отец вернулся к своей прежней профессии учителя и на уроках всеми силами насаждал свои взгляды среди учеников. Порой во время его пламенных речей мне хотелось провалиться сквозь землю со стыда, я сидел, вжавшись в скамью и опустив голову. Как же в этот момент я ненавидел его, себя, всех вокруг, прекрасно знавших, что я его сын. Сейчас я понимаю, что по большому счету всем было на это плевать, никто не видел ничего зазорного в речах отца, а многие и вовсе слушали его с интересом. Тогда же я внутренне кипел. Как он мог говорить о доброте и всепрощении, о бедах, которые несут войны, когда Германская империя теперь стояла на коленях перед всем миром, будучи полностью разоружена, ограблена экономически и земельно, и народ несправедливо задыхался от кризиса? Как можно было такое попустить, простить и забыть? Так мог говорить только трус и предатель. Такой же трус и предатель, как те, которые решили подписать кабальное перемирие, когда мы еще способны были задать жару врагу. На своих уроках отец не позволял писать сочинения на общественные темы – лишь литературно-художественные размышления, он жестко пресекал всякие политические споры в пределах школы, впрочем, как и за ее пределами во время пеших прогулок с классом. Он был активным участником «Перелетных птиц» и постоянно таскал нас в походы, в которых мы проводили какие-то бессмысленные собрания Общества любителей природы, разучивали дурацкие песни из сборника Бройера «Лютня-простушка», затем распевали их, сидя у костра на берегу Кимзее. Живописное озеро располагалось недалеко от города и за свои размеры было прозвано Баварским морем. Привольно раскинувшееся у подножия гор, оно действительно выглядело впечатляюще, и рыбалка на нем была не таким уж отвратительным времяпрепровождением, а выловленная и приготовленная тут же на костре форель и вовсе была замечательна. Но, к сожалению, все это сопровождалось уже набившими оскомину пацифистскими разговорами нашего учителя – моего отца. Я совершенно не понимал, как можно быть настолько невосприимчивым к тому, что творилось в стране. Наконец мне надоело, и я наотрез отказался участвовать в этом балагане. Отец и мать пытались повлиять на меня, но оба по своей природе были слишком мягкими. Я же обладал тяжелым нравом и сильной волей, взращенными во мне непонятно каким чудом.
Однажды, слоняясь с друзьями по городу, мы наткнулись на некое подобие митинга. Центром его был затянутый с ног до головы в кожу мотоциклист среднего роста. Лицо его не представляло собой ничего необычного: округлое, бледное, маленький шаровидный нежный подбородок, серые, судя по прищуру, близорукие глаза, тонкие, правильной формы губы. Он снял кожаные перчатки и бросил их на еще горячий бак своего мотоцикла. Я обратил внимание на его ухоженные, почти женские руки, но, впрочем, так же быстро я переключился с его внешности на речь. Он был прирожденным оратором, громко кричал о еврейском капитале и большевизме, призывая к борьбе с теми, кто стоял и за тем и за другим. Поначалу я мало вслушивался в слова, меня заворожило, как он говорил: порывисто, восторженно, словно готов был тут же выпорхнуть из своей оболочки и, обратившись в слова, которые сам же и рождал, мчаться по миру, раздавая то, во что верил. Я жадно наслаждался зрелищем свежего идейного человека, удивительным образом оказавшегося в нашем захолустье, и постепенно начал вслушиваться в то, что он говорил.
– Это чуждое, негерманское племя давно внедрилось в нашу жизнь, вцепившись исключительно в самые прибыльные и влиятельные сферы. Думаете, сколько их в юриспруденции? Половина! Вы думаете, он свой, но это вы так думаете, потому как этого они и желают, но то лишь видимость. Проникая в чужое сообщество, они всегда пытаются создать государство в государстве. И процесс этот ожидаем, потому как еврей лишен каких бы то ни было представлений о пользе обществу, ведь племя сие не умеет жертвовать, но лишь потреблять. Конечно, живя с нами, они со временем выучивают, как до́лжно поступать человеку достойному, чьи помыслы направлены на благо общества, но, даже изучив эту нехитрую науку, они не пошевелят и пальцем, если это не принесет им барыши. Все, что свято для нас, будь то семья, религия, политика, верность стране, – для них лишь средство наживы. Они не создали ничего прекрасного из того, чем обладают. Ни единой монеты в их кошельке, ни единой тряпицы на их теле, ни единого куска хлеба в их доме нет, которые бы они не отняли нечестным путем. Здесь нет никаких хитрых схем! Их рыночные спекуляции и аферы просты как дважды два. Они ловко оперируют спросом и предложением, часто откровенно подтасовывая и то и другое, а затем вынуждают производителей продавать им по низким ценам, а сами перепродают по высоким. В итоге обманутый сельский производитель меньше получает, обманутый горожанин больше платит! А что есть разница, излишек? Это и есть еще одна часть мирового еврейского капитала, который растет и крепнет с каждым днем, без оглядки на войны, неурожаи, инфляции и страдания настоящих немцев! И чем больше таких обманутых немцев, тем больше еврейский барыш. Вот они, ваши деньги, заработанные по́том и кровью на земле наших немецких предков, они идут на благо и пользу еврейства, которое заглатывает все больше и больше и никак не насытится! Именно этими еврейскими капиталами и были поддержаны «ноябрьские преступники»[21], которые способствовали провозглашению позорной демократической республики. Эти мерзавцы воткнули нож в спину Германии, принудив великую нацию встать на колени перед врагом, который не был ни сильнее, ни умнее ее. У нашей армии было достаточно сил, чтобы продолжать, но почему они это сделали? И здесь все просто как дважды два: еврейским воротилам не нужна сильная, умная, процветающая Германия. Такую Германию они не смогут подмять под себя и доить дальше. Им нужна слабая, покорная и всего боящаяся Германия. Такой они легко смогут управлять, дергая за свои нити из-за ширмы. Настало время обрезать эти нити! Пришло время создать сильное государство, власть которого положит конец этому позору, свергнет республиканский режим и уничтожит его еврейский оплот.
– Все дельцы ищут выгоду, еврей ли, немец. А тот, кто не ищет, так тот разве делец? Тот банкрот форменный, – раздался насмешливый голос из толпы.
Незнакомец и не думал злиться, наоборот, улыбнулся и вскинул тонкий палец вверх, вновь призывая к вниманию:
– Это правда, дела ведут все, инстинкт накопительства есть у всякого, самая последняя домохозяйка будет торговаться и искать выгоду, но домохозяйка будет до хрипоты торговаться на благо своей семьи, чтоб сытнее накормить своих детей и усталого после тяжкого рабочего дня мужа. Так же как и немецкий предприниматель будет исходить из интересов не только личного обогащения, но всей Германии. Немецкий делец будет думать и о себе, и о промышленных интересах страны и ее общества. Еврею же это безразлично, все его действия направлены на благо его самого, еврея. Все ресурсы страны, сырье, продукцию, производство – все он употребит лишь себе на пользу. Так делает дела еврей, ему безразличны интересы общества, в котором он живет. Он будет постоянно расстраивать всю экономическую структуру, торгуя из-под полы, он будет выжимать общество до последнего, и если для того, чтобы закинуть в свой сейф лишний пфенниг, надо будет поменять веру, то еврей сделает и это без раздумий. Ради комфортного накопительства они переходили в христианство, но душой оставались в синагогах, используя новую веру лишь как средство достижения целей. Еврей остается евреем в любой вере, это уже ничем не вытравить из его крови. И, по сути, он становится обыкновенным шпионом, который скрыл истинное лицо за маской, введя в фатальное заблуждение окружающих. Они туго набивают свои кошельки, но когда что-то вдруг идет не так, то тут же прикидываются банкротами и сбегают. Вы для них – лишь средство обогащения. Верите ли вы, что они по доброй воле остановятся? Откажутся от своих грязных прибылей? Нет, они и дальше будут паразитировать на немецкой честности и открытости. Кто после мировой войны быстрее всех достиг богатства и процветания? Евреи. Немцы же продолжают изнывать от неустройства и бед. Почему? Потому что настоящему немцу свойственен честный и тяжелый труд, который не может быстро принести дивидендов. Методы же еврейского предпринимательства заставляют задуматься. Они способны извлечь выгоду из всего, даже из собственного банкротства, которое, безусловно, лишь прикрывает их торгашеские махинации. Обратитесь к истории, друзья мои, и вы поймете, что еврейская раса на протяжении всего времени жила лишь торгашеством, я отказываюсь называть это торговлей, ибо еврейское предпринимательство – это особый вид предпринимательства. Они не воевали, не трудились тяжко на земле, культурные и интеллектуальные ценности имели для них интерес только с точки зрения возможной продажи или спекуляции. Всюду, где появлялся еврей, велись дела – будь то музей, библиотека, рынок, площадь, больница или даже война! Кто, как не евреи, извлекал наибольшую пользу из всех военных конфликтов, в которых, конечно же, они не принимали солдатского участия?! Всем известно, что они всегда уклонялись от службы в армии, используя свои финансовые возможности и влияние…
– Хаим служил в мировую, и брат его не вернулся, и сына Штокманов поставили под ружье… – раздался недовольный голос в толпе, но мотоциклист не слышал его.
– И от кого мы получили нож в спину в восемнадцатом? Всеми силами они тайно способствовали этому постыдному перемирию на ужасных для Германии условиях, а потом еще и смели требовать, чтобы мы продолжали выполнять эти условия даже в самые тяжелые времена, в дни сумасшедшей инфляции, напрочь обесценившей все сбережения немцев. Нормально ли это, я вас спрашиваю, когда, получая заработную плату утром, к вечеру честный рабочий уже не может на нее купить даже бутылку молока, ибо утром она стоила пять миллиардов марок, а к вечеру все десять? Когда немцам нечего было есть, этот волк в овечьей шкуре Ратенау[22], еврейское отродье, пробравшееся на самые верха, продолжал преклоняться перед Антантой, отправляя им репарации, обескровливающие Германию. Но разве война, проигранная по вине еврейских предателей, является достойной причиной того, чтобы целая нация была обречена на рабство? И не будем забывать, что Ратенау был одним из тех, кто заявил, будто мы проигрываем войну и не имеет смысла ее продолжать. Но так ли это было на самом деле? Когда были подписаны унизительные условия этого постыдного перемирия, наши солдаты были на вражеской территории! На всех фронтах! Понял ли кто-то, почему нас заставили поспешно бросить свои позиции? Много странного в той истории, но одно несомненно: те, кто проливал свою кровь на фронте и гнил в окопах, получили за свою преданность родине лишь позор и бесславие и стали посмешищем в глазах всего мира, потому что кто-то преследовал свои частные цели! И сегодня мы знаем, кто это! Мы знаем, кто эти преступники, не желающие ни воевать за страну, в которой живут и которой обязаны всем, ни возделывать ее земель. Это паразиты, умеющие лишь спекулировать тем, что выращено на этой земле руками немца.
Мотоциклист сделал паузу, чтобы перевести дух, и в этот момент кто-то успел вставить замечание:
– Верно, кто ж будет спорить, так ведь это потому, что евреям всегда было запрещено владеть землей. Не давалось им такого права, вот они и полезли в торговлю да суды, а теперь, выходит, мы их за это же корить будем? И где эти паразиты-спекулянты? Хаим? Так тому не до спекуляций, отспекулировал свое в мировую, вернулся без руки и слепой на один глаз. Прогоним его, кого ругать будем? Себя, что ли?
Из толпы вновь раздались смешки.
– Семья Хаима здесь давно, в третьем поколении. Он немец поболее многих. А вот те евреи, которые повадились к нам в поисках лучшей жизни из России и Польши после войны, вот те да, – задумчиво проговорил кто-то.
– В этом и ошибка! – мотоциклист чуть ли не взвизгнул, но вовремя себя осадил. – Они хотят, чтоб мы так думали, будто они стали одними из нас. Но еврей никогда не перестанет быть евреем, в каком бы поколении он тут ни находился. Почему они целыми семьями повадились к нам после войны? Они бегут от гонений и погромов! Почему они думают, что здесь их не ждет то же самое? Потому что мы слишком мягки, чтобы дать им соответствующий отпор, потому что мы слишком цивилизованны, чтобы опускаться до таких скотских погромов, как поляки и русские. Но пора прекратить эту мягкотелость! Мы уже достаточно пострадали от их племени. Нужно выдворять их обратно, а заодно и тех, кто уже давно прячется под немецкой личиной. Когда империя на коленях, – страстно продолжал мотоциклист, – кто извлекает дивиденды из национального экономического краха? Вы все еще думаете, что они не опасны, так я вам объясню, почему у вас в голове сложилось такое ложное представление. Чтобы влиять на общественное мнение, они всеми правдами и неправдами пролезли в газеты и на радио и подмяли под себя всю прессу. О, это великая власть! Каждый раз пачкая газетную бумагу своей статейкой или засоряя радиоэфир своим рассказом, еврей в первую очередь думает, принесет ли это материальную выгоду лично ему или его хозяину, еще более отвратительному еврею. Они хорошо понимают, что, удерживая в своих руках прессу, они могут вертеть общественным мнением, как им вздумается. Они имеют мощнейший инструмент управления и влияния на неокрепшие умы нашей молодежи. И это таит в себе смертельную опасность для Германии. Сегодня вы читаете газету, а завтра вы несете свои деньги еврею – вот чем опасно еврейское засилье в прессе. И это происходит в то время, когда пресса просто обязана быть главным инструментом духовного воспитания и подъема немцев. Но еврейская пресса затыкает рот каждому, кто решил проявить смелость и открыто выступить против них. Они оха́ют речь любого здравомыслящего политика, а потом заткнут ему рот, имея в своем арсенале великое множество экономических способов давления. Разве секрет, что даже газеты, занимающие антисемитскую позицию, вынуждены менять ее, так как перестают получать рекламные объявления от агентств, которые держат всё те же евреи? В итоге мы читаем лишь то, что угодно им. И все это инспирировано на деньги, которые они украли у нас же! Нам туманят разум за наши же деньги! Даже если они будут располагать истинной информацией, но эта истина будет идти вразрез с их целями, они будут лгать и скрывать действительное положение вещей. Вы не дождетесь от них правды, если она им невыгодна. За каждой рекомендацией в их статейках скрывается спекуляция. И если попускать и далее, то эта еврейская спекулятивная бацилла будет распространяться с невиданной скоростью, саботируя все истинно немецкое и совершая преступление против самой природы, если угодно. А потому нужно как можно скорее сорвать с их рыл немецкие маски, которые они нацепили на себя много лет назад. Они не немецкие евреи! Немецкие евреи – такого понятия даже не существует. Это природный оксюморон. В их случае ассимиляция – это паразитический процесс. Ни один народ не пустил бы их на свою территорию и в свою жизнь, если бы осознал, сколь они опасны. Это проблема не только немцев, но всех народов, ибо евреи – бич всего мира. Им нужно задуматься, почему весь мир гонит их прочь. У всех народов случаются военные конфликты между собой, но все народы объединяет одно: все они питают отвращение к евреям.
И он обвел выразительным взглядом притихшую толпу.
Горожане, слушавшие мотоциклиста, стали неуверенно переглядываться, кто-то пожал плечами и все же спросил:
– Так куда им податься? Где существовать?
– А зачем им вообще существовать? – вкрадчивым вопросом ответил мотоциклист и улыбнулся, мягко растянув свои тонкие губы.
Он продолжил говорить, разобрав всю еврейскую историю до Христовых времен. И я слушал, ловя каждое его слово. Это было как вспышка молнии среди ясного неба, заставившая меня размышлять. И я видел, что пламенное выступление мотоциклиста произвело впечатление и на моих друзей. Расходились мы весьма задумчивые.
– Пропагандист, – знающе проговорил лавочник Шваббе, шедший впереди нас, – много их сейчас расплодилось, да только в этой партии самые речистые и горластые.
– Может, и дело говорит, кто ж его знает…
Я догнал лавочника:
– Что за партия, герр Шваббе?
– Национал-социалистическая рабочая, – бросил он мне и вновь обратился к своему собеседнику: – Сколько их теперь развелось, и не сосчитаешь. И главное, все сюда прут, Бавария стала прибежищем для всех горлопанов, а разобрать их – так шайка безработных, которые не знают, куда себя приткнуть.
– Здесь-то они зашевелились. Воротят дела, какие хотят.
– А все потому, что в пику Берлину наши власти их активно поддерживают. Вот те и стекаются к нам со всех концов, будто медом намазано.
– И правильно! – неожиданно подал голос старший сын Шваббе Эрих. – Рано или поздно Бавария пойдет маршем на Берлин, чтобы призвать к ответу социалистов. Сколько можно исполнять позорные условия Версаля?[23]
– Эти бесконечные марши и демонстрации ни к чему хорошему не приведут, – тут же одернул отец сына, – все эти напыщенные речи и потрясание оружием только затуманивают народу разум и толкают на неверный путь. Германия еще не оправилась от мировой войны, чтобы окунаться в гражданскую, сынок.
– А кто говорит о гражданской? Немецкий народ должен объединиться против внешнего врага. Нужно лишь втолковать это социалистической кучке в Берлине. Впрочем, там нужны жесткие меры. Там крепко засели те, кто втыкал нам нож в спину в восемнадцатом.
Герр Шваббе замедлил шаг и внимательно посмотрел на сына:
– А ты, я смотрю, уши-то развесил, наслушался этих горлопанов из коричневой шайки.
– А оно, может, и так. Все лучше, нежели терпеть, что творится, – недовольно проворчал Эрих.
Название партии крепко засело у меня в голове.
Дома мать уже накрывала ужин. Я сел за стол и молча наблюдал за ней. Расставляя тарелки, она спросила, о чем я думаю.
– О евреях, – неожиданно выпалил я.
Мать замерла с тарелкой в руках и озадаченно посмотрела на меня.
– Они распяли Иисуса, из-за них у многих немцев нет работы, и вообще войну мы тоже из-за них проиграли, еще газеты, журналы, радио тоже под их контролем, еврейский капитал и заговор… это тоже…
– Что тоже?
Мы с матерью одновременно обернулись. В дверях стоял отец. Я напряженно смотрел на него исподлобья.
– Ты знаешь, – наконец проговорил я.
– Нет, поясни. – Вопреки моим ожиданиям, он был совершенно спокоен.
Прошел и сел за стол напротив меня. Мать снова засуетилась с тарелками.
Я никак не мог собраться с мыслями, чтобы пересказать то, что говорил мотоциклист. Вся волнующая информация бушевала у меня в голове и выплескивалась какими-то обрывками.
– Их вожди еще при царе Соломоне вступили в сговор против остальных народов и договорились подчинить себе всю торговлю и финансовую систему нашего мира, а для того они расползлись по всему миру и внедрились во все народы, чтобы подрывать их благосостояние изнутри. Своими кровавыми и вонючими щупальцами они всасываются в чужое, но делают это незаметно, а потому до сих пор, спустя тысячи лет, наш народ не осознаёт, в чьей он власти.
Отец слушал меня внимательно, не перебивая. Когда я умолк, он еще немного помолчал, глядя на меня, и наконец проговорил:
– Еврейский заговор против всего немецкого народа, в это нам верить теперь? Когда правительство не способно наладить то, на что подвизалось, и тащит нас в тартарары, другие теперь хотят нас этим задурить и переманить? Что ж, извечный прием. Да только дураков нет. Порядок нужен да честь, а не заговоры выдумывать.
– А газеты? Они захватили все печатные органы, и теперь нет никакой свободы прессы. Они печатают что им надобно, а мы…
– Свобода прессы, сынок, понятие довольно относительное. Эта свобода заключается в свободе владельца газеты выражать свои интересы, только и всего. Уж кто бы ни был ее владельцем – еврей ли, немец, социалист, коммунист или эти новые горячие крикуны в коричневых рубашках, – всякий будет свое двигать, а коль скоро его попытаются урезонить, так мигом возопит о свободе слова. Да только своего слова. – Отец усмехнулся. – Последнее дело читать те газеты. Да и другие тоже не надобно, сынок. Я вот Шиллера из библиотеки принес, дать тебе?
– Как ты не понимаешь?! Евреям только прибыль нужна, плевать им на Германию, и на немцев плевать. Они обманывают честных людей ради наживы. Почти все лавки их, и там они занимаются всяким жульничеством. Спекулируют… по завышенным ценам продают нам плохой товар. Все потому, что евреи хотят легкой жизни. Тяжело работать – это не для них.
– Плохой товар? – Отец задумчиво посмотрел на мать, которая нарезала хлеб. – Я купил этот хлеб в лавке Штокманов вчера. Утром ты с аппетитом уплетал его с вареньем и сейчас, думаю, не откажешься. Так ли уж он плох? Ты можешь удивиться, почему я сейчас покупаю именно у них, ведь их лавка дальняя, но у них дешевле, совсем немного, но когда каждый пфенниг на счету, то и это радует. Ты говоришь, не хотят работать, а лавка как же? Разве она сама по себе существует? Разве в ней не нужно работать?
Я шумно выдохнул, все больше распаляясь от спокойного и чуть насмешливого тона отца.
– Я сказал, они не хотят по-настоящему работать, руками на земле, понимаешь? Хлеб они сами не взращивают, а покупают дешево у крестьян и продают дорого горожанам. Нам, отец!
– Так ведь им на протяжении веков запрещено владеть землей. Начни кто-то из них возделывать землю, «тяжело работать», как ты говоришь, его бы тут же обвинили в нарушении закона, оштрафовали и отправили б в тюрьму, понимаешь? А насчет Иисуса – тут ты прав, нехорошо вышло, сынок.
Мать тихонько прыснула со смеху и села рядом.
Ужинал я молча и в злобе.
Вернувшись как-то домой после школы, я застал у нас гостя. На вид ему было лет тридцать пять – сорок, судя по всему, бывший вояка. Высокий лоб, мясистый нос, недобрый взгляд, приметная родинка на щеке – он мне сразу не понравился, да и вел себя странно: был возбужден, говорил излишне резко, порывисто. «Армейский приятель отца», – шепнула мать.
Не привлекая к себе внимания, я сел с тарелкой в углу стола. Мать пододвинула мне хлеб, и я принялся за еду.
– Помнишь, как при Ипре? – проговорил гость.
– Помню, – невесело кивнул отец, – и Ипр помню, и у Нёв-Шапель пришлось туго.
– Там-то тебе клюв и подпортили, – хлопнув отца по плечу, расхохотался незнакомец.
Отец усмехнулся, потирая свой искривленный нос. Мать нахмурилась, но вмешиваться не стала. Она достала из шкафа бутылку шнапса и поставила на стол. Гость одобрительно кивнул.
– Как Берта и дети поживают? – поменял тему отец.
Видно было, что воспоминания о войне были ему неприятны.
– Да что им сделается, живы-здоровы.
– Сколько им уже, Теодор? – Мать присела рядом с мужчинами.
– Ирме уже… – Гость задумался, высчитывая в уме: – Ирме уже двенадцать, а Герману, выходит, недавно восемь исполнилось.
– Как время летит, – проговорила мать, – уже такие взрослые.
– Да уж, мою молодость сожрали, скоро свою будут прожигать, – проговорил гость с усмешкой.
– Не говори так, Теодор, дети – это счастье, – покачала головой мать.
– Эх, Герти, когда-то для меня счастьем было поступить в техническое училище, так нет же, выяснилось, что эта курица вновь беременна. Только и разговоров было: ты должен кормить семью, ты должен зарабатывать, иди на службу, забудь об учебе… – Теодор распалялся все больше и больше. – В конце концов, могла бы и позаботиться, чтобы без последствий. Вы же, женщины, знаете разные штуки, чтобы предотвратить…
Мать положила ладонь ему на плечо и погладила, стараясь успокоить.
– Тише, Теодор, здесь ребенок. – Она кивнула в мою сторону, но гость даже не посмотрел на меня.
Я сделал вид, что их разговор мне совершенно не интересен.
– Так ты по-прежнему в «Фарбене» работаешь? – отец, не любивший неловких ситуаций, опять переменил тему.
– Да, с химиками все более-менее стабильно, – вновь расхохотался Теодор, уже через секунду позабывший свои печальные мысли, – эти ценят решительного и исполнительного офицера, да и работа по мне, не помню, говорил ли тебе, меня перевели в службу безопасности.
– Нет, не говорил, – отец покачал головой.
У меня все больше создавалось впечатление, что приятель отца – психически неуравновешенный, и даже если бы он нес откровенную чушь, родители бы с ним соглашались, только бы не злить и не расстраивать его. В то же время я видел жалость в глазах матери, когда она смотрела на гостя; хотя она жалела всех без исключения, но сейчас в ее взгляде застыло особенное сострадание. Она все еще поглаживала Теодора по плечу, и отца сей факт нисколько не смущал.
– Вот так, Эмиль, после десяти лет службы я оказался не нужен своей родине. Обременен семьей, выброшен на улицу, вынужден пополнить ряды сотен тысяч фронтовиков, преданных тылом, и все из-за этих проклятых социал-демократов, коммунистов и евреев, проклятая Веймарская республика! – Он ударил кулаком по столу так, что бутылка со шнапсом, выставленная матерью, зазвенела. – А химическому концерну я оказался нужен! – И Теодор вновь зашелся своим грубым раскатистым смехом.
Я уже перестал изумляться резким перепадам в его настроении.
Отец разлил шнапс, и Теодор на время смолк. Выпив, он повернулся к отцу и проговорил уже спокойнее:
– Эмиль, я ведь к тебе с делом. Я в партию вступил. – Теодор полез во внутренний карман и бережно извлек билет с фотографией.
Я вытянул шею, стараясь разглядеть документ.
– Все-таки примкнул к ним, – покачал головой отец, разглядывая партийный билет, – к штурмовикам?
Тот кивнул:
– Но это еще не все, я присматриваюсь к другому партийному формированию.
Он посмотрел на отца странным взглядом.
– Охранные отряды, – догадался тот, – слышал, там строжайший отбор. Ты по возрасту не проходишь, – отец с сомнением покачал головой.
Теодор резко выхватил у него билет и тут же спрятал его в карман.
– Возраст не главное, главное, что здесь и здесь, – он поочередно ткнул себя в голову и в грудь. – Эмиль, тебе нужно присоединиться к нам. За нами будущее. Вот увидишь, партия поднимет Германию с позорного дна, на котором мы оказались по милости засевших в тылу прохвостов. Это не просто политическая партия, это выплеск всех чаяний истинных немцев, то, чего мы все давно ждали. Кто мы сейчас в глазах мира? Неудачники! Но скоро все поменяется, партия даст нам знатный толчок в нужном направлении, вот увидишь, Эмиль.
– Что нового она нам предложила? – пожал плечами отец. – Все те же клятвенные обещания экономического чуда да ругань евреев. Было уже. Одно хорошо, ваши национал-социалисты хоть прямо не призывают молодежь убивать евреев, как в Лиге защиты и сопротивления.
– Вот еще, мараться об них, – поморщился Теодор.
Отец выразительно посмотрел на гостя, и тот поспешил продолжить:
– Ты должен понять, что сейчас идет становление, мы растем, как все живое. И те, кто будет с партией у истоков, вырастут вместе с ней, и это уже не шутка, если ты понимаешь, о чем я.
Я окончательно позабыл о еде и, уже не скрывая любопытства, откровенно слушал их разговор. Теодор говорил:
– И ты, и я, и наши с тобой семьи, и семьи тысяч других достаточно нажрались дерьма, мы отдали этой стране все, что у нас было, нашу молодость, силы и веру, и что мы получили взамен? Жалкие местечки-подачки, с которых нас гнали поганые социал-демократы, занявшие лучшие посты при республике. Нам, старым воякам, не нашлось места даже в рейхсвере[24], который ныне – откровенный позор, жалкая тень былой великой армии. Но время все исправит, расставит по своим местам, и те, кто вовремя примкнул к истине, кто поддержал ее власть в самом начале и пошел с ней вперед без страха и оглядки, те будут вознаграждены сполна. Ты уж поверь мне, Эмиль, поверь. Мы вернем наши земли, необходимые для процветания народа, я говорю сейчас о тех, в чьих жилах течет густая, истинно немецкая кровь. Мы выкинем всю иностранную шваль, живущую на нашей земле и пользующуюся благами, принадлежащими нам по праву рождения. Уничтожим все нетрудовые и…
– Теодор, – отец вскинул руку, пытаясь унять словесный поток гостя, – Теодор, ты говоришь по написанному. Эти двадцать пять пунктов[25] мне хорошо известны. Довелось мне ознакомиться с литературным трудом вашего руководителя. Отвратительный материал. Такого надругательства над немецким языком я давно не встречал. Поразительные стилистические ошибки сочетаются с лексикой нерадивого школьника. Но одного у автора не отнять: энергия и целеустремленность у него неуемные. У нас в школе уже провели агитацию, среди старших ребят эта зараза распространяется со скоростью света. Хорошего я в этом не вижу, молодежь разбушевалась, ведут себя так, как будто им все дозволено, носят ножи, пугают сверстников, называют это агитационной работой.
Отец бросил на меня выразительный взгляд, и я тут же опустил голову, уставившись в тарелку.
– Зараза?! – возмутился Теодор, словно не слышавший, что отец произнес после этого слова. – Мы говорим о будущем нашей родины, твоей и моей, Эмиль! Ты считаешь, что социалисты накормят твоего сына? Или коммунисты приведут нас к стабильности? Не будет у нас ни того ни другого с таким подходом! – Его лицо начало багроветь. – Скоро и рейхсвер пойдет за нами. Любой, кто хоть раз надевал форму, жаждет отмыться от унижений этих лет. Может, в открытую они еще опасаются, но, скажу тебе по секрету, уже каждый второй юнец из кадетского училища за нас. Все хотят мяса, пива и хлеба, вместо этого жрут позор здоровенными ложками по милости прохвостов, заседающих в рейхстаге[26].
– К восстанию, значит, призываете…
– Поход на Берлин неминуем! Помилуй, это уже каждой домохозяйке ясно. В своей ненависти к берлинским крысам вчерашние соперники станут союзниками, а Гитлеру под силу объединить их и повести за собой. Ты бы его слышал! Когда этот человек выступает перед толпой, это уже не человек. Это пророк! Он превращается в нечто сверхчеловеческое, стоящее над всеми нами. Натурально, мессия великой Германии. За ним пойдут, Эмиль, помяни мое слово. За ним пойдут. После Ландсберга[27] он стал только сильнее, вся та шумиха с путчем пошла ему на пользу. Даже самые далекие тогда всё поняли. Этого парня полюбили уже во всех слоях, от простых трудяг до толстопузых промышленников, хоть и не у всех еще есть смелость сказать об этом вслух, ну ничего, эта скромность вылечится. Я тебе по секрету скажу: у него в кармане уже и министр юстиции, и глава полиции, информаторы в каждом министерстве. В открытую уже никто не решается пресекать нацистские демонстрации, все путем переговоров и увещеваний, знают, что полицейские вот-вот перейдут под знамена штурмовиков. И это только начало. Вникни, Эмиль, сегодня эти люди еще раздумывают, к кому примкнуть, а завтра выстроятся в очередь, и уже мы будем выбирать, брать их с собой в славный путь или нет. И уж поверь, тугодумы, не способные пораскинуть мозгами и верно оценить баланс сил, потом крепко пожалеют.
Отец внимательно слушал, он не перебивал, но так ни разу и не кивнул. Стоило гостю умолкнуть, как он протяжно вздохнул, набирая воздух. Я с тоской уставился в тарелку – сейчас начнется.
– У истоков славного пути ненависть не должна лежать, Теодор. Объединяет, говоришь? Так это до поры до времени, а потом это станет гидрой, пожирающей собственные головы, и никому добра от этого не будет. Мюнхен как червивый плод сейчас, разъедается заговорами и контрзаговорами. Город пухнет от митингов и стычек, кишит шпиками, которые уже и сами запутались, кому и на кого доносить. Немудрено, что в такой ситуации он легко задурил головы растерянным людям своими речами.
– Для того чтобы обычные речи достигли такого эффекта, они должны попасть в уши, жаждущие слышать. Вникни, Эмиль, вникни! Народ жаждет. Твой народ.
Отец покачал головой, уже не обращая внимания на настроение гостя.
– Не знаю, Теодор, не знаю. Я и тем не верю, и от этих добра уже не жду. По мне, так лишь бы не хуже, чем сейчас. И главное, чтоб не обратно к войне.
В этот момент мне казалось, что я могу собственноручно задушить отца. В моих глазах он выглядел самым жалким и трусливым существом на свете. Сидящий на крошечной кухне в опрятной, но застиранной одежде, усталыми глазами глядящий на окружающий мир и ничего не желающий, а самое страшное, даже боящийся уже что-либо желать, – я содрогнулся при осознании, что когда-нибудь могу стать таким же, но еще более меня угнетало понимание, что он не одинок в своих мыслях и таких, как он, может быть, тысячи – страшащихся что-либо предпринять для изменений к лучшему.
Я с остервенением размазал по столу хлебный шарик, который катал до этого.
– Не хуже, чем сейчас, Эмиль?! Да нас имеет всяк, кто хочет. Вспомни, как в двадцать третьем французы и бельгийцы оккупировали Рейн, когда нам уже нечем было выплачивать эти проклятые репарации. Что сделало наше хваленое правительство? Ничего! Не было ни сил, ни решительности. Разве таких вождей заслуживает великий германский народ?
Отец ничего не ответил.
Гость остался у нас на ночь, мать постелила ему в единственной свободной каморке на первом этаже. Утром он тепло распрощался с родителями и вышел из нашего дома; я уже ждал его на улице. Увидев меня, он молча кивнул и собрался пройти мимо, но я преградил ему дорогу.
– Я видел, как вы вчера показывали свой партийный билет отцу, – проговорил я прямо.
Он уже внимательнее окинул меня взглядом и осторожно произнес:
– Положим.
– Пожалуйста, – горячо заговорил я, – помогите и мне вступить, что для этого нужно? Я хочу принести пользу своей стране.
– Сколько тебе лет, сынок?
– Почти шестнадцать. – Я тут же расправил плечи и выпятил грудь.
В действительности в то время мне было только пятнадцать, но выглядел я на все восемнадцать. Я был физически развит, высок и силен и часто ловил на себе особые взгляды девушек, природу которых в силу возраста или пуританского воспитания не понимал, отвечая широкой наивной улыбкой.
Гость покачал головой.
– Ты еще слишком молод, мой мальчик. Не могу я без разрешения отца распорядиться твоей судьбой. Хоть он и превратился в самодура, но все же он по-прежнему мой друг, спасший когда-то мою шкуру.
Я резко сник, настроение у меня вмиг испортилось. Даже в свое отсутствие отец умудрялся портить мне жизнь. Видя мое разочарование, Теодор порылся в своем портфеле и что-то достал.
– Нá вот, возьми почитай, только отцу не показывай, очень уж он у тебя трепетный стал к таким вещам.
Он протянул тонкую книжицу. На мягкой потрепанной обложке большими буквами было отпечатано название партии, под ним был нарисован мотыгообразный крест, обведенный толстым кругом. Я тут же спрятал брошюру под рубашку. Он быстро кивнул, затем хотел было сразу идти, но на мгновение все же задержался и крепко пожал мне руку. И направился в сторону вокзала. Я еще долго смотрел вслед этому высокому человеку с тяжелой походкой, будучи, к своему сожалению, почему-то уверен, что больше никогда его не увижу.
Мне понадобилось менее часа, чтобы проглотить брошюрку от корки до корки. «Арийцы – элита белой расы. Сподвижники прогресса, мыслители, творцы, воины – высшие создания природы. Сверхлюди». Я тихо шевелил губами, жадно поглощая строчку за строчкой: «…как никакой другой народ, они имеют право на лучшее жизненное пространство…» Держать полученную информацию в себе было выше моих сил, мне необходимо было с кем-то обсудить прочитанное. На следующий день я рассказал обо всем Отто, своему школьному приятелю. Тот передал остальным. Мы начали слушать радио, читать газеты, выуживать информацию о деятельности партии где только можно, а после уроков бурно обсуждать последние новости и свои мысли на этот счет. Мы осознали, что именно мы избраны для того, чтобы переломить отчаянную ситуацию, в которой оказалась Германия, потому что мы – немцы и уже по одному этому имеем право. Само провидение было за нас, поскольку наделило нас силой и властью над остальными, и пришло время воспользоваться этим. Это кружило голову, заставляло кровь бежать быстрее, а сердце биться отчаяннее. Мы спорили, дрались, тут же мирились и мчались выплескивать энергию, которая хлестала через край.
Нам нужен был смысл, и мы нашли его.
Заводилой у нас был Эрих Штицель, ему уже исполнилось восемнадцать. Ходили слухи, что в школе он считался тупицей, заставлявшим даже самых терпеливых учителей бессильно опускать руки, но при этом он был невероятно амбициозен – нелепое сочетание, а потому я был склонен верить, что на Эриха наговаривали. Он был враждебен ко всему происходящему, что вело к недовольству и частым возмущениям, но при этом он всегда оставался необычайно серьезен. У него были огромные глаза, пристально ощупывавшие каждого пред ним, и низкий, чуть хриплый голос, заставлявший окружающих невольно умолкать и прислушиваться, даже когда он говорил тихо. Эрих был прирожденным лидером, я откровенно восхищался им. Он часто наведывался к родственникам в Мюнхен, и именно от него мы узнавали все последние новости из гущи событий. Часто он привозил с собой «Фёлькишер Беобахтер»[28], в которой я жадно прочитывал всякую новость об охранных отрядах[29]. Все обсуждали штурмовиков[30], которые наделали много шума своими выступлениями, а потому были постоянно на слуху, но для меня, как и для других мальчишек, именно охранные отряды стали чем-то манящим, новым. Если в штурмовики брали всех без разбора, и старых, и молодых, и слабых, и сильных, и, поговаривали, ради численности не чурались принимать даже пьяниц, то в охранные отряды был жесткий отбор. Это была самая настоящая элита, стать частью которой могли только лучшие из нас. Чтобы попасть туда, необходимо было соответствовать огромному количеству жестких требований, которые подробно перечислялись в газете. Там же была большая фотография отряда, которую я рассматривал с восхищением и завистью: внешний вид, выправка – всё свидетельствовало об их избранности. Еще бы, ведь они были приближены к первым лицам партии. К моему сожалению, даже имея идеальные характеристики, попасть в их ряды было сложно, так как численность этих отрядов была сильно ограничена, в отличие от формирований штурмовиков.
Зимой, после рождественских празднований, в этой же газете мы прочитали о назначении нового рейхсфюрера, возглавившего эти охранные отряды. Его карточка была напечатана рядом с сообщением, и я пораженно узнал в нем того мотоциклиста, который несколько лет назад приезжал в наш городок и рассказывал о евреях. Он изменился, стал полнее, глаза его спрятались за стекла небольших аккуратных очков, и тем не менее это был он, я мог поклясться. Поговаривали, что он еще больше усилил дисциплину в отрядах и распорядился принимать лишь тех, кто соответствовал не только самым строгим физическим критериям, но и расовым. Втайне каждый из нас мечтал, что именно он станет тем счастливчиком, который удостоится подобной чести. Эрих даже раздобыл где-то черные фуражки, и мы нарисовали на них черепа. Однажды я забыл снять эту фуражку перед домом, за что получил нагоняй от отца, но меня это ничуть не расстроило, наоборот, в тот момент я почувствовал себя истинным борцом за свои принципы и идеалы. И чем сильнее распалялся отец, тем бо́льшим бунтарем и повстанцем я себя ощущал. Но справедливости ради стоит отметить, что он так ни разу и не выпорол меня, как обещал.
– Это избранные, усёк, сопляк?
Было жаркое лето двадцать девятого.
В горле пересохло, необычайно хотелось пить, но было лень идти к колодцу за водой. Я бессознательно чертил в пыли какие-то кривые фигуры мыском ботинка и краем уха слушал, как Эрих поучал чем-то провинившегося Отто.
– А мы чем не избранные? – ввернул Отто.
Из присутствовавших здесь мальчишек Отто был единственным моим одноклассником.
Эрих с усмешкой покачал головой.
– Начать с того, что ты еще малявка. Туда берут настоящих мужчин двадцати трех лет от роду, у которых здоровье бычье и телосложение как у Берта.
Высоченный Берт был помощником в мясной лавке. Он тут же поиграл мускулами на своих руках-сваях, которыми запросто мог погнуть не самый тонкий железный прут.
– Здоровье у меня и так лучше всех, и на физвоспитании я самый быстрый, – тут же парировал Отто.
Эрих посмотрел на меня и приподнял брови. Я тут же подскочил и громко продекламировал:
– Внешний вид, выправка, поведение, железная дисциплина и расовая чистота! Хронические пьяницы, болтуны и лица с иными пороками не подлежат рассмотрению!
Отто ничего не ответил и хмуро уставился на свои башмаки. Я знал, в чем была причина его резкой угрюмости: отец Отто, вернувшись после войны, запил по-черному и вскоре умер. Сгорел от спирта, как говорила моя мать. И вряд ли Отто мог рассчитывать, что это не будет отражено ни в одной из необходимых рекомендаций.
– Можно и к штурмовикам, – заикнулся было долговязый Макс, но Эрих тут же накинулся на него:
– Дурак!
– Но ведь, по сути, и те и другие служат одной партии, и цель у них, выходит, едина, – продолжал протестовать Макс.
– Не равняй! – еще громче рявкнул Эрих.
Макс окинул всех нас взглядом, словно пытался найти поддержку, но все молчали. Он пожал плечами, затем вдруг неожиданно перевел тему:
– Вчера с матерью были на кладбище у бабки, там недалеко могила одного еврея, отца торговца Хаима.
И Макс посмотрел на Эриха, словно пытался загладить свою предыдущую оплошность.
– Еврей зарыт рядом с немцами, непорядок, – согласно кивнул Эрих, тем самым давая понять, что принимает замечание Макса в качестве извинения.
Мы не знали, чем заняться, и не нашли ничего лучше, чем податься на кладбище и посмотреть на могилу, о которой говорил Макс. Там он указал на захоронение с шестиконечной звездой. Впрочем, таких было много, но мы почему-то сосредоточились на несчастном отце Хаима.
Эрих достал заветную книгу в красном переплете и начал зачитывать оттуда обведенные карандашом отрывки, посвященные неполноценности и опасности, которую несли евреи. Постепенно он распалялся, его голос становился громче, брови то сходились, то расходились, изгибаясь дугой, пока наконец не сошлись так, что превратились в одну прямую полосу, почти скрывшую от нас его сверкавшие круглые глаза, направленные на книгу.
– «Нет такой мерзости, к которой не был бы причастен хоть один еврей. Если вскрыть такой нарыв, вы найдете, словно червя в гниющем трупе, ослепленного внезапным светом, жида!» – рычал Эрих.
Я почувствовал, как во мне быстро поднимается волна гнева, требующая выхода. Слова, которые выплескивались из перекошенного рта Эриха, проплывали у меня перед глазами живыми образами. У моих ног была уже не могила отца торговца Хаима, а средоточие всего, что стало причиной унижения и страданий Германии.
– Грязный отброс! Из-за них всё…
Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я с остервенением пнул каменную плиту. Моему примеру последовали остальные. Не жалея ни ног, ни ботинок, мы принялись бить по плите и земле, обрамлявшей ее, вздыбливая комья, поросшие редкой травой. Отто схватил валявшуюся неподалеку гнутую трубу и со всей силы ударил ею по плите. Отколовшийся кусок камня отскочил ему прямо в лицо и расцарапал щеку, но Отто даже не заметил этого, продолжая со звериным рыком дубасить по плите, будто она была виновата в том, что его отец сгорел от пьянства. Я не знаю, сколько это продолжалось, просто в какой-то момент понял, что окончательно выбился из сил, и, тяжело дыша, прекратил так же внезапно, как и начал. Пятясь назад, я с ненавистью смотрел на плиту. Она, конечно же, не раскололась, но пострадала изрядно, ощерившись царапинами и многочисленными сколами. В этот момент Макс спустил штаны и начал мочиться на нее – пыльный сухой гранит тут же потемнел от горячей струи. Остальные начали молча расстегивать штаны. Напоследок каждый посчитал своим долгом плюнуть на могилу.
Кто-то видел нас на кладбище, и на следующий день о нашем поступке гудела вся школа.
– Я тебя выпорю, если не прекратишь, – гремел отец.
Прикрывая лицо платком, плакала мать. Я молчал. Очевидно, они думали, я не знаю, что им ответить и как оправдаться, но я попросту считал ниже своего достоинства что-либо объяснять им.
– Так больше продолжаться не может, – покачал головой отец, – я поговорю с директором Штайнхоффом, с вами нужно что-то делать.
Повернувшись к матери, он сокрушенно проговорил:
– Эта новомодная зараза распространяется с опасной скоростью. Они подражают друг другу, как обезьяны, совершенно не вдумываясь в суть этого… этого… этих идей!
Через неделю в школе было сделано объявление о запрещении национал-социалистической литературы. Болваны! Меня разбирал смех. Приток желающих примкнуть к организации после этого запрещения вырос в несколько раз. Директор Штайнхофф и мой отец оказали нам неоценимую услугу: те, кто в нашем захолустье еще раздумывал о молодежном движении партии, сделали свой выбор после объявления Штайнхоффа. Запрещение оказалось лучше любой агитации.
Вскоре пришли новости о волнениях в Киле, Ганновере и Мюнхене, которые спровоцировали члены гитлерюгенда, и я захлебывался от зависти. Сидение над книгами и трата драгоценного времени на зубрежку уроков, в то время как решалась судьба моего народа, казались преступлением. Мне хотелось быть там, с ними, в центре событий, вершить историю, рисковать жизнью, а не раздавать газеты и мочиться на могилы старых евреев, но пока я не мог присоединиться к ним. Как бы я ни презирал родителей, я подозревал, что пока без них пропаду. И, видя, что не все вокруг еще осознали, за кем правда и будущее, я готов был выть от бессилия, равно как и был готов доказывать истину ежедневно чем угодно, доводами ли, кулаками ли.
Однажды мы с Максом и Отто, как обычно, слонялись по окраине города. Заняться было нечем. Эриха с нами не было, и красоваться было не перед кем, но тема наших разговоров оставалась неизменна.
– Слышал, говорят, в Нюрнберге выкрадывают и убивают христианских младенцев. Евреи, знамо дело, – начал Макс.
– Для чего? – лениво спросил я, развалившись прямо на траве.
– Добавляют их кровь в свой ритуальный хлеб. Маца, кажется, ее готовят в Песах, праздник у них большой.
Я представил себе кусок хлеба, красный и влажный от младенческой крови, и меня передернуло от гадливости.
– Думаю, даже для них это перебор…
– Ага, перебор, – язвительно протянул Макс. – А куда накануне их Песаха исчезают сотни младенцев по всей Германии?
Я не знал, куда они деваются. Собственно, как до этого и не знал, что они вообще исчезали. В этот момент послышалось легкое повизгивание из кустов. Я присмотрелся, но ничего не разглядел, тогда встал, подошел ближе и раздвинул ветки. Под ними в тени лежала сука со щенками. Она затравленно посмотрела на меня своими гноящимися глазами, но с места не двинулась: два щенка сосали молоко. Я знал, что это за собака, уж слишком примечательный окрас – белая с черными широкими кругами вокруг глаз, как у восточного медведя. Я видел ее в бакалейной лавке Леви, она постоянно там терлась. Очевидно, убежала, чтобы ощениться в одиночестве.
– Это шавка торговца Леви, – подтвердил мою догадку Отто, – убежала, наверное.
– Даже собаки не хотят жить с евреями, – хохотнул Макс.
Ему самому его шутка показалась остроумной.
Сигналом послужила фраза Отто:
– Уж Эрих бы не дал еврейской собачонке плодиться.
Я не имел ничего против собаки и ее щенков, но мысль о том, что могу сделать что-то, что понравится Эриху и даже впечатлит его, обожгла разум горячей волной.
Приподняв ветку, я нагнулся и потянулся к щенкам. Сука ощерилась и зарычала. Я испуганно отдернул руку. Тогда Макс схватил валявшуюся неподалеку палку и ткнул ей в морду. Собака отчаянно залаяла, но снова не двинулась с места. Нависнув над щенками, она огрызалась на каждый тычок палки. Тогда Макс замахнулся и ударил изо всей силы. Псина протяжно заскулила, но тут же вновь разразилась яростным лаем. Макс ударил еще раз, и ему все-таки удалось отогнать ее от щенков.
– Хватайте их! – крикнул он.
Мы с Отто подхватили по щенку и кинулись прочь. Пятнистая собака продолжала бежать за нами, не переставая лаять. Макс на ходу пытался достать до ее хребта палкой, но животное не обращало внимания на эту угрозу. Ее блестящие глаза были устремлены на наши с Отто руки, в которых были зажаты теплые полуслепые комочки. В какой-то момент Максу все же удалось еще раз огреть ее палкой по самому темени, у собаки потекла кровь, она тягуче и прерывисто заскулила и отстала. Крупные красные капли падали на пыльную дорогу, оставляя петляющую линию за ней, но она не останавливалась и семенила за нами, продолжая жалобно скулить.
Пробежав еще несколько улиц, мы нырнули в чей-то пустовавший сарай. Макс прикрыл за нами скрипучие двери. Мы с Отто, не сговариваясь, положили щенков на пол и растерянно посмотрели друг на друга. Никто из нас не решался сделать то, что подразумевалось.
– Да что уставились?! Кончайте их!
И Макс, распаленный борьбой с собакой, с хрипом опустил палку на тщедушную черепушку одного из щенков. Я не успел закрыть глаза и увидел, как она безобразно деформировалась, кровь брызнула во все стороны, и, кажется, вылетел крохотный разбитый глаз. Я сглотнул. Комок подступал к горлу. Было ясно, что щенок мертв, но Макс ударил еще раз. Потом переключился на другого. Теперь я уже не закрывал глаза не потому, что не успел, а потому, что не мог. Больным, измученным взглядом я следил за окровавленной палкой, опускавшейся на маленький коричневый комок, который сминался и принимал невообразимые формы под ударами. Господи, прекрати это! Господи, если ты есть…
Вскоре на полу было шерстяное кровавое месиво.
Я услышал странные звуки за спиной. Обернувшись, я увидел согнувшегося пополам Отто. Его обильно тошнило прямо под ноги.
Ночью я не спал. Как только я закрывал глаза, я видел перед собой ощерившуюся суку с черными пятнами на морде. Я все еще чувствовал в руках мягкое, теплое, дышащее… Что на меня нашло? Зачем я это сделал? Черт подери, как же это было омерзительно. И самое ужасное, никто же не заставлял. Эрих бы никогда и не узнал, если бы мы прошли мимо той собаки.
Я проворочался до утра, раз за разом представляя, как разворачиваюсь и иду прочь от куста, оставив отдыхать в его тени собаку и ее щенков. Я до мельчайших подробностей представлял картину своего отступления, с тоскливой безысходностью осознавая, что мне никогда не удастся ее реализовать, так как иное уже было сделано. Завтракать я не стал, несмотря на недовольство матери. Боялся, если запихну в себя хоть кусок, то меня тут же вывернет наизнанку.
Мы с Отто строго-настрого пригрозили Максу: если он хоть кому-то проболтается о произошедшем, то мы лично его прикончим. Макс обиделся.
– Как будто я один там был, – недовольно проворчал он.
Этот случай мы больше не обсуждали. Я хотел забыть его как можно скорее, благо события в школе постепенно вытеснили его из головы. Мы стали прижимать и устрашать еврейских учеников, чтобы показать им их место. Начали с евреев из младших классов, к старшим пока не лезли.
– Это более восприимчивая аудитория, – заявил Отто.
Мы с Максом согласились.
Если утром, на первом перерыве, мы ограничивались лишь подзатыльниками, то после уроков, когда многие учителя уже расходились и еврейские морды не имели возможности пожаловаться, мы устраивали настоящие стычки. Втроем мы зажимали в углу очередного носатика и драли ему уши, пока он не начинал ныть от боли. Напоследок мы вытаскивали из его сумки тетрадь, вырывали лист и наспех писали «билет в Палестину в один конец», а затем запихивали за шиворот ноющему школьнику. Об этих билетах нам рассказал Эрих. «В Мюнхене уже каждая еврейская собака обилечена», – смеялся он. Прежде чем отпустить очередного еврея, мы строго приказывали ему молчать, если он не хотел повторения «обилечивания» на следующий день.
Все шло гладко, пока Макс не увлекся и не оставил приметный синяк на скуле младшего сына аптекаря Гурвица. Под нажимом отца тот поведал, кто его так отделал. Нас вызвали к директору, а после жесткого выговора передали родителям. Я понимал, что очередной лекции не миновать, и уже был готов к родительским нравоучениям и, возможно, даже к розге от отца. Но вместо этого мать просто тихо сообщила, что я отправляюсь на месяц к тете Ильзе, ее старшей сестре. Отец и вовсе ничего не сказал, лишь посмотрел на меня так, как обычно смотрел на него я, – с презрением.
Очевидно, вырвав из привычного окружения, родители хотели отвадить меня от моих устремлений. Я, конечно же, был против и сопротивлялся всеми силами, но все-таки был усажен в поезд и отправлен во Франкфурт, а оттуда в Бад-Хомбург.
Когда-то Бад-Хомбург был излюбленным местом отдыха русской аристократии, приемы и вечеринки не стихали здесь на протяжении всего лета и в рождественские праздники. Об этом мне рассказала тетка Ильза, старая вдова, проживавшая одна в огромном доме на Линденштрассе. Однако после войны город утратил былой лоск, и сейчас здесь было тихо и спокойно.
В полном одиночестве я бродил по лесным склонам горы Таунус, считая не только дни, но и часы до своего возвращения из ссылки. Желая скоротать время, иногда заходил в курпарк[31]. В его глубине находилось сооружение, напоминавшее старый неухоженный дворец. Оказалось, это была водолечебница. Когда-то она была открыта только для августейших особ, теперь же и я мог выпить там минеральной воды и искупаться в термальном источнике. На противоположной стороне парка стояла русская капелла, которую построил какой-то знаменитый архитектор по фамилии Бенуа. Тетка Ильза рассказала, что в ее закладке лично принимал участие российский император Николай II.
Я запомнил все эти детали, потому что они были связаны с главным событием моей жизни.
Неподалеку от этой капеллы я впервые и увидел ее.
Она стояла ко мне спиной, прячась от жаркого солнца под белым воздушным зонтиком. Я поразился хрупкости ее фигуры. У нее была настолько тонкая талия, что создавалось впечатление, будто ее можно переломить одной рукой. И почему только мне пришла эта дурацкая мысль в тот момент?
Неожиданно подул ветер, взметнувший ее светлые волосы. Порыв усилился и вырвал зонтик из ее рук. Солнечные лучи тут же полоснули по прелестной головке, опалив кудри, ярко зазолотившиеся до слепоты, которая постигла бы всякого, вздумавшего пристально и бесстыдно смотреть на них. Вскрикнув, она обернулась и попыталась поймать зонт за изогнутую ручку, но не тут-то было. Ветер, поднявший пыль, понес его прямиком ко мне. Я продолжал наблюдать. С тягучим треском заволновались кроны деревьев, полетели ослабевшие листья. Я прикрыл лицо ладонью, спасая глаза от пыли, но сквозь пальцы по-прежнему видел ее. Она бежала за зонтиком, придерживая одной рукой падающие на лицо волосы, а другой – подол платья, так и норовивший взметнуться ввысь. Зонтик уже был у моих ног, я наклонился и быстро подхватил его. Небо внезапно и стремительно заволокло и где-то вдалеке загрохотало. Девушка испуганно замерла и на секунду зажмурила глаза. Я молча стоял, не отводя от нее взгляда. Заметив это, она смущенно уставилась себе под ноги. И тут упала первая тяжелая капля, вторая, и вот уже ливень громко забарабанил по иссушенным дорожкам. Дурман истосковавшегося по дождю парка постепенно начал окутывать все вокруг. Она первая вышла из оцепенения и кинулась под раскидистое дерево, я за ней. Не говоря ни слова, я поднял над ней ее зонтик, правда, от дождя он плохо спасал. Я хотел скинуть свою куртку, чтобы накинуть ей на плечи, но никак не мог набраться смелости сделать это.
– С утра па́рило, так и знал, что будет дождь, – наконец проговорил я.
Она чуть повернула голову и растерянно посмотрела на меня. Ко лбу ее прилипла прядь, потемневшая от воды. Мне захотелось убрать ее, но я вовремя одернул себя.
– Да, – только и произнесла она.
Это был божественный голос. Самый нежный и прекрасный, который я когда-либо слышал. Я готов был так стоять вечно и держать над ней зонтик, глядя, как вздымается крохотная грудка под промокшей тканью кружевного платья. Завитки ее белокурых волос, еще минуту назад непослушно разлетавшиеся по сторонам, теперь облепили ее плечи и спину. Я чуть заметно подался вперед, чтобы вдохнуть запах ее мокрых волос, и в этот момент из-за деревьев показалась какая-то толстуха с плащом в руках. Несмотря на свои телеса, она довольно прытко мчалась в нашу сторону.
– Это моя гувернантка! – радостно воскликнула девушка и выпорхнула из-под защиты густой лиственной кроны.
Я же так и остался стоять под деревом с бесполезным дамским зонтиком в руке.
Вечером за ужином я показал тетке этот зонтик.
– Сегодня в парке его забыла девочка, такая худенькая, с золотистыми вьющимися волосами, – как бы невзначай произнес я.
– О, должно быть, дочка Вернеров, Бекки, замечательная девочка.
– Бекки Вернер, – зачем-то негромко повторил я.
– Да, – кивнула тетка, сделав глоток чая, – весьма достойная семья, каждое лето приезжают сюда. В этом году они припозднились. Нужно будет нанести визит, я, знаешь ли, приятельствую с Ингрид Вернер, матушкой Бекки.
Я ничего не ответил. На следующий день я выяснил у нашего молочника, где проживали Вернеры, и, взяв зонтик, направился туда.
Не столь важно, о чем я думал, сколь то, какие эмоции обуревали меня. Это было что-то новое, странное и, надо признаться, не очень приятное, так как сердце колотилось где-то в районе горла, мешая нормально дышать, ладони потели, а живот сводило, заставляя малодушно подумывать о визите в уборную, а не к Вернерам. По пути я встретил одну из тетушкиных знакомых и поздоровался с ней. Я не узнал собственного голоса, он звучал хрипло и испуганно. Я прочистил горло и двинулся дальше. Когда я наконец нашел нужный дом, был уже полдень. Встав в тени лип, я внимательно смотрел на окна, тревожно теребя в руках зонтик. Кто-то мелькнул в окне на втором этаже, может, она?
Я простоял почти час, но так и не решился позвонить в дверь. Проклиная собственную глупость и трусость, я побрел домой.
На следующий день я поклялся себе, что позвоню в дверь, чего бы мне это ни стоило, но, откровенно говоря, не уверен, что выполнил бы эту клятву, если бы не случай. На мое счастье, когда я уже мялся возле двери, она открылась и на пороге показалась та толстая гувернантка, прибежавшая в парк с плащом. Очевидно, она собиралась куда-то идти, но замерла и удивленно посмотрела на меня. Я чуть поклонился и, словно в свое оправдание, показал ей зонтик.
– Та девочка, которую вы увели, забыла.
Толстуха улыбнулась и потянулась за зонтиком.
– Благодарю, я передам.
Но я не выпускал зонтик из рук.
– Я бы хотел сам, – настойчиво произнес я, пытаясь заглянуть ей за плечо.
– С кем ты там разговариваешь, Магда? – раздался женский голос из глубины дома.
На крыльцо вышла женщина в элегантном темно-синем домашнем платье и с любопытством посмотрела на меня. У нее были такие же красивые светлые волосы, как и у Бекки, только уложены двумя косами вокруг головы. Я сообразил, что это, скорее всего, ее мать.
– Добрый день, фрау Вернер, – как можно почтительнее произнес я.
– Откуда вы меня знаете? – полюбопытствовала она, продолжая разглядывать меня.
– Я племянник Ильзы Клозе, – отрекомендовался я и тут же добавил, что принес забытый ее дочерью зонт.
Ингрид Вернер просияла.
– Как любезно с вашей стороны. Проходите, молодой человек.
Они посторонились, пропуская меня в дом. Я зашел и остановился посреди гостиной.
– Бекки, будь так добра, спустись! – крикнула фрау Вернер.
Она спускалась по ступенькам вприпрыжку, перепрыгивая через одну. Я понял, что ей было не больше тринадцати. Увидев меня, она на мгновение замерла, лицо ее вмиг стало серьезным, и остаток лестницы она преодолела уже спокойно, ступая на каждую ступеньку.
– Бекки, это Виланд фон Тилл, он принес твой зонтик, – проговорила ее мать.
Бекки подошла и без слов забрала у меня зонт. Затем, отойдя к матери, приподняла смущенное лицо и тихо произнесла:
– Благодарю вас.
Я не знал, что мне делать и что говорить. К счастью, на выручку вновь пришла фрау Вернер.
– Ждем вас сегодня с тетушкой на чай.
Обратно я мчался опрометью. Я не мог дождаться вечера, чтобы вернуться в дом Вернеров в красивой выходной одежде и показать себя в лучшем свете. Тетка же не могла понять моего возбуждения и списала все на благотворное влияние минеральных вод Бад-Хомбурга.
– Вот ведь, приехал замученный и молчаливый, а теперь полон энергии. И почему Герти раньше не отправляла тебя ко мне?
Я не стал ее разубеждать. Во́ды так во́ды.
За ужином тетя Ильза и Ингрид Вернер оживленно болтали, никто им не мешал: муж фрау Вернер был в каком-то мужском клубе, собиравшемся по вечерам в парковом казино, а мы с Бекки, воспользовавшись тем, что на нас не обращали внимания, выскользнули из-за стола и ушли в гостиную.
– Еще раз благодарю за зонтик, – произнесла она, когда мы оказались одни.
– Не стоит, – поспешно ответил я.
Я вновь поразился, сколь хрупкой и лучезарной она была, словно светилась изнутри. И я пошел на этот свет. Бессознательно я взял ее за руку, ожидая, что она сейчас же отнимет ее и отстранится, но она не сделала этого, напротив, повернулась и смело глянула мне в лицо. На нем не было никакой напускной стыдливости, лишь любопытство и интерес.
– Сколько тебе лет, Виланд? – спросила она.
– Шестнадцать, а тебе тринадцать?
– Вот еще, – она резко вскинула голову, – уже четырнадцать!
– Давай завтра погуляем в парке, – предложил я.
– Давай, – согласилась она, – я буду с Магдой.
Очевидно, на моем лице слишком явно отразилось разочарование от перспективы провести время в компании гувернантки, и Бекки поспешила добавить:
– Не волнуйся, когда мы с ней заходим в купальни, она встречает приятельниц и совершенно забывает обо мне, тогда я выхожу и брожу по парку совершенно одна.
В эту ночь я долго не мог сомкнуть глаз, все представлял себе завтрашнюю прогулку с Бекки: о чем мы будем говорить, как себя вести, куда пойдем. Лишь через несколько часов сладких предвкушений я все-таки погрузился в беспокойный сон.
На следующий день я спрятался недалеко от входа в водолечебницу. Я видел, как туда прошествовали Магда и Бекки, а минут через десять девушка вышла уже одна. Она огляделась, и я помахал ей рукой.
Мы долго гуляли по тенистым аллеям. И я уже не боялся брать ее за руку, чувствовал, что она не против. Тогда я мог лишь догадываться, что ей было так же приятно, как и мне, ощущать эти прикосновения. Меня пробирала дрожь, когда я держал в своей большой ладони ее узкую кисть. Я попеременно то сжимал ее, то перебирал тонкие пальцы. Она не боялась, не жеманничала, была открытой и естественной, как и положено чистому и безгрешному ребенку четырнадцати лет.
Наши прогулки вошли в привычку. Мы гуляли по парку каждый день и с каждым разом становились все ближе и ближе друг другу. Конечно, мы не перешли определенной черты, потому что попросту не ведали, как ее переходить, но всем нутром ощущали – далее нам друг без друга никак.
Иногда я расстилал в укромном уголке парка на траве свою куртку, и мы сидели, прижавшись друг к другу. Я перебирал ее золотистые кудри, смотрел на ее закрытые глаза, легкую полуулыбку и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Рядом со мной была моя Бекки, моя девочка, мое сокровище.
Однажды мы шли по дорожке, и из кустов выскочил чей-то спаниель. Собака кинулась к нам, виляя хвостом и заливисто лая, и Бекки тут же спряталась мне за спину. Она прижалась ко мне так близко, что я чувствовал ее дрожь. Она испуганно смотрела на собаку.
– Пошла прочь! – Я быстро нагнулся и схватил камень.
Спаниель остановился и растерянно глянул на мою руку, затем перевел взгляд на мое лицо, зашевелил было снова хвостом, но я угрожающе вскинул руку, в которой был зажат камень. Собака развернулась и умчалась в кусты. Я бросил камень и обернулся к перепуганной Бекки.
– Боишься собак? Глупышка, она же небольшая.
Бекки кивнула, но продолжала испуганно смотреть на кусты. Я обнял ее. Неожиданно она подняла голову и внимательно посмотрела на меня.
– Поцелуй меня, Виланд, – проговорила она.
Я растерялся.
– Ну же, поцелуй меня. – Ее нежный голос зазвучал требовательно.
Глубоко внутри такие мысли уже шевелились во мне, но то были скорее несбыточные мечты, которые потому и были прекрасными, что являлись нереальными. А сейчас она сама просила об этом.
Забыв дышать, я осторожно наклонился и прикоснулся к ее губам. Они были мягкие и теплые, от них пахло имбирным печеньем, которое она, очевидно, ела за завтраком. У меня закружилась голова. Я хотел отстраниться, но Бекки вдруг открыла рот, и я почувствовал, как она скользнула кончиком языка по моим губам. Мне показалось, что земля у кромки обрыва, над которым я балансировал, вдруг провалилась и я полетел в пропасть. Это был мой первый в жизни поцелуй.
Я ошеломленно прижал Бекки к себе.
Это было неимоверно прекрасно, но я все испортил. Я почувствовал предательские ощущения внизу живота, которые беспокоили иногда по утрам. Только не это!
Судя по всему, Бекки тоже это почувствовала. Глаза ее расширились, она испуганно отстранилась и посмотрела вниз.
Я чувствовал себя осквернителем.
– Что это? – спросила она.
– Ничего, – ответил я грубее, чем хотел, и отвернулся от нее, красный как рак.
Неожиданно она рассмеялась и попыталась повернуть меня обратно.
– Ну же, Виланд, ты ничего не должен от меня скрывать, ведь мы же поклялись. Глупо что-либо скрывать от своей будущей жены.
То была чистейшая правда, мы поклялись друг другу в вечной верности и любви, дело оставалось за малым – во всем признаться родителям и дождаться возраста, позволяющего вступить в брак.
Я нехотя повернулся, стараясь прикрыть свой срам руками, и произнес:
– Это некоторые особенности мужской природы. Я не могу это контролировать.
Она внимательно смотрела на меня, в ее взгляде уже не было испуга.
– Я знаю, когда это происходит, – уверенно проговорила она, – когда мужчина хочет женщину.
– Господи, Бекки, где ты услышала такие слова?! – возмутился я.
– Я подслушала разговор Магды с ее кузиной Гретой, когда та выходила замуж. Накануне свадьбы Магда учила Грету, что ее ждет в первую брачную ночь, а я спряталась за балдахином и все слышала, – ничуть не смущаясь, призналась Бекки.
Подумать только, моя маленькая Бекки оказалась в этой теме более подкованной, чем я. Нельзя сказать, чтобы я вообще ничего в этом не смыслил. Когда отец только вернулся с войны, в первые месяцы они с матерью потеряли всякую бдительность и не всегда закрывали дверь в свою спальню. Однажды ночью я проснулся от грозы и по обыкновению испуганно кинулся к матери, но возле их двери остановился как вкопанный. На кровати я увидел нечто, заставившее меня позабыть о грозе. Намертво сплетясь друг с другом, словно змеи, они странно двигались, заставляя скрипеть старую кровать. Скрип этот время от времени заглушался раскатами грома, и тогда их потные тела освещались отблесками молнии. Во время одной из вспышек я увидел закатившиеся глаза матери и ее искривленный страшной улыбкой рот. Тогда она показалась мне самым омерзительным существом на всей земле. Не замечая меня, они продолжали двигаться. Ниже пояса они практически слились – мне казалось, что отец тонул в матери. В тот момент самым большим моим желанием было, чтобы они поскорее разлепились, но отец, словно назло мне, еще сильнее загонял в нее свой отросток, будто хотел, чтобы она вобрала в себя всего его. Я вернулся в свою комнату и, пораженный увиденным, долго плакал, уткнувшись в подушку.
– Виланд, я тоже тебя хочу. – Голос Бекки вырвал меня из оцепенения.
Я не мог поверить, что слышу эти слова от маленького чистого создания.
– Ты не знаешь, о чем говоришь. Это омерзительно.
– Вздор! – неожиданно гневно произнесла она. – Когда двое любят друг друга, в этом нет ничего омерзительного.
Фраза была слишком чужой для Бекки, и, хоть она произнесла ее без запинки, видно было, что она мало что в ней смыслила.
– Ты услышала это от Магды? – догадался я.
Она кивнула. Совсем по-детски, наивно глядя на меня. Я со вздохом обнял ее и снова прижал к себе. Больше она не отстранялась, даже чувствуя мое возбуждение.
Месяц пролетел незаметно. Вернеры собирались остаться в Бад-Хомбурге до конца сентября, а потому в конце лета я начал уговаривать тетку оставить меня еще на месяц.
– Тетушка, драгоценная моя, – ластился я к ней, – этот замечательный воздух и воды идут мне на пользу, я ощущаю подъем сил, как никогда прежде. К тому же я так привязался к тебе, что буду очень скучать. – Я глубоко вздыхал, всем своим видом демонстрируя, сколь сильно буду скучать.
Старая дева буквально таяла. Мне не составило труда заставить ее написать родителям письмо, в котором она убеждала их в необходимости продления моих каникул. Я с нетерпением ждал их ответа. Он пришел быстро. Прочитав его, тетя Ильза удивленно спросила у меня:
– Твоя мать интересуется: не примкнул ли ты здесь случайно к какому-либо кружку и не связано ли твое желание остаться именно с этим?
– Вот еще, – фыркнул я и был честен как никогда.
– Так и напишу, – кивнула тетя Ильза.
Я понял, что добился своего.
Парк, по которому мы с Бекки гуляли, начал постепенно меняться. Сочная зелень уступила место желтым, красным и коричневым мазкам, щедро расцветившим холст пейзажа вокруг нас. Эта перемена напоминала нам с Бекки, что ничего не вечно и вскоре придет конец и нашим прогулкам.
– Завтра родители отправятся в гости к Кёллерам, а Магду я спроважу к подругам, – сказала Бекки, когда мы уже подходили к источникам, – ты должен обязательно прийти. Я тебе кое-что расскажу, Виланд. Кое-что важное.
– Я приду, Бекки, – пообещал я.
На следующий день я дождался, когда вслед за четой Вернер дом покинула и Магда, и незаметно проскользнул через черный ход, который Бекки нарочно оставила открытым. Оказавшись в полумраке коридора, я почувствовал, как она ящеркой скользнула ко мне и обвила своими тонкими ручками шею. Поцелуи давно стали для нас делом привычным, но от этого не менее приятным.
– Виланд, мне нужно что-то сказать, – произнесла она, отстранившись.
В ее голосе звучало сильное волнение, и я напрягся в ожидании тревожных новостей.
– Вчера я услышала, как отец с матерью обсуждали волнения в больших городах, из-за которых нам необходимо уехать раньше. Мы покинем Бад-Хомбург через два дня.
Внутри меня все оборвалось. Безусловно, я и раньше понимал, что когда-нибудь наше лето закончится, но я наивно полагал, если за две недели начну морально готовиться, то к моменту нашей разлуки смогу примириться с этим.
– Так скоро? – выдавил я, в отчаянии глядя на Бекки.
Она грустно кивнула. Мы прошли наверх, в ее комнату. Испуганный скорой разлукой, я не мог насмотреться на ее печальное лицо, старался вобрать в память каждую ее черту, и мне все было мало. Я жадно вдыхал аромат ее волос, стремясь надышаться ею хоть немного впрок. В какой-то момент на меня нашло страшное умопомрачение, и, не в силах бороться с собою, я кинулся к ней, покрывая поцелуями милое лицо. Лишь ощутив на губах солоноватый привкус, я понял, что она плачет. Все еще держа ее лицо в своих ладонях, я спросил:
– Я испугал тебя?
Она покачала головой. И я понял, что она, так же как и я, страдала до слез от скорой разлуки. Забыв обо всем на свете, я вновь начал ее целовать – губы, носик, заплаканные глаза, нахмуренный лоб, белокурые мягкие волосы. Она распустила их, я с наслаждением зарылся в них руками и прижал ее так крепко к себе, что рисковал сломать.
Мое возбуждение мы почувствовали оба. И тут Бекки сделала то, что по-настоящему напугало меня. Она завела назад руки и начала расстегивать длинный ряд пуговок у себя на спине. Вскоре платье было на полу, и, переступив через него, она осталась в одной сорочке и белье. Замерев, я наблюдал за ней. Без всякого стеснения она стянула с себя сорочку и подошла ко мне. Меня колотила дрожь. Я впервые видел обнаженную девушку, и это была не просто девушка, это была моя любимая Бекки.
Я даже не пытался отговорить ее, потому что чувствовал: если эмоции, бушующие во мне, не найдут выхода, я просто умру. И это было не только на эмоциональном уровне, но и на физическом, меня буквально распирало изнутри. Но в то же время я боялся навредить ей, ведь я был таким огромным и высоким, а она такая тоненькая и миниатюрная, неужели это возможно? Дрожащими руками я скинул куртку, свою коричневую рубашку и брюки, стыдливо стянул белье и присоединился к Бекки, которая уже нырнула под одеяло. Ее еще полудетская кровать была явно не рассчитана на то, что мы собирались сделать. Пружины жалобно скрипнули, когда я навис над Бекки. Держась на руках, я смотрел на сокровище перед собой. Грудь ее еще до конца не оформилась, это были чуть припухшие нежные холмики, внизу только начали золотиться волосы. Своей коленкой я осторожно развел ее ножки и опустился. Бекки тихо охнула, но не стала отталкивать меня. Я попробовал немного надавить и проскользнул в нее буквально на сантиметр. Все заволокло туманом, сквозь который я мог разглядеть лишь распахнутые, блестящие глаза Бекки. Она раздвинула ноги шире, словно приглашая меня, и я сделал резкий рывок. Не удержавшись, она закричала. Я испуганно закрыл ей рот ладонью, но остановиться уже не мог и продолжал двигаться. Я видел, что ей больно, чувствовал, как она извивалась подо мной, пытаясь выскользнуть, но намертво прижал ее к кровати. Там внизу было так тесно, горячо, все пульсировало и горело. Я не мог понять, где находился центр моего наслаждения в эти мгновения, и в голове все плыло, и внизу все растекалось сахарно-карамельным сиропом. Одной рукой я по-прежнему зажимал ей рот, другую завел ей за спину и крепко обнимал. Господи, ей больно, а я не останавливаюсь, я животное! Я это понимал и все равно продолжал. Сколько это длилось, секунду, минуту, час, вечность, не знаю, я потерял счет времени. Неожиданно внизу что-то взорвалось, и в голове рванул фейерверк. Без сил я упал на Бекки.
Через некоторое время я обрел способность мыслить. Меня окатило волной ненависти к самому себе, я боялся посмотреть на Бекки. Обидел, милая, милая, милая…
– Виланд, – она нежно позвала меня.
Я поднялся на руках и взглянул на ее заплаканное лицо. Она не выглядела обиженной или расстроенной, ее лицо светилось любовью. И я разрыдался.
Она гладила меня по голове, пытаясь успокоить. И лишь через некоторое время я сумел взять себя в руки.
– Тебе было очень больно?
– Это ничего, – проговорила она, – я знала, что так будет. Магда говорила Грете, что в первый раз всегда так. Это ничего, – повторила она. – Скажи, тебе было хорошо?
– Очень, – признался я.
Измученное лицо Бекки просияло.
– Как я рада, а мне было в душе́ хорошо. Это было чувство такого единения, которое я даже представить себе не могла. Виланд, ведь мы с тобой теперь настоящие муж и жена.
Я кивнул со всей серьезностью и поцеловал ее в лоб, покрытый испариной.
Мы еще полежали немного и начали собираться. Еще не хватало, чтобы родители Бекки застукали нас.
На простыне алело небольшое пятнышко. Мы убрали ее, и Бекки принесла новую, которую мы постелили на место прежней, а старую я свернул в тугой узел, решив забрать с собой.
Бекки достала из своей маленькой сумочки кусок стекла.
– Зачем это? – удивился я.
– Хочу поклясться тебе на крови в своей вечной верности, ты сделаешь для меня то же самое?
Я не раздумывал ни секунды. Схватив стекло, я полоснул по ладони сильнее, чем следовало. Бекки испуганно вскрикнула.
– Зачем же так сильно?
Мы оба рассмеялись от моей глупости. Я прижал к кровоточащей ладони простыню, которую собирался забрать. Бекки сделала осторожный надрез на указательном пальце, и мы приложились друг к другу.
Домой я шел, будучи все еще не в силах уложить в голове случившееся. Словно одурманенный алкогольными парами, я придурковато улыбался каждому встречному, не различая, впрочем, их лиц. В каждом я видел только одно лицо. Оно стояло у меня перед глазами, даже когда я закрывал их. Я был счастлив и полон намерений объясниться с родителями Бекки перед отъездом, когда приду ее провожать. Конечно же, я не расскажу им обо всем, кое-что касалось лишь нас с Бекки, – я вновь улыбнулся. Скажу им, что люблю их дочь и намерен жениться на ней, когда она станет постарше. Вернеры показались мне людьми умными, здравомыслящими и современными, уверен, они не станут препятствовать переписке с их дочерью, надо будет записать их точный адрес. А зимой я обязательно к ней поеду, а там и до лета недалеко, а значит, и до ее пятнадцатилетия, а совсем скоро и шестнадцать исполнится, а мне восемнадцать, я пойду работать, чтобы она ни в чем не знала нужды… Замечтавшись, я споткнулся и со всего маха плюхнулся в зловонную лужу, но даже это не испортило мне настроения. Кое-как отряхнувшись, я пошел дальше, продолжая улыбаться как блаженный, будучи не в силах поделить себя между сладостными мыслями о будущем и не менее сладостными впечатлениями от произошедшего. Меня распирало от эмоций.
Ночью я спал отвратительно. Все тело горело, глаза слезились, в ушах стучало. Левая рука поначалу немного ныла, но с каждым часом боль становилась все острее. Когда рассвело и в комнату пробились первые лучи солнца, я с трудом поднял больную руку. Ладонь была красная и опухшая, рана от пореза воспалилась и кровоточила. Я попытался вытереть ее кончиком одеяла, но боль была нестерпимой. На белом одеяле, помимо свежей крови, остались какие-то темные зловонные сгустки.
Я попытался встать, чтобы позвать тетю Ильзу, но голова закружилась, и я рухнул на пол.
Дальше все происходило урывками – я почувствовал, как меня подняли и уложили, и снова наступила темнота. В какой-то момент случился небольшой проблеск, во время которого незнакомые голоса пробились до моего воспаленного сознания:
– Возможен сепсис. Будем отрезать…
– Не позволю! – Твердый голос тети Ильзы.
– Тогда я не ручаюсь за жизнь мальчика.
Я чувствовал, что в моей руке копошатся тысячи, тысячи тысяч кровожадных муравьев, они терзали и раздирали мою руку, сосали и жрали мою плоть, а потом резко прекратили. Я ничего не чувствовал, словно на месте моей руки была пустота.
Сколько я так пролежал, не знаю. Просто однажды открыл глаза и понял, что нахожусь в полном сознании. Неимоверно хотелось пить, я провел липким языком по губам, они были сухие и потрескавшиеся. Позвал тетю, но из горла вырвался едва слышный хрип. Я боялся повернуть голову в сторону больной руки, так как не чувствовал ее. Боялся увидеть там пустоту.
Скрипнула дверь, и надо мной склонилось изможденное лицо тети Ильзы.
– Виланд, мальчик мой, ты очнулся. Как твоя рука?
Я все же повернул голову. Слава всем святым! Конечность была на месте, перебинтованная, с посеревшим плечом, но до кончиков отросших ногтей вся в сохранности.
– Можешь пошевелить ею? – спросила тетя.
Я попытался, но она была словно чужая, лишь слегка дрогнули пальцы. Увидев это, тетя довольно кивнула.
– Хорошо, доктор Лееч предупреждал, что так и будет. Но чувствительность есть, это хорошо, мой мальчик.
– Пить, – прохрипел я.
Тетя налила из кувшина воды и помогла мне напиться. Это отобрало у меня все силы, и я измученно откинулся на подушки.
– Где Бекки? – спросил я.
Тетя непонимающе нахмурилась.
– Какая?.. А, дочка Вернеров? Они уехали из города дней десять назад.
Я закрыл глаза. Если бы я не был так слаб, я бы, наверное, расплакался. Десять дней назад, моя Бекки, ее увезли, и мы даже не попрощались. Я лежал, отчаянно жалея и ее, и себя, пока наконец не утвердился в мысли, что разыщу ее во что бы то ни стало, едва выздоровею, и этим успокоил себя хоть на время.
Когда я сумел встать, то первым делом поплелся к высокому зеркалу. Взглянув в него, я устрашился того, что увидел. Я не узнавал себя: изрядно похудел, лицо, округлившееся и разрумянившееся за лето, вновь вытянулось, осунулось и приобрело пыльный оттенок, под глазами залегли темные круги.
Проведя в кровати и в кресле еще несколько дней, я убедил тетю, что мне необходимо подышать свежим воздухом, и сразу же направился к дому, где жили Вернеры. Я не тешил себя надеждой, что они вернулись, я лишь хотел разузнать, куда они уехали. К моему великому счастью, женщина, присматривающая за домом, узнала меня. Без долгих уговоров она дала мне мюнхенский адрес Вернеров.
Через неделю тетя Ильза отправила меня домой, а сама начала собираться в Берлин, где по обыкновению проводила зимы.
По пути в Розенхайм я думал только о Бекки: где она сейчас, что делает, думает ли обо мне?
Увидев меня, мать испуганно всплеснула руками и запричитала:
– Господи, Виланд, что Ильза с тобой делала, морила голодом?!
С тетей Ильзой мы сговорились ничего не рассказывать родителям, а потому я поспешил успокоить мать:
– Все в порядке, была легкая простуда.
Я с трудом дождался окончания ужина, чтобы убежать в свою комнату и начать писать письмо Бекки. Но уже первая строчка ввела меня в замешательство. Как начать? Я написал «Любимая Бекки», затем подумал и смял листок, – а вдруг письмо увидит ее мать. На чистом листе я написал «Милая Бекки». Посмотрел и понял, что и это тоже не годится. «Бекки». Да, пусть будет так.
Я слышал, как зазвенел дверной колокольчик, понял по голосам, что пришли Отто и Макс, очевидно, узнавшие о моем возвращении, слышал и то, как мать не самым любезным тоном сообщила им, что я занят. Я и не думал выходить из комнаты, мне было наплевать и на Отто, и на Макса, и на мать. В этот момент весь мой мир был сосредоточен в листе, лежавшем передо мной на столе, на котором пока было выведено лишь одно милое сердцу имя. Я подробно описал Бекки, что со мной приключилось и почему я не пришел с ней попрощаться, заверил, что сейчас со мной уже все в порядке, и под конец выразил надежду, что у нее тоже все хорошо и она ответит мне как можно скорее. Перечитав еще раз, я убедился в нейтральности своего тона. Уже было поздно бежать на почту, и я спрятал письмо под подушкой. На следующий день я первым делом отправил его.
Сменялись дни, тягучие, бессмысленные, похожие один на другой, а ответ не приходил. Я донимал Карла-почтальона, срывался на матери, что-то бубнил, когда меня спрашивал отец. Мне было не до них. Выждав некоторое время, я написал еще одно письмо, но и оно осталось безответным. Неужели Бекки обиделась, что я не пришел с ней попрощаться? Но ведь я все объяснил в письме. Может, я неправильно записал адрес? Десятки объяснений молчания Бекки роились у меня в голове и не давали покоя. Я истосковался, мне было физически необходимо увидеть Бекки, а у меня не было даже ее карточки, черт бы меня побрал…
После затяжной болезни я выглядел особенно невзрачно на фоне своих друзей. Я начал посвящать много времени возвращению былой формы: каждый день бегал и упражнялся. Так я убивал сразу двух зайцев: тренировался и отвлекался от мыслей о Бекки, что в любое другое время сделать было практически невозможно. Часто Отто составлял мне компанию, мы убегали в парк и после часовой пробежки затевали борьбу, изрядно осторожничая, конечно, чтобы не навредить друг другу. На радость отцу я начал заниматься и греблей. С командой мы ездили на озеро Кимзее, где я тренировался до одурения и вскоре стал основным загребным в своей восьмерке. Успехи на межшкольных соревнованиях не заставили себя ждать, но меня прельщали не столько радость побед и сияющие жестяные кубки, сколько возможность задавать ритм семи парам рук, быстро и слаженно работавшим за моим корпусом, и ощущение, что веду их за собой именно я. Ну а собственные руки, крепчавшие с каждым днем и бугрившиеся под рубашкой, стали приятным дополнением к этой новой страсти.
Так пролетела зима, за ней пришла такая же торопливая и слякотная весна. Она еще не вступила в свою прелестную стадию липкой зелени и приятного тепла, но была промозглой и ветреной, – я шел из школы с Отто, впереди мы увидели долговязую фигуру Макса, старательно перепрыгивавшего лужи. Он нас тоже заметил и ускорил шаг нам навстречу. Вместо приветствия он молча протянул какую-то листовку. Я начал читать: «…мы, рабочая часть движения, самые счастливые и довольные. Мы готовы праздновать и кричать от радости, узнав, что наш заботливый Гитлер потратил десять тысяч на новенький "мерседес", а мюнхенское руководство строит себе особняки да с помпой перестраивает квартиры, заботясь больше о личных архитектурных проектах, нежели о народе. Нам нравится голодать, особенно зная, что наши фюреры получают по пять тысяч марок в месяц. Мы радуемся за их меню: заграничные деликатесы, птичьи языки да акульи плавники с лучшим французским вином и шампанским. Мы восхищены, что средства партии идут на перестройку и отделку Коричневого дома[32], низкий поклон архитектору Троосту. Мы испытываем истинное наслаждение, зная, что Гитлер большую часть времени шатается по стройкам, ателье, кафе и ресторанам в сопровождении своей свиты…»
– Что это? – хмуро спросил я.
Сердечные страдания на долгое время отвлекли меня от важных событий, происходящих вокруг. Во время жарких споров друзей я оставался больше безмолвным слушателем, погруженным в свои мысли и терзания по Бекки. Но пришло время окончательно позабыть девчонку, не желавшую меня знать, и вспомнить о действительно важных делах.
– Это раскол партии. Эту дрянь распространяют штурмовики. – Макс быстро спрятал бумажку в карман. – Эрих сказал, в их рядах серьезное недовольство, они отказываются участвовать в партийных маршах. Хороши же отряды. Только позорят партию.
– Я слышал, это оттого, что зимой им не выдали теплую обувь, они мерзнут, – поразмыслив, проговорил Отто, – половина из них безработные. Некоторые откровенно голодают.
– Многие голодают, не только они, – проворчал Макс, – чертов кризис. В Германии сейчас пять миллионов безработных. Многие думали, что в штурмовых отрядах им сытно будет, вот и ринулись туда за бесплатными пайками, но сколько ж денег нужно, чтобы задарма кормить столько прожор?
Это была причина, по которой я недолюбливал коричневорубашечников[33]. У меня создавалось стойкое убеждение, что, в отличие от СС, они вливались в партийные ряды не по идейным соображениям, а из любви к бесплатной жратве. Возможно, мне было легко так рассуждать, ведь каждый день я получал сытный завтрак, обед и ужин, уж не знаю, чего моим родителям это стоило, но нужно было отдать им должное – в нашем доме голодные времена не ощущались. Правда, было у меня подозрение, что немалую роль в этом сыграла помощь состоятельной тети Ильзы. Я никогда не задавался вопросом, откуда у тетки столько денег, кем был ее муж, когда и отчего он погиб, я не припоминал, чтобы когда-нибудь видел его, хотя до прошлого года я и с теткой-то не так часто виделся – ее краткие визиты к нам в Розенхайм можно было пересчитать по пальцам. Но как бы то ни было, я был уверен, что не будь у меня регулярного обеда, я бы и тогда не позорил честь партии подобным мещанским нытьем. Это уж как пить дать.
– Глядишь, народ, задавленный нуждой, и поверит этим бумажкам, – проговорил Макс, похлопав себя по карману, в котором спрятал листовку.
– А с другой стороны, хочется уже во что-то поверить, – пожал плечами Отто, – миллионы сидят без работы, уж я-то знаю, мать пятый месяц обивает пороги за пособием, жрать скоро будет нечего.
Макс недовольно сплюнул и проворчал:
– Сами еле зиму протянули. Довели народ до края, полнейший развал и разруха.
Я посмотрел на Отто, затем на Макса, переминавшегося в рваных ботинках.
– Все проклятая республика, Макс, эти позорные трусы поставили нас на колени, потому и надо голосовать за нацистов, – с жаром проговорил я, – Гитлер не боится прямо слать к чертям Версаль с его репарациями. Уж он-то покончит и с республикой, и с коррупцией, и с евреями, и работу даст каждому немцу, тогда-то уж все нажремся досыта.
– Оно-то все так, – согласно кивнул Макс, – и ты знаешь, как надобно, и я знаю, как оно верно, да только у власти все не те. Президент Гинденбург чурается Гитлера, как чумной собаки. А оно и немудрено, учитывая, как штурмовики позорят партию.
– Выше нос, Макс. Выиграем выборы и еще посмотрим, кто кого будет чураться!
Мы распрощались с Максом, и каждый пошел домой.
С наступлением лета родители заставили меня задуматься о дальнейшем образовании.
– Учеба не ограничивается одной лишь школой… – начала мать лекцию, которую я благополучно пропустил мимо ушей.
Как будто я и сам не знал, что учеба – это не только школа. Но у меня впереди был еще целый год на раздумья, и я не желал забивать голову лишними мыслями раньше времени. Впрочем, год тот летел довольно быстро. На Рождество тетя Ильза прислала нам подарок – радиоприемник! Я с благоговением поглаживал деревянный корпус, пока отец крутил ручку, настраивая звук. Вскоре раздалась тихая мелодия, изредка перебиваемая легким треском. Мать восторженно захлопала в ладоши. Глядя на нее, отец тоже не сдержал улыбку.
Позже родители ушли на праздничный обед, который устраивал директор Штайнхофф. Едва за ними закрылась дверь, как я начал крутить ручку приемника, пока сквозь треск не пробился резкий голос. Я сразу узнал его. Это австрийское металлическое звучание я слышал уже не раз. Из-за него не сразу замечалось, что голос у его обладателя был на самом деле мягкий.
«Четырнадцать долгих лет различные партии насиловали германскую свободу со всей возможной жестокостью, избивали настоящих немцев дубинками, предавали народ и обрекали его на голод и позор. Пришла пора положить этому конец…»
Он облекал такие простые и в то же время правильные мысли в идеальную словесную форму. Это был восторг, чистый восторг. Его голос проникал в мое сознание, цеплялся за самые его глубины и воспалял мой мозг. Я завороженно слушал, ничего не видя перед собой. Постепенно он входил в раж, модуляции его голоса повышались. Я уже видел, как он умывается собственным потом, доводит сам себя до состояния бессилия, близкого к изнеможению, как орошает микрофон слюной. Он заговорил еще быстрее. Слова лились, и каждое было похоже на искусный выпад фехтовальщика, коловшего точно в цель, а затем молниеносно отступавшего на шаг назад, чтобы сам слушатель осознал, что поражен словом в самое сердце. Этими выпадами он постепенно загонял внимавшего ему в какой-то экстаз, в измерение, где тот переставал быть самим собой, но становился сгустком веры в источник этого голоса и в то, что он приведет Германию к величию.
«Настало время прекратить этот террор. У нас не будет места чужеземцам, нам не нужны паразиты, хватит их кормить. Нужно направить все усилия на оздоровление нации!»
Каждое слышимое мной слово было словно ниспослано свыше, оно было откровением, истиной. Не знаю, в какой момент моя рука оказалась в штанах, но я ничего не мог поделать. Возбуждение было таким сильным и неожиданным, что я не мог с ним справиться. Я задвигал рукой, чувствуя, как капли пота стекают уже по моему лбу. С каждым его словом, с каждым моим движением меня пронизывало насквозь и топило в пучине бесстыдного восторга.
«Настало время героической идеологии, которая осветит идеалы будущего Германии. Политическая борьба будет жесткой, но открытой…»
Он окончательно перешел на крик, и в этот момент пронзительная судорога свела мое тело. Не устояв на ногах, я рухнул на колени. Скрючившись и все еще подрагивая, я наполнял свою ладонь горячим и липким семенем.
Голос прервался. Я видел его руку, стиравшую пот с напряженного лба, прилипшую прядь его темных волос. Я все видел. Я был там с ним. Я всегда буду с ним.
Я продолжал стоять на коленях, постепенно приходя в себя. Тяжело дыша, я осторожно вытащил руку из штанов. Придерживаясь за стену, встал и огляделся в поисках подходящей тряпки. На глаза попалась старая газета, я вытер об нее руку, смял и выкинул. После паузы голос из радиоприемника перешел к жесткой критике Веймарской республики.
После долгих дней, полных страданий по милой Бекки, я наконец сумел заставить себя не думать о ней ежеминутно. Ни на одно из моих писем она так и не ответила, моя грусть сменилась непониманием, непонимание – обидой, а на смену обиде пришла злость, которая постепенно начала затягиваться забвением. С каждым месяцем я все реже воскрешал в голове светлый образ маленькой хрупкой девочки, гуляющей по парку в Бад-Хомбурге, лишь иногда по ночам сердце судорожно сжималось при воспоминании о том дне, когда мы «обручились». Но вскоре и это сошло на нет.
Вслед за подарком пришло письмо от тети Ильзы, в котором она приглашала меня провести рождественские каникулы в ее берлинском доме. Я готов был прыгать до потолка от счастья, представляя, как Макс и Отто просто лопнут от зависти, но родители остудили мой пыл.
– Там сейчас небезопасно, все эти волнения, – неуверенно проговорила мать, – ты непременно во что-нибудь ввяжешься.
– Подожди до лета и отправляйся в Бад-Хомбург, если уж так желаешь повидать тетю Ильзу, – предложил отец.
До вечера я демонстративно не выходил из своей комнаты, проигнорировав и обед, и ужин. Перед сном ко мне зашла мать и присела на кровать.
– Пообещай мне, что не ввяжешься ни во что дурное. Я слышала, что происходит в Берлине и Мюнхене, я буду переживать за тебя.
Я понял, что моя поездка состоится, и в этот момент почувствовал необычайную нежность к матери. Не в силах скрыть своей радости, в порыве я крепко обнял ее и почувствовал, как она обмякла в моих сильных руках. Утерев украдкой слезы, она поцеловала меня и вышла.
Берлин встретил меня не самым радушным образом – дул промозглый ветер, глаза слепило зимнее негреющее солнце, – но мне казалось, что это лучшая погода на свете. Я с любопытством рассматривал торопливых прохожих из окна теткиной квартиры, пока она сама не позвала меня пить чай.
– Я нашла тебе компанию, Виланд. На ужин придет моя приятельница Элиза Штольц с сыном, – произнесла тетушка, делая глоток из крошечной перламутровой чашечки, – он примерно твоего возраста. Не хочу, чтобы ты заскучал со старой вдовой.
– Ну что вы, тетя Ильза, мне с вами нисколько не скучно. – Я широко улыбнулся.
Аккуратно отставив чашечку, тетушка рассмеялась.
– Ах ты маленький лис, Виланд.
Сын фрау Штольц Хайнц оказался чуть ниже меня ростом, но, когда он смерил меня оценивающим взглядом, мне показалось, что на меня смотрят сверху вниз. Внутренне я напрягся, настроившись на презрительное отношение столичного франта к деревенщине, но ничего подобного не произошло, Хайнц неожиданно дружелюбно протянул мне руку и крепко пожал мою.
– Фрау Клозе говорила, ты из Розенхайма.
Я кивнул.
– И как там в Розенхайме? Спокойно? Что говорят?
Я пожал плечами.
– У нас всегда спокойно. А что должны говорить?
Хайнц насмешливо прищурился и едва заметно качнул головой.
– Э, брат, сейчас везде что-нибудь да говорят, выборы на носу, сам понимаешь. Везде неспокойно.
Я встрепенулся, но вовремя осадил себя, понимая, что вначале нужно было прощупать почву.
– И что, кто популярен в столице? – как бы между прочим поинтересовался я.
Глаза Хайнца сузились еще сильнее, губы разъехались в легкой улыбке, но отвечать он не спешил. Он забарабанил пальцами по столу, словно раздумывал, стоит ли удостаивать меня ответом.
– За всеми стоит сила, за кем-то бо́льшая, за кем-то меньшая, – наконец протянул он, разглядывая свои полноватые розовые пальцы, затем резко вскинул голову и спросил в лоб: – А ты за кем стоишь?
Я не ожидал такого быстрого перехода и замялся. Мое смятение было очевидно, и Хайнц произнес:
– Не бойся, мы не на допросе, не сойдемся во взглядах – ты меня больше не увидишь. Всего и дел-то. Но если столкнемся на улице, ты уж не обессудь.
Я больше не раздумывал и, выпрямившись во весь рост и вскинув руку, громко произнес:
– Да здравствует Национал-социалистическая немецкая рабочая партия!
На сей раз лицо Хайнца расплылось в широкой улыбке, обнажившей его довольно крупные передние зубы, и он удовлетворенно произнес:
– Новое время, новые символы, новые люди. Добро пожаловать в Берлин, друг!
Я с облегчением понял, что мы «сошлись во взглядах».
Хайнц оказался интересным малым, остро и метко шутил, был в курсе последних событий, обсуждение которых и заняло у нас остаток вечера. На следующий день он зашел за мной, чтобы «показать город».
– Хайнц, мальчик мой, Рейхстаг и Бранденбургские ворота – само собой, но не стоит обходить вниманием и кафедральный собор с картинной галереей, ты понимаешь, о какой я говорю.
– Конечно, фрау Клозе, – заверил Хайнц.
Едва мы вышли на улицу, Хайнц торопливо перешел дорогу и оглянулся, будто проверял, успеваю ли я за ним. Я не отставал ни на шаг. Мы прошли несколько кварталов, прежде чем свернули в какой-то двор. Пройдя его, мы вновь выскочили через арку на улицу и пошли дальше. Хайнц молчал, я не задавал вопросов. Наконец мы приблизились к серому каменному двухэтажному зданию, обогнули его и оказались прямо у неприметного входа. Хайнц постучал, и ему незамедлительно открыли. Невысокий бледный мальчик, которому на вид было не больше четырнадцати лет, пугливо воззрился на меня:
– Кто это, Хайнц?
Но мой провожатый даже не удостоил того взглядом.
– Кто надо, Герберт, с дороги.
Хайнц довольно грубо отпихнул мальчишку и повернулся ко мне:
– Проходи, Виланд, я познакомлю тебя с замечательными людьми.
Я вошел в коридор без единого окна. Освещение было скудное, но я сумел разглядеть нарисованные от руки плакаты с лозунгами и символикой партии, кое-где были развешаны вырезки из газетных статей, но что там было напечатано, я не разобрал. Хайнц потянул меня дальше. Миновав коридор, мы вышли на лестницу, поднялись на второй этаж и уперлись в единственную дверь. Хайнц постучал и, не дожидаясь ответа, вошел, я проскользнул за ним. Это оказалось просторное и светлое помещение, четыре больших окна выходили на улицу, широкие подоконники были завалены книгами и плакатами, в шкафах у стены лежали толстые стопки перевязанных газет. На длинном столе в центре комнаты были разложены листовки, коробочки с краской и кисти. За столом сидели молодые люди, которые старательно срисовывали с листовок изображение и переписывали текст на разрезанные тетрадные листы. Хайнц нахмурился.
– Опять не прислали?
Один из присутствующих, который не участвовал в рисовании, а лишь наблюдал, кивнул:
– Отделение Кноппа перехватило практически всю партию.
Хайнц тихо ругнулся.
– Чертов Кнопп, умеет работать засранец.
Парень, наблюдавший за производством рукотворных листовок, подошел к нам ближе. На вид ему было лет двадцать, крепкий, светловолосый, с красивым, я бы даже сказал, немного женственным лицом.
– Виланд, это Саша Штайн, один из наших руководителей.
– Откуда ты? – поинтересовался Саша.
– Из Розенхайма.
– Бавария, значит, – задумчиво проговорил мой новый знакомый.
Я кивнул на листовки.
– Для чего это?
– Мы участвуем в предвыборной кампании, распространяем листовки и брошюры, расклеиваем плакаты. Люди должны сделать единственно верный выбор, и мы работаем для этого. Какой выбор сделаешь ты?
Тут же вмешался Хайнц, не дав мне возможности ответить:
– Он сделает правильный выбор, Саша. Я бы не привел к нам чужого.
– Так ты хочешь нам помочь? – вновь посмотрел на меня Штайн.
Я сделал шаг вперед.
– Готов сделать все, что от меня потребуется.
Я чувствовал, как быстрее забилось сердце. Я в столице, в самой гуще событий, с людьми, взгляды которых разделяю, и могу принести действительную пользу! Я уже представлял, как несу впереди толпы плакат с лозунгом, как прорываюсь на баррикады, чтобы водрузить знамя партии на вершину… Но с вершины меня быстро спустили.
– Вот кисточка, краски, Тимо тебе все объяснит, – проговорил Саша и повернулся к Хайнцу: – Пойдем, нужно переговорить. В Моабите красные совсем распоясались…
Они вышли из комнаты. Я сел за стол и придвинул к себе чистый листок. Несмотря на помощь Тимо, выходило у меня криво, краски растекались, было много клякс и пятен. За час я сумел сделать всего две листовки. Позже пришел Хайнц и, даже не глянув на них, похвалил меня.
– Завтра мы пойдем продавать наши газеты, ты с нами?
– Спрашиваешь, – хмыкнул я.
Как оказалось, ни фрау Штольц, ни тем более моя тетушка не подозревали, чем занимается Хайнц. И мне это было только на руку. На следующий день вставать пришлось рано. На улице Хайнц впихнул мне стопку газет.
– Между страницами листовки, – предупредил он, – не растеряй.
Я пролистал верхнюю газету, в середине лежала листовка, нарисованная от руки. В некоторых газетах были отпечатанные на станке.
– Пока нам не хватает материалов, – пояснил Хайнц, – но после победы на выборах все изменится, вот увидишь.
На улице было холодно. Поначалу я пытался действовать в вязаных перчатках, но было неудобно отделять одну газету от другой. Я снял перчатки и спрятал их в карман. Дело пошло быстрее, но буквально через полчаса я перестал ощущать свои околевшие пальцы. Я дышал на них, но это мало помогало. Тем не менее я не прекращал дело. Когда мы продали все газеты, появился Саша, он передал нам пачку листовок уже без газет.
– Их раздаем бесплатно, – проговорил Хайнц.
С этим мы справились быстро. Бесплатно люди готовы были брать даже то, что им не нужно, да и, откровенно говоря, я все-таки начал халтурить, впихивая иногда по две, а то и по три листовки. В этот момент я мечтал поскорее добраться до теплой гостиной тети Ильзы и выпить чашку горячего чая со сдобным кренделем в сладкой пудре. От этих мыслей у меня окончательно свело желудок, ведь утром я был так взбудоражен, что напрочь позабыл о завтраке.
– Можно идти, сегодня мы неплохо поработали, – сказал Хайнц, торопливо впихнув какому-то неприветливому толстяку последнюю листовку.
Ловко лавируя между прохожими, мы пошли обратно. Неожиданно Хайнц остановился и придержал меня за руку. Я проследил за его взглядом. Впереди возле магазина стояла группа молодых людей. Они что-то обсуждали, не обращая на нас никакого внимания.
– Красные, – прошипел Хайнц, кивая на них, – совсем твари осмелели.
Словно что-то почувствовав, один из них вскинул голову и заметил Хайнца, он что-то сказал остальным, и уже все уставились на нас.
– Идем, – резко бросил Хайнц и пошел на противоположную сторону улицы.
Красные мрачно провожали нас взглядами, но с места не двигались. Поравняться с ними мы не успели, Хайнц увлек меня в ближайший переулок. Я уже успел выучить дорогу и знал, что так нам придется сделать крюк, но спорить не стал. Это было разумное решение.
– Какого черта они здесь делают, это наш сектор! – возмутился Хайнц, когда мы прилично удалились. – Этого нельзя допускать.
Когда мы пришли, Хайнц отвел меня в комнату, в которой накануне рисовали листовки.
– Подожди здесь, мне нужно поговорить с Сашей. – И он тут же вышел.
Я не сразу сообразил, что нахожусь в комнате не один. В углу стола, сгорбившись, примостился худой паренек.
– Привет, Герберт, верно? – вспомнил я его имя.
Он кивнул.
– А я Виланд, мы виделись вчера. – Я подошел и протянул ему руку.
Он робко протянул бескровную ладонь. Я пожал ее, она была ледяная.
– Замерз?
Он качнул головой.
– Нет, у меня всегда руки холодные.
– Сколько тебе? – спросил я.
– Пятнадцать, – произнес Герберт.
– И родители не против того, чем ты занимаешься?
– А чем я занимаюсь? – пожал он плечами. – Мне не доверяют ничего серьезного, так, кисточки отмываю, листовки с газетами сортирую. А если бы и занимался, так никто б ничего и не сказал: мать год назад умерла, а отцу, в общем-то, плевать.
Я молчал, думая, что бы еще у него спросить. Между тем он тихо добавил:
– Везет тебе.
Я удивленно взглянул на него, он продолжал смотреть прямо перед собой и негромко говорить:
– Только появился, и тебя сразу на улицы, газеты доверили.
Мне стало жаль парня, хотелось сказать ему что-то ободряющее, но на ум ничего не приходило. Он опустил голову и начал промокать сухим полотенцем отмытые кисти. Я молча наблюдал, как он убирал все в шкаф. Вскоре вернулся Хайнц.
– Нигде не могу найти Штайна, пошли, на сегодня мы свободны.
Мы вышли на улицу, ближе к вечеру стало еще холоднее. Хайнц поежился.
– Что мы будем делать завтра? – спросил я, натягивая перчатки. – Опять раздавать газеты и листовки?
– Скорее всего. Нужно, чтобы как можно больше людей знали, за кого действительно стоит голосовать. Еще не хватало, чтобы этот кочегар[34] пробился. А его прихвостни не сдают оборотов.
– А что насчет Гинденбурга?[35]
Хайнц вздохнул, я ждал, что он выскажет свое мнение, но он так ничего и не ответил. Мы расстались, и я заторопился домой. Я уже с наслаждением предвкушал сытный горячий ужин с сахарными кренделями на десерт, как увидел нечто, заставившее позабыть о еде. Чуть поодаль стоял Саша. Он прижимался спиной к стене жилого дома, вернее, его заставляли прижиматься. На него напирали двое, лицо одного из них показалось мне знакомым. Я всмотрелся в него внимательнее и вспомнил, где его видел, – это был один из тех красных, которых мы встретили сегодня с Хайнцем. Не раздумывая ни секунды, я кинулся вперед. На моей стороне оказался эффект неожиданности. Оттолкнув одного так, что он рухнул на тротуар, я переключился на другого. Тот сориентировался быстро и тут же встал в стойку, выставив перед собой кулаки, молниеносно выкинул вперед руку, но я был готов и увернулся. В эту секунду из ступора вышел Саша. Он ударил по затылку красного, но удар вышел неуверенный, и тот лишь присел, но не упал. На его лице отразилось удивление, словно он только сейчас вспомнил, что за спиной у него оставался еще один противник.
– Бежим! – крикнул Штайн.
Я замешкался, понимая, что вдвоем мы легко одолеем их, но Саша словно прочитал мои мысли:
– Бежим, говорю, они здесь не одни, сейчас остальные появятся.
Этого объяснения оказалось достаточно, и я припустил следом за ним. Даже в теплом зимнем пальто я мог бежать еще долго, но Саша начал выдыхаться. Мы нырнули в темную арку и припали к стене. Саша тяжело дышал.
– Все, не могу больше, – перемежая слова глубокими вдохами, прохрипел он.
Я выглянул из арки, никто нас не преследовал.
– Спасибо, – наконец проговорил Саша, все еще тяжело дыша, – если бы не ты, мне б серьезно досталось. Работа на улице стала небезопасной, сам видишь, красные совсем распоясались. Хайнц сказал, что твоя тетка не в курсе.
– Ни тетка, ни мать с отцом, – подтвердил я.
– Жаль. И не расскажешь им о твоем геройстве.
– Какое геройство, – торопливо отмахнулся я, но внутри меня распирало от довольства: такие слова от руководителя одной из столичных ячеек!
Весть о том, что я вырвал Сашу из лап красных, быстро распространилась среди моих новых друзей. На следующий день меня пригласили на собрание руководителей, где обсуждали планы на неделю, подсчитывали количество реализованных газет и вырученных денег и утверждали лозунги, которыми собирались расписать стены в нашем секторе. Я был в восторге: меня, новичка, запросто пригласили участвовать на равных во всех собраниях и обсуждениях. Видели бы меня Отто и Макс, сдохли бы от зависти!
Я был невероятно воодушевлен и полностью захвачен волнующей атмосферой, царившей в Берлине. Мне хотелось больше всех продать газет, раздать больше всех листовок, я готов был ценой собственной жизни гнать красных из нашего сектора, но с того вечера больше не натыкался на них. Другие были не столь удачливы: сообщения о стычках, которые для многих заканчивались больницей, приходили постоянно.
– Вчера Харольду и Берту досталось.
– А чего они поперлись в Тиргартен?
– Чего-чего, будто не понимаешь, в том секторе все уже по горло сыты нашими газетами, никто не покупает, а Штайн и Глоббе требуют больше. Оно и понятно, сверху с них тоже спрашивают.
Я вышел из комнаты, в которой обсуждали Харольда и Берта, и поднялся на второй этаж, чтобы забрать новую партию листовок и плакатов. В зале сидели Саша и еще один руководитель – Вирт Глоббе.
– А, Виланд, заходи, – добродушно пробасил Вирт.
Они продолжили беседу, больше не обращая на меня внимания.
– Понимаешь, нужен взрыв, информационная волна, которая снесет всю красную шваль на пути. Это будет мощнейшая акция, – увещевал Саша, – никаких полумер.
Вирт покачал головой.
– То, что ты предлагаешь, весьма рискованно. Да и не думаю, что они попадутся на эту удочку.
– А это уже моя головная боль. Но они попадутся, поверь, еще как попадутся, – заверил Саша, понизив голос.
Но в голосе Вирта все еще сквозило сомнение.
– Не уверен, и, с другой стороны, это неправильно, что ли. – Он посмотрел в окно, его задумчивый взгляд скользил по уличным деталям, но он их словно не замечал, будучи весь в своих мыслях, которые старательно пытался уложить сообразно своим понятиям о чем-то правильном. – Мы не должны действовать такими методами. – Он снова покачал головой. – Это… это недостойно национал-социализма.
– Вирт, на войне все средства хороши, – жестко произнес Саша.
– Но сейчас не…
– Война! – рявкнул Саша так, что даже я, со стопкой листовок уже у двери, вздрогнул. – Война за достойную жизнь, – уже спокойнее добавил он, – и слеп тот, кто этого не видит…
На следующее утро во время завтрака тетя Ильза вдруг отложила газету, которую бегло просматривала, и произнесла:
– Уже конец января, Виланд, время летит быстро, скоро ты отправишься домой, мой мальчик.
Эта мысль уже давно не давала покоя мне самому. Мне очень хотелось еще хоть ненадолго задержаться в Берлине. Я расстроенно посмотрел на тетку и не удержался от вздоха.
– А ты не думал о том, чтобы остаться у меня? – неожиданно предложила она.
Моя рука с кофейной чашкой замерла в воздухе. Мне показалось, что я ослышался.
– Ну да, – продолжила она, – молодой, красивый, полный сил и перспектив, что тебе делать в вашем захолустье, когда вся жизнь здесь? Нет, я непременно напишу Герти.
– Тетя! – воскликнул я и кинулся перед ней на пол, трепетно обвив руками ее ноги и склонив голову ей на колени.
Она начала нежно гладить меня по волосам. Откровенно говоря, я уже давно осознал, что тетя Ильза изнывает от одиночества в этой огромной квартире, но даже и помыслить не мог, что это способно подтолкнуть ее к подобному решению. В этот момент я эгоистично возблагодарил небо за то, что оно так рано забрало у нее мужа, не подарив своих детей.
Утро было полным восторгов не только для меня. Первым, кого я встретил в ячейке, был Герберт. Его бледное лицо сияло от счастья.
– Саша сказал, сегодня я пойду раздавать листовки. Виланд, меня отправят в самое ходовое место! – с гордостью и одновременно доверительным тоном сообщил он.
Я потрепал Герберта по плечу, искренне обрадовавшись за него. Затем поднялся на второй этаж; все уже были в сборе, кроме Саши. Вирт был несколько рассеян.
– Сегодня важная агитация. Активно призываем присоединиться к шествию партии, после планируется выступление Гитлера, – проговорил он, раздавая листовки.
Мы поделили материалы и пошли на улицу. Даже жуткий холод не мог испортить мне настроения в это утро. Возбужденный мыслями о том, что тетя непременно уговорит родителей оставить меня в Берлине, я начал раздавать листовки прямо по пути, сопровождая каждую сияющей улыбкой, а то и подмигиванием. Шагах в десяти от нас шел Герберт, громко выкрикивавший лозунги. Он не умолкал ни на минуту, подскакивая то к одному, то к другому прохожему. Вскоре у него не осталось ни одного листочка. Он подбежал к нам с Хайнцем.
– Виланд, а можно я твои раздам? Я никому не скажу, – пообещал он.
Хайнц расхохотался.
– Держи мои, активист.
Он впихнул счастливому Герберту свою пачку, и тот тут же умчался вперед.
– Если он будет так орать на морозе, то простудит горло, – усмехнулся я.
– Зато сколько счастья у сопляка, – пожал плечами Хайнц.
Мы успели сделать еще несколько шагов, как вдруг увидели перепуганного Фридриха, который работал с нами в одном секторе. Он промчался мимо нас, крикнув на ходу:
– Красные! Их там человек десять. Дёру, дёру!
Из-за поворота показалась небольшая толпа. Фридрих явно ошибся, но не в нашу пользу: красных было около пятнадцати, не меньше. Глаза Хайнца испуганно расширились.
– Виланд, бежим, – торопливо бросил он.
В этот момент я увидел Герберта, который стоял спиной к приближающейся толпе и ничего не замечал.
– Герберт! – во всю мощь своих легких заорал я.
Он вскинул голову и счастливо замахал мне рукой, в которой была зажата листовка. Случайные прохожие, почувствовав неладное, заторопились перейти на другую сторону улицы. Герберт растерянно смотрел им вслед. Только сейчас он увидел, что к нему движется толпа агрессивно настроенных людей с красными повязками на руках. Он не успел сделать ни шага, через секунду у него уже выбили из рук листовки, и они взмыли в воздух, подхваченные ветром. Еще ни один лист не успел коснуться земли, а Герберта уже били: один из толпы ударил его по лицу, и тот рухнул как подкошенный, остальные начали пинать его ногами. Я ринулся было к нему, но Хайнц крепко обхватил меня и потянул назад.
– Идиот, они убьют тебя, бежим!
Я напряг мышцы и с легкостью стряхнул с себя руки Хайнца, но, освободившись, продолжил стоять на месте, с горечью осознавая, что ничем не помогу Герберту. Я начал медленно отступать.
– Сволочи, мы здесь! Догоните нас! – Это было все, что я мог сделать для Герберта.
– Ты совсем спятил? – в ужасе прошипел Хайнц.
Красные как по команде вскинули головы. Одного из них я тут же узнал – его я сбил с ног, когда выручал Сашу. Не сговариваясь, они тут же кинулись в нашу сторону. Мы с Хайнцем пустились бежать. Возможно, в тот день мои бесконечные тренировки в Розенхайме спасли мне жизнь. Я бежал с легкостью и очень быстро начал отрываться, но сзади с натугой пыхтел Хайнц. Я обернулся и понял, что он скоро свалится, – он уже держался за бок и морщился от боли. Мы выскочили за угол и побежали вдоль длинного дома, в конце которого виднелась вывеска бакалейной лавки. Я оглянулся, убедился, что красные еще не выскочили из-за угла, и, не раздумывая ни секунды, втолкнул Хайнца в лавку. Он завалился внутрь, как куль с мукой.
– Сиди там!
Я припустил к следующему повороту и притормозил возле него, дожидаясь, когда преследователи появятся на этой же улице и заметят меня. Через несколько секунд из-за угла появились красные и, увидев меня, благополучно промчались мимо лавки. Теперь я мог не сдерживаться. Мне хватило пяти минут, чтобы даже самый упорный из них понял всю тщетность своих намерений. Убедившись, что меня больше не преследуют, я еще немного пробежал и наконец остановился, раздумывая, что делать дальше. Возвращаться обратно было глупо, но и идти домой я не мог, не узнав, что сталось с Хайнцем и Гербертом. Несколько часов я слонялся вдоль набережной Шпрее, и, лишь когда начало смеркаться, я набрался смелости и пошел обратно. Со страхом я пробирался в штаб, постоянно оглядываясь и бросая внимательные взгляды на прохожих. Наконец я добрался до нужного дома, и, к моему великому облегчению, первым, кого я встретил, оказался Хайнц. Он был бледен как полотно, но цел и невредим. Он кинулся ко мне и крепко обнял.
Я смущенно вывернулся из его объятий. В этот момент из комнаты выскочил Фридрих.
– Живой? Живой! Саша, Вирт, Карл, он вернулся!
Мы вошли в ярко освещенную комнату, полную людей. Я обвел взглядом всех присутствующих. Здесь были члены не только нашей ячейки, но и отделения Кноппа. Однако я не видел среди них Герберта.
– Где он? – спросил я у Хайнца.
Тот сразу понял, кого я имею в виду, и помрачнел.
– Он сумел вырваться, когда ты отвлек их. Но его догнали.
– И?
Хайнц молчал. Подошел Саша:
– Эти звери несколько раз ударили его ножом. Но даже сейчас Герберт, как истинный национал-социалист, продолжает бороться… – громко произнес он, чтобы все слышали, но докончить не успел.
– Он в больнице, – менее высокопарно и тихо перебил его Вирт.
Все замолчали.
Спал я беспокойно, всю ночь мне мерещилось счастливое лицо Герберта, устремленное на меня, его вскинутая рука, в которой он зажал листовки – свои первые листовки, подхваченные и бессмысленно разнесенные ветром над Берлином. Проснулся я более утомленным, чем был накануне, и намеревался первым же делом отправиться в больницу, чтобы навестить Герберта.
– Ах, что же это такое творится! – услышал я испуганный и вместе с тем недовольный голос тетушки. – Если это дойдет до Герти, боюсь, будет не так-то легко уговорить ее оставить тебя.
В мою спальню вплыла тетя Ильза, потрясая перед собой газетой. Я присмотрелся, это была «Дер Ангриф»[36].
– Что случилось, тетя? – нервно спросил я, еще точно не уверенный, хочу ли знать ответ.
– Полюбуйся, мой дорогой, что творится на улицах. Как я рада, что ты благоразумен, мой мальчик. Сердце старой тетки не выдержит, если с тобой что-то случится.
Я взял газету и с гадким предчувствием развернул ее. На первой странице было отпечатано огромными буквами: «Как красные злодейски убили Герберта Норкуса из гитлерюгенда».
Так я узнал фамилию Герберта.
Он умер по пути в больницу от потери крови.
Мне стоило больших усилий, чтобы сдержаться и не показать тете, насколько мне было плохо. Волна горячей, всепоглощающей ярости накрыла меня с головой, я чувствовал, как меня всего колотит от ненависти к убийцам. Боясь, что тетя Ильза заметит, как у меня дрожат руки, я поспешно вернул ей газету.
– Что же им мирно не живется, – недоумевала она, – совсем еще ребенок, сколько ему было?
Она уткнулась в газету в поисках цифры.
– Пятнадцать, – даже не задумываясь, хмуро брякнул я.
За завтраком тетя продолжала сокрушаться, я молчал. Мне уже не хотелось никуда идти. После обеда пришел Хайнц.
– На улицах творится что-то невообразимое, видел сегодняшние газеты?
Я кивнул.
– Народ волнуется, только и разговоров, что о Герберте, – продолжил Хайнц, – несладко его родителям сейчас.
– У него был только отец, мать умерла год назад.
– Правда? – удивился Хайнц.
Я посмотрел на него исподлобья долгим взглядом, но так ничего и не произнес.
– Зато теперь все узнают истинное лицо красных, – проговорил Хайнц, пожимая плечами, – мы ведь просто раздавали листовки и никого не трогали, а они буквально налетели на нас, да еще выбрали самого слабого.
Все это, слово в слово, я уже прочитал в «Дер Ангриф».
Похороны Герберта Норкуса превратились в пышное шествие. Можно было подумать, что хоронят национального героя. За гробом, который несли Саша, Вирт, Фридрих и еще трое неизвестных мне молодых людей, шли сотни, может, даже тысячи берлинцев. Я даже не знал, как далеко за нами тянулась толпа. Продвигались мы медленно, и, когда наконец добрались до кладбища, я уже ног не чувствовал от холода. Слово взял пастор. Я не слышал, что он говорил. Вокруг было слишком много людей. Даже тихо переговариваясь, они создавали шум, заглушающий и без того тихий голос старика. Но неожиданно все смолкли. Я поднял голову и увидел, что вперед к импровизированной трибуне вышел невысокий мужчина. Не узнать его было невозможно: хромой, тщедушного телосложения, носатый, тонкогубый, с большими, невероятно пронзительными карими глазами.
Он оскалился, обнажая крупные желтые зубы.
– Сегодня страшный день, – изо рта гауляйтера Берлина Йозефа Геббельса повалил пар.
Голос был чистый, прекрасно поставленный, проникновенный. Говорил он медленно, раздельно, с торжественной строгостью.
– Мы хороним кровного мученика национал-социалистического движения Герберта Норкуса. Он был образцом для всех членов гитлерюгенда, примером для всей немецкой молодежи. И он был зверски убит при исполнении служебного долга во имя фюрера! Эти трусы видят, за кем сила, за кем правда, за кем будущее, и им не остается ничего другого, кроме как нападать со спины. Но ошиблись те, кто считает, что им сойдет с рук это преступление. Наступит день мести – никто не поколеблет нашу веру в это. И тогда те, кто болтает о гуманности и любви к ближнему, но убил нашего товарища без суда, узнают силу новой Германии. Тогда они будут молить о пощаде. Но будет слишком поздно. Новая Германия требует искупления!
Волна восторженных криков оглушила меня. Бессознательно я начал вместе со всеми скандировать имя Норкуса. Мы вскидывали руки, громко повторяя: «Герберт, Герберт!» В голове у меня затуманилось. Я видел страшный оскал Геббельса, который удовлетворенно обводил взглядом раскинувшееся перед ним людское море; чувствовал жаркое дыхание окружавших меня людей, которые ни разу в жизни не видели того, чье имя теперь выкрикивали, но сейчас были готовы идти и убивать за него. Меня теснили со всех сторон, толпа бесновалась, кто-то закричал, что убийц видели в Моабите, и я почувствовал, что человеческий водоворот подхватил меня и потащил прочь с кладбища. Весь день мы шатались по Берлину, выкрикивая лозунги и угрозы в адрес красных, которые в этот день благоразумно попрятались по своим норам.
Выдохся я лишь под вечер и, опустошенный, с промокшими ногами, побрел домой.
Тетя Ильза умела уговаривать. Не знаю, как ей это удалось, но мать дала свое позволение на то, чтобы я остался в Берлине, но с условием, что продолжу учебу. Признаюсь, это требование несколько озадачило меня. Не в том смысле, что я не планировал возвращаться на учебную скамью, но ранее я думал исключительно об учебных заведениях в Розенхайме, иногда робко помышлял о Мюнхене, но ни разу не задумывался о столичных университетах. И здесь вновь пришла на помощь тетушка, которая благодаря своим связям сумела устроить меня в Университет Фридриха Вильгельма, где уже учился Хайнц, вначале на курсы слушателей, а потом и посодействовала поступлению. Так я начал изучать юриспруденцию.
Учеба захватила меня с головой. Я постепенно отошел от нашей ячейки – не перестал разделять прежние взгляды, наоборот, еще сильнее и искреннее проникся духом национал-социализма, но произошедшее с Гербертом долго не давало мне покоя, и я знал, что если продолжу, то, встретив красных, могу натворить дел. Когда я раздумывал над этим, то задавался вопросом: способен ли я на убийство? В день похорон Герберта, когда мы носились по городу в поисках красных, разъяренные и полные ненависти, я вполне мог сподобиться на страшное, находясь в дурмане жажды мести, но сейчас, сидя на студенческой скамье в стенах старинного и благородного университета, мог ли я даже помыслить, что смогу совершить нечто подобное?.. И между тем это был все тот же я.
В марте прошли выборы, в обоих турах Гитлер занял второе место, уступив Гинденбургу. Я разглядывал цифры повторного голосования, красовавшиеся на первых страницах газет: «Гинденбург – 19 359 983 человека, Гитлер – 13 418 547 человек, Тельман – 3 706 759 человек». Одно радовало – кочегара коммунистов можно было окончательно сбросить со счетов.
– Удивительно, как за столь короткое время этот говорливый молодой человек сумел добиться такой поддержки. – Опустив очки на самый краешек тонкого носа, тетушка Ильза тоже изучала результаты выборов. – Еще вчера мы знали его как беспокойного и радикального оппозиционера и не более того, а уже сегодня фактически треть населения готова передать ему управление страной. Что ж, нужно отдать ему должное, в нем действительно что-то есть.
Незаметно наступило лето, во время которого мы с тетей успели съездить в Бад-Хомбург. С замиранием сердца я подошел к дому Вернеров и с огромным разочарованием узнал, что там теперь новые хозяева. Тетя Ильза также не знала, куда делись его прежние обитатели, и, видя, что я откровенно скучаю в сонном курортном городке, она поспешила обратно в Берлин. Отныне вся ее жизнь крутилась вокруг меня. На следующий день после нашего возвращения в гости на чай пришли Штольцы. После подробного рассказа о нашей скучной поездке перешли к обсуждению последних берлинских новостей.
– Сейчас Германия превратилась в настоящий Вавилон. Сотни мнений и идей, призванных вытащить нас со дна, раздаются с каждой деревянной приступочки, мало-мальски напоминающей трибуну, – проговорил герр Штольц. – Эта политическая разноголосица способна свести с ума любого здравомыслящего человека. Как, помилуйте, сориентироваться в этом бардаке и сделать хоть какой-то адекватный выбор?
– А выбор делать необходимо. В этом году Гинденбургу исполнилось уже восемьдесят пять, говорят, его сознание совсем ослабло, – рассуждала фрау Штольц.
Привыкший спорить с женой во всем, что касалось политики, на сей раз герр Штольц был с ней согласен:
– Это так, он дряхлеет день ото дня и, боюсь, даже не дотянет до следующих выборов. А мы в условиях этого политического бардака, к моему величайшему сожалению, просто не способны…
– Но к чему-то вы все же склоняетесь? – перебил я, не выдержав этой застольной велеречивости.
– Как сказал один небезызвестный государственный деятель, «в политике выбор – меньшее из зол». И что принесет нам меньшее зло…
– Ерунда, – снова перебил я, окончательно позабыв о приличиях, – существует выбор, который принесет нам исключительную благость. И слеп тот, кто не видит этого.
Герр Штольц отставил свою чайную чашку и внимательно посмотрел на меня. В его взгляде не было возмущения моим неучтивым поведением, напротив, он выглядел совершенно спокойным.
– Я понимаю, к чему вы клоните, молодой человек. Что ж, Гитлер тот еще горлопан, и некоторые его заявления во многом опасны, но глупо спорить с тем фактом, что именно у него пока самая убедительная программа. Знаете, почему она самая убедительная? – Он вопросительно глянул на меня, но, судя по тому, как быстро он сам же и продолжил, ответа от меня он не ждал. – Видите ли, представляя ее, он раз за разом повторяет очевидное. И что тут возразить? Это как отрицать, что белое – это белое, а черное – черное. Его аргументы столь очевидны, что никто другой даже и не додумается ими оперировать как раз в силу их очевидности. И тут напрашивается два вывода: либо он величайший идиот, либо величайший гений.
– Но разве идиот может заставить поверить в себя столько немцев? – вмешалась тетя Ильза.
– Тогда остается второе. – Герр Штольц развел руками и усмехнулся.
Я молчал, не зная, как отнестись к подобному мнению, – в нем не было оскорбления, но было и мало чести. Пока я размышлял над этой дилеммой, герр Штольц продолжил:
– Все его речи относительно национального достоинства и прав для рабочих звучат отрадно для народного германского уха, этого у него не отнять. Он необычайно силен в том, в чем наши консервативные политики проваливаются, словно нерадивые студенты на экзаменах: легко достигает контакта с простыми людьми, озвучивая такую программу, которую те ждут, и такими словами, которые тем понятны, с той интонацией, которая заставляет даже их трепетать. Он прекрасно понимает, что чем проще политическая агитация, тем она действеннее, поскольку рядовой человек с улицы любит, когда все просто и понятно. И Гитлер дает этому человеку то, что он способен переварить и усвоить. В то же время, – герр Штольц поднял указательный палец, подчеркивая то, что он собирался сказать, – у него хватает ума не скатываться в прямо уж откровенный примитивизм, и тем самым он дает понять, что не считает народ, который следует за ним, бездумным стадом. Это его великое умение прочитать душу толпы и выучить все ее чаяния и есть залог его успеха. Впрочем, задача сия сама по себе не сложна. Желания толпы во все времена одинаковы: блага и благосостояние – те самые «хлеба и зрелищ» – идеалы со времен Римской империи, для простого люда не изменившиеся. Меняются лишь идеи касательно их достижения. Как раз этими идеями и нужно уметь жонглировать, что этот господин виртуозно делает. Это чистый театр – его публичные выступления, я имею в виду. Он лицедей, каких еще поискать, и это не в упрек ему сказано. Этот господин обладает поистине магическим ораторским даром. Стоит признать, когда он выступает перед толпой, это какое-то колдовство, ей-богу.
– В эти моменты он душка, такая харизма, такая страсть, – хихикнула фрау Штольц, кивая после слов мужа.
– Аудитория пьянит этого человека, – продолжил герр Штольц, – его риторика и подача становятся просто божественными. И самые простые и банальные, если угодно, вещи, произнесенные этим голосом на пике истерии, трясущимся от возбуждения, приобретают совершенно иное звучание и смысл. Соглашусь, в эти моменты кажется, что он выходец из каких-то неведомых нам областей бытия. Но пробовали вы хоть раз прочитать его речи, находясь в одиночестве в своей комнате? Боюсь, вы разочаруетесь, молодой человек, по большей части это нагромождение штампов да обобщения частных случаев. Он говорит, что ночь темна, а вода мокрая. Великими эти речи делают лишь атмосфера и исступление, до которого толпа доводит себя сама. И это, увы, не делает чести народу. Какую форму способен воспринять малообразованный человек, замученный безработицей, нищетой и неопределенностью? Как раз форму таких же эмоций, надрыва и истерии. В силу плачевной ситуации, в которой оказались немцы, они ныне далеки от разумного диалога. А потому столь истеричная и чувственная подача – елей для голодной толпы. Она безрассудно увидала в нем пастыря, который наконец разделил тяготы ее существования. Беда лишь в том, что этот пастырь ложный. Ведь то, что он говорит, довольно опасно. Его нападки на евреев…
Тут уж я не мог выдержать:
– Но ведь это святая правда! Они спекулируют на черном рынке, наживаясь на страданиях окружающих. Более того, не гнушались подобным и в военное время, когда немцы проливали…
– Расовый романтизм в вас силен, юноша, – на сей раз уже герр Штольц перебил меня, – но если принимать на веру слова герра Гитлера, то на страданиях окружающих наживаются и коммунисты, и социалисты, и еще бог весть кто, и всех он обещал ликвидировать раз и навсегда.
– Что он подразумевает под этим? – спросила фрау Штольц.
– Понятия не имею, Элиза, – пожал плечами ее супруг, – в конце концов, мы живем в цивилизованном обществе, где жизнью, к счастью, правят мораль и законодательное право.
Герр Штольц неторопливо поднес чашку к губам и сделал маленький глоток, затем посмотрел на меня. И вновь во взгляде его не было ни тени недовольства, скорее снисходительность, которая злила меня еще больше.
– Но стоит признать, что, несмотря на некоторые провинциальные замашки герра Гитлера, он все же обладает большей начитанностью и бо́льшим кругозором, нежели средний германский политик. Левых он удовлетворяет агрессивными нападками на правящий класс и закостеневшую экономическую систему, правые активно аплодируют ему за восхваление великих традиций германского величия и уничижение тех, кто не чтит эти традиции. Его жесткая критика сторонников Веймарской республики, которые подчинились требованиям Версаля, добавила ему немало очков среди военных. Когда нужно, он не стесняется мимоходом записывать себя в верующие, ибо понимает, что его атеистические порывы оттолкнут последователей, а ему одинаково нужны и баварские католики, и прусские протестанты. Он, как маятник, качается из стороны в сторону, попутно обещая этим сторонам то, что им хотелось бы иметь. Знаете, он из того типа горлопанов, которые вчера случайно сподвигли последовать за собой лавочников и мелких служащих, сегодня – крупных промышленников, а завтра за ними вдруг последует вся страна.
– Вы обвиняете герра Гитлера в цинизме и лицемерии? – выдавил из себя я.
Герр Штольц улыбнулся, но за улыбкой я разглядел откровенную усмешку:
– Скорее восхищаюсь его прагматизмом. Этот человек понимает: чтобы собрать под сенью своей горячо любимой свастики всех и каждого и прийти к власти, ныне он должен быть терпимым к любым взглядам. – Альберт Штольц посмотрел на супругу и тетю Ильзу, внимательно его слушавших. – Вспомните хотя бы, как мастерски герр Гитлер использовал надежды королевских семей на реставрацию монархии, понимая, что их поддержка может оказать сильное влияние во время выборов. Он заверял, что со временем восстановит монархию, но уверен, что в его реальных планах не существует коалиции старого и нового. В его реальных планах сам черт ногу сломит. Каюсь, я прочел страниц сто писанины, которую сей пастырь накропал в Ландсберге[37], больше я не осилил, ибо это откровенный бред сумасшедшего. Идеи, изложенные в этой книге, несут погибель той нации, которая решится их реализовать. Я так скажу, лучше пять раз пойти на Францию, нежели единожды ступить на землю русских, что в будущем предлагает сделать герр Гитлер.
– Но разве это можно воспринимать буквально? – пожала плечами тетя Ильза. – Признаюсь, я тоже полистала эту книгу. Идеи, которые там описаны, слишком радикальны, уверена, и сам автор не считает их реализацию возможной. Это всего лишь бредни уставшего и измученного узника, которым он был в тот момент. Наверняка он и сам это уже осознал.
Я ничего не ответил тете Ильзе. Продолжая смотреть в упор на герра Штольца, я упрямо произнес:
– Адольф Гитлер не ищет альянсов, способных уронить его в глазах народа, ради каких-то временных привилегий.
– В этом вы, безусловно, правы, молодой человек. Герр Гитлер ищет власти высшей и окончательной. Но я по-прежнему считаю, что как раз здоровая правительственная коалиция является единственно верным решением для усмирения хаоса, терзающего ныне Германию. Нацистам необходимо в нее вступить, если они действительно жаждут принести пользу, а не вред.
– Да Германия устала от коалиций! Партия на партии и партией погоняет, а толку никакого. Кровососы, не знающие, что делать. Пришло время действий одного решительного руководителя. И умные люди понимают, что приход Адольфа Гитлера к власти – дело времени. Весьма короткого, – добавил я, – скоро и сам президент осознает, насколько велика сила за Гитлером, и назначит его канцлером.
Я внимательно поглядывал на герра Штольца, ожидая его реакции на свою дерзость, но тут вмешалась тетя Ильза:
– Уверена, Гинденбург никогда на это не пойдет. И благодарить за это герр Гитлер должен своих распоясавшихся молодчиков в коричневых рубашках.
Альберт Штольц перевел взгляд на нее, но и ей ответить не успел. На сей раз взволнованно заговорила его жена:
– Святая правда, теперь только и слышно о том, что они задерживают людей без какого-либо суда. Даже полиция не позволяет себе такого явного беззакония. Вечером по улицам стало страшно ходить. Кругом одни беспорядки и стычки. Не дай бог попасть под горячую руку этим бандитам.
Я снова не утерпел:
– Так ведь и коммунисты жаждут их крови! Эти столкновения спровоцированы, ни один конфликт не бывает односторонним. – Я постарался унять волнение в голосе, но он все равно дрожал.
Герр Штольц и не думал со мной спорить, наоборот, одобрительно кивнул головой:
– Вы правы, мой друг, обе стороны не без греха. Эта мысль на вес золота, в любом конфликте действительно виноваты двое. Я рад, что вы это понимаете.
Я опешил от его согласия и добродушия. Он вновь повернулся к жене и тете Ильзе и продолжил:
– Но ведь и распустить штурмовиков нельзя. Только представьте, как возрастет количество безработных, и это приведет к еще бо́льшим беспорядкам.
– Но что же тогда лучше? – Обе женщины вопросительно посмотрели на него.
Он усмехнулся, взял чашку и, прежде чем сделать глоток, начал повторять:
– Как сказал один небезызвестный деятель, «в политике выбор – меньшее из зол». И что принесет нам меньшее зло…
Я закатил глаза и, извинившись, вышел из-за стола.
В конце июля должны были состояться выборы в рейхстаг – уже третьи за полгода. По этому поводу Гитлер собирался выступить на стадионе в Груневальде[38]. Я был уверен, что Хайнц тоже отправится туда. В нужный день сразу же после завтрака я двинулся к Штольцам, собираясь перехватить Хайнца дома, но не успел выскочить из подъезда, как столкнулся с ним нос к носу. Его круглое лицо тут же расплылось в улыбке:
– Вот так удача, а я как раз за тобой. Пошли быстрее! Все наши уже, наверное, там.
Когда мы добрались до места, улица, прилегающая к стадиону, была уже запружена людьми. Полиция пыталась хоть как-то регулировать этот возбужденный поток, но ее усилия были тщетными: толпа бесновалась и напирала, в едином порыве скандируя имя главы НСДАП.
– Когда будут пускать на стадион? – спросил Хайнц у прижатого к нему в толпе рабочего.
Тот с трудом повернул голову и удивленно посмотрел на Хайнца.
– Ты, парень, видать, не от мира сего. С утра пускали, весь стадион забит уже.
Мы с Хайнцем разочарованно переглянулись. Нечего было и мечтать, чтобы пробраться на сам стадион.
– Говорят, там яблоку негде упасть, – прохрипел молодой парень, приплюснутый к моему плечу.
– Будто здесь раздолье, – недовольно пробормотал Хайнц, не перестававший орудовать локтями, чтобы хоть немного приблизиться к огромным воротам, маячившим впереди.
– Тут хоть вздохнуть можно, а там, говорят, уже нескольких синеньких вытащили из толчеи, – произнес рабочий.
Я грубо проталкивался вслед за Хайнцем, пытаясь не упустить его из виду. Вслед нам недовольно ворчали люди, не одаренные такой же физической крепостью. Неожиданно дрожащая от возбуждения и нетерпения толпа замерла и затихла: ожили громкоговорители, установленные по случаю прямо на улице, ведущей к стадиону. Тут же забыв про Хайнца, я застыл. Все лица в едином порыве устремились к рупорам, будто мы могли не только слышать через них, но и видеть. И вот они разом зазвучали. Голос лился из них тихо. Медленно. Как будто бы даже неуверенно, словно украденным звуком прощупывая этот огромный дышащий организм, состоящий из тысяч переплетенных тел. Словно пытаясь обратиться к каждому из этих тел.
«Те, которые привели нас к этой катастрофе, теперь спрашивают меня: что я намерен буду делать, если Германия пойдет за мной? И хоть ответа они не заслуживают, я его все-таки дам. После того, что вы сотворили с великой Германией, ее нужно восстанавливать сверху донизу, точно так же, как вы ее уничтожали сверху донизу…»
Голос зазвучал громче. Его обладатель возбуждался. Я стал ощущать его дыхание. Горячее, опаляющее. Его слова хлестко били по лицу, непримиримо. Намертво вколачивались в мозг завороженной толпы, словно гвоздями. Становились осязаемыми, обильно сдобренные брызжущей слюной, летящей с тонких напряженных губ, отороченных темной жесткой кисточкой усов. Я видел перед собой эти губы, я осязал дыхание, выходящее из их пределов. Голод, безработица, нужда, репарации, республика, разложение, взяточничество, позор… Неожиданно он замолчал. И я сумел перевести сбитое дыхание. Дав мне это сделать, он продолжил. Я вновь начал ощущать преступный физический восторг. Его голос взвинтился до крика. Сумасшедшее головокружение, возбуждение – он был здесь, рядом, буквально в сотне метров, отделенный от моего разгоряченного сознания всего лишь несколькими слоями сплетенных потных тел. Моих тел – мы все стали единым целым. Он говорил о том, что все мы ощущали, но не имели достаточного разума выразить словами. Мудрые лаконичные мысли били словно бич. Гений. Истинно гений! Благодаря ему Германия станет во главе великих держав. Низложение ноябрьских подонков не за горами. Отныне полумер не будет. Не будет постыдного пресмыкательства перед Западом. Время великого национального обновления настало! Это были мои мысли. Мои личные мысли, которые раздавались из громкоговорителя. Они шли от моего сердца, находящегося сейчас в самом центре многотысячного стадиона, в мою голову. Отныне никаких сомнений ни у кого быть не должно. Пришла пора довериться тому, кто действительно выведет Германию к вершинам.
Голос в громкоговорителе стал выше, задрожал от напряжения, закричал. Задрожала толпа в едином чувстве. Напряжение достигло болезненного апогея. И он замолчал. Раздался взрыв. Толпа бесновалась. Кто-то рядом рыдал от эмоций. Я был без сил. Окончательно позабыв про Хайнца, я начал выбираться из толчеи.
Нацисты выиграли выборы в рейхстаг, получив больше тринадцати миллионов голосов.
– Это двести тридцать мандатов, – сделав глоток кофе, произнес Альберт Штольц, – отныне они самая многочисленная фракция.
Многозначительно приподняв брови, он обвел внимательным взглядом всех сидящих за обеденным столом в нашей гостиной:
– Я обязан отдать должное герру Гитлеру, он уже давно мог совершить очередной переворот и захватить власть, но он упорно идет к ней правомерным путем. Очевидно, уроки Пивного путча им хорошо выучены.
– Быть может, это и искреннее уважение к Гинденбургу? – с улыбкой предположила тетя Ильза.
– В этом случае недолго осталось, говорят, старик совсем плох, – усмехнувшись, проговорил Хайнц, с аппетитом уплетавший свежие эклеры.
На сей раз Штольцы пришли в полном составе.
– Однако, судя по разговорам в моем книжном клубе, многие по-прежнему не доверяют Гитлеру, – произнесла фрау Штольц, подливая в крохотную чашечку горячий кофе.
– Дело в том, дорогая, что нацисты слишком распущенны, они анархичны. Их жестокие столкновения с коммунистами, акты насилия по отношению к евреям и даже просто к тем, кто не разделяет их взглядов, – все это только учащается и, безусловно, настораживает консервативных немцев. Я бы даже сказал, отпугивает. Дебоши штурмовиков окончательно вышли из-под контроля. Где бы ни появлялись эти молодчики в коричневых рубашках, там сразу же возникают беспорядки, крики и ругань. Напиваясь, они громят все что ни попадя: лавки, редакции, аптеки, конторы, при этом прикрываясь идеями партии. Они даже детей не жалеют, я слышал, что на этой неделе в Кёпенике избили пятнадцатилетнего школьника, раздававшего коммунистические листовки. Говорят, будет чудо, если мальчик встанет на ноги.
Мы с Хайнцем переглянулись, но промолчали. И если уж на то пошло, то в некотором роде герр Штольц был прав – штурмовики действительно создавали дурную рекламу партии. Весь Берлин кишел слухами, что они что-то затевают, поговаривали даже, что коричневорубашечники устали ждать, когда Гитлер придет к власти законным путем, и самовольно планировали захватить рейхстаг с помощью оружия. Днем они маршировали по улицам строгими колонами, создавая ощущение порядка и законности, но по вечерам я лично не раз слышал выкрики: «К черту Папена[39] и интригана Шлейхера![40] На Рейхстаг, пока не поздно!» Было очевидно, что стоит только чиркнуть спичке недалеко от тлеющего коричневого пламени, как запылает весь Берлин.
– Да, в некоторых вопросах люди герра Гитлера действуют крайне неподобающе, стоит признать сей факт, – произнесла тетя Ильза.
– Радикально и жестоко, Ильза, – тут же проговорил герр Штольц, – но именно это и цепляет нашу горячую молодежь. Гитлер хорошо знает, как завоевать их внимание: предложить меры опасные, но возбуждающие, и они пойдут за ним куда угодно. Но видите ли, этот бездумный авантюризм хорош, допустим, в путешествиях или спорте, но никак не в политике. Он подменяет разум эмоциями. И, боюсь, сей курс ведет партию к бедствию.
Я не выдержал:
– Но разве можно по одной паршивой овце судить обо всей семье? Если забыть про штурмовиков, разве в чем-то ином он не прав? Если нынешнее правительство не способно позаботиться об интересах нации, то нация обязана действовать сама! Мы и так достаточно нахлебались позора.
Герр Штольц несколько озадаченно посмотрел на меня, будто только сейчас заметил, затем снова перевел многозначительный взгляд на тетю Ильзу:
– Вот, пожалуйста, то, о чем я говорил. Все эти агрессивные политические агитации окончательно задурили голову нашей молодежи. Я даже представить боюсь, какой беспорядок в их головах. Они должны думать об учебе, но вместо этого горят желанием идти на баррикады за этим австрийским чертиком, а он, судя по его литературному творению, которое мы уже имели возможность обсудить, вполне может оказаться обыкновенным сумасшедшим.
– И что? – проворчал я. – В нынешнее время другим не пробиться.
Глядя на мое пылающее лицо, тетя Ильза ласково и ободряюще улыбнулась мне.
– Ну что ж, хоть кто-то заинтересовал их политикой.
Но на сей раз герр Штольц не был настроен столь миролюбиво. Нахмурив брови, он продолжил говорить с явной тревогой в голосе:
– Возможно, если явных фанатиков вроде Геббельса да откровенно сумасшедших типа Гесса и Розенберга убрать из партии, то она встанет на нужные рельсы и покатит в сторону истинной социальной революции, которая, не спорю, нужна. Но когда главным аргументом в борьбе за власть у этой клики является уличное насилие, это уже о многом говорит. Они окончательно позабыли о своей политике ублажения всех и всякого, теперь они щедро разбрасываются антисемитскими, антибольшевистскими и антиклерикальными лозунгами, взращивая необоримую ненависть между всеми группами общества. Таким образом они не добьются успеха, а людей может пострадать изрядно. И самое печальное, что это будет молодежь.
Я покачал головой. Для меня было совершенно очевидно, что отец Хайнца не смыслил в идеологии нацизма. Чертов умиротворитель, как и мой родитель. Я скосил взгляд на Хайнца: позабыв об эклерах, он опустил голову и смотрел на пустую тарелку перед собой. По его сжатым губам и напряженному подбородку я догадывался, что он испытывал в эти мгновения.
– Вы только вдумайтесь, – продолжал герр Штольц, не замечая состояния сына, – более половины кавалеров Железного креста – добрые католики. То есть те, против кого в том числе выступает партия этого австрийского господина, – главные патриоты и славные солдаты нашей страны!
– Ах, Альберт, мне кажется, виной вполне может быть несогласованность между их руководителями. Только представь, сколь сложно управлять такой многочисленной партией, – проговорила тетя.
Герр Штольц нервно усмехнулся:
– Столь сложно, что они и сами теряют линию, которой придерживаются! Вначале на глазах всего честного народа какой-то бенедиктинский аббат благословляет штандарты штурмовиков и поливает их святой водой. А спустя неделю их «Беобахтер» выдает статью с оскорблениями католиков и карикатурами на Христа…
– Отвратительная статья, – торопливо вставила фрау Штольц.
– И удивительное дело, – герр Штольц с искренне непонимающим видом развел руками, – как они вообще сумели взять такой резвый старт именно в Баварии – исконно католической?! Розенберга с его оскорбительными пасквилями против католиков должны были заклевать там в первую очередь. Одно несомненно: пресмыкательство и поклонение всей этой клики перед своим фюрером развили в нем манию величия поистине национальных масштабов. Говорят, Гитлер лично заявил, что должен войти в Берлин, как Христос в храм Иерусалимский, и отхлестать всех несогласных. – Герр Штольц вздохнул, переводя возмущенное дыхание. – Вхождение фюрера во храм Христов… – Он сокрушенно покачал головой. – При столь радикальном настрое этот мессианский комплекс довольно опасен, Ильза. Сегодня он ведет к светлому будущему, пожимая руку всякому, кто решил подойти, а завтра это уже недостижимый фанатик за толстыми стенами, распрощавшийся с разумом.
Возле «Кайзерхофа»[41] творилось что-то невероятное – толпа бесновалась, ожидая явления Адольфа Гитлера. Я переминался с ноги на ногу, вместе со всеми трясясь от январского холода и нетерпения. Это было время великого триумфа: тридцатого дня под нажимом общественности Гинденбург все-таки сместил фон Шлейхера с должности рейхсканцлера и назначил на его место Гитлера! Кругом были сияющие лица, веровавшие, что это начало великой свободной Германии, обещанной исстрадавшемуся народу.
– И чего тянул старик? Менял кабинеты как перчатки, а стабильности никакой.
– Если начистоту, я уже и запутался, кто с кем и против кого.
– Судя по их заявлениям в газетах, они там и сами уже слабо понимали, кто против кого и заодно с кем.
– Дураку было понятно – сразу надо было ставить Гитлера, чтоб не было такого бардака! У этого рука твердая. Приведет к порядку!
– Явно знает, что делать. Теперь-то все будет по-другому.
– Уж явно лучше, чем вчера. Долой разноголосицу!
Вечером опять пришли Штольцы. Я с плохо скрываемой усмешкой поглядывал на Альберта Штольца, ожидая, что-то он теперь скажет. Но в этот раз он был молчалив. Разговор повела тетя Ильза. Наливая гостям чай, она начала с главной новости дня:
– Стоит признать, этот господин проделал серьезную работу, чтобы добиться своего.
Герр Штольц по-прежнему молчал. Тогда я все же не выдержал.
– Тетушка, только подумайте, – проговорил я, стараясь не смотреть на гостя, – у нас было больше тридцати партий! И каждая тянула на себя! Разрывали на лоскуты страну, и без того подранную в кровь. А он! Явился ниоткуда и… И сшил эти лоскуты! Теперь мы едины!
Я прервался, пока тетя Ильза подавала гостям до блеска начищенный поднос, на котором стояли крохотные дымящиеся чашечки.
– А главное, все сделал по закону! Он не терзал и так истерзанный народ очередной революцией… – Я вошел в раж, чувствуя небывалое воодушевление. – …Чтобы оказаться на вершине власти, но он честно обрел эту власть, чтобы вершить что-то более великое, чем просто революционный переворот! Вот увидите, тетя, скоро придет конец и безработице, и коррупции, и, главное, тлетворному влиянию коммунизма.
– Но каким путем? – все-таки подал голос герр Штольц, так и не взявший чашку с подноса. – Нацисты наконец достигли своей цели, но, вместо того чтобы угомониться и начать выказывать преданность закону и порядку, стали действовать еще более радикально. Вопреки всем ожиданиям насилие на улицах только нарастает, но теперь оно еще и узаконено, ко всему прочему. Не спорю, в тяжелые времена у страны есть потребность в людях, которые способны осуществить революционную встряску. Но потом, когда цель достигнута, самым умным будет избавиться от них, ибо далее они несут лишь опасность. Запомните это, мой юный друг.
Тетя Ильза еще раз протянула герру Штольцу поднос, но он отрицательно покачал головой.
В течение нескольких недель по всей Германии прошли факельные шествия. Вечером, едва темнело, тысячи штурмовиков наполняли центральные улицы. Строгими рядами они маршировали, подсвечивая яркими пылающими факелами в руках пылающее так же ярко воодушевление на своих же лицах. Я стоял и завороженно провожал взглядом колонны, конца которым не было видно. Шеренги по четыре в ряд шли точно в ногу, чеканили, громко отбивая дробь по мостовой, и этот слаженный грохот идеально начищенных черных сапог порождал массовый психоз. Грохот проникал глубоко в подсознание, действуя лучше и эффективнее, чем любое словесное увещевание. Он вводил в ступор, погружал в гипноз, заставлял повиноваться и идти следом. Тысячи ног шагали как одна. Тысячи тел действовали как единый организм. Тысячи разумов были подчинены единому духу. Это было чарующе, в этом заключался необъяснимый мистицизм, это вызывало восторг и ужас одновременно. Глядя на эти грандиозные шествия, я не мог унять восторженную дрожь. Красный свет пламени слепил, я жмурился и выкрикивал вслед за ними: «Смерть евреям!» «Республика – дерьмо!» – хрипло надрывался рядом Хайнц. «Когда с наших ножей польется еврейская кровь, все окончательно станет хорошо…» – затягивал кто-то из штурмовиков, и сотни голосов тут же подхватывали песню.
Несмотря на великие дела, творившиеся на улице, я много времени посвящал и учебе, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это негласное условие моего нахождения в Берлине. Каждую неделю тетя писала длинные и подробные письма моей матери, отчитываясь о моих успехах, а потому я старательно корпел над книгами и конспектами, не делая себе никаких поблажек. Впрочем, стоит отметить, что выбранные предметы давались мне легко, и я испытывал истинное удовольствие от их изучения в стенах аудиторий, в которых когда-то читали лекции братья Гримм и Макс Планк.
Однажды вечером, засидевшись над очередной книгой, я вдруг услышал нарастающий шум и крики за окном. Вскочив из-за стола, я кинулся к окну. Все люди бежали в одном направлении. Я проследил это направление взглядом и в ужасе понял, что происходит.
Я выскочил в гостиную и наткнулся на взволнованную тетушку, на ходу запахивавшую халат.
– Виланд, что происходит? – с тревогой спросила она.
Окна ее комнаты выходили на другую сторону, и она не могла видеть пылающее зарево на западе.
– Тетя Ильза, кажется, горит Рейхстаг!
Я схватил куртку и накинул ее прямо на пижаму. Тетушка прильнула к окну и не видела, как я торопливо натягивал ботинки. Обернувшись, она испуганно вскрикнула:
– О мой бог! Что же это такое, Виланд, куда ты?!
Я уже спускался по лестнице. На улице я первым делом ухватил за руку пробегавшего мимо мальчишку.
– Рейхстаг, да? – взволнованно спросил я.
Мальчишка с расширенными от возбуждения глазами закивал:
– Да-да! Говорят, поджог!
Я кинулся вперед, обгоняя остальных. Чем ближе была цель, тем сложнее было продвигаться, толпа становилась плотнее, на площади и вовсе пришлось пустить в ход кулаки и локти, чтобы проложить себе путь дальше. Несколько раз я чуть не упал на скользкой брусчатке, рискуя быть раздавленным оторопевшей и взволнованной толпой. Какие-то зеваки, чтобы лучше видеть, пытались взобраться на памятники фон Роону[42]
