Челюскин. В плену ледяной пустыни
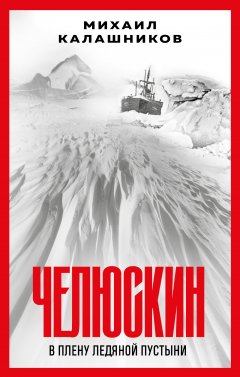
© Калашников М.А., 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
1
– Не зевай, ватага! Гуще, гуще сыпь!
Плотник Яшка порожняком сбежал по сходням, спустился в темень угольного трюма, балагурил и подбадривал, ронял на ходу шутки, как мог веселил уставших людей. Среди «компаньонов» его – такая же плотницкая братия, матросы, кочегары, механики – рабочая кость. А кроме них, тут народ к тяжелому труду не приученный, все больше по научным и творческим сферам – гидрографы, биологи, метеорологи, геодезисты… Есть фотограф, художник и даже кинооператор. «Ноев ковчег» – как кто-то окрестил их плавучий дом, и, с легкой руки этого персонажа, нет-нет да и подхватит кто-нибудь, провожая с завистью гулявших по палубе: «Каждой твари по паре».
Утверждение не слишком правдивое: из сотни пассажиров на судне было только десять женщин, так что пары тут сложились далеко не у всех. Четверо полярников отправились в экспедицию с женами, кроме них – четыре уборщицы, есть женщины и среди научного состава.
Навигация длилась второй месяц, время в пути тянулось медленно, и пока не прибыли на место – царило безделье. Тесные каюты надоели, а потому коротали светлые вечера в прогулках по палубе. Хоть и студено в этих широтах на исходе лета, однако ночи здесь такие же белые, как в родном, оставленном далеко позади Ленинграде…
Сегодня день, когда с бездельем покончено. Аврал на судне. Все «боеспособные», без оглядки на чины и должности, на физическую форму и рост, все свободные от нарядов и дежурных смен – все на перегрузке угля. Да и совесть не позволит никому отлынивать, отсиживаться в темном углу. Большинство на борту знают друг друга не первый год, коллектив закаленный, сколоченный прошлогодней экспедицией.
Яшка спрыгнул на деревянный помост внизу. Брезентовая роба его грубо топорщилась, будто окунули ее в прорубь и дали повисеть минуту на крепком морозе. Угольная пыль скрипела на зубах, щекотала ноздри, порошила глаза. Платок, намотанный на лицо, стал черным и влажным от дыхания. Пыль соединялась с потом, разъедала кожу. Чесалось в подмышках, между лопаток, в паху. Шею натер грубый воротник робы.
По стенам угольного трюма висели прозрачные плафоны, из них лился приглушенный угольной порошей электрический туман. Брикетов с антрацитом оставалось еще много. Яшка на бегу следил за «интеллигентными профессиями», пытался приметить подкосившуюся ногу или жалобный взгляд, понимал, что и у них зудит и чешется, выламывает спину от тяжести, и ждал момента, чтобы подхлестнуть уставшего бедолагу метким словцом.
Ученые труженики покорно подставляли спины под мешки, упорно и невозмутимо шли по сходням наверх, может, только меньше прыти было в их движениях. Они, в отличие от молодого Яшки, ничего никому не пытались доказать.
На плечи Яшке опустили угольный мешок, следом за ним подставил спину для своей порции столичный корреспондент. Был он немногим старше Яшки, всего каких-то лет на пять, и хоть воспитывался в иных условиях, но возраст брал свое: за короткий срок они успели сойтись, почти сдружиться.
– Как настроеньице, Боря? – бросал Яшка через плечо, едва повернув голову.
– Вашими молитвами, господин Кудряшов, – сдержанно выкрикивал журналист.
– Ну ты, господин Промов, без шуточек! Знаешь же, что я таких обращений не выношу, – неслись просеянные через влажный платок слова.
У Промова обличье тоже прикрывал присыпанный пылью «намордник», и еще плотно прилегали к переносице производственные очки, оберегавшие от железной стружки. За их прозрачными стеклами можно было разглядеть лукавый взгляд журналиста. Он любил подшутить над Яшкой, над его простодушием, над медвежьей теменью этого вылезшего из костромских лесов работяги. Промову нравилось наблюдать, как загорались у приятеля глаза, когда он, глядя на железную громадину ледокольного парохода, осознавал размах и силу этого огромного мира.
Плавание длилось уже не первую неделю, а Яшка не растерял восторженного блеска, не уставал восхищаться широтой человеческой мысли и окружавшей их природой. Белыми ночами, опершись на леера, они вместе стояли подолгу у борта.
Яшка задумчиво говорил:
– У нас тоже летом сумерки короткие… За полночь стемнеет полностью, но ненадолго, глядишь, уже снова с восхода сереет, тын из окошка видно… Но такой светлой поры ни разу не было, а тут, видно, всегда так.
Промов прятал ухмылку, свой столичный лоск и образование, простецки заявлял:
– Конечно, Яков, это же полярным днем называется. Солнце полгода не садится, горизонт видишь, как близко.
– Если есть полярный день, так и ночь должна быть, – делал нехитрый вывод Яшка.
– Будет и ночь, – соглашался Промов, – только нам желательно бы не застать ее в этих водах, нам лучше, чтоб мы на время полярной ночи во Владивосток пришли.
Яшка сплевывал в океан, с гарантией в голосе отвечал:
– Это уж ты, товарищ Промов, не беспокойся. Отто Юльевич нас туда быстренько доставит. Зверь, а не мужик!
Промов давно понял, что если не весь экипаж, то значительная его часть верят начальнику экспедиции, как богу, и смотрят на него соответствующе. Вот и Яшка попал под очарование полярного бородача.
Сходни кончились, над головой больше не маячил потолок трюма, ботинки Промова попирали железную палубу. С капитанского мостика свешивалась знаменитая борода, трепал и расчесывал ее холодный ветер.
За авральной перегрузкой угля следило все начальство. Старший над экспедицией – прославленный, обласканный фортуной и властью, обаятельный великан с громовым голосом и недюжинной харизмой. Он – подлинный ученый со степенью – математик, географ, геофизик, астроном, организатор книгоиздания и реформы системы образования, настоящий старый интеллигент, исследователь Памира и Русского Севера, один из основателей и главный редактор «Большой советской энциклопедии», прекрасный организатор и вообще, кажется, нет такой личности, которая бы не ужилась внутри этого советского человека новой формации. Ему все по плечу, его ничто не остановит.
Имя Отто Юльевича Шмидта уже известно половине страны и всему ученому миру. Год назад он проходил этим путем, правда на другом судне, и костяк нынешней экспедиции состоит как раз из тех, кто был с ним в предыдущем походе. Поэтому напрасно ждал Яшка от этих «интеллигентов» слабости или скулежа. Он в свои двадцать лет не пережил и половины того, чего довелось хлебнуть им в прошлогоднюю летнюю навигацию.
2
Так выпало русским людям – жить в северной земле, так их расселила история и судьба. Потом, став империей, вернутся они на берега родной Балтики и Черноморья, отвоюют у соседей свои законные со времен первых новгородских князей побережья. Не зря переименовали Понт Эвксинский в Русское море, и на четыре столетия оно осталось у многих европейцев и арабов под таким названием.
И Балтика, и Черное с Азовским моря, глубоко врезанные в материковое тело, не решат до конца этот вопрос – Россия, хоть и станет морской державой, но будет сидеть в своих портах с передавленным горлом. Чуть не понравилось соседям – и отрезан русский торговый флот в своем закрытом на замок море, как в чаше, выбраться за пределы ее не может. Да и не эта главная морская беда, а то, что из Одессы или Ленинграда во Владивосток путь долог и затратен: через весь Индийский океан, через половину Тихого, через проливы и чужие земли, порты и базы.
Есть на севере большая и свободная вода, но вся она стянута льдами, и путь этот непроходим… Только не для русских. Прокладывали тут дорогу сначала безвестные поморы – отчаянные головы, рыбаки и зверобои, забирались все дальше на север по ледовому океану, пытались найти его край, измерить неохватные мыслью просторы. Не боялись ни слухов, ни суеверий, ни полярных злых ночей величиною в полгода, ни таинственных разноцветных столбов, манящих и сбивающих путешественников с пути, обманывающих синюю стрелку компаса.
Наступали новые времена, прорубал человек себе путь, рассеивал мрак неизвестности, создавал историю, вымарывал на картах белые пятна, ретушировал их чернилами, строил пристани и фактории, рисовал кромку побережья. Высекали изо льда свои имена: Дежнев, Чириков, Беринг, Челюскин.
Рушились империи и возникали на их обломках новые государства. Скакала по земной коре цивилизация – радиоволной, самолетным шасси, дизельным двигателем. Вместе с достижениями науки и техники появлялись новые способы уничтожения человека, свержение его во мрак Средневековья, заталкивание цивилизации в преисподнюю.
Народы и страны, пережившие четырехлетнюю бойню, задержали дыхание, полагали, что мир, ими подписанный, всего лишь передышка, временное затишье перед еще более страшной битвой. Они искали в космосе и повседневной жизни знаки, указующие на новый апокалипсис.
1933 год был в череде этих магических откровений. В сердце Европы, в обиженной, проигравшей войну стране, к власти пришел необычный сверхчеловечишка. Корчась на публичных трибунах перед киноаппаратами и тысячными толпами, он без стеснения заявлял о таких вещах, от которых цивилизованное общество покрывалось бледным налетом. Он провозгласил за правило: нет ничего плохого в том, если для счастья своего народа придется уничтожить несколько других народов, ведь они неполноценны, как и американские индейцы, принятые конкистадорами за особый род обезьян и почти стертые с лица обоих материков. Именно этот сверхчеловечишка задал ритм, под который крутилась планета следующие тринадцать лет. На материковой и островной Европе всерьез задумались: а вдруг он и нас завтра объявит неполноценными народами? Придется снова отливать пушки… Видит бог, мы этого не хотели, и уже привыкли перековывать мечи на орала.
В единственной на земном шаре республике победившего пролетариата тоже насторожились – в стане врага прибыло. От сотворения нашей новорожденной страны до сих пор поглядывали на нас с опаской: «Что это за страна такая, где правит не тот, кто имеет деньги, а тот, кто пользуется всеобщим уважением? Где это видано, чтобы такие люди могли управлять? Что за дикость давать женщине право голоса на выборах?» Раньше-то хоть была надежда на одну страну, чаша весов там, после окончания мировой бойни, постоянно качалась – то наша рабочая партия верх брала, то ее сбрасывали, и снова было непонятно, чья возьмет. Теперь ясно, что наших сторонников в этой стране согнул в бараний рог победивший сверхчеловечишка. Он объявил нас самыми главными врагами, мы для него страшнее тех, что лежат на западе от его земель.
Эти-то – за стеной Мажино спрятаться задумали, и те, что на острове своем, как на плавучем авианосце, от них нам особой угрозы нет, только газетная ругань и возмущение, они в драку не полезут. Им хватило, когда они в революцию от нас на пароходах убегали, связываться с нами не станут. А вот эти, которые в прошлый раз четыре года в одиночку отбивались от всех и чуть было не победили, вот от этих самая главная беда, с ними будем рубиться до последней крови. И раз предстоят нам скоро тяжелые битвы, то времени для подготовки все меньше и меньше. Надо осваивать новые пути, месторождения и пространства.
Дорога вдоль северного побережья тяжела, но в несколько раз короче, чем вокруг Индии. С освоением этой дороги открываются огромные перспективы: доставка грузов на Дальний Восток становится более упрощенной, чем по ветке Транссиба; через трассы великих рек становится доступным непроходимое сердце Сибири – алмазы Якутии, золото Колымы, оловянные рудники Чукотки, нефтеносные жилы Ямала. А еще никель, сланец, магний, уголь, ртуть… Дотянутся океанские лесовозы к утопающим в дебрях берегам Енисея и Лены. Все так необходимое для крепнущей обороны, для невероятного марша в индустриализацию.
Северный морской путь короток, как июньские сумерки в Ленинграде. За два относительно теплых для Заполярья месяца необходимо пройти путь в десять тысяч морских миль: от незамерзающего порта в Мурманске до Берингова пролива. За этим узким горлом между Чукоткой и Аляской океан уже теплый, в отличие от ледовых арктических морей.
Впервые этой дорогой от начала до конца Шмидт прошел в 1932-м, на ледоколе «Александр Сибиряков». Отправляясь в поход, он собрал опытную команду, капитаном был Владимир Воронин, ходивший со Шмидтом на «Седове» за три года до этого в экспедицию по изучению Севера. В тот раз они обследовали Землю Франца-Иосифа, организовали в бухте Тихой на острове Гукера полярную станцию. Во время похода «Седов» установил рекорд свободного плавания в полярных льдах.
На следующий год, летом 1930-го, из Архангельска вышла новая экспедиция и взяла курс на Новую Землю. Руководил опять Шмидт, заместителем его был Владимир Юльевич Визе, ученый с великим багажом северного научного опыта, ходивший в экспедицию с Георгием Седовым, чье имя теперь носило их со Шмидтом исследовательское судно. Еще у Визе был опыт организации спасательной миссии – когда в 1928-м потерпел крушение дирижабль «Италия», но ледокол «Малыгин», на котором отправился Визе выручать итальянцев, затерло льдами в Баренцевом море, и он выбыл из экспедиции. Визе об этом своем неудачном опыте вспоминать не любил.
Ледокол «Седов» отправился исследовать северную часть Карского моря, куда до этого никогда не заходили корабли. Визе высказал теорию, что там находится неизвестный пока еще остров. Корабль прямым курсом пошел к Земле Франца-Иосифа, оттуда заглянул на Новую Землю и по 79-й параллели проложил прямой курс к Северной Земле. Наконец среди льдов появились разводья, и Визе первым ступил на предсказанную им неведомую сушу. Это была пустынная земля, поросшая лишайниками и гнездовьями птиц, площадью в триста квадратных километров. Были еще открытия и острова, получившие названия Воронина и Исаченко. В предпоследний день августа на Северной Земле открылась полярная станция, среди унылого пейзажа и серых от скудного солнца льдов хлопало полотнище алого вымпела.
И вот в третий поход взял с собой Шмидт испытанного капитана. Воронин был старым морским волком, к тому же еще и природным помором, в его жилах текла кровь бесстрашных покорителей Севера, русских первопроходцев. Близкий его родственник – Федор Воронин, участвовал в спасении австро-венгерской полярной экспедиции Вайпрехта и Пайера после крушения во льдах их корабля «Адмирал Тегеттгофф» больше полувека тому назад. Да и сам Владимир Воронин водил «Седова» в поисках затерянного экипажа итальянской экспедиции Умберто Нобиле. В тот раз найти страдальцев суждено было не его команде.
В экспедиции 1932 года ледоколу «Александр Сибиряков» с самого начала повезло – Карское море оказалось чистым, без сплошного покрова из льдов. Половину пути «Сибиряков» прошел как по маслу. Лишь в Чукотском море ледокол отломил часть гребного вала с винтом, судно обездвижило, пустилось в свободный дрейф. Команда достала из трюмов брезент, которым укрывали уголь, люди растянули черные паруса. Под этими пиратскими полотнищами с попутным ветром «Сибиряков» вошел в Берингов пролив, где его взяли на буксир и оттащили в Петропавловск-Камчатский для ремонта. Сквозной переход по Северному морскому пути провернули за одну навигацию – два месяца и пять дней.
«Сибиряков» оказался мощным судном и получил в награду орден Трудового Красного Знамени. Всю дорогу ледоколу сопутствовала удача, Шмидт закрывал глаза на возникавшие было трудности и неудачи, окончательно поверил в свою звезду. Несмотря на то что ледоколов и ледорезов в арсенале советского флота было немного и вместительность судов такого класса не предполагала перево- зок, ученый громогласно взялся доказать на деле, что вслед за ледоколом по Северному пути может пройти грузовой караван.
3
– Вы только поглядите, Владимир Иванович, – обернулся Шмидт к Воронину, – как трудится наша «слабосильная» команда! Каковы, а? А ведь их матросы с плотниками поначалу на смех подняли.
Отто Юльевич крутнулся на каблуках к своему помощнику и заместителю по всем хозяйственным вопросам – Бобрину:
– Анатолий Павлович, сколько уже тонн вынесли?
Бобрин уткнулся в блокнот, где скрупулезно велись все учетные записи:
– На данный момент можно уверенно сказать, что норма выработки профессионального грузчика перевыполнена.
– Вот так, Владимир Иванович, не дает спуску наша научно-творческая половина пролетарскому классу! Идет с ним в ногу и не отстает.
Шмидт умел заразить горячим словом, вселить в человека вулканическую энергию. Все его существо лучилось восторгом энтузиазма.
Воронин стоял рядом, привычного скепсиса не терял. С самого начала ему не нравилась эта экспедиция. Прошел он их немало, страницы его биографии распухли от подшитых в дело характеристик, описаний, отчетов и прочих казенных бумаг. Еще при царе-батюшке, в 1916-м, Владимир Иванович окончил Архангельскую мореходку и попал штурманом в экипаж парохода «Федор Чижов». Ходил два года по волнам Белого и Баренцева морей в составе Архангельско-Мурманского срочного пароходства, пока не вынырнула из ледяной пучины черная туша немецкой субмарины…
С 1926 года Владимир Иванович занимал капитанский мостик на ледоколе «Седов», его судно посылали на поиски потерпевшей крушение «Италии», но найти затерянную экспедицию в тот раз повезло другому экипажу. Три похода вынес Воронин бок о бок со Шмидтом и до сих пор ему не верил. Наверняка потому, что успел узнать Шмидта, как никто другой.
Письмо от Отто Юльевича нашло Воронина в Крыму, где он заживлял открывшийся после похода на «Сибирякове» ревматизм, подлатывал здоровье. Как всегда, слог у Шмидта был пылким и напористым:
«Дорогой Владимир Иванович! Правительство решило в самый кратчайший срок окончательно освоить Северный морской путь. В этом году будет вновь организована экспедиция по Ледовитому океану. Начальником этой экспедиции назначен я. Разумеется, первое условие для выполнения такого задания – приглашение капитана… Естественно, что не только мы, но и вся страна хочет видеть Вас водителем корабля в этом рейсе».
Воронин развернутым листом письма долго прикрывал свое лицо с зажмуренными глазами. Потом выроненный лист плавно запорхал, спустился на кафельную плитку бывшего дворца, а ныне всесоюзного профилактория. Глаз он так и не раскрыл, уперев локоть в подлокотник плетеного кресла, пальцами сжимал себе лоб: «Опять неугомонного немца тянет к черту на рога… Уж на что я льдами битый, а и то удивляюсь».
В Ленинграде длинные руки Шмидта заключили Воронина в дружеские объятия:
– Владимир Иванович! Дорогой вы наш! Приехали!.. Знал, знал я, что не усидите в Ялте, когда услышите о нашем замахе!
Сдержанный Воронин ответил легким кивком, но руку Шмидту пожал как положено, стальной хваткой.
– Я, Отто Юльевич, положенный срок в лечебнице отбыл, вы не думайте, что несся к вам, сбивая шлагбаумы. То, что стою перед вами, еще не аргумент к моему согласию, которое вы себе скоропалительно надумали.
– Узнаю старого ворчуна! – тряслась от зара- зительного смеха борода Шмидта. – Бросьте, Владимир Иванович! Экспедиция готовится грандиозная! Все, что было до этого, все, что прошли мы с вами на «Седове» и «Сибирякове», вместе взятое, все это перечеркнет будущий поход. Небывалая значимость. Москва посылает двух кинооператоров, штатного художника, от «Правды» едет обозреватель. Еще не начался поход, а о нем уже трубит зарубежная пресса.
Воронин въелся в него глазами: «Чем старше становишься, тем больше в тебе честолюбия… Мало тебе газетной шумихи после сквозного похода на «Сибирякове»? Мало тебе славы?»
А вслух произнес:
– Вы хотя бы знаете судно, на котором предстоит поход? Может быть, бумаги на него имеются с техническими характеристиками?
– К чему нам бумаги? Судно скоро придет в Ленинград, сами с ним познакомитесь. Когда писал вам письмо, пароход уже был спущен на воду.
– А я некоторые документы уже разыскал. Полномочный представитель Раскольников пишет из Копенгагена, что данный тип судна к плаванию в Арктике непригоден, – сухо процедил Воронин.
– Владимир Иванович, нашли кого слушать – штатского человека, моря не нюхавшего, – убивал своей белозубой улыбкой любые возражения Шмидт на взлете.
– Раскольников служил во флоте.
– Простым матросом, – не переставал насмехаться Шмидт. – Он последние мозги пятнадцать лет назад в «балтийском чае» [1] утопил, когда на Лариске Рейснер женился.
– Ну, это к делу не относится, – поспешил заметить Воронин, знавший, что Шмидт обзавелся третьей по счету официальной женой, и слышавший, что среди многочисленных партнеров усопшей Рейснер успел побывать и сам Отто Юльевич.
– Именно так, не относится! А относимся к делу мы с вами, Владимир Иванович. У вас же неофициальное прозвище – «главный лоцман Северного морского пути», – разливал озера лести Шмидт.
– Дело не в наших с вами заслугах, Отто Юльевич. Вам и без меня хорошо известно, что в Арктике год на год не приходится, погоды очень изменчивы. Нет системы оповещения и прогнозов ледовой обстановки. С такой, как у нас, неразвитой системой прогнозирования каждый поход – первопроходческий, шаг в неизвестность. То, что мы проскочили в прошлом году на «Сибирякове», – огромная удача… И то винт обо льды сломали.
Шмидт заметно пригасил свой пыл, осознал, что Воронина следует брать иным способом – долго, утомительно и настойчиво.
– Владимир Иванович, если б вы знали, как дорог мне ваш ум и ваша обстоятельная расстановка. Но и вы поймите задачу страны. Северный морской путь невероятно перспективен, его надо прорубить, как окно в Европу.
– Отто Юльевич! Я не спорю с перспективностью этого маршрута, но путь во льдах – невероятно тяжелый, вам это и без меня известно. Арктику не завоюешь в один сезон. Ее надо покорять последовательно, отвоевывать метр за метром. Маршрут оснастить метеостанциями и радиостанциями, портами, базами угля, поселками с обслуживающим персоналом, ремонтными базами. Все это дело растянется не на один год.
Шмидт долго рассматривал Воронина в упор, не теряя задорной лукавинки в глазах, растягивая спрятанную в бороду улыбку, наконец дружелюбно вымолвил:
– Согласен от первого слова до последнего… Только забыли вы, Владимир Иванович, в какой век мы с вами живем. Пятилетка к концу идет, ее обещали в четыре года завершить. Весь народ как один надрывается на строительстве нашего с вами будущего… А мы волынить будем?! Освоение Севморпути на десятилетие растянем? Нет, дорогой Владимир Иванович! Здесь нужен скачок, прорыв в коммунизм, а не плавное его завоевание. Время не ждет.
Воронин понимал, что Шмидт прав. Время и эпоха, их окружавшая, требовали от них именно того, о чем говорил Шмидт, и все же он не мог перебороть в себе железобетонного здравого смысла. Шмидт, видя его сомнения, решил заколотить последний гвоздь:
– Владимир Иванович, я надеюсь, вы же понимаете, что согласия вашего я прошу лишь из великого уважения к вам. Одно мое слово, и вам сверху спустят приказ. И вы его исполните.
Воронин еще долго «любовался» лукавой усмешкой Шмидта, прежде чем вымолвить:
– Спасибо, что цените мою добрую волю.
В начале мая судно, сошедшее со стапелей в Копенгагене, отправилось в испытательный поход, а меньше чем через месяц оно уже стояло в порту Ленинграда. На борту значилось имя сибирской речной магистрали – «Лена». Командовал судном капитан торгового флота Биезайс. Он принимал у датчан сам корабль и всю отчетную документацию.
Забродили слухи, что в экспедицию пароход поведет тот, кто забирал его из Копенгагена. Воронин быстро поверил этим слухам и облегченно выдохнул. Вскоре его пригласили на осмотр «Лены», и Владимир Иванович понял – от него не отстанут. В рейсовом отчете Воронин не церемонился в своих характеристиках: «Набор корпуса слаб, ширина большая, скуловая часть будет подвергаться ударам льда, это скажется на корпусе. «Лена» непригодна для северного рейса».
Шмидт и теперь, на заседании комиссии, принял на себя роль пожарного – гасил тревогу Воронина:
– Дорогу для «Лены» будет торить «Красин», на него ляжет основная борьба со льдом.
– Повторяю: на этой посудине можно идти до первой крупной льдины, – сдержанно настаивал его оппонент.
Шмидт раскладывал по столу кипы отчетов:
– По документам «Лена» – современный грузопассажирский корабль, построенный в соответствии со специальными требованиями Ллойда, усиленный для навигации во льдах. В пресс-релизе фирмы-строителя пароход отнесен к судам ледокольного типа. Вот, пожалуйста: «the ice breaking type», – ткнул пальцем Шмидт в бумагу. – «Для специального торгового мореплавания, для арктической торговли».
Воронин в безнадеге всплеснул руками, сдерживая себя, сказал:
– Корпус парохода чрезмерно широк, без усиливающих конструкций, я категорически отказываюсь идти на нем в Арктику.
Слово взял Киров. Глядя в глаза Воронина, попросил с дружеской ноткой в голосе:
– Владимир Иванович, этот опыт, несомненно, будет вам полезен. Стране нужны мудрые вожди, а кто может быть мудрее полярного капитана? Вы уже доказали свою преданность, но и оставить вас не у дел я не имею права. Биезайс поведет пароход, а вы, Владимир Иванович, должны быть на нем в качестве первого помощника.
– Исключено! – встрял Шмидт. – Биезайс никогда не согласится быть начальником у более заслуженного полярника.
– Тогда, – на секунду задумался Киров, – идите в поход… простым пассажиром.
Добрая часть комиссии разинула в удивлении рты.
– А что, грамотная мысль, – подхватил Шмидт. – Поход для вас, товарищ Воронин, будет ровно прогулка. Отдохнете в приятной компании, белыми ночами полюбуетесь, привычно хлебнете арктического ветра. А когда у Биезайса трудности возникнут – дадите дружеский совет.
Воронин все еще колебался, но авторитет и слова самого Кирова перевесили чашу:
– Если так, что ж… Никогда еще пассажиром во льдах не оказывался.
Июльское солнце, скупое для невских широт, пекло головы людей и накаляло гранит. Набережная наполнена народом. Город провожает в путь своих героев – новых первопроходцев порядком изученной планеты, на шкуре которой почти не осталось белых пятен.
Судно водоизмещением в семь с половиной тысяч тонн осело ниже ватерлинии на полметра. В трюмах – тройная норма угля – три тысячи тонн: для самого парохода, для ледокола «Красин» и для ледореза «Федор Литке», который должен встретить пароход в Беринговом проливе и повести его дальше. По пути пароход зайдет на остров Врангеля, завезет туда группу геодезистов, там, на полярной станции, люди работают без смены уже четыре года. С научным народом погружено огромное количество оборудования, лес для постройки домов, для корпусов разросшейся полярной станции, пятьсот тонн пресной воды, есть на борту живая корова и свиньи. Воистину – Ноев ковчег.
Воронин оглядывал осевшие в воду бока судна, крутил головой с досады: части, готовые оказать сопротивление льду, оказались под водой.
Пароход еще до начала похода переименовали. На борту, под печатными литерами кириллицы, лепились латинские буквы чуть меньшего размера, с русским, таким неудобным для иностранного языка и уха названием – «Cheliuskin».
4
Промов опрокинул брикет с углем в общую кучу. На корме вырастали бурты вынутых из чрева корабля мешков. Третьи сутки не утихала авральная перегрузка. Преисподнюю трюмов вручную освобождали от сотен тонн угля. Два дня назад носовая часть «Челюскина» не выдержала постоянного бодания со льдами, из-под расшатанных шпангоутов появилась первая течь. Требовалось перераспределить груз, чтобы место трещины в корпусе парохода приподнять над водой. Корма под тоннами угля оседала глубже, нос задирало в гору, течь постепенно слабела.
Там, откуда ушел пароход в свое плавание, еще вовсю жарило лето, а здесь, за полярным кругом, короткий период тепла истаял, льды с каждым днем сдвигались плотнее.
Поход задержался, старт был дан с большим опозданием: долго грузились и решали технические вопросы в Ленинграде, по пути зашли в доки Копенгагена и устранили выявленные в дороге дефекты, потеряли драгоценные теплые дни, сверяя и улаживая финансово-бумажную сторону проекта. Здесь выяснилось, что Биезайс не может вести судно, так как должен лично участвовать во всех бумажных отчетах с датской фирмой-производителем. Решили временно передать управление судном Воронину, а Биезайс снова поведет пароход из Мурманска, доскочив туда по железной дороге.
Обогнув Скандинавский полуостров, «Челюскин» вышел из Мурманска только 2 августа. Здесь на борт взяли недостающую часть экспедиции: плотников, печников и прочий рабочий люд, ехавший зашибить длинный рубль на постройке полярной станции.
Воронин сменщика своего в Мурманске не дождался. С тяжелым сердцем повел он пароход дальше, до Владивостока.
Промов разогнул спину. Пока шел по палубе к трюму, бросал короткие взгляды на капитанский мостик, с сочувствием поглядывал на нерадостного Воронина. Капитан был более симпатичен ему, чем вызывавший у всех восторг Шмидт. Промов и сам старался не пороть горячку и оставаться рассудительным. Случай шестилетней давности научил его этому.
…Бархатный сезон в Крыму творил свои законы. На каждом углу орудовали торговцы. Ветер гонял по пляжам одинокие обертки эскимо, играл их серебром на солнце. К вокзалам стекались отбывшие свой срок пациенты профилакториев, с вокзала – по гостиницам, домам отдыха, санаториям и просто частным квартирам растекались новые толпы временных жильцов побережья.
Промов встретил в тот день коллегу из соседнего издательства.
– Борис Вадимович! – услышал он у себя за спиной. – Не притворяйтесь, что не узнали меня.
Он и вправду не узнал ее в жуткой пляжной мешанине, где передвижение было сродни ходьбе по минному полю – того и гляди угодишь ногой на чье-нибудь расстеленное покрывало, полотенце или распластанную на них часть тела.
Промов огляделся: через завалы человеческих тел к нему карабкалась Ольга, фотохудожница крупного издательства, одно время они работали вместе.
– Я не то что не узнал тебя, Оленька, разглядеть здесь знакомого человека просто немыслимо.
– Ах, перестань оправдываться, лгун, – она добралась до него и по-комсомольски пожала руку, – так и скажи: просто не хотел здороваться. Я тебя еще вчера в профсоюзной столовке заметила, думала, позвать или нет?
Промов нелепо молчал. Кажется, он ей немного нравился, или это он сам себе навыдумывал. Да и было это год назад, когда их кабинеты были по соседству, а теперь… Что тут скажешь? Не видел он ее, ни вчера в столовке, ни сегодня на переполненном пляже, пока она его не окликнула. У их ног полная женщина в халате пестовала дитя:
– Вот, Изюньчик, складывай тут дынные корки, а сюда – кукурузные качанчики. Когда будем уходить, завернем все в бумагу и выбросим в урну. Приучайся к порядку, тебе скоро в пионеры.
Рядом сидела такая же полная дама, но значительно старше первой, с полуседой шевелюрой, укрытой соломенной шляпой с розовой лентой на тулье. Она воспитывала ребенка великовозрастного, на вид ему было, как Промову, чуть за двадцать:
– Ёся, замолчи свой рот и береги голову, не подставляйся солнцу. Такой головы, как у тебя, во всем Житомире не сыскать.
Ольга прервала паузу:
– Ну, раз сегодня ты мне второй раз попался – идем со мной. Мы с подругой пришли пораньше, заняли себе место с запасом, так что и ты уместишься. Ты один, кстати, или с компанией?
Промов уже пробирался за ней, обходя тела с различной степенью загара:
– Спасибо за предложение, Оленька, с радостью его принимаю, целое испытание – отвоевать в Алуште свое место под солнцем. А я один, совсем один… в своем здоровом коллективе.
Ольга коротко расхохоталась. Промов давно заметил: чем более к тебе расположена девушка, тем смешнее твои шутки.
– Семьей не обзавелся?
– Что ты, когда бы я успел? Мы всего год не виделись.
– Разве это дело долгое?
– Да нет, дело быстрое, но пока никого не встретил.
– Смотри, доперебираешься, как бы с носом не остаться.
– Что-то ты не с того беседу начинаешь, не в ту степь нас понесло.
– А вот мы и пришли, – перебила его Ольга.
На пляжном покрывале лежала русоволосая девушка – подруга Ольги. Она давно их заметила, но встала на ноги только теперь, когда они приблизились.
– Это моя соратница, вместе в «Динамо» ходим, беговую дорожку топчем. А это мой коллега по цеху, тоже работник печатного слова. Знакомьтесь, зайцы!
Промов первым протянул ладонь:
– Борис.
Ольгина спутница пожала ему руку, как и сама Ольга, – без жеманства и всякого намека на женское кокетство:
– Ксеня.
Лицо ее было широкое, но не массивное, черты выразительные, не особо крупные, глаза – сине-зеленые, во всем облике заметна русскость, славянство. Из-под челки на лоб полз давно затянувшийся шрам. Фигура плотная, словно у крестьянки, – сбитая работой, а у самой Ксени, бе- зусловно, – спортом. Купальный костюм – сплошной, с закрытым животом. Промов улыбнулся и подумал: «Лучше бы вот такие подставлялись солнцу без одежды, а не те, что валяются за камнями, лень им даже от пляжа подальше отойти».
При старом режиме, Промов это помнил отчетливо, множество людей на крымских пляжах лежали и купались в натуральном виде, некоторое время при советской власти их еще оставалось порядком, но с каждым годом культура отдыха вытесняла натуристов с общественных пляжей на окраины.
Сам Промов имел атлетическое сложение, держал дома гантели, жал по утрам гирю и даже научился перебрасывать ее с руки на руку, хотя однажды не поймал и долго потом выслушивал упреки от соседей снизу, после чего вынужден был тренировки с «жонглированием» прекратить.
Ксеня на улыбку Бориса ответила своей улыбкой. Руки их задержались чуть дольше, чем полагалось при обычном пожатии.
Ольга тут же быстро заговорила, стала расспрашивать Бориса, где он поселился, давно ли в Алуште, как долго еще намерен задержаться. У девчонок оказалась холодная бутылка сельтерской и бутерброды, они принялись ухаживать за Промовым, угощать его. Выяснилось, что живут они неподалеку, их квартиры разбросаны в получасе ходьбы. Решили встретиться вечером, прогуляться втроем по набережной.
Тот вечер выдался неспокойным. Кошки бегали по городу в непонятной тревоге, жались к ногам хозяев и просто случайных прохожих. Собаки подвывали, а те из них, что не были на привязи, тоже довольно подозрительно льнули ко всем встречным людям, словно просили защиты. Над окраинами и татарскими кварталами стоял коровий рев, будто скотина жаловалась на свою нелегкую долю.
Отпускники морщили носы, дивились здешней обстановке:
– Что за цыганский табор? Не курорт, а скотный двор.
Промов этой городской суеты почти не замечал. Взяв его под руки, слева и справа шагали девушки. Еще днем на пляже он заметил, как смотрит на него Ксеня, и сдерживал себя, боясь, что и она заметит кое-что в его глазах. До той поры, пока он не убедится точно в чувствах своей новой знакомой, Борис решил себя не выдавать. Во взгляде Ольги и ее бесперебойном щебете он улавливал ее теплое соучастие, казалось, и Ольга рада этому их едва наметившемуся союзу.
Они заявились было на какую-то скучную лекцию, посидели у входа на летнюю веранду, но быстро сообразили – надо ретироваться. Попали на уличный концерт-конкурс: постелив на мостовой лист фанеры, соревновались мастера степа. Заломив на затылок кепку и скинув легкий светлый пиджак, местный парняга выбивал набойками чечетку. Его окружила толпа курортников, ждали окончания номера. На низеньком табурете сидел пожилой мужчина в украинской рубахе с вышитым воротом, шевелил руками над клавишами аккордеона – плавно лилась по улице мелодия.
Женский голос вскрикнул в толпе, заржала лошадь, в сторону шарахнулась часть толпы. У коновязи мотало длинной головой животное, беспокойно топтало землю, било задними копытами воздух, как взбесившееся. Недоуздок наконец лопнул, и лошадь помчалась вдоль улицы, распугивая прохожих.
– О господи! – прижалась к Промову Ксеня. – Какая сегодня и вправду суета.
– Пойдемте к морю, девушки? Может, там спокойнее? – предложил Промов.
От пирсов и причалов торопливо шли рыбаки в брезентовых робах и высоких резиновых сапогах. В их речах тоже слышалась тревога:
– За всю жизнь такого не видел – море спокойное, бриз утих, ни ветерочка… а зыбь на воде. Скажи – откуда?
– Рябь по воде гуляла, сам видел, вроде как изнутри вода кипит.
– Тихомирова знаешь? Всегда об эту пору у него заплыв, уж насколько смельчак, а и он сегодня отвернул.
На берегу еще бродили компании и парочки, двое стояли у самой воды, провожая солнце. Оно уже полностью опустилось в море, лишь его прощальные приветы гуляли на редких облаках. Бежал закутанный в полотенце ребенок, за ним, разыгрывая погоню, торопилась мать. Среди тишины и легкого шороха воды у берега звенел детский счастливый смех…
Потом задрожала галька на пляже, послышался шелест, словно поднялись в небо несметные полчища саранчи. Промов, опираясь на ограждение пирса руками, заметил, как море отшагнуло, как будто кто-то вылакал его одним махом, надхлебнул огромной пастью, – показалось мокрое, устеленное плоскими камешками дно, блеснула на секунду пустая бутылка зеленого стекла. Все как один люди на пляже ахнули… и море отрыгнуло воду обратно.
Волна срезала тех, кто бродил по берегу, впечаталась в каменный пирс, разбилась об него. Промова и его подруг окатило теплыми брызгами, все трое на секунду зажмурились и шарахнулись прочь от ограждения.
Борис отряхнул с полосатой тенниски воду, обернулся к пляжу. Подхваченный матерью ребенок рыдал у нее на руках, коленка его сочилась кровью, а полотенце украло море. Вымокшие в волне парочки бежали в город.
Им, тоже намокшим, только и оставалось, что идти по домам. Промов вызвался проводить подруг до их квартиры, они отказались, только указали крышу трехэтажного многосемейного дома, торчавшую над частными постройками.
– Заскочу завтра к вам, – пообещал он.
– Давай лучше на пляже встретимся. Приходи пораньше, на наше место, – сказала Ксеня.
– Гляди не проспи, лежебока, – напоследок бросила Ольга на правах старой знакомой. – Не проворонь! – И выразительно скосила глаза на свою подругу.
Промов проснулся темной ночью, над городом стоял собачий вой. Выли собаки на разные лады и так громко, что становилось ясно – нет сегодня среди них ни одной молчащей. Борис нащупал на тумбочке ручные часы, хотел узнать время. За окнами царила мгла, стрелок разглядеть не удалось. Тогда он провернул выключатель на стене, зажглась тусклая лампочка. Часы показывали ровно полночь. Из-за перегородки справа долетал безмятежный храп, сосед слева, видно, такой же чувствительный, как и сам Промов, принялся браниться на виноватых животных.
– Ночка будет веселая, – окончательно проснулся Борис и полез в чемодан за журналом.
Прочитанное не шло в голову. Собаки выли. Сосед слева, чтобы заглушить собачью тоску или свой страх, внезапно пропел грубым голосом:
- В двенадцать часов по ночам
- Из гроба встает барабанщик…
Внезапный грохот оборвал разом собачью и людскую песню. Прежде чем погас свет, Промов успел отметить положение стрелок на циферблате – минула четверть часа за полночь.
Борис опустил ноги с койки и не почувствовал их. Он не чувствовал ног, опоры под ступнями, не чувствовал пола. Грохот все еще длился. Лопались и со звоном вылетали стекла, на голову пластами сыпалась штукатурка, трещали доски на потолке…
Дрожь утихла, Промов снова почувствовал свои ноги. Он подхватился, выскочил на улицу в трусах и майке, даже шлепанцев не искал.
На улице – светопреставление. Земля уже не гудела, но запоздало падали печные трубы, гремела кровельная жесть. Из распахнутых окон повсюду доносились вопли и крики, куда там собачьему вою до этого людского концерта! Народ толпами выбегал на улицу. Медленно и уныло валились стены ветхих сараев и домишек, в воздухе повисло плотное облако пыли. Горы все еще шумели, откликаясь обвалами и камнепадом, хотя люди и не слышали их. Вопили раненые, порезанные стеклами, придавленные потолочными матицами. Истеричные крики то ли сумасшедших, то ли насмерть испуганных людей:
– Англичане напали! Эскадра бьет по городу! Из главных калибров садит!
– Проклятый Керзон!
Совсем рядом прогремел выстрел. Вытирая ладонями слезящиеся от пыли глаза, Промов разглядел пожилого мужчину на высоких порожках. Одна штанина его бязевых кальсон была пуста, в подмышки упиралась пара костылей. Инвалид разряжал охотничий дробовик в темное небо и следом посылал проклятия:
– Я тебе не поддамся, Керзон! Все еропланы свалю! Всю дирижаблю лопну!
И тут Промов вспомнил о своих недавних спутницах и хотел было в горячке вернуться в жилище, но его перехватили чьи-то крепкие руки, толкнули в сторону и отвесили тумака. Промов выбежал со двора, помчался босиком вдоль улицы. Он натыкался на собак, сбитых бедой в стаи, они все так же доверчиво жались к людям и жалобно скулили. Людей раздражали их бестолковые метания, и собак пинали в горячке всеобщей беготни.
Разгоравшийся пожар было видно издалека. Промов сразу определил – горит квартира девчонок, точнее, тот самый дом, где они поселились. Помимо собачьих свор толпились на улицах выбежавшие люди, боялись возвращаться в скрипевшие и ходившие ходуном дома. Уличный мрак разгоняло пламя, огонь внутри дома расходился, креп. В окне с вылетевшими стеклами полыхала штора и плавилась зеленая герань.
Раздался женский вопль:
– Сколько раз просила – не готовьте по ночам! Кто керосинку не выключил?!
Отбивался молодой мужчина:
– Может, это от электричества загорелось, поди узнай теперь! Да и не важно уже…
На Промова налетела фигура в ночнушке – волосы растрепанные, глаза безумные, лицо искажено страхом:
– Боря! Она наверху осталась! Спаси!..
Промов с трудом узнал Ольгу:
– Ксеня там?!
– Там! Я думала, она выбежала, но ее на улице нет! Она там! Там!
Промов очертя голову кинулся ко входу, тут его тоже задержали, он рванулся, треснула на плечах майка и осыпалась под ноги рваньем, в лицо ударило жаром, нестерпимо перехватило дыхание от едкого дыма. Сзади настигли, ухватили за руки, потащили наружу.
Нарастая, катился по улице бой пожарного колокола. Брандмайор на ходу выпрыгнул из подлетевшего автомобиля и едва стал на землю обеими ногами, надолго задумался, видимо, оценивая обстановку. Много позже, вспоминая о тех событиях, Борис понял, что пауза начальника пожарных была не больше десятка секунд, но всем окружающим, и Промову в том числе, эта пауза в алом зареве огня, в треске сгораемого дерева, в топоте и беготне спасавшихся людей показалась бесконечно долгой. Не зря налетели на брандмайора сразу несколько женщин:
– Вы же ничего не делаете! Делайте же хоть что-нибудь! Спасайте же скорее!
В словах главного пожарного, как и в его обстоятельных движениях, не было суеты:
– Дамочка! Успокойте нервы! Не мешайте работать! – И – к своим топорникам: – Болотный! Лестницу на второй этаж! Рубите балконы, с них пламя на крышу скачет! Кравчук с Иванычем – крышу разбирать!
Глядя на брандмайора в ту ночь, Промов убедился, что действовать скоро – это выполнять четкие движения с минимальным промежутком времени между ними. А все остальное – глупая суета.
5
С первых секунд, едва капитан Воронин взошел на палубу «Челюскина», в нем поселилась уверенность – этот корабль вести ему. Он определенно не мог даже догадываться, что штатного капитана затянут в Копенгагене бумажно-финансовые дела. Он не мог знать, по какой причине Биезайс не поспеет в Мурманск, но каждой частичкой своего тела чувствовал, как пароход шепчет ему: «Я твой», так шепчет милому избраннику любовница, сбежавшая от пьяного мужа в первую брачную ночь.
Увы, любовь парохода к Воронину не была взаимной. Владимир Иванович до самого Копенгагена изучал судно и отписывал Шмидту все новые бумаги: корпус парохода недостаточно усилен, имеет обычную форму, это не ледокол, у настоящего ледокола корпус яйцевидной формы, при сжатии льдами его выталкивает на поверхность. Нос корабля – не ледокольный, стенки прямые.
Шмидт бумагомарательством не занимался, прибегая в каюту Воронина, торопливо давал отповедь:
– Владимир Иванович, вы же лучше меня знаете, что «Челюскин» не будет в одиночестве, ему и не надо быть ледоколом, всю работу за него проделает «Красин».
Воронин с нажимом отвечал:
– У него чудовищная ширина! Пароходом будет сложно управлять и лавировать в проторенной «Красиным» колее.
– Вот, Владимир Иванович! Одна голова хорошо, а две – лучше! Там, где не справится Биезайс, придете на помощь вы.
– Каким образом, Отто Юльевич? Подойду к капитану и попрошу порулить? Я ведь обычный пассажир, всего лишь сторонний наблюдатель.
Шмидт лукаво улыбался, будто что-то знал наперед, и примирительно махал рукой:
– Биезайс, учитывая ваш несомненный авторитет, вам не откажет. В крайнем случае, я смогу его уговорить.
– Какие-то детские игры, – сокрушался Воронин.
В Мурманск Биезайс не поспел, Воронин стал на капитанский мостик, с фатальной мрачностью подумал: «Не зря так крепко вцепились в меня Шмидт и сама судьба».
Льды появились в Карском море, на выходе из пролива Маточкин Шар. Сначала плавали отдельными пластами, потом липли друг к другу, склеивались, образуя сплошное непроглядное полотно. Впереди неукротимо обламывал белую корку «Красин», «Челюскин» шел за ним вслед. Шмидт довольно потирал руки, все шло благополучно.
Воронин не утерпел, чтоб не напомнить прошлогодний поход:
– А ведь на «Седове» проскочили это место по чистой воде, ни одной льдинки не встретили.
– Ничего, ничего. С ледоколом мы через месяц в Беринговом будем.
– Ты слышишь, как скрежещет лед о борта? Пароход шире ледокола, ему тесно в этой колее.
– «Челюскин» справится.
Когда становилось чище и поля льдов превращались в ледяные острова, ледокол покидал их, и «Челюскин» шел самостоятельно. У «Красина» была параллельная миссия – он торил дорогу для каравана лесовозов, спешивших пробраться в устье Лены. Однако курсы у этого каравана и «Челюскина» лежали вовсе не параллельно. «Красин» надолго исчезал за горизонтом. «Челюскин» одиноко шел сквозь плавучие льдины. Кораблю приходилось брать их на таран, ведь огибать каждую – это перенапрягать силы экипажа и самого судна, терять в бесчисленных лавированиях массу времени. От ударов об лед на «Челюскине» разошлись швы, вылетела часть шпангоутов. Доступ к ним лежал через деревянный настил. Его требовалось снять, а перед этим вынуть из трюмов весь уголь и оборудование. Только так можно было приступить к ремонту.
…Трехсуточный аврал закончился, чрево «ковчега» было освобождено. Весь ремкомплект находился на «Красине», забортная вода в трюмы больше не поступала, корма осела, нос задрался, «Челюскин» спокойно дрейфовал, ожидая помощи.
Ледокол вскоре вернулся. На него перегрузили часть полагавшегося ему угля и забрали ремонтное оборудование. Корпус корабля задрожал теперь под ударами кувалды, стягивающей листы шпангоутов.
Команда отдыхала. Люди счищали с себя угольную грязь в моечных комнатах. Забортная вода, пропущенная через тело корабля, согретая о его организм, приятно лилась на Промова. Рядом с ним под распрыскивателем душа стоял гидрограф Звездин. Из клубов пара вынырнуло его чумазое лицо, с такими же, как у Бориса, светлыми кругами возле глаз – следами от очков.
– Шахтеры из забоя вернулись! – весело крикнул он.
– Похожи, – согласился Промов.
– Ты на Донбассе был, Боря?
– Нет, не приходилось.
– А я оттуда родом. У нас в городке парень живет по фамилии Стаханов, видел его нынешним летом, когда в отпуске мать навещал. Как твоя братия до сих пор его не обнаружила? Геройский парень, передовик!
– Про каждого передовика печатать – бумажная промышленность иссякнет, – попытался пошутить Промов.
– Не скажи, он труженик выдающийся, люди про него должны знать.
– Значит, узнают в свое время, – не спорил подобревший после купания Промов.
– Приезжай к моей матке в гости, Борька! Ох и отдохнешь у меня!
– Виталик, милый мой человек, у меня на отдых нынче времени нет, страна такие прыжки гигантские делает.
Звездин, натягивая брюки, пригляделся к Промову, определяя, ерничает тот или нет:
– Не прибедняйся, прямо заработался весь.
– Да нет, Виталик, зря не веришь. Я даже когда из отпуска выхожу, две-три статьи готовых на редакторский стол кладу.
– Так а я тебе о чем: будет тебе у меня на родине статья про трудовой подвиг – один Стаханов чего стоит. И отдохнуть заодно успеешь. Знаешь, какие у нас места? Терриконы, закаты в степи, Донец посреди гор меловых течет… Позади дома отдыха, монастыря бывшего, памятник товарищу Артему стоит – единственный в стиле кубизма на всю Европу, а то и на весь мир. Ну, где еще такая свобода искусству, как не у нас? Кубизм, представляешь себе?
– Нет, не представляю, – прятал ухмылку Промов, помня поговорку: «Всякий кулик свое болото хвалит».
– А у нас, в Стране советов – стоит. Первый и единственный памятник революционеру в стиле кубизма. Самая массивная бетонная скульптура в мире – 800 тонн! 28 метров высоты, вместе с постаментом. За три месяца возвели, без применения строительных механизмов. Бетон, говорят, в нем – уникальный, только семья местного мастера Орленко его состав знает. Вот и про него, кстати, тоже можешь написать.
– Про памятник?
– Да нет, зачем? – немного возмутился Звездин. – Про памятник уже писано-переписано. Про Орленко, конечно же! – Немного подумав, добавил: – Да и про памятник можно. Там голова Артема даже выше куполов поднялась, а уж на что глава у собора громадная. В доме отдыха заодно поживешь, такая здравница в бывших монастырских угодьях! Знали, где обитель свою строить, – благодать. Я люблю к матери ездить и в Банное постоянно заезжаю, будто ритуал какой: на гору подняться, возле киосков попутно постоять, на округу глянуть, по меловым пещерам поход – само собой…
Звездин продел в рукава свитера руки и замер:
– Знаешь, до сих пор помню запах свечей из настоящего пчелиного воска, как раньше было… После нашей экспедиции я опять хочу вернуться в эти места.
– У тебя же договор на три года, а на Врангеле домов отдыха с пчелиным воском нет, – добродушно напомнил Промов.
Полярная станция, куда ехал геодезист, лежала отрезанной от Большой земли, Звездин знал это прекрасно и без Промова, с ответом не растерялся:
– Отработаю и навещу мать… Ты знаешь, отчего тамошний город «Банное» называется? Еще при Екатерине эти места у церковников отняли. Получил монастырские угодья Потемкин в свое управление и создал на берегу Донца купальни, что-то вроде немецких курортов. Приезжай – не пожалеешь.
– Раньше, чем через три года, не поеду, без тебя не хочу.
– Вот-вот, поглядишь на красоты, а статей привезешь… Глянь, сколько я тебе вариантов подбросил: про Стаханова, про Орленко, про дом отдыха – бывшую цитадель порока, разврата и религиозного дурмана. Или вот тебе сюжет: под Бахмутом рудники соляные есть, несметные копи – с шестнадцатого века соль там роют. И вот в одной соляной пещере даже храм устроен, заводская церковь, но недавно и ее упразднили, сделали конюшню для шахтерских лошадей. Вот тебе и тема «борьбы с культом» раскрыта.
Они шли нешироким коридором, Звездин умеренно жестикулировал. Промов таил на губах ухмылку:
– Заманчиво, Виталик, но я уже пять лет по курортам не езжу.
– Чего?
– Да так, попал в Крыму под раздачу, чуть потолок на голову не упал…
– Это когда землетрясение было? Слышал, слышал. Ну и ты бы рассказал, для общей картины.
– Как-нибудь в другой раз, не сегодня, – устало отмахнулся Промов.
В буфете звон посуды, звяканье ложек о тарелки и стенки чайных стаканов. После такой ударной работы да с морозца усиленные распоряжением Шмидта порции сметались командой быстро.
Промов со Звездиным, набрав на поднос приборы и заполненные тарелки, отошли от раздачи, поискали глазами свободное место. Путь их лежал мимо «семейных» столов: здесь сидел начальник станции Бойко, ехавший на остров Врангеля, и его жена; коллега Звездина – геодезист Василевский с супругой; пара метеорологов Камовых, геолог Рыцк со своей благоверной. Командировки на полярную станцию длились по нескольку лет, и Бойко решили не расставаться на этот длительный срок. Их не остановило даже наличие полуторагодовалой дочери, которой предстояло провести почти все свое младенчество в ледяном краю. Малютка Анечка сидела у мамы на коленях, без фокусов ела приготовленную буфетчиком Кливером детскую кашку. По всем приметам даже ребенок ощущал свою миссию среди взрослых – не досаждал им, был спокоен и тих, не фокусничал, накормить его не составляло для матери труда.
У Доротеи Василевской положение было еще более рискованным – в плавание она отправилась беременной. Но и путь у ее мужа лежал более короткий: не к острову Врангеля, а вместе со всей экспедицией – вдоль материка, до Владивостока. Кроме того, на корабле был прекрасный судовой врач, Доротея Исааковна от него старалась далеко не отходить, даже теперь он сидел с Василевскими за одним столом. На борт в Ленинграде Василевская садилась с семимесячным животом, нынче дотаивали последние дни срока.
Неподалеку поедал свой рацион биолог Белокопытский. Напротив него сидела ихтиолог Сушкина, она часто откладывала вилку в сторону и заразительно похохатывала, видимо, Белокопытский решил скрасить свое одиночество в пути, а то и чего посерьезнее задумал – уговорить Сушкину на перемену девичьей фамилии.
Сидела дружной гурьбой творческая интеллигенция: фотограф Новик, художник Шемятников, кинооператор Шапиро и его помощник Троянский. Недоставало в их молодой компании одного Промова.
– Потеснись, дармоеды! – шутейно заругался он, подходя к столу. – Расселись, понимаешь, халтурщики пера и линзы, пролетарию прислониться негде.
Сидевшие сдвинули свои приборы плотнее, давая место для Промова и Звездина.
– Не бухти, рабочий класс, – подыгрывая Промову, раздался галдеж за столом. – У нас тоже кости трещат после аврала.
Промов поставил поднос и обличающим жестом обвел стол:
– Дармоеды! Вас народ кормит, поит, штаны вам шьет и стирает!..
Шапиро едва оторвался от флотского борща:
– Удивляюсь тебе, Борька. В животе так урчит, что камни переварить могу, а ты еще разглагольствуешь, на еду не бросаешься.
– Мало тебе крови кишиневских младенцев, проклятый семит? Все никак не нажрешься? – голос Промова был делано грозен.
Шапиро, да и вся компания, к шуточкам журналиста давно привыкли, внимания не обратили. Один лишь Звездин испытал за нового приятеля испанский стыд, поднял немного виноватые глаза на Шапиро, потом обратил их на Бориса:
– Товарищ Промов, ну что ты в самом деле?
Троянский отмахнулся:
– Не обращай внимания, Виталик. Интеллигенция шутит.
Все сто четыре человека на борту давным-давно перезнакомились, неизвестных к этому дню не осталось.
Когда первые блюда были поглощены и половина вторых пропала из тарелок, Шемятников спросил у всех разом:
– Чем сегодня займемся? Есть предложения, как скоротать досужий вечер?
– Семин небось опять собрание назначит, – с уверенностью сказал Новик. – Расскажет, как в ударные сроки коллектив корабля дружно и весело… и ну так далее.
– Потом Белокопытский лекцию прочтет из жизни головоногих, – добавил Троянский.
– И закончит наш Боренька: о ритме и правильных расстановках верлибра, – предположил Шапиро.
– Слабовато, Арончик, – со скукой в глазах посмотрел на него Промов. – Ваш выпад, сударь, даже не требует ответного удара. Он как сонная муха замирает и падает замертво наземь.
– Точь-в-точь как слова в твоих тягомотных лекциях, – улыбнулся в ответ кинооператор.
– Ух, если бы мне дали развернуться! – Промов приподнял сжатые кулаки и легонько пристукнул ими по столу. – Я бы… но вы же знаете Семина, вяжет руки и стискивает глотку.
– Семин – секретарь экспедиции, мимо него не проскочишь, – напомнил Звездин, тоже не раз выступавший с докладами и страдавший от строгого визирования секретаря.
– И что бы ты, Боренька? Чем удивил бы нашу взыскательную публику? – заинтересованно поглядел на Промова художник.
– Уж будь спокоен – зевать бы тебе не пришлось.
– А все-таки, – настаивал Шемятников. – Представь, что к тебе на лекцию пришло ровно пятеро. – Он обвел глазами сидевших за столом.
Промов допил компот, посмотрел на донышко стакана, где плавали остатки сухофруктов. Казалось, он тянул время, выпрашивая себе небольшую паузу. Потом с решительным видом заговорил:
– Ну, держитесь. Тема лекции звучала бы так: «Герои и антигерои в современной литературе». Как смотрит современный читатель на казака Мелехова? Или, скажем, на товарища О. Бендера в желтых ботинках? Оба контрреволюционеры, оба мелкие собственники, не способные разглядеть из-за близорукого своего взгляда завтрашних великих далей. Оба не хотят развития своего социалистического отечества, и здесь налицо явное их место – это самые настоящие антигерои. Но существует магия… Магия искусства, великая магия литературного слова. Именно она заставляет нас сопереживать им обоим. Мелехова нам жаль, ведь если бы он не метался – ах какой бы из него вышел комкор или семьянин, хлебороб, на худой конец. И я надеюсь, автор таки придаст Мелехову, в конце концов, нужный вектор и поставит его на верный путь.
В словах Промова не было горячности, только твердая, нефальшивая убежденность. Он медленно обводил глазами приятелей, видел, как они забыли про компот, отставили прочь стаканы и особо не подают вида, но внемлют, однозначно внемлют.
– А Ося Бендер? Каков шельмец! Современный Тиль Уленшпигель! Да если бы его способности в нужное русло… Нет, ему легче переквалифицироваться в управдомы, чем податься во ВХУТЕМАС. Он и Зосю простить не может не потому, что она его не дождалась, а только из-за того, что предпочла его, Бендера, свободного художника-индивидуалиста, человека, которого любили домработницы и даже одна женщина – зубной техник, какому-то выскочке с рабфака, наподобие нашего Семина. Бендер никогда не будет общественником, и мы, читатели, мы обязаны проклинать его за это, всем своим пролетарским существом ненавидеть, а вот поди ж ты – сочувствуем.
– Ну, с Бендером – это авторская спекуляция, – не утерпел Новик. – Ильф и Петров не дают нам альтернативы. Они вылепили Бендера и заставляют на него любоваться. Конечно, буду я сочувствовать Бендеру, не Корейко же, не Берлаге и не Паниковскому. Так что никакой тут магии нет.
– Как думаете, будет ли третья часть? – спросил у всех Шапиро.
– Наверняка, – тут же отозвался Звездин. – Я даже вижу, с чего она начнется. Авторы не зря оставили Бендеру орден «Золотого руна». Это, во‐первых, стартовый капитал, с которого начнется новое его приключение, а во‐вторых, яркий символизм: Бендер наберет новую команду аргонавтов и пойдет по стране в поисках золотого барашка – на этот раз, мол, с теленком история не получилась, будем понижать ставки.
Люди за столом заспорили, стали предлагать иные коллизии похождений книжного героя, мелькали варианты от полного преобразования сына бывшего турецкоподданного даже не в управдома, а в ударника на челябинской стройке до окончательных похорон авторами безвестного и нищего жулика.
Промов уловил, как любопытно смотрят на них из-за соседнего стола. Там сидели плотники, печники, прочий рабочий люд. Во взглядах у них было презрение, у кого-то равнодушие, мелькнула даже легкая зависть.
Яшка глядел на компанию Промова с плохо скрытым восхищением. Ему наверняка хотелось оказаться среди этих галдящих деляг. Но он и сам понимал: что толку подсаживаться к ним, если твой удел вертеть головой и ловить чужие непонятные слова, это можно делать и на расстоянии, среди своего брата-плотника.
Журналист не раз замечал в этом путешествии, да и раньше, в поездках, командировках, повседневной жизни, – социальные границы почти стерты… но они есть, они все еще есть, черт возьми. О чем говорить тому же Звездину с Яшкой? Слушать, как Яшка всех девок у себя в деревне по сеновалам перещупал? А Яшка? Станет ли он слушать про фигуру товарища Артема в стиле кубизма, вылитую из авторского бетона с неизвестным рецептом?
На эти вопросы Промов знал ответы и утверждался истиной: во все времена, в любом, даже самом справедливом обществе, будет расслоение. Есть те, что хотят изучать космос, и те, кто чихал с высокой колокольни на эту дурость. Он видел, как страдают его коллеги на лекциях того же Белокопытского, но он знал, что плотникам и печникам на этих чтениях и того горше, ведь их не раз уже отчитывал Семин за храп во время выступлений докладчика.
И ему постоянно вспоминался виденный в Москве сюжет: из глубины воронежских степей привезли в столицу на пионерский слет детей. Конечно, были там лучшие – отличники, лидеры дружин, юнкоры и юннаты, но были просто дети передовиков колхоза, такие же работяги, как их родители. Промов интересовался именно этими, он сначала следил за ними, как они таскаются в хвосте по выставкам и музеям, ничего в этом не понимая. Потом ему искренне стало их жаль. Детей привлекали к совместным мероприятиям, выступлениям, сценкам. Были там два родных брата – одному восемь, другому одиннадцать лет. У Промова навернулись слезы, когда он услышал, как старший, наклонившись к младшему, негромко сказал на суржике:
– Эх, Мыкола, а у поли, мабудь, було б лэхше [2].
Промов видел, как маялись плотники, стиснутые бездельем и железными боками корабля.
6
Столпотворение на палубе. Все не занятые в нарядах, не задействованные в работах облепили корму, нос, толпятся на баке, хоть оттуда и плоховато видно. Бесшумно работает лебедка, трос и механизмы обильно смазаны маслом, она поднимает с постамента летательную машину, чудо советской промышленности – гидросамолет Ш‐2, самое ценное (после самого «Челюскина») оборудование в походе.
Толкаясь с завхозом, старпомом, его дублером и еще кучей технического персонала, бортмеханик Вавилов руководил подъемом машины и спуском ее на воду. Из кабины пилота торчало улыбающееся лицо летчика.
Страсти с перегрузкой угля и ремонтом носовой части поутихли, успели за несколько дней позабыться. Несколько дней подряд на длинных фалах, выкинутых с бортов, билась в океанской волне привязанная брезентовая роба, соленая вода выколачивала из нее угольную пыль.
Свежая новость всколыхнула всю команду: «Бабушкин сегодня полетит!» Это его идея прокладывать путь «Челюскину» с помощью авиаразведок, искать в море участки безо льда и направлять пароход к ним. Он – новатор, он первый. Кроме того, Бабушкин, человек с прошлым, ровесник Шмидта и Воронина, обучал пилотов летному искусству во время Германской войны, партизанил в Гражданскую, летал искать пропавшую экспедицию Нобиле. Понятное дело, любой бы на месте бортмеханика волновался, распихивал старпомов и ругал мельтешивших без дела зевак.
Самолет завис над палубой, Вавилов успел вскарабкаться на крыло и показал знаком крановщику, чтобы тот продолжал подъем. Стрела переместила летательную машину за борт. Амфибия зависла над океаном, потом медленно спустилась и наконец села на воду. Поцеловалось дюралевое дно с ледяной зыбью.
Бабушкин натянул летный шлем, плотнее намотал кашне на горло, улыбнулся провожавшей его толпе. К пропеллеру на коленях подполз по плоскости бортмеханик, не оборачиваясь к летчику, крикнул: «От винта!», – крутанул винт и отпрыгнул обратно на крыло.
Мотор гидроплана заработал, по воде разошлись круги от молотившего воздух пропеллера.
Самолет, все еще удерживаемый краном, мотала волна, пыталась закрутить, стукалось крыло о пароходный борт. Вавилов приподнялся на руках, дотянулся до крючьев на концах стальных чалок, что связывали летательную машину с лебедкой, отцепил два от крыльев и один от хвоста, амфибия стала свободной. Бортмеханик встал ногой на один из крючьев, уцепился рукой за трос, поднятым вверх пальцем велел крановщику поднимать лебедку. Прокричал пилоту сверху:
– Михаил Сергеевич, удачи вам!
Публика услышала, как набрал обороты мотор и плотнее заработал пропеллер. Гидроплан заскользил по воде, оторвался от нее, роняя с брюха океанские брызги, прошелся над палубой. На корабле прыгали, бросали в воздух шапки, обнимались и радостно кричали.
Шмидт обернулся к Воронину, с высоты капитанского мостика указал на ликующий народ:
– Ну как?
– Молодчина Бабушкин, – согласно кивнул Владимир Иванович, – смелое и глубокое решение. Авиаразведки – это нам большое подспорье.
Всеобщего ликования Воронин не выказывал.
– Хотя бы сегодня порадовался, – с легким укором заметил ему Шмидт. – Что, опять чего-то тебе показалось?
Шмидт постоянно задавал тон, чаще обращался к Воронину на «вы», а то внезапно начинал «тыкать». Это не зависело от его расположения духа, Воронин не в силах был разгадать в Шмидте какой-то устойчивой парадигмы, почему вдруг меняется вектор, а лишь подчинялся ему и отвечал всегда в манере собеседника:
– Мне никогда не кажется, я вижу.
– Покажи мне, может, и я прозрею, – загорячился Шмидт.
– Погляди на борта – ледяные бороды выросли, вода с каждым днем намерзает, скоро центровку потеряем.
Голос Шмидта заледенел:
– Потеряется центровка, застопоришь ход, сплетем из канатов лестницы и в четыре смены, комсомольским рывком, обрубим весь лед. Как уголь одним махом перегрузили, так и здесь.
Воронин с сомнением качнул головой:
– Бывает такая ситуация, что на одном комсомольском рывке не удержишься. Вспомни «Италию».
– Брось, не нагоняй тоску, – скорчив кислую мину, стал открещиваться Шмидт.
Гул самолета в небе растаял, люди с палубы нехотя разошлись. Воронин выложил на стол свернутый номер «Правды» от 3 августа, доставленный с «Красина», заходившего с караваном лесовозов в северные порты:
– Читал?
Шмидт раскрывать газету не стал, заблаговременно угадывая, о чем будет его допрашивать Воронин:
– Да знал я и без всяких газет, что Беломоро-Балтийский канал вступит в строй не позже августа.
– А представляешь, если бы мы выждали годочек, один только год, корабль за зиму без спешки осмотрели и следующим летом вышли бы из Ленинграда по первой теплой воде, срезали бы путь по каналу. Не пришлось бы Скандинавию огибать, в Мурманске грузиться. Из Архангельска по короткому пути, чем теперь, когда все сроки нами упущены…
– Знаю, знаю, все знаю! – перебил его Шмидт.
– И я тебя знаю, – в свою очередь не дал договорить Шмидту Воронин. – Сейчас начнешь про то, как ждет от нас страна подвига и не ждет промедлений с освоением Северного пути. Ты только скажи мне, чья идея была назвать пароход этим именем?
– Что тебе не так? – взлетели изумленные брови Шмидта. – Прославленный путешественник, покоритель Севера, наш с тобой предтеча.
– А ты помнишь, что его дубель-шлюпку затерло возле Таймыра во льдах и она затонула?
– Да, «Якутск» затонул, но люди уцелели, успели вытащить припасы и достигли берега. Семьсот верст шли к Хатанге, и Челюскин спас почти весь экипаж, только несколько умерли от цинги.
– Как бы нам с таким названием их судьбу не повторить. Ох, и намытаримся мы с этой «волжской баржей».
Через сорок минут самолет Бабушкина вернулся. Для пробного полета эмоций и результатов хватило. Гидроплан сел на чистую воду вдали от парохода, к нему подошел дизельный катер, взял его на буксир, потащил к плавучей стоянке.
Воронин ушел в свою каюту, вспомнил спасательную экспедицию пятилетней давности.
За два года до тех событий, в 1926-м, итальянец Умберто Нобиле сконструировал дирижабль. Проект изначально был международным. Нобиле взял в компаньоны прославленного на весь свет путешественника Амундсена, поставил его командовать летательным судном, а сам дирижабль получил название «Норвегия». Нобиле и Амундсен достигли на нем Северного полюса и благополучно вернулись назад.
Итальянца встретили на родине как истинного героя. Муссолини окружил его почестями и произвел в чин генерала. И тут между двумя компаньонами началась дележка: Амундсен тянул одеяло на себя, Нобиле заявлял, что это ему принадлежит главная заслуга в путешествии. Посыпались в международной печати взаимные склоки и обвинения. У Амундсена и так уже было имя, ему не приходилось ничего доказывать. Нобиле же решился на новую экспедицию, с целью утереть всем нос.
Был выстроен аналогичный «Норвегии» дирижабль, под названием «Италия», заявлены грандиозные планы по исследованию Земли Франца-Иосифа, Северной Земли, области к северу от Гренландии и Канадского Арктического архипелага. Экспедиция обязалась поставить точку в вопросе о существовании гипотетической Земли Крокера, которую в 1906 году якобы наблюдал Роберт Пири.
Подготовка закипела. Конструкторские и научные центры в Милане и Риме специально для экспедиции разработали гору нового оборудования, снаряжения, экипировки, снабжение шло на высшем уровне. Нобиле ездил на личные встречи с Нансеном, обсуждал и консультировался по специфике арктических исследований.
Проект и на этот раз был международным: метеоролог из Швеции, радиолог из Чехословакии. Два журналиста из ведущих итальянских газет, дюжина членов экипажа, семеро из которых уже плавали по воздуху на «Норвегии». Нобиле взял даже домашнего фокстерьера Титину, собака была привычна к такого рода путешествиям, ведь и она сопровождала своего хозяина в предыдущем полете.
Проводы закатили грандиозные. Дирижабль благословлял сам папа римский, словно прогнозировал новый крестовый поход.
Аэростат достиг полюса, однако сесть ему там не удалось, команда довольствовалась лишь выброшенным на лед зелено-бело-красным флагом. На обратном пути цеппелин прошел над Землей Франца-Иосифа и исчез, перестал выходить на связь.
25 мая в половине одиннадцатого утра дирижабль резко отяжелел и стал спускаться к земле в каждую секунду на полметра. Члены экипажа быстро определили дифферент на корму в восемь градусов. Чтобы выровнять его и предотвратить падение, увеличили обороты двух работавших двигателей и запустили третий. Аэростат стал падать быстрее. Попытались скинуть балласт, но не успели, земля стремительно приближалась. Тогда мигом заглушили все двигатели – хотели избежать водородного пожара при неизбежном падении.
«Италия» ударилась об лед моторной гондолой. Когда она оторвалась – дирижабль взмыл вверх и на этот раз пропахал ледяную корку гондолой управления. Полсотни метров гондолу тащило по снегу, потом оторвало от воздушного судна. Цеппелин стал неуправляем, с шестью людьми на борту, большей частью оборудования и провизии его вновь подняло в воздух и понесло ветром на восток. Эта часть экспедиции получила название «группа Алессандрини».
Остальные десять членов экипажа остались на льду, в оторванных от «Италии» гондолах. При падении погиб моторист Помелла, еще два члена экипажа получили переломы рук и ног, у Нобиле оказалось рассеченным лицо, сломаны голень и запястье.
Минуло не более получаса, еще не всем пострадавшим успели оказать помощь, когда на востоке показался столб дыма. Стали гадать – пожар это на окончательно упавшем дирижабле, или Алессандрини и его товарищам удалось удачно приземлиться и они подают сигналы. Шестерых унесенных так никогда и не отыскали, как и следов погибшей «Италии».
Выжившая команда тихо затаила злобу на начальника экспедиции: вот он, наш выскочка, взялся за неподъемную ношу, когда летали с Амундсеном, катастрофы не было, а тут попали в туман и встречный ветер, оболочка обледенела. Отлетались. Недолго музыка играла. Благословление папы не спасло.
Положение их, однако, на первый взгляд не выглядело безнадежным. При крушении из дирижабля выпало на лед несколько ящиков со снаряжением, жестяные контейнеры с едой. Самой главной удачей оказался мешок с навигационными приборами и оборудованием. Штурман Мариано определил координаты катастрофы, радист Бьяджи привел в рабочее состояние коротковолновую станцию. Из подручных материалов смастерили невысокую антенну. Резервный одноламповый передатчик заработал в эфире сигналами длинных волн, радист забрасывал попытками выйти на связь корабль «Читта ди Милано», курсировавший совсем рядом, в Норвежском море. На пятый день радист с корабля услышал сигнал Бьяджи, но принял его за позывной со станции в Могадишо и не стал реагировать.
Девять бывших воздухоплавателей, спустившихся на голый арктический лед, стали ждать помощи, выживая в четырехместной палатке, с одним спальным мешком, имея в запасе семьдесят килограммов пеммикана и сорок кило шоколада. Из полезного оборудования еще имелся секстант, три хронометра и пистолет с патронами. Зеленому брезенту палатки придали более броский вид на фоне белой пустыни – вымазали красной краской, достав ее из шаров, с помощью которых до крушения определяли высоту полета дирижабля.
Через четыре дня после катастрофы швед Мальмгрен застрелил белого медведя. Даже сломанная левая рука не помешала суровой шведской охоте. Медведя разделали и пустили в пищу.
На следующие сутки из лагеря вышли трое: стойкий к северным трудностям Мальмгрен, штурманы Мариано и Цаппи. Швед заверил всю экспедицию, что они смогут пешком дойти до Конгсфьерда. Нобиле противился этой идее, он стоял против разделения и так уже поредевшей экспедиции. Цаппи горячо поддерживал шведа, и Нобиле сдался. Взяв с собой запас провизии, троица вышла навстречу архипелагу.
В первых числах июня вся Европа, следившая за полетом «Италии», вовсю била тревогу – дирижабль потерялся, не выходит на связь. В Италии, Норвегии и Швеции снаряжались поисковые экспедиции, из фьордов вышли два китобойных судна, зафрахтованные итальянским правительством. Норвежцы предложили организовать полномасштабную спасательную операцию, Италия по непонятным причинам жест великодушия отвергла. Руаль Амундсен, чувствуя запоздалую вину в конфликте с Нобиле, с первых минут после известия о катастрофе принялся изыскивать средства на спасательную миссию.
Третьего июня костромской крестьянин из деревеньки Вознесенье-Вохма двадцати одного года от роду присел за стол к собственноручно собранному приемнику. Это даже и приемником-то сложно было назвать – не до конца собранная конструкция, россыпь деталей, соединенная проводами, простейший одноламповый регенератор. Радиолюбитель надел наушники в надежде услышать чего-нибудь новенькое о судьбе пропавшей экспедиции Нобиле и раскрыл рот от удивления. В эфире висел слабый, едва читаемый сигнал: «Italie Nobile Fran Uosof Sos Sos Sos Sos Tirri teno EhH».
Костромской радиолюбитель долго не мог прий- ти в себя, срывал с головы наушники, хотел бежать по соседям и друзьям с громкой вестью, снова садился за приемник и дрожащими руками правил настроечное реле, в страшном волнении боясь упустить сигнал о помощи. Парень наконец кинулся к почтовому отделению. В Москву, на адрес «Общества друзей радио», улетела коротенькая телеграмма. Имя радиолюбителя было Николай Шмидт.
После его сообщения молниеносно при Осоавиахиме был создан «Комитет помощи «Италии». Вышли на связь с правительством недружественной страны, где правили фашисты. Газеты с советским сообщением трубили на весь мир о том, как крестьянин из русской глубинки обнаружил сигнал о помощи, и наконец позывные радиста Бьяджи приняли на корабле «Читта ди Милано». Бьяджи смог передать уточненные координаты лагеря со всеми широтами и долготами. Связь с внешним миром больше не терялась.
На спасение экспедиции вышли три советских ледокола: из Архангельска – «Малыгин» под командованием Владимира Визе и «Седов» с Владимиром Ворониным на капитанском мостике, а четырьмя днями позднее, из Ленинграда – ледокол «Красин» с капитаном Карлом Эгги и знаменитым полярным исследователем Рудольфом Самойловичем на борту.
«Красин» только в прошлом году вернулся из Англии, куда был угнан интервентами на излете Гражданской войны, и в ту пору носил свое первородное имя «Святогор». Он больше года простоял у причала, где его подлатывали, подштопывали и подкручивали. Ледокол готовился к выходу и грузился в величайшей спешке, догрузка в зарубежных портах и окончание ремонта в пути делали поход на нем еще более рискованным. На палубе «Красина» спешно соорудили помост для перевозки самолета. Немецкий «юнкерс» не мог взлетать с воды, предполагалось частями сгружать его по деревянным сходням на лед, готовить ледовые взлетно-посадочные полосы. Спасатели, экипаж и обслуживающая команда самолета разместились на ледоколе в большой тесноте – «Красин» не был рассчитан на перевозку большого числа людей.
Подходил к концу первый месяц ледяного плена бывших воздухоплавателей. Шел двадцать третий день выживания. В небе над лагерем раздался двойной гул самолетных моторов, летела пара неизвестных разведчиков. Видимость была отвратительной, ни красную палатку на льду, ни горевший костер пилоты не разглядели.
Амундсен продолжал взывать к миру и его правительствам. Отозвались французы: министр морского флота отдал в распоряжение норвежского путешественника гидросамолет «Латам‐47» с экипажем из пяти человек. 18 июня Амундсен вылетел из Тромсё, взяв курс на Шпицберген, но к месту назначения не прибыл. Последний раз бортовая рация «Латама» вышла на связь через два часа сорок пять минут после вылета. Место гибели экипажа и отважного норвежца так и осталось неизвестным, а его беспокойная душа, возможно, до сих пор скитается по свету в надежде спасти своего итальянского друга…
Спустя несколько дней после пролетевшей над лагерем самолетной пары на лед сел гидроплан «Савойя». Майор Маддалена сбросил на снег ящики с провизией и медикаментами. Измотанные соотечественники на радостях попытались его качать, но быстро поняли, что даже толпой не смогут поднять снаряженного в громоздкую экипировку майора. Через двое суток прилетело уже два самолета с грузами, голод терпевшим бедствие отныне не грозил.
Вскоре рядом с лагерем приземлился одномоторный биплан «Фоккер», управлял им шведский лейтенант Лундборг. Несмотря на хлипкость своего утлого воздушного суденышка, он предложил эвакуацию начальнику экспедиции. Нобиле для приличия немного поупирался: «Капитан покидает тонущий корабль последним! Возьмите лучше механика Чечони, у него сломана нога». В итоге на биплан все же погрузили Нобиле и его исхудавшую Титину, чуть было не съеденную в самые тяжкие дни бескормицы. Лундборг заверил оставшихся, провожавших своего начальника со слезами на глазах: «Завтра я прилечу за остальными и вывезу вас по одному в каких-то два дня. Крепитесь!»
Нобиле назначил вместо себя главным Вильери, через пару часов попал на шведскую авиабазу, а на следующий день был доставлен на «Читта ди Милано». Как руководитель экспедиции, он смог бы координировать усилия по спасению остальных, в том числе отколовшейся группы из трех человек, ушедших из лагеря в поисках Большой земли.
Лундборг обещание сдержал – следующим утром его биплан вновь оказался над лагерем и при посадке потерпел аварию, перевернувшись, пришел в негодность. Бывшие воздухоплаватели, сменившие было количество терпящих бедствие в своем судовом журнале с шести человек на пятерых, вынуждены были снова поставить шестую зарубку. Лундборг стал обитателем красной палатки. Измученные стужей итальянцы смотрели на закаленного скандинава, как на сошедшего с небес Тора: «Со шведом не пропадем, возможно, он подстрелит еще одного медведя. Хотя теперь мы и не страдаем от голода, но бродящие рядом с лагерем медведи от него страдают, нагло посматривают в сторону нашей красной палатки. И самое главное – рядом со шведом не так страшно».
За Лундборгом вскоре прислали самолет и наотрез отказались вывозить кого-то из итальянцев, засыпав их заверениями, что помощь близка. Шведы не лукавили: «Красин» взламывал белую толстопятую кожу, крушил замерзшую воду, спеша на выручку. «Малыгин» и «Седов» застряли в Баренцевом море, затертые льдами.
Десятого июля Чухновский поднял свой «юнкерс» со льда в поисках лагеря итальянцев. Он кружил в заданном квадрате, выискивал красное пятно палатки, прославившейся через прессу на весь мир. Лагеря советский летчик так и не обнаружил, но счастлива его звезда (или звезды пропавшей тройки) – на обратном пути к ледоколу Чухновский заметил одиноко лежащую на льду фигуру. Приземлиться он не мог, поблизости не было подготовленной для этого полосы, но летчик сообразил – случайно найденный им человек наверняка из потерянной группы Мальмгрена.
Погода портилась, в сгустившемся тумане Чухновский пролетел мимо ледокола и вынужденно сел на лед в районе мыса Вреде. В последнее мгновение перед тем, как самолет окончательно замер, шасси его налетело на невысокий торос, тут же обломилось, самолет подпрыгнул, погнув о ледовый зуб два винта. Чухновский связался с «Красиным», передал координаты замеченного им тела и наотрез отказался от помощи, пока не будут спасены обнаруженные им итальянцы и швед. У экипажа «юнкерса» имелся запас продовольствия с экономным расчетом на две недели: сахар, галеты, масло, консервы, шоколад, кофе и сушеные грибы.
Поздним вечером 12 июля «Красин» добрался к месту, где Чухновский видел с воздуха тело на льду. На борт ледокола подняли Мариано и Цаппи. Легенду эти двое выживших сочинили гладкую: уже месяц они скитаются вдвоем, Мальмгрен не смог идти от истощения и попросил их оставить его умирать, а самим идти дальше. У итальянцев был сооружен временный лагерь, они давно никуда не двигались и экономили силы. На снегу из лохмотьев были сложены слова: «Help, food. Mariano, Zappi» в расчете на то, что этот сигнал увидят с воздуха.
Рудольфа Самойловича смутило то, что на Цаппи были напялены вещи исчезнувшего Мальмгрена, и еще комплект одежды и обуви: теплое белье, суконные, меховые и брезентовые брюки; на ступнях – две пары шерстяных чулок и две пары кожаных мокасин из тюленьей кожи; на теле – теплое белье, вязаная шерстяная рубашка, меховая рубашка и брезентовая куртка с капюшоном, на голове – меховая шапка. Судовые врачи отметили, что сам Цаппи был бодр, находился в приличном для полуторамесячного похода по льду физическом состоянии, к тому же имел плотно наполненный кишечник.
Мариано лежал на обрывке одеяла и был полураздет: теплое белье, одни суконные брюки, вязаная рубашка, меховая куртка, на ногах его только шерстяные чулки. Ни шапки, ни обуви. К истощению Мариано судовой фельдшер еще добавил крайнюю степень бессилия и обморожение – одна из его ног требовала ампутации. Не приди помощь через полсуток, Мариано непременно бы скончался. Состояние спасенных не оставляло другого впечатления: Цаппи обирал своего слабеющего напарника.
На все обвинения Цаппи фыркал с негодованием обиженной жертвы, держался надменно, с римской напыщенностью, требовал от членов экипажа обращения как к офицеру и особых условий на борту. Дошло до того, что Цаппи стали обвинять в каннибализме – никуда Мальмгрен не пропадал, жирный индюк Цаппи его просто склевал; Мариано же от человечины отказался, потому едва и не дошел от голода. Мариано молчал, соотечественника не выдавал, к экипажу отнесся со всей искренней благодарностью. Ногу ему, спустя несколько дней колебаний, судовой врач все же отрезал.
Судя по самодельным мокасинам, сшитым из тюленьих шкур, Мальмгрен перед смертью успел удачно поохотиться и обеспечить своих итальянских «друзей» пищей и обувкой.
Подобрав Цаппи и Мариано, «Красин» не мешкая двинулся в сторону лагеря группы Вильери. Менее чем через сутки ледокол взял на борт пятерых человек, остававшихся на льдине: начальника лагеря, Бегоунека, Трояни, Чечони и Бьяджи, а также остатки их скромного имущества – для экспозиций будущих музеев.
Спасенных под наблюдением врачей накормили, оказали медпомощь, снабдили подходящей одеждой. Нобиле слал с борта «Читта ди Милано» наставительные просьбы: «Следуйте на поиски упавшего дирижабля! Спасите группу Алессандрини!»
Самойлович объяснял, что запасы угля у «Красина» на исходе, к тому же нет возможности вести авиаразведки, пропал самолет со всем экипажем, а ведь их тоже необходимо спасать. На «Читта ди Милано» из Рима прилетел приказ: «Немедленно доставить всех спасенных на родину!»
«Красин» лег на обратный курс. По пути ледокол завернул к мысу Вреде, снял дрейфующий экипаж и «юнкерс» со льдины. Люди были в хорошем состоянии, по очереди спали в кабине самолета, пищу расходовали экономно, к тому же, когда льдина подошла близко к берегу, им удалось застрелить двух оленей.
Всех выживших аэронавтов пересадили на «Читта ди Милано». 25 июля, спустя два месяца после катастрофы, судно прибыло в норвежский порт Нарвик, откуда итальянцы отправились на родину.
В процессе спасения погибло людей едва ли не больше, чем было на борту «Италии», один только Амундсен чего стоил. Пять стран искали пропавшую экспедицию, а нашел их советский ледокол «Красин». Из похода моряки вернулись героями мирового масштаба.
После неудачного рейда «Италии» советскому правительству стало ясно – Арктика у нас под боком, но лапы к ней тянут другие, пора осваивать свои законные территории. Отто Юльевич Шмидт, давно радевший за идею освоения морского пути по Ледовитому океану, почуяв благодатное время, стал еще громче выкрикивать свой призыв: «Открытие Северного пути – это новые возможности развития нашего хозяйства и укрепление нашей обороны!»
Воронин поглядел в круглое отверстие иллюминатора. На палубе, гордо расставив крылья, вновь стоял гидросамолет Бабушкина, бортмеханик обходил его, пробовал надежность строп и противооткатов, поправлял брезент на любимом детище.
Воспоминания никак не отпускали Воронина: если бы тем летом судьба сложилась по-иному и ледокол «Седов» не затерло бы в Баренцевом море, имя этого судна могли бы передавать из уст в уста иностранные газеты и люди всего мира.
– Капитаном «Красина» мне не быть, – уныло проговорил Воронин вслух. – В нынешней истории я, скорее, капитан «Италии».
7
Минул очередной день похода. И снова Промов и его друзья маялись от предстоящего вечернего безделья. Борис знал, куда пойдет, если вдруг Семин не устроит очередного комсомольского заседания или не соберет лекторий. Дружба с Яшкой открывала ему непринужденный путь в плотницкий кубрик.
Журналист не мог позвать туда всю компанию, это выглядело бы неловко, вроде экскурсии: вот спустились цивилизованные люди в пещеру поглядеть на морлоков. Во всяком случае, Промов опасался, что плотники именно так и подумают, если их творческая ватага завалится всем составом.
Яшка сразу понравился журналисту: типичный молодчик, родившийся перед самой Германской войной, старого режима почти не помнивший, для него Страна Советов – вечная и незыблемая родина, а не молодая, едва оперившаяся республика. Веселила Бориса крестьянская непосредственность Яшки и его прямота. В первый день на судне плотник, заметив Шмидта, вполголоса произнес:
– Гляди какой, башка наверняка умная.
– С чего вы взяли? – расслышал проницательный Шмидт и приостановил свой бег.
– Ну, как, – замялся Яшка, – по обличию.
– А, вы про бороду? – схватился обеими руками за густую растительность на своем лице Отто Юльевич. – Так в том нет моей заслуги, она сама по себе растет, – и скрылся в надстройках корабля.
Промову случилось в тот момент быть рядом, он едва удержался от смеха. Шмидт хоть и был породистым интеллигентом, славился своей демократичностью. Он знал народ, любил его и никогда бы не обиделся на слово «башка» или что-то подобное. Борис тут же познакомился с Яшкой, без укора стал объяснять некоторые нормы приличия.
В другой раз Шмидт снова попался Яшке на пути, и тот приостановил его заготовленным вопросом:
– Отто Юльевич, я вот давно спросить хочу, вы не родственник Кольке Шмидту из нашей Вохмы?
Шмидт быстро нашелся:
– Самый прямой родственник, я его племянник.
Шмидт шутил над Яшкой без всякого издевательства. Он вполне понимал, что сосед Яшки – Колька Шмидт – для него ближе, нежели далекий Отто Юльевич, со всей своей всемирной известностью. Для Яшки так выглядел мир: есть Колька Шмидт, радиолюбитель из соседней Вохмы, с кем он встречался на Первомай и видел его на других праздниках; и есть Отто Юльевич, полярник и исследователь, однофамилец знаменитого Николая Шмидта.
По журналистской своей специальности Промову приходилось знать о Шмидте многое. Яшка сошелся с ним еще и на этой почве, расспрашивал про начальника экспедиции:
– А кто ж он по крови? Немец, небось?
– Кажется, все-таки латыш, – неуверенно отвечал Борис. – Образованнейший человек, ты с ним поаккуратней, Яков: две гимназии с золотой медалью за плечами и университет, приват-доцентом в Киеве был.
Яшка в научных степенях и званиях ничего не понимал, но приятелю своему новому верил – раз Борька добавляет в голосе значительности, значит, за Шмидтом сила. Промов старался поделиться с плотником понятной для него информацией:
– С восемнадцатого года Шмидт в партии, два года членом ЦК был.
Промов хотел заметить, что с первых дней революции Шмидт возглавлял Управление по продуктообмену Наркомата продовольствия, но умолчал, зная, что у крестьян природная ненависть к хлебным должностям, принимавшим решения о продразверстке, даже у таких молодых, как Яшка, годы военного коммунизма почти не помнивших. Сказал вместо этого очередную вещь, добавившую Шмидту Яшкиной симпатии:
– В то лето, когда твой сосед из Вохмы принимал сигнал с потерпевшей крушение «Италии», Отто Юльевич совместно с немцами в горы лазил, была такая советско-германская экспедиция на Памир от Академии наук СССР. Выше облаков люди взбирались…
Взор Яшки горел, авторитет полярника-Шмидта явно перевешивал авторитет Шмидта-радиолюбителя:
– А как у него в семейной жизни? Женка там, детвора? Тут небось он тоже – парень без прома`ха?
– Угадал. Две жены у него было, и от каждой по мальчугану родилось.
– Ух, орел! – одобрительно вскрикивал Яшка.
– Если говорить о Шмидте, то тут надо знать не о количестве его жен или женщин вообще. Одной из его подружек была Евгения Соломоновна Хаютина. С первым своим мужем она переехала из Гомеля в Одессу, там познакомилась с Бабелем, Катаевым, Олешей. Слыхал про таких творцов?
Яшка почти обиженно кивнул:
– Само собой, – но Промов успел уловить в его глазах: «Не читал никого из них, даже если и слышал фамилии вскользь».
– Вторым ее мужем был директор крупного московского издательства – Гладун. С ним она уехала в Лондон, оба работали в советском полпредстве. Когда англичане порвали с нами связи, Гладун вернулся в Москву, и Евгения Соломоновна завела у себя дома что-то типа литературного салона, всплыли одесские привычки и знакомства. С Бабелем на этот раз она закрутила настоящий роман. В гостях у них бывали Эйзенштейн и Утесов, Михаил Кольцов, Шолохов и, внимание, – Отто Шмидт. С ним у нее тоже случилась короткая любовная связь. Женщина она интересная, любит танцевать фокстрот, ярко смеется, неглупа, чувственна. Друзья зовут ее Суламифь, а самые близкие – стервь глазастая. Раскрывая номер свежей «Правды», Евгения Соломоновна на одной странице может увидеть сразу нескольких своих мужчин. А недавно ее поздравляли с третьим браком. На этот раз мужем Хаютиной-Гладун стал глава Орграспредотдела – товарищ Ежов. Теперь же он возглавляет Центральную комиссию ВКП(б) по «чистке».
Яшка от растерянности прикрыл рот рукой:
– И не боится Отто Юльевич гоголем ходить, после того как знает, чью жену охаживал…
– Вот-вот, живет – и ничего не боится. А ты с ним запанибрата.
Промов наслаждался, наблюдая своего приятеля. Вначале гуляла в глазах Яшки природная страсть к деревенским сплетням, потом привычка восхищаться, слыша громкие имена. Борис ждал не только растерянности в глазах Яшки при упоминании колючей фамилии, но хотя бы скрытого страха, вместо этого Яшка неожиданно для Промова перескочил на личное:
