Уроки советского
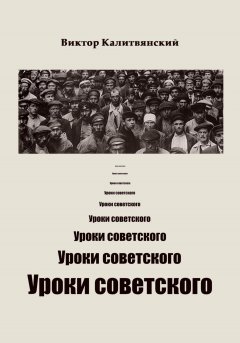
Вместо предисловия
Когда собираются старые друзья – это праздник.
Когда дружбе – пятый десяток, это праздник навсегда.
И вот мы сидели и наслаждались нашим дружеским общением. Нам было о чём вспомнить, что обсудить, о чём поспорить. Но и споры наши были такими, что всегда завершались общим согласием.
А затем один из нас заговорил о советской власти, о том, как нам жилось тогда, о крахе Советского Союза. Слово за словом – и вдруг выяснилось, что дружеский круг раскололся. Какая-то недобрая тень несогласия легла между нами.
Мы попытались как-то прогнать эту тень, нам хотелось вернуть ту лёгкую, счастливую атмосферу, которая ещё недавно витала меж нами.
Но она не возвращалась – слишком серьёзным было то, что разделило нас.
Эта линия мировоззренческого раздела проходит сейчас по всему российскому обществу.
Мы живём в XXI веке, а до сих пор не имеем общего мнения по главному вопросу: что же это такое – XX век – для России?
Столетие невиданных доселе свершений?.. Столетие подвига?.. Столетие неудач?
В XX веке Россия пережила две государственные катастрофы: в 1917 и в 1991 годах.
В начале века почти в одночасье – на исторических часах – исчезла гигантская империя, которая в предыдущие двести лет всегда была одним из главных действующих лиц мировой истории.
Исчезла Российская империя – и на её месте возникла новая: по форме демократическая страна, а по сути – тоталитарная империя, которая стала одним из победителей в самой страшной войне за всю историю человечества.
Снова Россия – как ядро Советского Союза – решает судьбы мира, является одним из главных игроков мировой политики.
И вот на рубеже 90-х годов это огромное государство – тоже в очень короткий срок – исчезает с мировой арены…
Несомненно, XX век для большинства стран планеты Земля не был периодом спокойного развития и процветания. Чего стоят две мировые войны, которые нанесли громадный урон.
Вместе с тем последствия мировых войн и всего столетия для ведущих мировых держав – весьма различны.
США, вступившие в первую мировую войну провинциальным союзником Англии и Франции, – сегодня ведущая мировая держава, первая по экономическому развитию.
Германия, наряду с Россией наиболее пострадавшая в мировых конфликтах, – в начале XXI века – процветающее демократическое государство. Дважды потерпевшая поражение в мировых войнах, дважды заплатившая репарации победителям, Германия производит валовой внутренний продукт на душу населения в разы больше, чем Россия.
Япония во многом повторила путь Германии.
В лидерах – Франция, Англия, Италия, Канада.
В лидеры рвутся Индия, Китай, Бразилия.
Россия же – по общему мнению – числится в мировых лидерах лишь по причине наличия у неё ядерного оружия да ещё потому, что владеет огромными запасами природных продуктов.
По многим показателям Россия – в группе второразрядных, так называемых развивающихся стран.
Звучат пессимистические оценки о будущем России: население уменьшается, когда-нибудь иссякнет запас природных богатств.
Что же случилось с Россией в XX веке? Почему оказался так короток путь от внешнего могущества – после триумфальной победы во второй мировой войне – до нынешнего, невесёлого положения?
Вот уже несколько десятилетий мы пытаемся ответить на этот вопрос, но ответа, который бы удовлетворил всех, – нет.
Треть населения страны сожалеет о разрушении СССР. Эта треть полагает, что Советский Союз был мощным государством, а советская власть всемерно пеклась о народных нуждах.
Вторая треть тоже сожалеет о распаде СССР как политического образования, но коммунистическую власть называет преступной, а её исчезновение – закономерным.
Последняя треть, как правило, своего мнения не имеет и черпает суждения обо всём на свете из телевизора, хотя зачастую не отдаёт себе в этом отчёта.
Ожесточённые дискуссии о нашем недавнем прошлом продолжались все 90-е годы XX века, продолжаются они и сейчас, в XXI веке.
Не дерзая претендовать на окончательные ответы, автор в меру своих сил и способностей размышлял в этой книжке над этими вопросами.
А что из этого вышло – судить читателю.
Великие вехи
1917. Народ и революция
Русская революция возможна была только как аграрная революция, опирающаяся прежде всего на недовольство крестьян и на старую ненависть их к дворянам-помещикам и чиновникам… Только аграрная революция, которая есть не только революция социально-экономическая, но может быть прежде всего революция моральная и бытовая, сделала в России возможной диктатуру пролетариата, вернее, диктатуру идеи пролетариата.
Николай Бердяев
Попыткам понять причины русской катастрофы 1917 года – уже более ста лет.
Захватившие власть большевики дали простую и ясную формулу: «Февральская революция смела царское самодержавие. Однако пришедшее к власти буржуазное Временное правительство не удовлетворило народных требований… Только социалистическая революция и диктатура пролетариата могли удовлетворить чаяния народа: вырвать страну из войны, осуществить конфискацию помещичьих земель и передать их крестьянам, превратить фабрики и заводы в собственность всего народа, преодолеть хозяйственную разруху и опасность экономического краха, уничтожить национальный гнёт, неравноправие народов».[1]
Противники большевиков искали другие ответы.
Одними из первых были русские религиозные мыслители, которые по горячим следам событий, летом 1918 года готовят сборник «Из глубины» (выйдет в свет тремя годами позже).
Вот что они писали.
«Если бы кто-нибудь предсказал ещё несколько лет тому назад ту бездну падения, в которую мы теперь провалились и в которой беспомощно барахтаемся, ни один человек не поверил бы ему. Самые мрачные пессимисты в своих предсказаниях никогда не шли так далеко, не доходили в своём воображении до той последней грани безнадёжности, к которой нас привела судьба», – Сергей Франк.[2]
Кто виноват в катастрофе?
«Революция произошла тогда, когда народ пошёл за интеллигенцией… Великое народное движение, во всяком случае, должно было произойти в результате кризиса русской жизни, усугубленного войной. Но путь, по которому пошёл народ, был указан ему интеллигенцией. И в том, что революция приняла такой вид, виновны не одни большевики, но вся интеллигенция, их подготовившая и вдохновившая», – Валериан Муравьев.[3]
Что же делать? Что предлагали русские философы?
«На том пепелище, в которое изуверством социалистических вожаков и разгулом соблазнённых ими масс превращена великая страна, возрождение жизненных сил даст только национальная идея в сочетании с национальной страстью. Это та идея-страсть, которая должна стать обетом всякого русского человека… Она должна овладеть чувствами и волей русских образованных людей и, прочно спаявшись со всем духовным содержанием их бытия, воплотиться в жизни в упорный ежедневный труд», – Пётр Струве.[4]
При всём уважении к русским религиозным интеллектуалам следует признать, что суть этого коллективного труда – всего лишь растерянный философский вопль. В этом вопле – недоумение, непонимание, ужас, проклятия собственному «народу-богоносцу», который разрушает историческое государство и самою плоть жизни; проклятия виновникам революционного хаоса – русской интеллигенции; надежда – только на господа бога и какого-то совсем другого русского человека, который одумается, прекратит насилие и разбой, проникнется новой «идеей-страстью» и встанет на путь служения «великому Божьему и земскому делу»…
Русская антибольшевистская мысль продолжала искать ответы в эмиграции. В дополнение к метафизическому анализу веховцев появились оценки причин революции, которые высказывали лидеры либеральной общественности – той самой, которая пришла к власти после падения монархии, но власть не удержала.
В 1929 году в Париже в журнале «Современные записки» начали публиковаться мемуарные статьи видного деятеля кадетской партии Василия Маклакова, которые позже, в 30-е годы, составят книгу его воспоминаний «Власть и общественность на закате старой России». Главная мысль маклаковских мемуаров была такова: что либералы могли, но не сумели договориться с действующей властью о совместной деятельности по реформированию существующего политического порядка и тем самым обрекли страну на катастрофу.
«У либерализма не было самостоятельной силы, – писал Маклаков. – Она ещё была у исторической власти, которая тогда готова была идти на уступки; при соглашении её и либеральной общественности можно было идти путём эволюции и в союзе с исторической властью Великие реформы продолжать и закончить».[5]
Взгляды Маклакова подверглись критике со стороны его бывших однопартийцев. В ответ на обвинения в том, что кадеты прибегали к тактике борьбы с властью, когда нужен был компромисс, бывший лидер кадетов Павел Милюков отвечал, что «эта борьба должна была вестись не революционными, а парламентскими методами: в этом и заключался смысл существования партии и её воспитательная роль по отношению к обществу… Формы парламентской борьбы оказались неприменимыми вследствие непримиримой тактики власти. Но ведь эта неприменимость форм мирной борьбы и открыла путь методам революционным. Маклаков хочет, чтобы никакой борьбы не было, а был бы компромисс. Но бессилие партии компромисса во что бы то ни стало, каковой была партия октябристов, – бессилие компромисса на самой умеренной программе, – как нельзя лучше демонстрирует невозможность той роли, которую он навязывает кадетам и которую он считает истинным выражением русского либерализма».[6]
По иронии русской исторической судьбы главный сторонник компромисса с царской властью «во что бы то ни стало» лидер «октябристов» Александр Гучков к 1916 году становится сторонником насильственной смены власти. «Вся хозяйственная, экономическая жизнь страны катилась под гору, потому что та власть, которая должна была взять на себя организацию <…> тыла, была и бездарна, и бессильна, – говорил Гучков на допросе в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – В этот-то момент для русского общества, по крайней мере, для многих кругов русского общества и, в частности, для меня стало ясно, что <…> во внутренней жизни пришли мы к необходимости насильственного разрыва с прошлым и государственного переворота <…> Вина, если говорить об исторической вине русского общества, заключается именно в том, что русское общество, в лице своих руководящих кругов, недостаточно сознавало необходимость этого переворота и не взяло его в свои руки, предоставив слепым стихийным силам, не движимым определённым планом, выполнить эту болезненную операцию».[7]
Наш великий писатель Александр Солженицын, закончив одну из частей «Красного колеса» – «Март Семнадцатого» – почувствовал «органическую потребность: концентрированно выразить выводы из той массы горьких исторических фактов». В течение 1980–1983 годов он пишет большую статью «Размышления над Февральской революцией» и пытается понять причины революции.[8]
У Солженицына в революции виноваты все.
Монархия как институт – «как бы заснула. После Столыпина она не имела ясной активной программы действий, закисала в сомнениях. Слабость строя подходила к опасной черте».
Дворянство как класс – «столько получивший от России за столетия, так же дремал, беззаботно доживая, без деятельного поиска, без жертвенного беспокойства, как отдать животы на благо царя и России. Правящий класс потерял чувство долга, не тяготился своими незаслуженными наследственными привилегиями, перебором прав, сохранённых при раскрепощении крестьян, своим всё ещё, и в разорении, возвышенным состоянием».
Церковь в дни величайшей национальной катастрофы «и не попыталась спасти, образумить страну. Духовенство утеряло высшую ответственность и упустило духовное руководство народом. Масса священства затеряла духовную энергию, одряхла».
При всем том, по Солженицыну, – не пропала бы страна, «сохранись крестьянство её прежним патриархальным и богобоязненным. Однако за последние десятилетия обидной послекрепостной неустроенности, экономических метаний через дебри несправедливостей – одна часть крестьянства спивалась, другая разжигалась неправедной жаждой к дележу чужого имущества… Это уже не была Святая Русь».
Что касается интеллигенции, образованного общества, либералов – им достаются самые нелестные эпитеты и характеристики.
По мнению Солженицына, Россия избежала бы революции в том случае, если бы власть монарха была незыблема и он бы защищал эту власть во что бы то ни стало; если бы дворянство проснулось от своей спячки и снова стало лидирующим государственным сословием; и главное – чтобы крестьянство под руководством церкви оставалось бы тем же патриархальным сословием, каким оно было многие сотни лет, молчаливо и терпеливо несла бы тяготы и повинности, обеспечивая самоё существование государства…
К 90-м годам прошлого века среди немалой части историков и публицистов в России сложилась, во многом под влиянием авторитета Александра Солженицына, такая формула: предреволюционная Россия, ведомая Петром Столыпиным и его идеями даже после его смерти, развивалась успешно; если бы не мировая война, то никакой революции не случилось бы; «либералы» раскачали лодку, а когда монархия пала, власть удержать не сумели.
Эта формула всем хороша, кроме одного, но самого главного: она не объясняет причин и результатов революции. Тезис «либералы раскачали лодку – и трёхсотлетняя империя пала» – не выдерживает серьёзной критики. Грандиозная русская революция, полностью уничтожившая прежний строй жизни огромной страны, предстаёт каким-то случайным эпизодом, а глубоких причин её не находит даже такой упорный исследователь, как Солженицын, который чуть ли не в лупу рассматривает предреволюционные события. В конце концов, он приходит к выводу, что виноваты – все. Но ведь если виноваты все – это означает, что никто не виноват…
27 сентября 1915 года газета «Русские ведомости» опубликовала статью Василия Маклакова «Трагическое положение». В статье автор предлагал читателям представить такую ситуацию: по горной дороге едет автомобиль, управляемый безумным шофёром, который не хочет уступить руля. Вырывать руль – опасно, но ведь автомобиль вот-вот сорвётся в пропасть… Читатели прекрасно поняли Маклакова, в безумном шофёре все узнали императора Николая.
Но что же делать обществу в таких случаях – когда судьба государства в руках неадекватных правителей?
В современном демократическом государстве существует сложная процедура принятия важных государственных решений. Исполнительная власть имеет определённые права по принятию решений, эти права ограничены конституцией, законом и традицией. Закон и право регулируются законодательной властью. Законодательная власть избирается гражданами. Возникающие проблемы с законом и его применением решаются властью судебной. За всеми решениями трёх первых властей наблюдает четвёртая – свободная пресса.
В крахе современного демократического государства вполне можно признать виновными всех – все четыре ветви власти и само общество. Они все будут виновны, ибо все в той или иной мере участвовали либо в принятии решений, либо влияли на такие решения.
В тоталитарных и авторитарных государствах все главные решения принимаются небольшой группой лиц, которые опираются на узкие общественные прослойки. История знает массу примеров, когда решения этих узких групп приводили в близкой или далёкой перспективе к кризисам и краху государства.
Российская империя была в чистом виде – авторитарное государство. Решения принимались императором и узким кругом приближенных. Этот круг формировался в основном из дворян и высших бюрократов. Все государственные решения в первую очередь учитывали интересы дворян и бюрократии. Интересы других групп населения либо учитывались в последнюю очередь, либо не учитывались вовсе.
Пример: крестьянская реформа 1861 года. Назревшая, или скорее перезревшая, реформа была проведена руками самих дворян-помещиков в первую очередь в их интересах и только во вторую – в интересах крестьян.
Русская элита долго откладывала освобождение крепостных, их постепенное превращение в свободных, обладающих всеми правами граждан, до лучших времён. Александр II чуть ли не силой заставил дворянство провести крестьянскую реформу. Сын царя «освободителя» частично повернул отцовские реформы вспять. Большая часть русского дворянства и в начале XX века настаивала на своих сословных привилегиях по принципу: что выгодно дворянству, то выгодно и государству.
К началу XX века в России – 100 млн крестьян, более 80 % процентов населения. Это малограмотная масса подданных, ещё не граждан. Они не обладали никакими политическими правами, по отношению к ним применялись телесные наказания (отменены лишь в 1906 году). Русское крестьянство не участвовало в принятии каких-либо государственных решений и до 1906 года, когда получило представительство в Государственной думе, не имело никаких возможностей в рамках закона влиять на принятие таких решений. Незаконные методы – бунты, разгромы помещичьих имений и другие проявления неповиновения властям и закону нарастали всю вторую половину XIX века и к началу XX приняли самые широкие масштабы.
В 1898 году историк Василий Ключевский написал в заметках-набросках, которые стали известны только после его смерти: «Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы: что делать? Ответа нет».[9]
Через несколько лет, летом 1905 года, Ключевский участвует в совещаниях, которые проводит в Петергофе император Николай с участием великих князей, министров и высших сановников. Тема – учреждение Государственной Думы и обсуждение её полномочий. Профессор-историк был близок ко двору, и его мнение как специалиста-эксперта желали знать первые лица государства.
Днём историк участвует в совещаниях с императором, а вечером – вечером обсуждает подробности со своим бывшим учеником по московскому университету Павлом Милюковым, который к тому времени становится одним из лидеров создаваемой партии конституционных демократов (кадетов).[10]
Назовём вещи своими именами: крупнейший историк России, близкий ко двору, раскрывает подробности секретных совещаний в верхах одному из лидеров оппозиционного движения… Что могло подвигнуть Ключевского на этот шаг? Причины должны быть очень серьёзны, если он, всегда осторожный, – теперь, почти не таясь, становится источником информации для оппозиционеров. Возможно, появление кадетской партии с её программой центристских реформ показалось историку шансом для России.
В 1906 году кадетская партия наберёт на выборах в первую Государственную думу больше голосов, нежели другие политические силы. Главным элементом программы кадетов был аграрный проект, который предусматривал принудительное отчуждение помещичьих земель (владельцам полагалась компенсация), создание государственного земельного фонда из отчуждённых земель, монастырских, императорских (кабинетных) и распределение этого ресурса среди малоземельных крестьян.
Кадеты вместе с более правыми «октябристами» (партия «17 октября») – центр первой Государственной думы. Слева от кадетов – так называя «трудовая группа», состоявшая из крестьянских депутатов. Эти три политических силы составляли тогда прочное большинство в Думе, оно могло в главных вопросах – например, аграрном, – действовать согласованно. Вся «политическая» Россия ждала именно этого – публичного обсуждения главных вопросов и принятия разумных согласованных решений.
В июне 1906 года, во время первого думского кризиса, «верхи», император и высшая бюрократия, оказались расколоты. Меньшинство полагало, что надо идти навстречу избирателям и доверить формирование правительства кадетам. Эту позицию активно лоббировал генерал Трепов, бывший генерал-губернатор Петербурга, верный слуга царской фамилии. Трепов провёл в столичном ресторане «Кюба» переговоры с Милюковым, где были сформулированы основные тезисы программы и даже определён пофамильный вариант будущего правительства.[11]
Это была очередная историческая развилка, каких на долгом пути русского государства было немало. Весы истории колебались, прежде чем победил тот или иной вариант русского будущего. Один вариант вёл к демократизации в рамках манифеста «17 октября». Он предполагал разделение власти и ответственности, тесную положительную работу традиционной высшей власти и нового представительного органа – для выработки решений, которые могли устраивать большинство населения страны; возможно, на этой дороге Россия миновала бы катастрофу 1917 года…
Но большинство, окружавшее трон, отвергало какие-либо политические эксперименты. Представители дворянских организаций и главные бюрократы, в числе которых были министры Пётр Столыпин и Владимир Коковцов, ратовали за роспуск Думы и жёсткую линию в отношении всего того политического спектра, который оказался левее «октябристов». Император назначил Столыпина председателем кабинета министров. Правительство изменило в 1907 году, в нарушение основных законов империи, избирательный закон. Представительство низших сословий, крестьян и рабочих, и так уже неравноправное по сравнению с имущими социальными группами, землевладельцами и буржуазией, было ещё более сокращено.
Правящая элита разработала свой план реформ. План был таков: сохранение неограниченной монархии (а Дума будет вспомогательным органом, «департаментом правительства»); беспощадная борьба с революцией – со всеми, кто левее «октябристов»; сохранение помещичьего землевладения; разрушение общины, расслоение крестьянства на богатых, которые присоединяются к помещикам, на безземельных, которые пополнят ряды пролетариата, и на переселенцев.
Широкое расслоение крестьянства уже вне общины, на что была нацелена столыпинская аграрная реформа, должно было разрядить замедленную бомбу нерешённого земельного вопроса. Беспощадное подавление всего, что левее «правого центра», – должно было дать те двадцать спокойных лет, после которых воцарится мир и покой на Руси великой, сохранятся неизменными вековые устои.
Нетрудно заметить, что «элитный» план реформ не учитывал мнений и настроений большинства «низов». Это большинство боялось форсированного, за несколько лет, разрушения крестьянской общины, которая веками выполняла для каждой крестьянской семьи защитную роль от возможного разорения. В Западной Европе этот процесс проходил многие сотни лет…
Успех реформаторского «элитного» плана зависел от того, как поведёт себя объект воздействия – русские низовые слои. Как известно, объект оказал сопротивление, план не удался: через 11 лет после разгона первой Государственной думы русская монархия пала, историческое государство разрушилось, мужики переделили землю помещиков, выгнав и уничтожив их самих… Тот самый метафорический автомобиль Василия Маклакова сорвался-таки в пропасть.
Ожесточённая гражданская война подвела итог: в бывшей монархической империи утвердилась власть большевиков – самых крайних социалистов. Уже в ходе гражданской войны обострились закономерные противоречия между крестьянством и новой властью, но власть до поры уступила, позволила своему временному союзнику остаться с иллюзией победы.
Почему же русский народ – все низовые слои – во время гражданской войны поддержал большевиков, кто – активно, кто – пассивно?
Как мы уже отмечали, император Николай II, Столыпин и Солженицын видели благоприятное будущее развитие страны на таких незыблемых основаниях, как самодержавие (пусть даже несколько ограниченное Думой), сохранение помещичьего землевладения, политическое преобладание состоятельных слоёв общества, постепенные реформы в том темпе, который выберет высшая элита.
Низовые слои общества, как это происходило прежде, сотни лет, должны были терпеливо ждать, когда их положение улучшится. Историки и экономисты спорят, каков был темп этих улучшений, но признают, что огромный разрыв в положении «низов» и «верхов» действительно сокращался в начале XX века. Отсюда эти постоянные упования со стороны правящей элиты на «спокойные лета» без потрясений и революций: потерпите, и через 20 лет вы не узнаете России…
«Верхи» полагали, что сумеют вывести государственный корабль в спокойную бухту будущего, для этого нужно всего лишь обуздать крайние элементы общества, социалистов всех мастей, фрондирующую интеллигенцию. А «низы», как все столетия русского прошлого, – будут терпеть, их социальная роль – быть «социальным» чернозёмом, который питает высшую цивилизованную часть общества своими жизненными соками. И поскольку «низы» – неразумные дети, которые сами не знают своей пользы, за них подумают и примут решения «верхи».
«Имея в виду, что история – процесс не логический, а народно-психологический и что в нем основной предмет научного изучения – проявление сил и свойств человеческого духа, развиваемых общежитием, – писал Ключевский, – подойдём ближе к существу предмета, если сведём исторические явления к двум перемежающимся состояниям – настроению и движению, из коих одно постоянно вызывается другим или переходит в другое».[12]
То есть, по Ключевскому, историческое движение определяется настроением масс. Или, говоря современным языком, определяется коллективным бессознательным масс…
Каковы же были настроения крестьянских масс, которые составляли преобладающее большинство населения России, в начале XX века? Каково их коллективное бессознательное?
Крестьяне российской империи были убеждены в том, что земля должна принадлежать тем, кто её обрабатывает своим трудом. Решения о захвате помещичьих земель, о вывозе сельхозпродуктов из помещичьих амбаров, о снижении арендной платы за землю принимались на общинных сходах и в глазах крестьян становились легитимными. Крестьянская община, служившая для русской власти средством контроля и управления крестьянским сословием, превращалась в инструмент борьбы крестьян за свои права. Доходило до того, что община объявляла о полном неподчинении государству. Марковская республика в Волоколамском уезде Московской губернии просуществовала с 31 октября 1905 года по 16 июля 1906.
«Россия вступила в XX век с сохранением помещичьего землевладения при крестьянском малоземелье, с выкупными платежами крестьян за «освобождение» от крепостного права, с политическим господством помещиков в деревне, с крестьянским бесправием, доходившим до административной (без суда) высылки из родных мест и даже телесных наказаний – прямого пережитка крепостного рабства. Сохранение крепостнического насилия над деревней, промедление с проведением давно назревших социально-экономических реформ делало неизбежным революционный взрыв», – к таким выводам приходит Виктор Данилов, один из ведущих исследователей истории крестьянства.[13]
Но российская власть привычно не обратила внимания на требования представителей большинства населения страны, отказалась от сотрудничества даже с центристской оппозицией и выбрала силовой вариант решения крестьянской проблемы. Вот типичный приказ министра внутренних дел Петра Дурново киевскому генерал-губернатору: «…немедленно истреблять силою оружия бунтовщиков, а в случае сопротивления – сжигать их жилища… Аресты теперь не достигают цели: судить сотни и тысячи людей невозможно».[14]
После того, как с 1907 года крестьянские волнения пошли на спад, власти показалось, что она добилась своих целей. Но через десять лет, уже в условиях мировой войны, когда историческое русское государство пошатнулось, мужик-крестьянин не подставил ему плеча, – ему, мужику, грезилось, что в новой, неведомой жизни, без царя, дворян и помещиков его доля изменится к лучшему.
И можно ли винить его за эту наивную веру?
После революции помещичьи земли были переделены между членами общин, имения разграблены или сожжены, многие землевладельцы и члены их семей были истреблены физически (чего не было ещё в начале века во время крестьянских волнений).
На выборах в Учредительное собрание крестьяне отдали свои голоса эсерам, а кадетская партия получила лишь голоса городской интеллигенции. За немногим более десяти лет между двумя русскими революциями в сознании крестьянства произошёл коренной сдвиг: они утратили надежду на реформы сверху…
Уже с 1918 года, когда большевики двинули в деревню продотряды, крестьянство осознало, что и новая власть им враждебна. Крестьяне не столько выбирали между «красными» и «белыми», сколько пытались выжить, найти свою нишу среди двух враждующих стихий. Но было главное обстоятельство, которое решило дело: в сознании крестьянства «красные» отличались от «белых» тем, что не покушались на их права на землю. Да, руководители «белого» движения не раз подчёркивали, что их цель – победа над узурпаторами-большевиками, что все злободневные вопросы решит Учредительное собрание… Но «господско-офицерский» дух «белых» армий убеждал мужика-крестьянина в обратном. Именно такая позиция большинства русского народа – не поддерживать это «господское» движение – не позволила «белым» победить большевиков.
Большевистскую политику несли в низовые массы рядовые политического процесса – бывшие крестьяне, ставшие пролетариями, учителями, писарями. Они были связующим элементом между деревней с её традиционным укладом и городом, где создавалась и кипела другая, новая жизнь. Из этих людей формировались крестьянские фракции первых русских дум. Их голос услышала вся Россия с парламентской трибуны.
Мировая война многократно увеличила эту социальную группу. Миллионы таких русских мужиков прошли школу войны – школу социального и политического взросления и единения. Советы солдатских депутатов возникли раньше крестьянских и имели гораздо большее влияние. Участники этой социальной группы стали настоящей опорой большевиков в годы гражданской войны. Они были активным ядром «красных» армий, они сражались с «белыми» не щадя жизни, они умели говорить с деревенским мужиком и рекрутировать его в армию. Аргумент был прост: «белые» вернут господ… Большевистская власть представлялась крестьянам гораздо меньшим злом – несмотря на продразверстку.
Эти миллионы бывших крестьян – и шире, выходцы из «низов» – стали опорой новой власти и после гражданской войны. Они сформировали средний и нижний административный уровень партийных и хозяйственных органов. Малообразованные, они познавали азы управленческой науки на практике, становясь начальниками и руководствуясь в первую голову своим классовым инстинктом. Наиболее способные из них сделали карьеру на самом высоком уровне власти. После чисток 30-х годов, когда были уничтожены старые кадры, они заполнили ряды высшего руководства. Состав Политбюро ВКП (б) по итогам XVIII съезда в 1939 году – тому яркий пример. Там и в самом деле в подавляющем большинстве прямые выходцы из низовых слоёв общества: пролетарии и крестьяне.
Русские религиозные мыслители, Александр Солженицын, Василий Маклаков и многие современные интеллектуалы видят в революции только «безумные» массы, которые не ведали, что творят, разрушая историческое государство или не сопротивляясь разрушению. И возлагают вину за происшедшее – на русскую интеллигенцию, которая, будучи якобы безответственной и «беспочвенной», будто бы внушила тёмному народу вредные мысли о несовершенстве исторического государства, о вине «верхов» перед «низами»…
По мысли обвинителей интеллигенции, – будь она «почвенной» и ответственной, она должна была нести русскому низовому сознанию мысли о богоизбранности власти, о терпении, постепенном улучшении жизни; о том, что «низы» должны положиться на любовь «царя-батюшки» к своему народу, – то есть всё то, что составляло официальную пропаганду власти и православной церкви. Не о том ли писал в знаменитом сборнике «Вехи» в 1909 году Михаил Гершензон: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной».[15]
Надо признать, что личностные обвинения «веховцев» по адресу русских интеллигентов в догматизме, в преувеличении «социального» над «индивидуальным» – во многом справедливы. Русский интеллигент, зависший между низовым народным слоем и властью, – был своеобразным социальным камертоном неблагополучия дореволюционной России. Он был способен своё ощущение неблагополучия формулировать и доносить до тех, кто хочет слышать правду о состоянии общества и государства. Но этот голос скорее был слышен «верхами», нежели «низами». Роль интеллигенции в революционизации «низов» – сильно преувеличена. Это такой интеллигентский миф о себе самом, о своей способности сокрушительно влиять на социальные процессы. Настоящими причинами крестьянских движений были реальные настроения низовых народных масс, сформированные у них непосредственным социальным опытом.
В 1917 году сходятся два социально-психологических процесса.
Налицо был кризис «верхов». Ветшала система управления, построенная по принципу отсутствия обратной связи, когда огромной страной управляет узкий слой бюрократов, зачастую уже не совсем уверенных в своём праве управлять.
О «коллективном бессознательном» имущих сословий свидетельствует такое показательное явление, как помощь русских капиталистов революционерам. Фабрикант Морозов и другие помогают социал-демократам крупными денежными суммами. Максим Горький и многие деятели культуры – фактические агенты революционных организаций по сбору средств. Вообще, хороший тон образованного человека – презрение к власти, поддержка любых форм протеста. Эти настроение нарастают в русском обществе в течение многих десятилетий и достигают своего апогея в революцию.
В поэме Владимира Маяковского «Хорошо» описана встреча автора с Александром Блоком осенью 1917 года возле Зимнего дворца:
- Я узнал, удивился, сказал:
- «Здравствуйте, Александр Блок.
- Лафа футуристам, фрак старья
- разлазится каждым швом».
- Блок посмотрел —
- костры горят – «Очень хорошо».
- Кругом тонула Россия Блока…
- Незнакомки, дымки севера
- шли на дно, как идут обломки
- и жестянки консервов.
Сам Блок всю предреволюционную эпоху писал поэму «Возмездие»:
- И отвращение от жизни,
- И к ней безумная любовь,
- И страсть и ненависть к отчизне…
- И чёрная, земная кровь
- Сулит нам, раздувая вены,
- Все разрушая рубежи,
- Неслыханные перемены,
- Невиданные мятежи…
Чувство исторической вины и неотвратимость возмездия – ощущения, которые явно или подспудно владело умами и душами высших сословий.
Тем временем преобладающая, «низовая» часть населения империи в начале XX века потеряла веру в сакральность высшей власти: царь-батюшка стал Николашкой, царица, по слухам, путается со срамным мужиком Распутиным, остальные уровни власти – «бояре» всех мастей – никогда не пользовались в народе доверием и популярностью…
Государство, как система разумного управления огромной территорией, рухнула, и сразу образовались два центра власти. Один вышел из прежней системы – комитет Государственной думы и Временное правительство. Другой образовался словно бы на пустом месте – Совет. А оказалось, что за Советом – огромное большинство, в том числе главная сила воюющей страны – рядовой слой армии. Солженицын недоумевает в статье о Феврале – что не нашлось ни одной боеспособной части, которая бы усмирила смутьянов на улицах Петербурга. Так ведь в том-то и дело, что именно – не нашлось… Будущий герой белого движения Александр Кутепов согласился было взять на себя миссию усмирения, да не нашлось даже роты.
Увы, следует признать, что большая часть населения империи довольно спокойно приняла крах монархии, а затем – и всего русского государства. Для всей «низовой» русской массы это государство уже не представляло особенной ценности.
Крестьяне – как социальная группа – совершенно не боялись разрушения привычных основ жизни, которым занялись большевики. Всё это поначалу даже не касалось крестьянского мира. Запрет торговли, денег, банковских операций? Это был кошмар для всех в России, кроме крестьян. Это был кошмар для городов, но не для русской деревни, там было главное: земля-кормилица. Весной – посадим, осенью – снимем урожай. И этот урожай – самая устойчивая валюта в том мире, в котором живут крестьяне.
Несколько столетий русские крестьяне ждали, когда смогут осуществить свои главные мечты: уничтожить помещика и справедливо поделить землю. Для них это стало возможным в 1917 году. Всё остальное, всё, что явилось трагедией для образованных групп россиян – разрушение исторического государства, интеллектуального, культурного слоя жизни – все это было несущественно для русского мужика, который не был гражданином, а только подданным, притом – подданным самого последнего сорта. В трудную минуту для исторического государства низовые слои не только не помогли ему выстоять, а наоборот – сделали все, чтобы оно разрушилось. Для этих слоёв Россия – как государство – была не матерью, которую следует защищать, не щадя живота своего, а только – злой мачехой, от которой избавляются в удобную минуту. Русское крестьянство, основная часть социальной дореволюционной пирамиды, легко перенесло исчезновение всей той сложной политико-культурной надстройки над деревенским миром. Мужику-крестьянину не нравилась новая большевистская власть, но старая была для него – неизмеримо хуже.
После 1917 года на авансцену новой жизни выходит «низовой» человек, крестьянин или пролетарий, который наполовину тот же крестьянин. Уничтожив социально и физически высшие сословия погибшей империи, отодвинув интеллигента на второй план, он теперь будет определять правила жизни. Большевистская власть будет опираться на этого «низового» человека, потому что у неё нет другого выхода.
Этот новый человек будет определять все условия новой жизни – от быта до культуры. В культуре теперь, как и в реальной социальной действительности, на первом плане – выходцы из социальных низов. Вместо Онегиных, Печориных и других дворян или разночинцев – в новой России на первом плане – такие типы, как Григорий Мелехов и Василий Тёркин.
Как ни относись к большевизму – как учению и как политической практике – следует отдать ему должное за точный анализ социального положения в дореволюционной России. Невозможно спорить с тем очевидным фактом, что именно русская правящая элита довела страну до революции. До самого конца существования российской империи Николай II и большая часть его окружения, «коллективное дворянство» всех мастей и уровней, – упрямо пытались сохранить старую сословную Россию, если не юридически, то фактически.
Да, русская элита осознавала необходимость реформ. Но властная группировка (царь, Столыпин и многие высшие бюрократы) полагала, что нужны лишь те реформы, которые обеспечат нейтрализацию «левой угрозы», усмирение крестьянского недовольства при сохранении незыблемости политического устройства, закрепляющего прежние, традиционные устои, где интересы и настроения «низов» почти не принимается во внимание.
«Низы» не согласились с таким способом реформирования исторической России. Произошла революция, которая обернулась новой, невиданной и неслыханной «пугачёвщиной» XX века. Старая Россия была уничтожена почти до основания.
Но кто же стал победителем в русской революции?
Привычный ответ – большевики. Но большевики – верхний, «кадровый» слой – были всего лишь узкой группой политиков, которые «оседлали» массовый процесс и направили его в нужное русло. Да, они стали фактическим правящим сословием на десятилетия, но они не сумели бы удержать власть, если бы не опирались на какие-то группы населения, которые выиграли от революционного катаклизма.
Какие из социальных групп получили выгоды от разрушения исторического государства и победы большевиков?
Все высшие социальные группы бывшей России – дворянство, бюрократия, духовенство, купечество, промышленники – были уничтожены социально. Часть этих социальных групп бежала за границу, часть была физически уничтожена, малая часть сумела войти в новую жизнь на новых условиях.
Как изменилось положение русских рабочих после революции и гражданской войны? Ответ вроде бы напрашивается: они – победители, на них опирались большевики, вся риторика новой власти – про-пролетарская. На самом деле, положение рабочих если изменилось, то, скорее, к худшему… Материальное их положение после гражданской войны не стало лучше, постепенно рабочие стали чем-то вроде новых крепостных при заводах и фабриках.
Русская революция по своим итогам – победа крестьянства над высшими российскими сословиями. Крестьянство – единственная социальная группа, которая выиграла по итогам революции: помещичье землевладение было уничтожено, земля – переделена крестьянами между собой. Вековая мечта русского мужика исполнилась… Да, через десять лет большевистская власть уничтожит крестьянство, превратив его в подневольную армию сельхозрабочих. Но десять лет после гражданской войны – золотой век русского крестьянства.
Возможно, этот золотой век длился бы по сию пору, если белому движению удалось бы победить большевиков. Представим себе на минуту, что генерал Деникин взял Москву осенью 1919 года. А воодушевлённая армия адмирала Колчака пришла бы в древнюю столицу с востока. А затем бы пал и Петроград. И верхушка большевиков искала бы убежище по всему миру…
Что произошло бы в этом случае в новой России, без большевиков?
Реставрация монархии была невозможна. Царская власть дискредитировала себе полностью не только в глазах «низов», но и «верхов». Трудно поверить, что парламент новой России утвердил бы монархию в качестве способа правления. Большинство в парламенте имел бы левый центр – кадеты, эсеры и меньшевики.
Вернули бы землю помещикам? Это тоже представляется невозможным. Власти пришлось бы утвердить передел земель, как это произошло в странах Восточной Европы после первой мировой войны – с компенсацией бывшим собственникам или даже вовсе без неё.
Новая власть ничего не смогла бы сделать – идя наперекор желаниям крестьянства, которое было бы главной социальной силой и составляло бы основу армии. В некотором смысле исполнился бы тот вариант развития страны, который предлагали кадеты в 1906 году. В этом случае началась бы другая история России, возможно, гораздо более успешная, гораздо менее кровавая.
Однако на весах истории несовершенства старой России перевесили возможность быстрой и относительно безболезненной её трансформации. Великие революции – английская, французская – расчищали дорогу капитализму, не разрушая основ жизни общества. Великая русская революция разрушила эти основы совершенно, и они не восстановлены до сих пор. Победила новая «пугачёвщина», призрак которой витал над страной полтора столетия. Тёмная крестьянская стихия, уничтожившая старую жизнь, постепенно получила адекватную ей оболочку – тоталитарную власть, которая принялась за создание нового государства и новой жизни.
Первые десять лет
Лай колоколов над Русью грозный –
Это плачут стены Кремля.
Ныне на пики звёздные
Вздыбливаю тебя, земля!
Сергей Есенин
В Советском Союзе был хорошо известен английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Его книги издавали массовыми тиражами. Причины, по которой советская власть привечала английского писателя, лежат на поверхности. Во-первых, он был фантаст и, как правило, не касался политики. Во-вторых, в его книгах силён пафос преображения действительности, техницисткий взгляд на мир, так свойственный большевикам.
Кроме того, важную роль сыграло то, что Уэллс приезжал в Россию в 1920 году и встречался с Лениным. «Россия во мгле» – так озаглавил Уэллс репортаж о путешествии в революционную страну. Для нас эта маленькая документальная книжка интересна честным взглядом проницательного и образованного человека.
В Москве Уэллс встретился с Лениным, которого он назвал «кремлёвским мечтателем». В советских пропагандистских изданиях, в учебниках постоянно печаталась фотография, запечатлевшая встречу в Кремле вождя мирового пролетариата и английского гостя. Ленин на этой фотографии выглядит совершенно в духе будущего советского мифа: наклон головы, хитринка в прищуренных глазах – он словно провидит в тумане будущего то, что не способны увидеть другие.
Несмотря на то, что Уэллс позволил себе в «России во мгле» много критиковать советскую власть, эту его книжку в СССР не запретили и даже несколько раз издавали, хотя и не в собраниях сочинений. Другое дело, что достать этот текст рядовому читателю было практически невозможно.
Эта двойственность – не запрещение, но читателю недоступно – связана с тем, что Уэллс, с одной стороны, терпеть не мог Маркса и марксизм, а с другой – ещё хуже оценивал царский режим исторической России, полагая его виновным в русской катастрофе.
К большевикам Уэллс относился в целом даже с симпатией, принимая их за наименьшее зло. Он издевается над Марксом и его теорией классовой борьбы, но большевиков в России считает единственной цивилизационной силой и заканчивает свой репортаж фактическим призывом о помощи Советской России (все «белые» генералы, по его мнению, – сомнительные авантюристы): «Большевистское правительство чрезвычайно неопытно и неумело; временами оно бывает жестоким и совершает насилия, но в целом – это честное правительство. <…> Если оказать большевикам щедрую помощь, они, возможно, сумеют создать в России новый, цивилизованный общественный строй, с которым остальной мир сможет иметь дело. Вероятно, это будет умеренный коммунизм с централизованным управлением транспортом, промышленностью и, позднее, сельским хозяйством».[16]
Уэллс не раз упоминает, что коммунисты в немалой степени растеряны и не очень понимают, что им делать после того, как власть свалилась им в руки. Они ждали всемирной пролетарской революции, но западные рабочие бездействуют. Замечательно, что даже Ленин задаёт гостю вопрос: когда же английские рабочие совершат революцию?
«Я ясно видел, – пишет Уэллс, – что многие большевики, с которыми я беседовал, начинают с ужасом понимать: то, что в действительности произошло, на самом деле – вовсе не обещанная Марксом социальная революция, и речь идёт не столько о том, что они захватили государственную власть, сколько о том, что они оказались на борту брошенного корабля».[17]
Следует отдать должное Уэллсу: он ещё в 1920 году отчётливо понял характер русской революции – крестьянский характер:
«По Марксу, социальная революция должна была сначала произойти в странах с наиболее старой и развитой промышленностью, где сложился многочисленный, в основном лишённый собственности и работающий по найму рабочий класс (пролетариат). Революция должна была начаться в Англии, охватить Францию и Германию, затем пришёл бы черед Америки и т. д. Вместо этого коммунизм оказался у власти в России, где на фабриках и заводах работают крестьяне, тесно связанные с деревней, и где по существу вообще нет особого рабочего класса – «пролетариата», который мог бы «соединиться с пролетариями всего мира».[18]
Очень интересны разбросанные по тексту «России во мгле» замечания Уэллса по «крестьянскому» вопросу.
«Крестьянство, бывшее основанием прежней государственной пирамиды, осталось на своей земле и живёт почти так же, как оно жило всегда. Все остальное развалилось или разваливается».[19]
«На каждой остановке мы видели толпу крестьян, продающих молоко, яйца, яблоки, хлеб и т. д. <…> У крестьян сытый вид, и я сомневаюсь, чтобы им жилось много хуже, чем в 1914 году. Вероятно, им живётся даже лучше. У них больше земли, чем раньше, и они избавились от помещиков. Они не примут участия в какой-либо попытке свергнуть советское правительство, так как уверены, что, пока оно у власти, теперешнее положение вещей сохранится. Это не мешает им всячески сопротивляться попыткам Красной Гвардии отобрать у них продовольствие по твёрдым ценам. Иной раз они нападают на небольшие отряды красногвардейцев и жестоко расправляются с ними».[20]
И, наконец, последняя цитата из Уэллса:
«Утверждать, что ужасающая нищета в России – в какой-либо значительной степени результат деятельности коммунистов, что злые коммунисты довели страну до её нынешнего бедственного состояния и что свержение коммунистического строя молниеносно осчастливит всю Россию, – это значит извращать положение, сложившееся в мире, и толкать людей на неверные политические действия. Россия попала в теперешнюю беду вследствие мировой войны и моральной и умственной неполноценности своей правящей и имущей верхушки, как может попасть в беду и наше британское государство, а со временем даже и американское государство. <…> Сегодня коммунисты морально стоят выше всех своих противников, они сразу же обеспечили себе пассивную поддержку крестьянских масс, позволив им отобрать землю у помещиков и заключив мир с Германией».[21]
Сегодня, через сто лет после событий русской революции, мы не можем разделять симпатий Уэллса к большевикам, но мы должны согласиться с ним в одном: политическое и этическое банкротство русской дореволюционной элиты привело к полному краху страны.
Фактически власть оказалась в руках большевиков в 1917 году без особой борьбы. Случайно? Нет, не случайно. Из всех политических сил того времени большевики оказались самыми подготовленными к состоянию хаоса, в котором оказалась Россия. Большевики оказались самыми беспринципными – идеологически, политически, они были способны менять тактику борьбы за власть чуть ли не ежедневно, отбросив вовсе некоторые стратегические догмы.
Союзники-соперники большевиков, меньшевики, – в растерянности перед «неклассическим», немарксистским характером русской революции – фактически устранились от борьбы за власть.
Другие временные попутчики большевиков, социалисты-революционеры (эсеры), отрицали пролетарско-буржуазный характер революции, пытались опереться только на крестьянство.
И лишь большевики в лице своего руководства оказались способны принимать буквально на ходу нетривиальные идеологические решения, которые могли обеспечить успех в борьбе за власть.
Мешает этой борьбе марксистский догмат о пролетарском большинстве в революции – выбросим догмат на политическую помойку.
Нет у большевиков специально разработанной крестьянской программы – возьмём её у наших политических соперников – эсеров, сделаем лозунги этой крестьянской программы знаменем революции.
Большевики, в отличие от других политических течений, не держались за догмы, правила и планы, они действовали по ситуации. В сущности, большевики были дерзкими, умными авантюристами, оказавшимися в нужном месте в нужное время, чтобы подхватить упавшую власть.
Они оказались самыми жестокими, способными не останавливаться перед любой, самой кровавой мерой, чтобы остаться у власти. В этом им помогала духовная неукоренённость в России, они себя с Россией не отождествляли – с этими десятками миллионов крестьян. Наоборот, они хорошо ощущали враждебность крестьянства. По Ленину – деревня ежедневно, ежечасно плодит мелкобуржуазную стихию.
И дело тут не в национальном составе руководства большевистской партии. Русские Ленин и Бухарин, евреи Каменев и Зиновьев, грузины Сталин и Орджоникидзе – по духу были настоящими интернационалистами, они мыслили вне национальных категорий, национальность не имела для них особого значения.
Итак, к концу 1917 года большевики оказались у власти в огромной стране, где совсем недавно исправно действовала рыночная экономика. В 1913 году сельское хозяйство давало 56 % национального дохода, промышленность и строительство – 29 %, остальное – торговля, транспорт и связь.[22] Как иронизирует в своей книжке Уэллс, большевики ждали мировой революции, но она всё не наступала. А со страной надо было что-то делать. И большевики принялись за дело – в соответствии с теми представлениями о государственном управлении, которые сложились у них к тому времени.
Первое – Декрет о земле. Основные положения декрета были взяты из эсеровской программы. Частная собственность отменялась, земля объявлялась общенародной. Помещичьи, монастырские, удельные и иные «нетрудовые» земли (то есть, за исключением земель рядовых крестьян и казаков) – конфисковались и передавались в общенародный земельный фонд, подлежащий распределению между крестьянскими семьями. Вскоре «Декрет о земле» был заменён «Основным законом о социализации земли» от 19 февраля 1918 года. К концу 1920 года в губерниях Европейской части России из 23 млн десятин (1 десятина – 1,09 га) нетрудовых земель в распоряжение крестьянства поступил 21 млн, что увеличило площадь крестьянских земель до 116 млн десятин (с 80 % до 99,8 % от общей площади всех удобных земель).[23] В большинстве губерний увеличение площади земли на душу населения не превышало половины десятины.
Сбылась вековая мечта русского крестьянина: он мог жить, обрабатывая свою собственную землю без помещика поблизости; без «помещичьего» леса, который нельзя рубить; без «помещичьих отрезков», которые мешают гнать скот на водопой… То, чего крестьянин не дождался от царя-батюшки, он получил от большевистского правительства. Вернее, правительство просто не мешало захвату земли сельскими жителями, занятое проблемой собственного выживания: большевикам надо было утвердиться в городах.
В городе большевистское правительство начало с введения так называемого рабочего контроля в банках, на промышленных предприятиях, на транспорте – везде, где есть наёмные рабочие. Так началась национализация. К сентябрю 1920 года государству принадлежали более 37 тыс. предприятий с почти 2 млн рабочих. Из них крупные – около 7 тыс., остальные – мелкие с 20–25 рабочими.[24] Продукция этих предприятий подлежала сдаче органам власти на местах для последующего распределения среди населения по правилам, которые устанавливала сама власть.
Принятые большевиками меры привели к полной дезорганизации народного хозяйства. Вскоре после роспуска Продовольственных комиссий, которые были созданы Временным правительством для закупки продовольствия в деревне, снабжение городов практически прекратилось. Попытки наладить натуральный обмен с крестьянством провалились. Тогда большевики двинули в деревню продовольственные вооружённые отряды, которые при помощи созданных Комитетов бедноты изымали у крестьян «излишки» сельхозпродуктов. Свободная торговля была запрещена, денежное обращение – расстроено. Советские деньги быстро обесценивались, по стране ходило более двух тысяч денежных знаков разнообразного происхождения, в том числе дореволюционные, и иностранная валюта.[25]
Этот период – с момента прихода большевиков к власти и до 1921 год, когда был объявлена новая экономическая политика (НЭП) – вошёл в историю под названием «военного коммунизма».
К концу 1920 года, когда закончилась гражданская война, хозяйство страны находилось в состояние полного упадка. Практика военного коммунизма, сложившаяся в военные годы, представляла собой всего лишь механизм распределения скудных материальных ценностей среди населения в интересах власти.
Как наладить производство материальных ценностей? Как стимулировать это производство? На эти вопросы не давала ответа ни старая марксистская теория, ни новая большевистская практика.
Экономически новая Россия представляла собой странный симбиоз из 20 млн. частных крестьянских хозяйств и убыточной государственной промышленности.
Продразвёрстка, политика жестоких реквизиций, которая приносила плоды во время гражданской войны, в мирное время была несостоятельной. Крестьяне приспособились производить лишь необходимое для своего существования, у них не было излишков для продажи государству. Чтобы накормить разорённую страну, следовало дать крестьянину стимул.
Программа, известная как новая экономическая политика (НЭП), в которой особый упор был сделан на уступки крестьянству, была принята на X съезде партии большевиков в марте 1921 года.
Перед самым съездом разразился мятеж Крондштатского гарнизона. Краснофлотцы, те же вчерашние крестьяне, требовали больших прав для крестьян и рабочих и проведения свободных выборов в Советы. В Тамбовской губернии регулярные войска под командованием Тухачевского заканчивали разгром крестьянской повстанческой армии (как тут не вспомнить фельдмаршала Суворова, усмирявшего пугачёвский бунт). Руководящая группа большевиков осознала, что война с крестьянской Россией будет стоить им власти. Невозможно бороться с силой, которая обеспечила тебе победу в гражданской войне. И хотя большевики хорошо понимали, что их власть неустойчива, пока зависит от крестьянской мелкобуржуазной деревнеи – до поры до времени они должны были с этим смириться.
«Мы знаем, что только соглашение с крестьянством, – говорил Ленин на X съезде партии, – может спасти социалистическую революцию в России, пока не наступила революция в других странах».
Итак, в соответствие с НЭПом крестьянину разрешили после сдачи государственным органам твёрдо установленного процента урожая (так называемый натуральный налог) – продавать излишки на рынке. Разрешалась частная торговля. Предлагалось опираться на кооперативы – одну из немногих уцелевших дореволюционных структур. Выступая на X съезде, Ленин успокоил сомневающихся, заявив, что государство не выпустит из своих рук «командные высоты» и монополию на внешнюю торговлю.
Введение НЭПа позволило на время снять главные противоречия. Экономические: между частным сельхозпроизводством – и государственной городской промышленностью. Политические: между огромной стихией мелкобуржуазной деревни – и коммунистической городской властью.
НЭП предоставлял крестьянину выгодные условия, но эти меры не смогли повлиять на урожай 1921 года: засуха уничтожила урожай на больших территориях в Центральной России. Миллионы людей голодали.
Но уже в 1922 году посевные площади увеличились, и в этом и последующем годах были собраны богатые урожаи. Зерно в небольшом количестве даже продали по экспорту. НЭП, вновь введя рыночную систему экономики в деревне, отменил уравнительную политику военного коммунизма и тем самым стал поощрять возвращение богатого хозяина, кулака по советской политической терминологии, как ключевой фигуры сельского хозяйства. Бедный крестьянин обеспечивал только прожиточный минимум для своей семьи. Он потреблял все, что производил. Если он и появлялся на рынке, то чаще всего как покупатель, а не как продавец. Крупный же хозяин превращался в мелкого капиталиста. Право на аренду земли и на использование наёмного труда, запрещённое с первых дней советской власти, было признано в новом законе о сельском хозяйстве, принятом в 1922 году.
Раскол государства на коммунистический город и капиталистическую деревню породил разногласия в партии большевиков. На X съезде была принята «Резолюцию о единстве партии». Она требовала полного уничтожения всякой фракционности, за всеми членами партии сохранялось право обсуждать спорные вопросы, но образование группировок с собственной платформой было запрещено.
Это было знаменательное событие. С этого момента безоговорочное подчинение коммуниста вышестоящему начальнику стало обязательным. Нарушение этого принципа наказывалось исключением из партии. Ещё в ходе гражданской войны Ленин провозгласил, что «диктатура пролетариата невозможна иначе, как через коммунистическую партию». Итогом X съезда была концентрация власти в центральных органах партии.
После голода 1921–1922 годов сельское хозяйство быстро ожило. Началось бурное восстановление других отраслей народного хозяйства.
Национализация промышленности, развёрнутая в годы военного коммунизма, была приостановлена. Крупная промышленность (ленинские «командные высоты») оставалась в руках государства, но управление ею было перераспределено между союзными, республиканскими и местными властями.
Предприятия, где было занято менее 20 рабочих, национализации не подлежали. Более крупные предприятия, отобранные ранее у хозяев, могли сдаваться в аренду отдельным предпринимателям, часто их прежним владельцам.
Все эти меры были в духе НЭПа. Но вокруг самой «новой экономической политики» продолжалась скрытая и явная полемика. Ленин с самого начала понимал опасность «свободы торговли», которая, конечно же, «означает рост капитализма». Он полагал идеальным вариантом, чтобы обмен товарами между городом и деревней происходил в виде организованного натурального обмена. Но, по словам Ленина, «товарообмен сорвался… вылился в куплю-продажу».
По мере развития и процветания торговли в преуспевающие кварталы крупных городов вернулось благополучие. Налицо были признаки возвращения капитализма. Образ «нэпмана», преуспевающего торговца или мелкого промышленника, приобретал в глазах коммунистов отчётливо отрицательный, даже враждебный идеологический смысл. Это нашло отражение в агитационных пьесах Владимира Маяковского «Баня» и «Клоп».
По отношению к реалиям «нэповского периода» большевистская партия оказалась расколота. Зрело недовольство возрастающей ролью крупного хозяина (кулака) в деревне и нэпмана в городе. Левое крыло большевиков подвергало НЭП критике. В разное время в рядах критиков побывали и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев. Последовательно защищали НЭП и принцип «смычки с крестьянином» так называемые правые – Бухарин и Рыков. До поры до времени в этой же идеологической группе находился и Сталин.
Спор вокруг НЭПа, в сущности, был спором о том политико-экономическом пути, по которому должна была пойти советская власть. Эти теоретические дискуссии в развёрнутом виде вели не самые главные лица новой власти. На первом плане такие фигуры, как Николай Бухарин, Евгений Преображенский, беспартийный Николай Кондратьев, Георгий Кржижановский, будущий советский академик Станислав Струмилин.
В 1920 году Преображенский пишет работу «Бумажные деньги в эпоху пролетарской диктатуры», в которой он выступил за постепенное упразднение рынка и денег и переходе к коммунистическому распределению. Как известно, ни упразднения денег, ни товарообмена, ни простого распределения не получилось, а начался НЭП. Преображенский, в то время глава Финансовой комиссии ЦК РКП (б) и Совнаркома, был уверен в том, что НЭП – это вынужденная и временная мера, что рыночные механизмы должны быть рано или поздно вытеснены настоящим социализмом.
В 1926 году Преображенский написал книгу «Новая экономика». Он дал в книге анализ сложившегося советского хозяйства, где совмещается социалистическое плановое производство со стихийными рыночными элементами. И выдвинул концепцию «первоначального социалистического накопления», которая подразумевала «эксплуатацию досоциалистических форм хозяйства» в целях обеспечения накоплений для индустриализации. Преображенский предлагал ввести усиленное налогообложение зажиточных крестьян, завышение цен на товары государственной промышленности и занижение – на продукцию частных крестьянских хозяйств, а также призывал использовать в широких масштабах бумажно-денежную эмиссию.
Идеи Преображенского разделяли многие партийные деятели первого ряда, в том числе Лев Троцкий. Отвергал концепцию Преображенского Бухарин. Он выступал за индустриализацию как основу будущего мощно развивающегося социализма, но был противником «сверхиндустриализации». Бухарин полагал, что темпы развития промышленности и сельского хозяйства должны быть гармонически увязаны, что промышленность не сможет дать высоких результатов без соответствующего развития сельского хозяйства. Бухарин соглашался с Преображенским в том, что крестьянство должно помочь развитию промышленности, но эта помощь не должна разрушать деревню. Он подверг резкой критике идею использования «ножниц цен» как способа перекачки средств из деревни в государственную промышленность. Источником средств для индустриализации должна быть прибыль промышленности, а не отобранный силой продукт сельхозпроизводства, что, по мнению Бухарина, приведёт к подрыву всего народного хозяйства.
Общетеоретические идеи Преображенского и Бухарина конкретизировали Кржижановский, Струмилин, Кондратьев.
Представители так называемого «телеологического подхода» – Кржижановский и Струмилин видели в хозяйственном плане – основном инструменте социалистического развития – прежде всего целевые установки, вытекавшие из классового подхода. Как говорил Струмилин, план есть календарное воплощение партийной программы. Отсюда, конечно, возникала необходимость применения директивных методов управления, которые являются основой административной системы.
Представителем «генетического подхода» был бывший эсер Кондратьев, директор Конъюнктурного института при Наркомате финансов. Он стал широко известен в мировой науке как автор теории больших циклов конъюнктуры. Кондратьев выступал за продолжение НЭПа, за сохранение рыночных отношений как важного элемента народного хозяйства. Он отстаивал идею социалистического планирования, при котором целевые установки формируются исходя из вероятных тенденций развития. Для построения такого плана отправной точкой является анализ объективных тенденций, прогноз, предвидение. На такой реалистический план можно опираться в руководстве народным хозяйством – в противовес авантюристическому подстёгиванию темпов развития, которые не отвечают реальным возможностям. При обсуждении первого пятилетнего плана Кондратьев указывал на несбалансированность его показателей и даже предсказывал возникновение дефицита продуктов питания к концу пятилетки…
Теоретические построения Кондратьева и его предложения по развитию социалистической экономикой подверглись критике со стороны Троцкого. Зиновьев в статье «Манифест кулацкой партии» призвал вести беспощадную борьбу с контрреволюционной «кондратьевщиной».
Спор представителей «телеологического» и «генетического» направлений закончился переходом из экономической плоскости в политическую. Теория «первоначального социалистического накопления» Преображенского более соответствовала программе правящей партии, программе сталинской индустриализации. Судьбы главных теоретиков-полемистов оказались очень разными. Кондратьев был арестован по делу о так называемой крестьянской партии, получил тюремный срок и в 1938 году был расстрелян. А теоретик социалистического планирования Струмилин, которому злые языки приписывали остроумное и циничное высказывание «лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие», – благополучно дожил до 70-х годов…
В деревне продолжалось рыночное развитие сельскохозяйственного производства. К 1927 году посевные площади превысили показатели 1913 года: 112 млн га против 105. Валовой сбор зерна достиг 73 млн тонн (1913–80), общий объём валовой сельхозпродукции – 11 млрд довоенных рублей (1913–10,5).[26]
При этом сформировалась неутешительная тенденция: резкое снижение объёма товарных поставок. Если в 1914 году сельхозпроизводители (помещичьи хозяйства и крестьянские) дали на рынок 21,3 млн тонн, то в 1927 году все крестьянские – только 10,3.[27]
Этот факт можно объяснить двумя обстоятельствами. Первое – воспользовавшись плодами своей аграрной революции, крестьяне перестали вести полуголодное существование, стали больше потреблять. Второе – нежелание крестьян сдавать свой продукт в рамках продналога по жёстким государственным ценам (которые, как мы знаем, были намеренно занижены властью).
Промышленность была государственной, более дотационной, чем самоокупаемой. Время от времени возникавшие ценовые кризисы, так называемые «ножницы цен» между сельхозпродукцией и промышленными товарами, – преодолевались административными методами, фактически – силовым регулированием цен, что привело к возникновению «чёрного рынка» зерна. Государственные закупочные цены отличались от цен чёрного рынка чуть ли не наполовину. Выполнять план хлебозаготовок, который увеличивался с каждым годом (для обеспечения индустриализации), становилось всё труднее. Крестьяне, обладавшие зерном («излишки» – на языке власти), не хотели отдавать свой продукт по указке враждебного им города. В ответ власть перешла к чрезвычайным мерам принуждения, стала применяться статья 107 уголовного кодекса (скупка и перепродажа частными лицами в целях наживы продуктов сельского хозяйства и предметов массового потребления). В какой-то степени возвращались времена продразвёрстки: незаконные обыски крестьянских дворов, использование заградительных отрядов, запрещение базарной торговли хлебом и внутридеревенской купли-продажи.
К 1928 году большевистская власть оказалась перед выбором. Было очевидно, что сложившейся порядок вещей не позволял достичь двух целей: кормить социалистический промышленный город и наращивать экспортные поставки хлеба, которые только и могли быть источником для быстрой индустриализации.
Первая возможность состояла в том, чтобы отменить чрезвычайные меры, устранить «ножницы цен» с помощью налаживания эквивалентного обмена между городом и деревней. Для этого, с одной стороны, необходимо было реорганизовать управление государственной промышленностью, ликвидировать её убыточность. С другой стороны, держать государственные закупочные цены на сельхозпродукцию на адекватном, справедливом уровне, чтобы заинтересовать миллионы крестьянских хозяйств в увеличении производства. Это была линия Бухарина и Кондратьева.
Вторая возможность – это усиление репрессивных, административных и уголовных мер по отношению к деревне с целью заставить крестьянство согласиться с тем, что часть их продукта будет изыматься фактически бесплатно. На этом пути уже не было места ни НЭПу, ни вообще каким-либо остаткам рыночных механизмов. Это был путь Троцкого и Преображенского.
Между тем, зимой 1927–28 годов в городах очереди за хлебом стали обычным делом, масло, сыр и молоко – редкостью. В ноябре 1928 года в Ленинграде были введены хлебные карточки, в марте 1929-го – в Москве.
На пленуме ЦК ВКП (б) в июле 1928 года произошло открытое столкновение между большинством членов Политбюро, приверженных идее форсированной индустриализации, и недовольным меньшинством в лице Рыкова, Бухарина и Томского. Противоречия вспыхнули из-за сельскохозяйственной политики и давления на крестьянство. Сталин выступил с теоретическим обоснованием тезиса о необходимости «дани», своего рода «сверхналога» на крестьянство для сохранения и увеличения высоких темпов развития индустрии.
В конце сентября Бухарин опубликовал в «Правде» статью «Записки экономиста». Он резко критиковал планы индустриализации, которые разрушали равновесие между сельским хозяйством и промышленностью и «смычку» с крестьянством. Капиталовложения в промышленность, по его мнению, увеличивались неоправданно, в пятилетнем плане царит ненужное «безумное напряжение».
Бухарин полагал, что главная задача: дать сельскому хозяйству развиваться так, чтобы не отставать от промышленности, а промышленность развивать «на базе, создаваемой быстро развивающимся сельским хозяйством».
«Заметки экономиста» – это была последняя попытка сторонников сбалансированного развития народного хозяйства остановить тот процесс, который назовут курсом на «индустриализацию и коллективизацию».
Это противоборство в верхах большевистской партии происходило на фоне так называемого «шахтинского процесса», на котором судили «вредителей» из числа старых специалистов. Теперь известно, что «шахтинское» дело было полностью сфабриковано ОГПУ. По-видимому, целью фабрикации этого «дела» было – убедить всех, кто сомневался в верности выдвинутого сталинской группой тезиса о возрастании классовой борьбы по мере строительства социализма.
Равновесие между рыночной деревней и социалистическим городом висело на волоске.
Великий перелом
Золотятся ковровые нивы
и чернеют на пашнях комли…
Отчего же задумались ивы,
словно жаль им родимой земли?..
Как и встарь, месяц облаки водит,
словно древнюю рать богатырь,
И за годами годы проходят,
пропадая в безвестную ширь.
Та же Русь без конца и без края,
а над нею дымок голубой.
Что же я не пою, а рыдаю
над людьми, над собой,
над судьбой?
Сергей Клычков
В январе 1928 года Политбюро ВКП (б) приняло решение о применении чрезвычайных мер для выполнения плана хлебозаготовок. Обеспечить это решение должны были 30 тысяч специальных уполномоченных.
В числе этих посланцев – Сталин. Он объезжает Сибирь и своими глазами видит, как крестьяне противятся изъятию так называемых «излишков»: либо пытаются припрятать зерно, либо – продать на «чёрном» рынке, где цены гораздо выше.
Существует легенда, что в одном из сибирских сёл какой-то мужик показал генсеку кукиш: дескать, вот тебе заместо нашего хлебушка…
Если даже это легенда, возникла она неспроста. Известен мстительный характер Сталина. Он никогда не прощал личных обид. Разумеется, разрушение крестьянской деревни в процессе «коллективизации» мало зависело от мужицкого жеста, но, возможно, эта частность подтолкнула события и сделала их ожесточённее.
Уполномоченные действовали во всех районах страны методами продразвёрстки. Вооружённые отряды производили повальные обыски, реквизировали хлебные «излишки». Виновных осуждали по 107 статье УК РСФСР. Имущество осуждённых полностью или частично изымалось в пользу государства.
Такие методы позволили сильно продвинуть выполнение плана хлебозаготовок, что произвело большое впечатление на партийную бюрократию, с одной стороны, и на крестьян, с другой. Выяснилось, что за десять лет с момента окончания гражданской войны позиции коммунистического города укрепились. Против частной деревни теперь была вся мощь государства: партийные органы, репрессивное законодательство, прокуратура, суд, ОГПУ, милиция.
Разгром бухаринской группировки «правых» произошёл на расширенном пленуме ЦК и ЦКК в апреле 1929 года.
Председатель правительства Рыков предложил детально проработанный двухлетний план оздоровления народного хозяйства и финансов, без применения чрезвычайных мер. Предложения Рыкова никакой поддержки не получили.
Бухарин в своей речи охарактеризовал планы быстрого переустройства общества, на которых настаивало большинство, – не планами, а литературными произведениями. Он прямо заявил, что правительство взимает дань с крестьян подобно татарам в древние времена. Индустриализацию, по его мнению, гибельно основывать на развале сельского хозяйства. Теоретическую новацию Сталина об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму Бухарин назвал «идиотской безграмотной полицейщиной». Но никакие доводы разума уже не действовали. Тремястами голосами против тринадцати пленум осудил «правый уклон».
В течение года из партии было исключено около 150 тыс. сторонников «правых».
Политическое поражение Бухарина и его группы привело к тому, что в руководстве страны не осталось силы, которая могла сопротивляться идеям ускоренной индустриализации, «коллективизации» и чрезвычайных мер.
Демонтаж НЭПа идёт по всем направлениям.
Закрываются банки, акционерные общества, биржи, кредитные товарищества.
Перестраивается в сторону упрощения и централизации система управления народным хозяйством, в годы НЭПа сочетавшая элементы рыночного и директивного управления. Производственные предприятия переходят на режим работы в условиях прямого и полного регламентирования сверху, в том числе по нормам оплаты труда, а также – по снабжению ресурсами. Рубль, ставший твёрдой валютой в годы НЭПа, быстро потеряет свои свойства всеобщего эквивалента и средства обмена. Он станет тем рублём, который хорошо знаком всем советским гражданам: чтобы купить дефицит, мало иметь деньги, нужно ещё получить официальное или неофициальное разрешение на доступ к этому дефициту…
Как в годы военного коммунизма, снова становятся популярны тезисы о прямом натуральном обмене между городом и деревней, об отмирании денег, о коренных преимуществах карточной системы.
Начинается корректировка цифр принятого пятилетнего плана под лозунгом «пятилетку в четыре года!», а потом – и в три.
К годовщине революции в «Правде» выходит статья Сталина под названием «Год великого перелома». В ней Сталин впервые утверждал – как о неоспоримом факте – о гигантских успехах индустриализации, о быстром развитии тяжёлой промышленности. По поводу сельского хозяйства он написал, что в деревне произошёл «коренной перелом в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию, к совместной обработке земли». И – что середняк «пошёл в колхозы». Про кулака сказано ничего не было.
Заканчивалась статья таким утверждением: «Если развитие колхозов и совхозов пойдёт усиленным темпом, то нет оснований сомневаться в том, что наша страна через какие-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире».
Несколько дней спустя состоялся пленум ЦК. На нём Сталин вдруг заявил о решительном наступлении на кулака. Молотов предложил провести полную «коллективизацию» к 1931 году. Вскоре на конференции марксистов-аграрников Сталин впервые назвал кулачество главным врагом советской власти. «Раскулачивание», или «ликвидация кулачества как класса», теперь становилось «самым решительным поворотом во всей нашей политике».
5 января 1930 года ЦК ВКП (б) принимает постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». Провозглашалась «замена крупного кулацкого производства крупным производством колхозов», а также – «политика ликвидации кулачества как класса».
Зимой 29–30-го года в деревню были посланы так называемые 25-тысячники. Это были партийные активисты, механики, красноармейцы, – посланцы партии, призванные обеспечить «коллективизацию».
Эти события в яркой художественной форме показаны в романе Михаила Шолохова «Поднятая целина».
Балтийский моряк Давыдов приезжает в донское село, где его ближайшими помощниками становятся председатель сельского совета Размётнов и коммунист Нагульнов. Оба, как можно понять из текста романа, – хозяева-крестьяне совсем не выдающиеся.
Давыдов не имеет представления о том, что такое крестьянское мышление, не питает ни малейшего сочувствия к тем традициям, которые лежат в основе крестьянской жизни. Все эти традиции для него – только препятствия, которые надо преодолеть, уничтожить, – вне зависимости от того, понравится ли это самим крестьянам.
С другой стороны, крестьяне видят в Давыдове и тысячах таких, как он, – захватчиков, которые свалились им на голову для того, чтобы разрушить их свободный образ жизни крестьянина-земледельца, который они вели всего-то лет десять после революции 1917 года, после того, как впервые за сотни лет получили землю в своё, как им казалось, полное владение.
В сущности, эти трое – Давыдов, Нагульнов и Размётнов – противостоят всему остальному крестьянскому миру.
Посланцы партии должны были действовать в рамках инструкций, их регулярно собирали на совещания. Однако инструкции были противоречивыми, а типичный характер кампанейщины принуждал многих выходить за рамки этих инструкций. Провозглашённый поначалу подход – не принуждать середняков и бедняков к вступлению в колхозы – вскоре был отброшен. Любому крестьянину, который сопротивлялся «коллективизации», мог быть навешан ярлык кулака или пособника кулачества, на него распространялись те же самые карательные меры. Сотни тысяч так называемых кулаков лишились своих хозяйств. Их семьи оказались без пристанища, многие были высланы в отдалённые районы. Их скот и хозяйственный инвентарь достались колхозам.
Кампанейщина «коллективизации» приводила к неразберихе, к этому добавлялись волнения, которые время от времени вспыхивали среди крестьян. 2 марта 1930 года в газетах появилась статья Сталина «Головокружение от успехов», которая осуждала гонку за «процентом коллективизации». Некоторым крестьянам, которых насильно заставили вступить в колхозы, даже позволили выйти из них. Власти стали более терпимо относиться к мелкому единоличному хозяйству, разрешили держать небольшое количество скота.
Темпы «коллективизации» придержали, но сам процесс продолжался. К середине 1931 года уже две трети всех хозяйств в зерновых областях страны вошли в состав колхозов. В районах так называемой «сплошной коллективизации» (где практически не оставалось единоличных хозяйств) специальное постановление Совета народных комиссаров от 30 июля 1930 года официально упразднило крестьянский «мир», общину.
В колхозную эпоху община была уже не нужна власти.
Благоприятная погода лета 1930 года дала возможность получить рекордный урожай зерна за все послереволюционные годы. Власть трубила об успехе «коллективизации». Но быстрое разрушение крестьянского уклада не могло пройти бесследно. Сельское производство было разорено, самых умелых и толковых репрессировали либо отодвинули на задний план. Поставки тракторов и другой сельскохозяйственной техники постепенно увеличивались, но колхозы так и не сумеют удовлетворить свои потребности в полной мере. Однако с точки зрения власти хлебозаготовительная кампания стала более эффективной. Из колхозов удалось получить гораздо больше зерна, чем от единоличных хозяйств.
Расплата не заставила себя ждать.
Плохие урожаи 1931 и 1932 годов привели к тому, что у крестьян почти не оставалось продовольствия даже для собственного пропитания, не говоря уже о кормёжке скота, который массово забивали. Разразился голод, по масштабам превосходящий тот, который стране довелось испытать сразу после гражданской войны. Государство безжалостно требовало зерна, даже в тех районах, которые сильнее всего страдали от неурожая. В 31-ом году люди доедали последнее, в 32-ом есть стало нечего. Вымирали целыми деревнями.
Существует точка зрения, что голод был намеренно организован. Вместе с тем существуют свидетельства того, что спохватившаяся власть принимала определённые меры помощи голодающим. Как бы то ни было, по разным оценкам, погибло от 2 до 8 млн человек на Украине, в южной России, в Казахстане.
Теперь вернёмся к статье Сталина «Год великого перелома» от 7 ноября 1929 года в «Правде». Эта статья требует внимательного рассмотрения.
С одной стороны, статья – «юбилейная», с другой – программная, торжествующий рапорт об успехах социализма.
Генсек ВКП (Б) утверждает в статье: «нам удалось добиться решительного перелома в области производительности труда. Перелом этот выразился в развёртывании творческой инициативы и могучего трудового подъёма миллионных масс рабочего класса на фронте социалистического строительства. В этом наше первое и основное достижение за истекший год».
Второе достижение партии, пишет Сталин, состоит в том – «что мы добились за истекший год благоприятного разрешения в основном проблемы накопления для капитального строительства тяжёлой промышленности, взяли ускоренный темп развития производства средств производства и создали предпосылки для превращения нашей страны в страну металлическую».
Сталин пишет о важнейшей роли тяжёлой промышленности, о необходимости огромных капитальных затрат, о том, что «несмотря на явную и тайную финансовую блокаду СССР, мы в кабалу к капиталистам не пошли и с успехом разрешили своими собственными силами проблему накопления, заложив основы тяжёлой индустрии».
Он называет цифры роста тяжёлой промышленности – 46 % в год.
«Как можно сомневаться в том, что мы идём вперёд ускоренным шагом по линии развития нашей тяжёлой индустрии, обгоняя старые темпы и оставляя позади нашу «исконную» отсталость?»
Сталин приводит цитату Ленина: «Спасением для Росси является не только хороший урожай в крестьянском хозяйстве, – этого ещё мало, – и не только хорошее состояние лёгкой промышленности, поставляющей крестьянству предметы потребления. Этого тоже ещё мало, – нам необходима также тяжёлая индустрия… Без спасения тяжёлой промышленности, без её восстановления мы не сможем построить никакой промышленности, а без неё мы вообще погибнем, как самостоятельная страна».
Сегодня уже хорошо известно, что цифры, которые приводит Сталин в своей статье, не соответствуют действительности. Все планы первых пятилеток были не выполнены. Государственная промышленность была убыточна, она держалась на плаву с помощью бюджетных дотаций. Надо сказать особо, что именно тогда, в конце 20-х годов, когда выявился волюнтаризм планов «первых пятилеток», были заложены основы постоянной фальсификации и секретности в отношении основных экономических показателей. С тех пор полную картину могли иметь только высшие чины коммунистической власти. Со временем ложь и фальсификация настолько пронизала систему, что к 80-м годам и руководители Советского Союза уже не имели картины реального положения дел.
В заключение своей статьи «Год великого перелома» Сталин пишет о третьем достижении партии за истекший год, органически связанном с двумя первыми достижениями: «Речь идёт о коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию, к совместной обработке земли, к машинно-тракторным станциям, к артелям, колхозам, опирающимся на новую технику, наконец, к гигантам-совхозам, вооружённым сотнями тракторов и комбайнов.
…Достижение партии состоит в том, что нам удалось организовать этот коренной перелом в недрах самого крестьянства и повести за собой широкие массы бедноты и середняков, несмотря на неимоверные трудности, несмотря на отчаянное противодействие всех и всяких тёмных сил, от кулаков и попов до филистеров и правых оппортунистов».
Далее следует любопытный пассаж:
«Рухнули и рассеялись в прах утверждения правых оппортунистов (группа Бухарина) насчёт того, что:
а) крестьяне не пойдут в колхоз,
б) усиленный темп развития колхозов может вызвать лишь массовое недовольство и размычку крестьянства с рабочим классом,
в) «столбовой дорогой» социалистического развития в деревне являются не колхозы, а кооперация,
г) развитие колхозов и наступление на капиталистические элементы деревни может оставить страну без хлеба.
Все это рухнуло и рассеялось в прах, как старый буржуазно-либеральный хлам».
Тут хочется обратить внимание на следующее обстоятельство: всё то, что опровергает Сталин – нежелание крестьян идти в колхозы, массовое недовольство – ещё не проявилось в широких масштабах, это станет фактом жизни по мере развёртывания «сплошной коллективизации», в 1930 и в 1931 годах.
Сталин пишет об этом, как о несбывшихся пророчествах врагов, объявляя об успехах «коллективизации». Между тем, хорошо известно, что оправдались как раз опасения оппортунистов-бухаринцев: крестьян пришлось загонять в колхозы силой, сотни тысяч крестьянских хозяйств были уничтожены, а члены семей репрессированы (в лагеря, на поселение на Север).
Что же получается? В тот момент, когда массовая «коллективизация» ещё не развёрнута, Сталин уже отчитывается в её успехах.
Ещё не объявлено наступление на кулака. Напомним, что статья вышла 7 ноября 1929 года, а кулак будет публично объявлен врагом советской власти только на Пленуме ЦК, несколько дней спустя. При этом стенограммы пленума останутся засекреченными, рядовые члены партии ещё не знают о том, что руководство намерено покончить с кулаком, сломить сопротивление деревни в кратчайшие сроки.
Итак, главный тезис статьи Сталина:
«Истекший год был годом великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. Перелом этот шёл и продолжает идти под знаком решительного наступления социализма на капиталистические элементы города и деревни. Характерная особенность этого наступления состоит в том, что оно уже дало нам ряд решающих успехов в основных областях социалистической перестройки (реконструкции) нашего народного хозяйства».
Что же получается? «Решающих успехов» в перестройке хозяйства не было, рапорт о таких успехах – намеренная ложь. А что же было? А было вот что – «решительное наступление социализма на капиталистические элементы города и деревни». В статье Сталин между делом поминает тот «злобный вой против большевизма, который подняли в последнее время цепные собаки капитала, всякие там Струве и Гессены, Милюковы и Керенские, Даны и Абрамовичи. Шутка ли сказать: исчезает последняя надежда на восстановление капитализма».
Вот оно, самое главное: «исчезает последняя надежда на восстановление капитализма». Почему об этом невольно проговаривается Сталин в юбилейной статье, в этом рапорте об успехах социализма? Что это за «надежда на восстановление капитализма»? Почему – «великий перелом»?
Мы знаем, что «великим переломом» тот же Сталин позже назовёт Сталинградскую битву, после которой определились победители и побеждённые во второй мировой войне.
Очевидно, что сталинская группировка придавала событиям конца 20-х годов очень большое значение. Со временем официальная советская пропаганда «индустриализацию» и «коллективизацию» подавала как естественное продолжение развития советского государства, как нечто само собой разумеющееся: была революция, потом гражданская война, потом временное отступление (НЭП), потом отступление завершили и – пошли в наступление. Кроме того, уже в послевоенное время в оценке событий конца 20-х годов появился новый мотив: что без «индустриализации» и «коллективизации» нам не удалось бы победить фашизм. Таким образом, задним числом формировался миф о прозорливости большевиков и лично Сталина, которые сумели разглядеть немецко-фашистскую угрозу тогда, когда её ещё не существовало.
Но в 1929 году – для большевиков и всей страны, а также для всех заинтересованных сил за границами Советского Союза – эти события были эпохальными по другим причинам. Вот оно, самое главное: «исчезает последняя надежда на восстановление капитализма».
В чём же смысл и главное значение событий конца 20-х годов?
В это время советская Россия оказалась перед выбором. Стихийный вихрь революции сошёл на нет, НЭП позволил возродить страну экономически. Кризис «ножниц цен» ясно показал, что в стране – своеобразное экономическое двоевластие, два различных по своей экономической сущности сектора: убыточная социалистическая промышленность и рыночное, частное сельское хозяйство. Экономический вес сельского хозяйства был реальной политической угрозой для большевистской власти. Частный сельхозпроизводитель не подчинялся воле большевиков, не хотел отдавать свою продукцию по ценам, которые устраивали социалистическую промышленность, – то есть, по заниженным ценам.
Мелкий и средний сельский капиталист-частник не хотел субсидировать коммунистический город. Русский крестьянин возродил своё хозяйство, кормил страну и делался серьёзной политической силой. Ещё немного, и он получит рычаги политического влияния – фактически выразителями интересов крестьянина-частника становились «правые оппортунисты» в ВКП (б).
Объективно страна шла к постепенной социал-демократической трансформации политического режима, опорой которого могли стать сельское население страны (по переписи 1926 года – 80 %[28]), часть промышленных рабочих и интеллигенция. И на это действительно делали ставку многие политические деятели эмиграции, внимательно следившие за происходящим внутри Советского Союза.
Для большевиков этот объективный, естественный процесс означал – в том случае, если они не найдут способа его прервать, – неминуемую потерю власти. Один раз они уже находились в подобном положении, сразу после гражданской войны, когда крестьяне отвергали так называемый «военный коммунизм». Тогда, в 1921 году, большевики отступили, им ничего другого не оставалось. Но теперь, спустя десять лет, положение изменилось: большевики сумели создать полностью подконтрольный военно-политический механизм управления государством.
Сталинская группировка выбрала единственный для неё спасительный путь сохранения власти: НЭП был прекращён, частная собственность запрещена, часть крестьян была репрессирована, остальные оказались в колхозах. Колхозы стали новой, социалистической формой крепостной или общинной зависимости, новой формой круговой поруки, новой, тотальной формой контроля и принуждения сельского населения.
В романе Михаила Шолохова «Поднятая целина» коллективизация показана как необходимое зло или нелёгкое благо. В эпилоге романа новая весна приходит в хутор Гремячий лог, и это символизирует продолжение и прирастание новой крестьянской жизни.
В реальности картина была совсем другая.
Вот что писал Шолохов в письме Сталину 4 апреля 1933 года:
«Я видел такое, что нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском, ночью, на ветру, на лютом морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве ж можно так издеваться над людьми?..
<…>
Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хлеба:
1. Массовые избиения колхозников и единоличников.
2. Сажание в «холодную». «Есть яма?» – «Нет». – «Ступай, садись в амбар!» Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия – январь, февраль. Часто в амбары сажали целыми бригадами.
3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок бензином, зажигали, потом тушили: «Скажешь, где яма? Опять подожгу!».
<…>
6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.
<…>
10. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству.
11. В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в той же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом…
Примеры эти можно бесконечно умножить».[29]
Итак, за несколько лет большая часть крестьянских дворов потеряла хозяйственную самостоятельность и стала частью новых, социалистических хозяйств, колхозов и совхозов (97 % к 1937 году).[30] К 1940 году в СССР было чуть более 4 тыс. совхозов и около 237 тыс. колхозов.[31]
Чего же добилась советская власть, проведя эту тяжелейшую социально-политическую операцию над большей частью населения страны?
Известный дореволюционный экономист, бывший министр Временного правительства, в эмиграции внимательный исследователь советской экономики Сергей Прокопович так отвечал на этот вопрос: «… мы должны установить, что за 11 лет планового строительства Союза ССР, с 1927/28 года по 1938/39 год, сельское хозяйство в Союзе сделало значительные успехи».[32]
Для подтверждения правоты (или неправоты) Прокоповича проведём короткий анализ результатов работы реформированного по-советски сельского хозяйства СССР. Для анализа мы будем использовать советскую статистику, хотя она заслуженно не пользуется доверием. Но, во-первых, другой статистики у нас нет. Во-вторых, советскую статистику никак нельзя заподозрить в том, что она преуменьшает «достижения» советской власти. И, в-третьих, несмотря на все сказанное, советская сельскохозяйственная статистика при внимательном изучении даёт возможность получить вполне объективную картину.
Итак, рассмотрим первый показатель – валовой сбор зерна на территории СССР в границах 1960 года. 1913 год – 86 млн тонн. В последние годы НЭПа и чуть позже, в 1928–1932 годах (в среднем за год) – 73,6 млн тонн. В 1933–1937 годах (в среднем за год) – 72,9. В 1938–1940 годах (в среднем за год) -77, 9.[33]
Получается, валовой сбор зерна в течение всего предвоенного периода практически оставался на уровне последних лет НЭПа. Не помогла и созданная в стране сеть машинотракторных станций (МТС). На начало 1941 года сеть МТС располагала 531 тыс. тракторов (в среднем чуть более двух на хозяйство), 182 тыс. комбайнов (примерно один на два хозяйства) и 228 тыс. грузовых автомобилей (чуть менее одного на хозяйство).[34] Но показатель валового сбора зерна 1913 года будет превышен только в середине 50-х годов, когда техники уже почти в два раза больше…
Урожайность укладывается в ту же тенденцию: в 1913 году – 8,2 ц с гектара, в последние годы НЭПа – 7,5 ц, после «коллективизации» и до войны – от 7,1 до 7,7 ц. Рекорд 1913 года будет превзойдён только в 1956 году.[35]
При этом советской власти удалось после «коллективизации» – при том же уровне валового сбора зерна – повысить товарность: государственные закупки увеличились с 18 млн тонн в последние годы НЭПа до 32 млн тонн перед войной.[36]
Очевидно, что увеличение почти в два раза госзакупок было достигнуто за счёт уменьшения потребления миллионов крестьянских семей. До «коллективизации» каждое крестьянское хозяйство было самостоятельным, само решало, продавать ли хлеб государству или оставлять себе на пропитание, на сев и другие операции. После «коллективизации» крестьяне стали членами коллективных хозяйств, результат их труда аккумулировался в общем котле, а этим результатом фактически распоряжалось государство в лице назначенных руководителей совхозов и колхозов. Голод 1932–1933 годов стал итогом государственного самоуправства по отношению к коллективным хозяйствам: госорганы стремились выполнить планы по заготовкам и изымали зерно, невзирая на реальную урожайность, на величину запасов для потребления членов хозяйств, для сева.
Теперь – о состоянии животноводства до и после «коллективизации».
Крупный рогатый скот в 1913 году (в границах 1960 года) – 58,4 млн голов, в том числе коров – 28,8 млн. В 1928 году – 66,8 млн голов, коров – 33,2 млн. В 1934 году – 33,5 млн, коров – 19,0 млн.[37] То есть, за восемь лет поголовье уменьшилось в два раза… Затем идёт медленный подъем, снова падение во время войны, а показатель 1928 года будет перекрыт только в 1959 году.
Те же самые тенденции – рекордные показатели в 1928 году, затем падение после «коллективизации» в два и более раз, выход на уровень НЭПа лишь в 50-ые годы – и в других отраслях животноводства (свиньи, овцы, козы).
Общую картину подтверждают показатели производства мясо-молочной продукции. В 1913 году (в границах 1960 года) – произведено 5,0 млн тонн мяса в убойном весе и 29,4 млн тонн молока. В 1929 году – 5,8 млн тонн мяса и 29,8 млн тонн молока. В 1934 году – 2,0 млн тонн мяса и 20,8 млн тонн молока. Цифры 1929 года превышены в 1954 году – 6,3 млн тонн мяса и 38,2 млн тонн молока.[38]
Попробуем сопоставить обеспеченность советских граждан мясом и молоком до «коллективизации» и после неё – на душу населения. Население СССР по переписи 1926 году (в границах до 17 сентября 1939 года) – 147 млн чел., по переписи 1939 года в тех же границах – 170,6 млн чел., по переписи 1959 года (в границах 1960 года) – 208,8 млн чел.[39] Объёмы производство мяса и молока в 1926 году мы не знаем, поэтому возьмём показатели 1929 года. В 1939 году мяса произведено 5,1 млн тонн и 27,2 млн тонн молока, в 1959 году – 8,9 млн тонн мяса и 62 млн тонн молока.[40]
Несложный расчёт показывает, что на одного жителя Советского Союза в 1929 году производилось около 40 кг мяса и 202 кг молока в год, в 1939 году – 29 кг мяса и 158 кг молока, а в 1959 году – 42 кг мяса и 297 кг молока…
Наши расчёты подтверждаются и современными данными о калорийности рациона питания советских граждан: в годы нэпа – около 2900 ккал на душу и в конце 30-х годов – около 2650 ккал. То есть, душевое потребление уменьшилось на 250 ккал. В качественном отношении питание крестьян и рабочих в 30-е годы было значительно хуже, чем в эпоху нэпа: уменьшилось потребление мяса и молока и увеличилось доля хлеба и картофеля.[41]
Таким образом, цифры советской статистики наглядно демонстрируют, что «коллективизация» не привела к подъёму сельского хозяйства СССР. Наоборот, после того, как организационная фаза её была закончена, показатели производства сельхозпродукции существенно снизились по сравнению с последними годами НЭПа и превысили их только к 60-м годам ХХ века.
Почему же серьёзный экономист Сергей Прокопович писал в конце 40-х годов об успехах советского сельского хозяйства? Мы можем предположить, что на Прокоповича произвёл сильное впечатление масштаб изменений, произошедших на селе за 10 лет. В результате беспрецедентной силовой операции на живом многомиллионном теле крестьянства на месте десятков миллионов мелких частных хозяйств появилось несколько сот тысяч крупных, оснащённых минимумом сельхозтехники. Но эти крупные коллективные хозяйства так и не смогли стать эффективными: и урожайность, и производительность труда оставались на низком уровне многие десятилетия после «коллективизации». Большевистская модернизация деревни в конечном итоге не принесла сельскому хозяйству СССР ни процветания, ни даже устойчивого развития и способности обеспечить население продовольствием.
«Коллективизацию» можно считать символическим рубежом: тогда закончилась история русского крестьянства. Конечно, оставалось население сёл и деревень, но их жителей с той поры можно считать скорее аграрными рабочими, нежели традиционными крестьянами.
«Коллективизация» по-своему завершила тот процесс преобразования в деревне, который начался в ещё в 1861 году освобождением крестьян от крепостной зависимости. Реформа Столыпина ставила своей целью разрушение общины, расслоение крестьян на фермеров (кулаков), переселенцев в Сибирь и на тех, кто пополнит ряды батраков у фермеров и рабочих на заводах и фабриках. Революция 1917 года прервала эти попытки преобразований, произошёл т. н. «чёрный передел»: помещичьи и все другие некрестьянские земли были переделены между крестьянскими хозяйствами. После десятилетия неуправляемой крестьянской «вольницы» советская власть силовым образом преобразовала 25 млн частных хозяйств в крупные колхозы и совхозы. Преобразование было проведено с огромными жертвами для крестьян и издержками для экономики страны. В сущности, это была реализация крайне левой программы преобразования деревни, в теории предложенной ещё Троцким. И это, конечно, произошло не случайно. Большевизм был всегда враждебен деревне, как источнику мелкобуржуазности, как источнику социального хаоса, неподвластного прямому управлению, которое только и признавали большевики.
«Правая альтернатива», которую предлагали Бухарин и его группа, не нашла поддержки у большинства коммунистов, а что касается Сталина и группы высших руководителей, то для них «коллективизация» была не только экономической, а и политической целью – сохранить власть.
«Коллективизация», десятилетия подававшаяся советской пропагандой как величайшее достижение, – на деле обернулась величайшей трагедией. Сельское хозяйство так никогда и не оправилось от потрясений, сопровождавших разгром деревни. Даже когда в позднесоветский период у государства нашлись деньги для масштабных вложений в деревню – это не дало серьёзного результата по причине общей неэффективности колхозной системы хозяйствования – в рамках общей советско-социалистической. За все десятилетия советской власти в стране так и не сумели наладить производство сельхозпродукции в необходимых объёмах и бесперебойное снабжение населения продовольствием. А иногда наступал просто-напросто голод, уносивший миллионы жизней…
Индустриализация на марше
В буднях великих строек,
В весёлом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна учёных!
Ты по степи, ты по лесу,
Ты к тропикам, ты к полюсу
Легла родимая, необозримая,
Несокрушимая моя.
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесём через миры и века!
Марш энтузиастов[42]
«Коллективизация» и «индустриализация» – два фундаментальных основания советской истории, советской пропаганды и советской мифологии.
Герберт Уэллс не любил марксизма, но полагал большевиков единственной модернизационной силой, способной ликвидировать хаос в стране, создать на руинах бывшей царской империи современное государство. Советская историография (а за ней пропаганда) проводила такую безальтернативную линию связанных между собой исторических процессов и событий: в революции 1917 года победили народные слои, рабочие и крестьяне; для осуществления настоящего подъёма сельского хозяйства необходимо было провести коллективизацию; для обеспечения подъёма всего народного хозяйства и обороны от империализма нужна была индустриализация; победа во второй мировой войне и была обеспечена предшествующими нелёгкими для страны этапами модернизации. Эта линия проводилась многие десятилетия при советской власти и во многом осталась прежней в постсоветский период.
Между тем, альтернативы были. Альтернативой сталинской «коллективизации» была программа сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства с опорой на развитие сельского, которую предлагала «бухаринская» оппозиция. При осуществлении такого варианта страна избежала бы тех потрясений, что сопровождали так называемый «великий перелом».
Что касается индустриализации, первое, с чего следует начать, – это оценить степень промышленного развития дореволюционной России. И – понять, какие задачи объективно стояли перед промышленностью после первой мировой войны, революции и гражданской войны.
Что собой представляла промышленность дореволюционной России?
Известный статистик Василий Варзар насчитал в 1908 году 39 866 производств (предприятий), на них работали 2 млн 680 тыс. человек. Из них самые крупные группы по числу производств – пищевое (около 7,5 тыс. производств), обработка металлов, машин и орудий (около 2 тыс.), обработка дерева (около 2 тыс.), золотодобывающие (чуть более 1,5 тыс.), обработка минеральных веществ (около 1,5 тыс.). По финансовому обороту (всего за 1908 года – около 4,5 млрд руб.) самый крупные – пищевое производство (около 1,2 млрд руб.), обработка хлопка (928 млн руб.), обработка металлов, машин и орудий (428 млн руб.), казённое винное производство (около 345 млн руб.).[43]
По замечанию Струмилина, промышленность в России и до 1917 года была ведущей отраслью народного хозяйства: «Вступив на стезю капиталистического развития позже других стран Запада и располагая в связи с этим в основном новейшим оборудованием зарубежного происхождения, русская индустрия по сравнению с другими, как известно, ещё до революции достигала максимальной концентрации своего производства и рабочей силы в самых крупных центрах и наиболее передовых предприятиях страны».[44]
Однако объем промышленного производства в целом и на душу населения был существенно меньше, чем в передовых странах. В 1913 году объем промышленного производства в России составлял 5,5 % от мирового. Для сравнения: США – 35,8, Германия – 15,7, Великобритания – 14, Франция – 6,4.[45]
Чугуна Россия выплавляла 1,6 пуда на душу населения, США – 20, Германия – 17,5, Великобритания – 14,2, Франция – 8,2. Стали в 1912 году Россия произвела 1,3 пуда на душу населения, США – 19,1, Германия – 16,4, Великобритания – 13,2, Франция – 7,5.[46]
Кроме небольшого объёма производства, русская промышленность имела несбалансированную структуру, свойственную аграрной стране. Струмилин отмечает, что относительная отсталость русской промышленности сказывалась в отставании тяжёлой промышленности, в производстве средств производства, в машиностроении и химии. В России целые отрасли машиностроения либо вовсе отсутствовали, либо были слабо развиты. Например, производство сельскохозяйственных машин выросло с 1900 года до 1912 года почти в 7 раз (с 6 млн руб. до 40 млн), производство машин для промышленности выросло с 32 млн руб. до 90 (почти в 3 раза), однако такие результаты не смогли удовлетворить все требования внутреннего рынка, и ввоз из-за рубежа соответствующего оборудования составил сумму 182 млн руб..[47]
Исчерпывающий анализ состояния русской промышленности до и после падения царского режима дал в своей книге «Послевоенные перспективы русской промышленности» известный русский инженер и экономист, ректор Императорского Московского технического училища Василий Гриневецкий. Книга была написана в разгар гражданской войны, издана в Харькове в 1919 году, и вскоре автор умер от сыпного тифа в Екатеринодаре. Гриневецкий был первым, кто определил задачи по восстановлению и дальнейшему развитию промышленности, стоявшие перед страной, а также – обозначил этапы достижения целей.
Первый этап – восстановление и увеличение снабжения топливом и сырьём всего народного хозяйства. Второй – восстановление и развитие транспорта. Третий – изменение, повышение технической оснащённости промышленности. Четвёртый – повышение качества и интенсивности труда, что является необходимым условием увеличение производительности труда в России, которая до 1914 года составляла четверть от развитых стран, а после гражданской войны находилась ещё ниже. Пятый этап – защита внутреннего рынка от иностранного ввоза. Шестой – изменение ёмкости рынка за счёт изменения структуры промышленности на более современную. Седьмая – привлечение иностранного капитала.
У книги Гриневецкого оказалась удивительная судьба. Неизвестно, как книга оказалась в Москве, но в 1919 году видный большевик, инженер Леонид Красин приносит её Ленину. Говорили, что пролетарский вождь прочёл книгу «тёмного реакционера» (такую заметку он оставил на полях), – не отрываясь. Помимо характеристик автора («взбесившийся буржуа»), поля пестрели такими замечаниями: «умница», «вот, что нам нужно», «в первую очередь!».
Книга, по-видимому, произвела огромное впечатление на руководство большевиков. Ничего подобного в русской экономической литературе им встречать не доводилось, только с её помощью они впервые осознали, какие конкретные технико-экономические задачи необходимо решать.
В том же году другой большевик Глеб Кржижановский, работавший до революции вместе с Красиным в российских структурах германской фирмы «Сименс-Шуккерт», посылает Ленину свою статью «Задачи электрификации промышленности» и получает немедленный отклик. Спустя несколько недель Ленин подписывает положение о Комиссии ГОЭЛРО (Государственный план электрификации России). Комиссия состоит из 19 человек под председательством Кржижановского.
В декабре 1920 года план готов и утверждён. План представлял собой единую программу возрождения и развития страны и её конкретных отраслей – прежде всего тяжёлой индустрии. Особо подчёркивалась в этой программе перспективная роль электрификации в развитии народного хозяйства.
Восстановление разрушенной экономики рассматривалось в плане лишь как часть программы, как основа для последующей реорганизации, реконструкции и развития народного хозяйства страны. План был рассчитан на пятнадцать лет, чрезвычайно детально: в нем определялись тенденции, структура и пропорции развития не только для каждой отрасли, но и для каждого региона.
Впервые в России авторы плана ГОЭЛРО предложили (вслед за Гриневецким) экономическое районирование из соображений близости источников сырья (в том числе энергетического), сложившегося территориального разделения и специализации труда, а также удобного и хорошо организованного транспорта. В результате было выделено семь основных экономических районов: Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский. С самого начала предполагалось, что план ГОЭЛРО станут вводить в законодательном порядке, а способствовать его успешному выполнению должно было централизованное управление экономикой. По сути дела, он стал в России первым государственным планом и положил начало всей последующей системе планирования в СССР, предвосхитив теорию, методику и проблематику будущих пятилетних планов. В июне 1921 года Комиссию ГОЭЛРО упразднили, на её основе создали Государственную общеплановую комиссию – Госплан, руководивший с этого времени всей экономикой страны в течение многих десятилетий.
В декабре 1925 года на XIV съезде партии большевиков был провозглашён курс на «индустриализацию». Цель «индустриализации» – превратить страну, которая ввозит машины и оборудование, в страну, которая машины и оборудование производит. Аграрная страна должна стать индустриальной, этим будет обеспечена независимость от капиталистических стран и обороноспособность СССР.
При обсуждении путей и способов «индустриализации» в руководстве большевиков не было единого мнения. Бухарин, Рыков, Томский, Дзержинский предлагали сбалансированное развитие и промышленности, и сельского хозяйства, чтобы они обеспечивали общий подъем экономики. Эта группа ратовала за самоокупаемость предприятий, за ориентацию на рынок, на потребителя, – то есть, фактически за продолжение НЭПа. Противники в лице Троцкого, Пятакова, Куйбышева выступали за «сверхиндустриализацию», за высокие темпы развития промышленности во что бы то ни стало. Сталин до поры до времени, как и при обсуждении «коллективизации», не обозначал свою позицию, но в нужный момент всегда оказывался во главе победителей.
Ключевым был вопрос об источниках огромных капитальных вложений, необходимых для быстрого развития индустрии. Как известно, Россия всегда была бедна собственными капиталами, источником средств были в основном иностранные инвестиции. Доля иностранного капитала в имущественных фондах всей российской фабрично-заводской дореволюционной промышленности, включая землю, составляло 36 %. Российские банки принадлежали международному капиталу на три четверти.[48]
Вот как видел решение проблемы инвестиций Гриневецкий: «Привлечение иностранных капиталов должно стать основной задачей экономического возрождения и развития России, и очевидно «социалистический» строй способен будет привлечь лишь авантюристический, хищнический капитал. Но мелкобуржуазный строй, который в крестьянской России должен явиться неизбежным следствием её социально-экономической структуры, способен вообще к гораздо большей социальной устойчивости, чем политический строй в странах чисто промышленного типа, и с этой стороны будет привлекателен для капитала, если сумеет справиться с налоговой системой и с вспомогательными условиями для развития промышленности. Поэтому после приобретения известной политической устойчивости Россия может стать страной весьма привлекающей капитал, тем более что Западу, вероятно, ещё долго придётся изживать социальные последствия мировой войны».[49]
Для большевиков такой способ обеспечить инвестиции был политически неприемлемым: советская власть ни в чем не должна зависеть от капиталистов, она должна иметь свободу рук… Оставалось искать внутренние резервы. Ими могли быть строжайшая экономия всех бюджетных расходов, «перекачка» средств из сельскохозяйственного сектора в промышленный за счёт завышения цен на промышленные товары и занижения их на сельскохозяйственные, высокие налоги на зажиточное крестьянство.
В итоге линия на «сверхиндустриализацию» победила, НЭП был свёрнут, свободных крестьян превратили в подневольных колхозников, началась эпоха «бури и натиска» советской «индустриализации».
В соответствие с планом первой пятилетки на 1928–1932 годы предусматривался рост промышленной продукции на 136 %, производительности труда – на 110 %, снижение себестоимости промышленной продукции – на 35 %. Планировалось строительство более 1200 заводов. Основное внимание уделялось тяжёлой промышленности, на которую выделялось 78 % всех капиталовложений. В начале 1930 года плановые показатели были пересмотрены и увеличены. Это касалось добычи угля, нефти, выплавки стали, производства тракторов, строительства новых заводов.[50]
Организовать одновременное строительство тысяч предприятий – такие амбициозные цели требовали огромных ресурсов: финансовых, материальных, человеческих, интеллектуальных (специальных знаний).
Финансовые ресурсы формировались за счёт «внутренних резервов», что подразумевало снижение жизненного уровня основной массы населения. Лес, камень, песок, гравий – этих и других природных продуктов было в стране достаточно. Нужны были только миллионы рабочих рук – их источником была деревня. Не хватало специалистов и специальных знаний – большевики приняли решение использовать иностранных специалистов, иностранные технологии.
Помимо советских организаций в проектировании и строительстве заводов и фабрик принимали участие крупнейшие фирмы США и Европы. Иностранцы проектировали все объекты по производству искусственного волокна, половину предприятий химической промышленности, 6 из 12 заводов чёрной металлургии, треть проектов сахарной промышленности, 80 % горнорудных предприятий.[51]
В строительстве и пуске Магнитогорского металлургического комбината участвовали американские и германские фирмы Arthur McKee of Cleveland (главный проектировщик), Freyn Engineering Corporation, The Coppers Corporation of Pittsburgh, General Electric, Demag AG, Krupp AG, German Koppers AG engineers. Московский автозавод АМО-ЗИЛ, основанный товариществом Рябушинских в 1916 г., был в начале 1930-х годов капитально переоборудован с участием американской компании Arthur Brandt. Проект Нижегородского (Горьковского) автозавода был разработан с помощью компании Форда. Строительную часть исполнила компания Austin из Огайо, США.[52]
Проект Сталинградского тракторного завода исполнило архитектурное бюро «Albert Kahn, Inc» из Чикаго. Архитектор Альберт Кан, спроектировавший все заводы Форда, разработал технологию проектирования, которая позволяла разрабатывать рабочие чертежи проекта за неделю, а возводить корпуса предприятий за несколько месяцев. Что и было осуществлено в Сталинграде. Конструкции завода изготовили в США, перевезли в СССР и смонтировали в течение полугода.
Фирма Кана спроектировала более 500 объектов в СССР, среди них – тракторные заводы в Челябинске и Харькове, Ленинградский алюминиевый завод, станкостроительные заводы в Калуге, Новосибирске, Верхней Сольде, литейные заводы в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, в Нижнем Новгороде, теплоэлектростанцию в Якутске, Уральский асбестовый завод.
Работа над проектами шла в Москве, под руководством брата Кана. Это был фактически филиал головной американской фирмы под названием «Госпроектстрой». Там работало 25 американских инженеров и тысячи советских сотрудников, которые перенимали опыт поточно-конвейерного проектирования.
Создание новой советской промышленной индустрии шло по двум направлениям: модернизировались старые предприятия и строились новые. В разных концах Советского Союза возникали целые города, обязанные своим появлением «индустриализации».
Организационная модель была везде одна и та же. В тайге, в степи, в пустыне – зачастую на голом месте – начинали строить завод, комбинат, фабрику. Возле и вокруг предприятия возводился так называемый соцгородок – «социалистический» город. Несколько домов со всеми удобствами для руководящего состава. Для рядовых – деревянные «скоростные» дома с отоплением и «удобствами» во дворе или простые бараки, почти такие же, как в лагерной зоне. Лагерная зона была тут же непременно, поскольку заключённые составляли всегда существенную долю строителей.
Один из самых ярких примеров – Комсомольск-на-Амуре. В его истории, в истории строительства и запуска городских заводов, как в капле воды, отражаются достижения советской промышленной политики, её провалы и даже преступления.
Комсомольск был построен на месте села Пермское в нижнем течении Амура, посередине между Хабаровском и устьем великой реки. В селе жило около четырёхсот человек, потомки переселенцев середины XIX века из центральной России. В феврале 1932 года правительство принимает решение о строительстве в этом месте двух военных заводов – судостроительного и авиационного. И уже в мае пароходы «Колумб» и «Коминтерн» привезли первых девятьсот строителей нового завода – судостроительного. Тогда же начали прибывать и заключённые. До середины 50-х годов город будет оставаться крупным центром ГУЛАГА. 12 июня 1933 года состоялась закладка первого камня Амурского судостроительного завода.
В десяти километрах ниже по течению Амура в том же 1932 году началось строительство авиационного завода. Началось не очень удачно: первая площадка была полностью затоплена осенним наводнением. Пришлось начинать заново, подальше от берега. 18 июля 1934 года заложили главный корпус, но вскоре Москва прислала нового руководителя. Акт приёма-передачи, составленный уполномоченной комиссией, даёт полное представление о том, что происходило на строительстве. Вот главные пункты:
– общего технического проекта организации работ по строительству завода № 126 не имеется;
– рабочего проекта организации работ ни на одном объекте не имеется;
– перечисленные в описи объекты в преобладающем большинстве не запроектированы по проекту, не сданы по актам в эксплуатацию, не выявлена их планово-проектная и фактическая себестоимость;
– строительство главного корпуса не обеспечено электроэнергией;
– цемент, импортная фанера, пакля, войлок хранятся под открытым небом;
– на 68 автомашин и 28 тракторов имеется утеплённый сарай на 10 машин, самолёт два года стоит под открытым небом;
– на всем строительстве нет ни одного барака, имеющего 100 % готовность;
– жилфонд перегружен, площадей для новой рабсилы нет, состояние бараков крайне антисанитарное, все поражены насекомыми;[53]
– недостаёт оборудования, материалов и денег на 13 млн руб.[54]
Новым директором завода № 126 был назначен уроженец нижегородской губернии, ровесник века Кузьма Кузнецов, успевший уже поучаствовать на высоких должностях в строительстве Горьковского автозавода и Казанского авиационного завода. В течение 1934 года на стройку прибыли несколько тысяч специалистов разных профессий из многих регионов страны. Среди них была группа американских граждан финского происхождения, которые работали по контракту в Нижнем Новгороде, а затем по приглашению Кузнецова отправились на Дальний Восток.[55]
Несмотря на огромные трудности, коллективу строителей во главе с Кузнецовым удалось закончить строительство завода и соцгородка. Вот основной перечень объектов, возведённых на заводе и вокруг него к началу 1938 года:
– главные корпуса авиационного завода;
– аэродром;
– 16 жилых 2–3-х этажных домов;
– 25 бараков;
– водопровод на заводе и в соцгородке;
– временная электростанция;
– три артезианских скважины;
– шоссейные дороги в соцгородке и на заводе;
– пожарное депо, дебаркадер, типография;
– гараж;
– три котельные;
– дерево-обрабатывающий комбинат и кирпичный завод;
– три хлебопекарни, три магазина;
– две конюшни на 70 лошадей;
– больница;
– школа;
– клуб.[56]
Хуже обстояло дело с главной задачей – налаживанием производства самолётов. После пуска завода в эксплуатацию Кузнецов постоянно просил Москву, Серго Орджоникидзе, заменить его авиационным специалистом, однако его просьбы оставались без ответа. Первой задачей для завода стало освоение выпуска многоцелевого самолёта Р-6 конструкции Туполева, который уже производился в Москве и Таганроге. Опытная партия Р-6 оказалась негодной в эксплуатации, а затем было принято решение осваивать на заводе производство дальнего бомбардировщика ДБ-3 конструкции Илюшина. Планы производства на 1937 год были не выполнены. Кузнецов объяснял это «недоведённостью» конструкции самолёта (30 тыс. изменений в документации), молодостью и неопытностью заводского коллектива, недостатком оборудования, некомплектностью поставок.[57]
В январе 1938 года Кузнецов и несколько других руководителей завода были арестованы, им было предъявлено обвинение в создании антисоветской троцкистской организации. Следствие шло два года, в конце концов, Кузнецова освободили, он вернулся в Москву и работал в дальнейшем в промышленности и строительстве. Остальные арестованные сотрудники завода получили различные сроки заключения.
Авиационный завод сумел в конечном итоге освоить выпуск ДБ-3, эти самолёты участвовали в военных действиях в Китае, в Финляндии, во время Великой Отечественной войны.
Параллельно с авиационным строился судостроительный завод. История его неразрывно связана с именем Владимира Костенко, русского морского инженера, участника Цусимского сражения, революционера, который повидал и царские, и советские тюрьмы. Именно Костенко выбрал место для закладки верфи – и тем самым определил место городу. При проектировании завода Костенко впервые в мире применил идею сооружения сухих утеплённых доков, которые находятся выше горизонта акватории реки.
Хотя первые корабли были заложены уже в 1936 году, завод в дальнейшем испытал практически те же трудности, что соседний авиационный. Коллектив судостроителей был неопытен, номенклатура выпускаемых судов менялась много раз, комплектующие изделия из центральной части страны поставлялись нерегулярно и не в должной номенклатуре. К тому же выход глубоководных судов в море зависел от углубления устья Амура… В итоге нормальная работа завода была налажена лишь после войны. А основоположник завода и его главный проектант Владимир Костенко был арестован в 1941 году по обвинению в том, что основал завод на болоте… После полутора лет заключения Костенко освободили, а в 1950 году он даже получил Сталинскую премию.
В 1937 году заложен металлургический завод «Амурсталь» (переработка лома), запущен в эксплуатацию в феврале 1942 года. 1 декабря 1942 года зажгли первую форсунку технологической печи Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Железная дорога Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре заработала уже в 1936 году, а через четыре года пошли регулярные пассажирские поезда.
Таким образом, менее чем за десять лет на берегу Амура вырос 60-тысячный промышленный город. С одной стороны, это был несомненный успех советской власти. На Дальнем Востоке, вдали от границ, в невиданно краткие сроки был создан индустриальный центр. С другой стороны, у этого успеха была непарадная, не очень светлая сторона. На первый взгляд, с точки зрения рационального использования ресурсов, решение о строительстве Комсомольска-на-Амуре было примером большевистского волюнтаризма. Оба построенных завода – судостроительный и авиационный – были сборочными, все комплектующие изделия производили в европейской части России и везли за тысячи километров на сборку. Итоговая стоимость самолётов и судов была непомерно высока – если применять критерии рациональной экономики. Но в том-то и дело, что социалистическая сталинская экономика была особенной, в ней приоритет отдавался идеологическим целям. Решение о создании промышленного военного центра на краю страны было решением политическим, оно было верным в рамках той цели, которые ставили перед собой большевики: во что бы то ни стало создать мощную военную индустрию. В сущности, такие решения принималось большевистскими руководителями «на глазок», без детального обоснования, никто тщательно не считал, во что обойдётся стране и населению такие стройки. Отсюда – хаос, сплошная бесхозяйственность, огромные потери времени, ресурсов, людей. Например, в зиму с 1932 на 1933 год сотни вольнонаёмных погибли в землянках на строительстве будущего Комсомольска от цинги и морозов. Каковы были потери среди заключённых ГУЛАГа – можно только догадываться…
Неизбежные при таком стиле хозяйствования неудачи в условиях диктаторского государства объявлялись саботажем, вредительством, диверсиями. Жертвами репрессий становились невинные люди, нередко – энтузиасты, лидеры больших коллективов. Эта пропагандистская линия – о происках врагов – хорошо видна в популярном фильме Сергея Герасимова «Комсомольск».
Новые, увеличенные планы индустриализации не соответствовали реальным возможностям страны. Немалая доля инвестиций была заморожена в объектах, которые начали строить, но не могли закончить ввиду невозможности обеспечить вовремя ресурсами. Обычными методами была «штурмовщина», эксплуатация сознательности и энтузиазма масс.
В начале 1933 года объявили о выполнении пятилетнего плана за 4 года и 3 месяца. В «Итогах выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР» власть рапортовала: «Объем капитальных вложений в промышленное строительство за 4 1/4 года составил 24,8 млрд руб. против заданий пятилетнего плана в 9,1 млрд руб… В тяжёлую промышленность за те же годы вложено 21,3 млрд руб. против заданий пятилетнего плана в 14,7 млрд руб… Половина всех капиталовложений в промышленность была направлена на строительство новых предприятий, вооружённых современной техникой. В результате осуществлённого строительства за годы пятилетки объем основных фондов обобществлённого сектора народного хозяйства удвоился. Технический уровень этих новых основных фондов далеко превышает собой то, что СССР имел к началу пятилетки».[58]
В реальности итоги оказались скромнее. К примеру, выпуск хлопчатобумажных тканей достиг только 59 % плана, шерстяных – 34 %, чугуна вместо 17 млн тонн произвели 6,2 млн. Темпы развития промышленности упали с 23,7 % в 1928–1929 гг. до 5 % в 1933 г..[59]
«Индустриализация» проводилась экстенсивными методами с применением ничем не ограниченной эмиссии денег. За первую пятилетку денежные знаки в обороте возросли с 1,7 млрд до 5,5, а в начале второй пятилетки достигли 8,4 млрд рублей.[60] Рост инфляции привёл к существенному снижению покупательной способности рубля и населения. В этот же период шло окончательное и повсеместное уничтожение рыночных остатков НЭПа, и власть ответила на проблему инфляции фиксацией цен на все товары и услуги. С тех пор в СССР – вплоть до его конца – уже не существовало рыночных механизмов производства и распределения товаров и услуг (если не считать так называемых колхозных рынков, где торговали продукцией приусадебных хозяйств). Государственные цены на всё и вся, государственные торговые организации и время от времени карточное распределение – вот какова была теперь реальность социалистической жизни.
Уроки первой пятилетки были учтены руководством большевиков. Темпы роста промышленной продукции во второй пятилетке, в 1933–1937 годы, должны были составить в среднем 16, 5 %, намного меньше, чем в первой.[61]
Главной целью становилось завершение реконструкции всего народного хозяйства на основе уже отечественной техники: теперь советские предприятия производили довольно широкий спектр станков, механизмов, машин различного назначения. За годы второй пятилетки были сооружены несколько тысяч крупных промышленных предприятий, в том числе Ново-Тульский металлургический, Уральский машиностроительный заводы, предприятия в Комсомольске-на-Амуре и многие другие.
Необходимым инструментом для выполнения гигантских планов первых пятилеток были миллионы рабочих рук. Их источником стала новая колхозная деревня. Вербовка для новых строек разворачивалась широчайшим образом. Подобно тому, как при Петре Великом беглого крепостного против воли помещика могли зачислить в рекруты, в эпоху «коллективизации» так называемые кулаки и подкулачники имели возможность спасаться на стройках социализма.
Миграция сельского населения на строительство заводов и фабрик в 30-ые годы имела огромные масштабы. Например, с 1929 по 1939 гг. численность городского населения увеличилось на 25 млн человек.[62] Эти миллионы новоиспечённых жителей старых и новых городов до крайности обострили жилищную проблему. Если исходить из официальных данных советской статистики, на 1 января 1933 года городское население СССР составляло 38,7 млн чел., жилищный фонд – 191,5 млн кв. м., на душу населения – 4,9 кв. м. В эту среднюю цифру входили квадратные метры коммунальных квартир, бараков и даже землянок.[63] При этом – «в Челябинске, где строился гигантский тракторный завод, средняя душевая норма в 1933 году составляла 2,2 кв. м, в Перми – 2,8 кв. м. В Магнитогорске, строившемся в чистом поле, – 1,6 кв. м, а в Свердловске, обладавшем старым фондом, – 4,2 кв. м (в 1928 году – 5,3 кв. м)».[64]
В целом та совокупность изменений в советском народном хозяйстве, получившая в истории название «индустриализации», превратила СССР в мощную индустриальную державу, которая по объёму промышленной продукции стала одной из ведущих стран мира. С 1928 по 1941 гг. введено в строй около 9 тыс. крупных предприятий.[65] Впервые в истории страны был начат массовый выпуск тракторов, комбайнов, автомобилей, самолётов, синтетического каучука, разнообразного оборудования для промышленности и военного производства.
Правящий слой советского государства показал себя силой, способной осуществить огромные социально-экономические преобразования, какими были и «коллективизация», и «индустриализация». В известном смысле они были вправе отнести к себе пропагандистский посыл популярной советской песни: «нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака…». При всём при этом возникают неизбежные вопросы о цене таких преобразований, такой модернизации, о том, в чьих интересах она в реальности проводилась, какие настоящие цели ставили перед собой большевистские модернизаторы и были ли эти цели в итоге достигнуты.
Так была ли альтернатива «сталинской индустриализации»?
Мы уже упоминали дискуссию, которая развернулась в середине 20-х годов между Преображенским и Бухариным об источниках инвестиций для социалистической индустриализации. Преображенский в своих работах настаивал на том, что таким источником может быть только деревня, частное сельхозпроизводство, только там можно найти и изъять необходимые ресурсы для быстрого развития промышленности – для «сверхиндустриализации». Бухарин выступал за то, чтобы рост промышленности опирался на рост сельхозпроизводства. Он был категорически против ограбления деревни, которое пошатнёт социальный мир в государстве. К концу 20-х это спор стал политическим. Как мы знаем, победили сторонники форсированной «индустриализации», которая должна была проводиться в сцепке с «коллективизацией». Сталин, в середине 20-х союзник Бухарина, к концу десятилетия возглавил сторонников решительных мер в деревне и ускоренного развития тяжёлой и оборонной промышленности.
Сталин и его сторонники сумели победить в споре внутри большевистской партии, а затем на практике провести и «коллективизацию», и форсированную «индустриализацию». Результатом этих процессов стало создание системы колхозов, строительство тысяч заводов, огромные жертвы среди населения СССР, падение жизненного уровня, который восстановился до нэповского лишь в 50-ые годы.
Можно ли было избежать этих печальных последствий, добиться таких результатов развития народного хозяйства, которые позволили бы повышать жизненный уровень народа и, одновременно, защитить страну от внешних угроз (что всегда была главным аргументом в пользу принятия радикальных мер)? Существует такая «моральная» точка зрения, что свободный труд всегда эффективнее подневольного. В соответствие с этим подходом лучшей альтернативой силовым действиям советской власти могли стать решения, которые позволили бы сохранить социальный мир в государстве, без превращения большинства населения в подневольных государственных служащих. Но «бухаринская» альтернатива не реализовалась на практике, и у сторонников сталинских методов всегда была возможность называть её прекраснодушной утопией.
Однако в последние десятилетия в экономической науке появились методы исследований, которые позволяют глубоко анализировать экономические процессы прошлого и смоделировать те или иные варианты развития, в зависимости от принятых политических решений. Известные экономисты Сергей Гуриев (Московская высшая школа экономики), Олег Цывинский (Йельский университет), Михаил Голосов (Пристонский университет) и Антон Черемухин (Федеральный резервный банк Далласа) опубликовали в 2013 году работу под названием «Was Stalin necessary for Russia’s economic development?» – нужен ли был Сталин для российского экономического развития?[66] В ней они пришли к заключению, что советская «индустриализация» и связанная с ней «коллективизация» привели к потере советскими гражданами за период с 1928 по 1940 год около 24 % своего возможного благосостояния по сравнению с другими сценариями развития (например, если бы продолжался НЭП и страна избежала бы сталинских «великих переломов»).
«Мы считаем, – делают вывод авторы, – что сталинскую индустриализацию не следует использовать в качестве истории успеха в развитии экономики. Сталинская индустриализация – пример того, как насильственное перераспределение значительно ухудшило производительность и общественное благосостояние».[67]
Построенный в боях социализм
И пусть нам общим памятником будет
Построенный в боях социализм.
Владимир Маяковский
В марте 1939 года прошёл XVIII съезд ВКП (б).
С отчётным докладом на съезде выступал Сталин.
Одна из главных характерных черт доклада – спокойная деловитость. Вождь по-хозяйски неторопливо рассказывает о том, чего удалось достичь за прошедшие пять лет, со времени XVII съезда.
За границей, в буржуазном мире – «новый экономический кризис, обострение борьбы за рынки сбыта, за источники сырья, за новый передел мира, обострение международного политического положения, крушение послевоенной системы мирных договоров, начало новой империалистической войны в экономическом и в военном отношении».[68]
А Советский Союз между тем – «с точки зрения внутреннего положения представляет картину дальнейшего подъёма всего народного хозяйства, роста культуры, укрепления политической мощи страны».
Вождь подчёркивает, что главным завоеванием нужно признать «окончательную ликвидацию остатков эксплуататорских классов, сплочение рабочих, крестьян и интеллигенции в один общий трудовой фронт, и как результат всего этого – полную демократизацию политической жизни страны, создание новой Конституции».
Никто ведь не смеет оспаривать, «что наша Конституция является наиболее демократической в мире, а результаты выборов в Верховный Совет СССР, равно как и в Верховные Советы союзных республик, – наиболее показательными».
Правда, замечает Сталин, «некоторые деятели зарубежной прессы болтают, что очищение советских организаций от шпионов, убийц и вредителей, вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и других извергов, поколебало будто бы советский строй, внесло разложение».
«Эта пошлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней, – говорит Сталин и продолжает с присущим ему мрачным юмором: – Как может поколебать и разложить советский строй очищение советских организаций от вредных и враждебных элементов? В 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, Уборевич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы дали Советской власти 98,6 процента всех участников голосования. В начале 1938 года были приговорены к расстрелу Розенгольц, Рыков, Бухарин и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховные Советы союзных республик. Выборы дали Советской власти 99,4 процента всех участников голосования. Спрашивается, где же тут признаки разложения и почему это разложение не сказалось на результатах выборов?»
Заканчивает вождь вопросами теории.
На вопрос: «Эксплуататорские классы уже уничтожены у нас, социализм в основном построен, мы идём к коммунизму, а марксистское учение о государстве говорит, что при коммунизме не должно быть никакого государства, – не пора ли сдать государство в музей древностей?» – Сталин неодобрительно замечает, что «эти вопросы свидетельствуют о том, что их авторы добросовестно заучили отдельные положения учения Маркса и Энгельса о государстве, но… не поняли существа этого учения, не разобрались, в каких исторических условиях вырабатывались отдельные положения этого учения и особенно не поняли современной международной обстановки, проглядели факт капиталистического окружения и вытекающих из него опасностей для страны социализма».
По мнению Сталина, в подобных вопросах сквозит не только недооценка факта капиталистического окружения, в них – недооценка роли и значения буржуазных государств и их органов, засылающих в страну Советов шпионов, убийц и вредителей.
Сталин признаёт, что в этой недооценке грешны также в известной мере все большевики.
«Разве не удивительно, – вопрошает Сталин, – что о шпионской и заговорщической деятельности верхушки троцкистов и бухаринцев узнали мы лишь в последнее время, в 1937–1938 годах, хотя, как видно из материалов, эти господа состояли в шпионах иностранной разведки и вели заговорщическую деятельность уже в первые дни Октябрьской революции?»
И он разъясняет соратникам, что победа социализма вовсе не означает близкое отмирание социалистического государства, как предрекали классики марксизма-ленинизма. Причина – вражеское капиталистическое окружение. И пока социализм не победит в мировом масштабе, государство нужно укреплять.
Итак, представим себе на минуту эту картину: весенний мартовский день 1939 года, Москва, Кремль, Сталин на трибуне съезда, читает доклад.
Какие чувства испытывает человек, впервые за все десятилетия своей революционной, а потом партийно-государственной деятельности ставший полным хозяином огромной страны?
Прошли времена партийных дискуссий и войн, когда нужно было постоянно маневрировать, блокироваться, притворяться, – соперничать с людьми, которые много выше в интеллектуальном и культурном развитии. Прошло 15 лет, как умер Ленин, а в составе ЦК – уже ни одного человека из партийцев «первого ряда».
Никого – кроме Сталина.
Из 71 члена ЦК, утверждённых XVIII съездом, только 22 человека участвовали в XVII съезде в том же качестве. Из 64 кандидатов в члены ЦК – 1.
Остальные люди – новые. Большинство из тех, кого заместили «новые», – уже нет в живых.
А кто эти уцелевшие 22 члена ЦК?
Вот самые известные из них, по алфавиту: Багиров, Будённый, Берия, Булганин, Ворошилов, Жданов, Каганович, Калинин. Литвинов, Мехлис, Микоян, Молотов, Хрущёв, Шверник.
Это те, которые ещё в начале 20-х присягнули Сталину как главе нового «ордена меченосцев», которые прошли вместе с ним извилистую дорогу к вершинам власти. Они здесь же, в президиуме съезда и в зале, аплодируют докладу. Они тоже на вершинах власти, но они, в отличие от не доживших до этого дня делегатов прошлого съезда, полностью признают за Сталиным статус непререкаемого лидера. Они готовы идти за ним при любых обстоятельствах, при любых изменениях политического курса. Они проверены в деле. Они поддерживали Сталина, когда он воевал с Троцким и блокировался с Каменевым и Зиновьевым; они следовали за ним, когда он в союзе с Бухариным поддерживал НЭП и «смычку» с крестьянином; они сделали вид, что так и нужно, когда вожак их стаи выступил за разгром НЭПа, ускоренную «коллективизацию» с «индустриализацией», – то есть, фактически, за реализацию «левой программы» Троцкого.
Все они будут занимать высокие посты до самой смерти Сталина, а некоторые доживут до краха социалистического государства.
Вне всякого сомнения, в эти мартовские дни Сталин испытывал чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы.
Страна лежала у его ног, – покорная, она повиновалась каждому его слову, каждому его жесту, каждой его мысли.
В его руках – послушный аппарат управления страной. В этом аппарате практически нет людей, которые знали Иосифа Джугашвили – «симпатичного грузина» на вторых ролях. Для всех он – вождь, лидер, человек, слово которого – «закон». Такой «закон», что любое положение недавно принятой Конституции может быть отброшено ради исполнения его указания, желания, распоряжения.
За пределами Кремля лежала страна, которая не имела уже ничего общего с Россией начала века. Человек, заснувший, скажем, в 1913 году и проснувшийся в 1939-ом, – был бы поражён изменениями на огромной территории от Днепра до Амура.
И всё это сделал он, Сталин.
Конечно, не он один, но теперь выстроена такая пирамида власти, что на самом верху – только его фигура. Да, была революция, да, были вожди, настоящие, как Ленин, и второсортные, как Зиновьев, Каменев и прочие. И где они все? Их нет – а он, Сталин, великаном высится над всей властной пирамидой, словно колокольня Ивана Великого над куполами Кремля.
Итак. Что же сделано?
Начнём с главного.
В крестьянской стране (более 80 % от всего населения в начале 20-го века) – по большому счёту, крестьян более не существует. Деревня, этот перманентный источник мелкобуржуазной стихии, совершенно изменила свою социальную сущность. Нет больше в Советском Союзе крестьянина-единоличника с его природной склонностью к анархии. Они, большевики, никогда не заблуждались на счёт самого плохонького мужика – он спит и видит стать богатеньким, а ставши им – диктовать свою волю пролетарскому государству. Мы, большевики, сознавали это, вводя НЭП. Тут мы были едины – Ленин, Троцкий, Бухарин: надо дать временную волю мужику. Тогда, после гражданской, только мужик-частник мог дать стране хлеб. А хлеб – это продовольствие для страны, для города, для рабочего. Хлеб – это единственный экспортный товар. Мы были вынуждены дать мужику волю после продразвёрстки, после Кронштадта и Тамбовщины, когда стало ясно, что коллективные хозяйства не способны наладить производство. Хочешь сохранить главное – пожертвуй второстепенным.
Мужик ушёл в свою деревню, получив то, чего не получил за пятьсот лет от царя-батюшки, – землю. Мужику казалось, что больше ему ничего не надо. Он думал, что это – навсегда.
Потом в это поверил и слюнтяй Бухарин. Ему показалось, что в коммунизм можно прийти рука об руку с мужиком, надо только договориться с ним.
А как с ним договориться, если у него иные цели, нежели у пролетарского государства? Пролетарскому государству нужна тяжёлая индустрия, а мужику нужно продать свой хлеб втридорога. Он будет придерживать хлеб до тех пор, пока у него есть надежда продать дороже, ему наплевать на обязательства государства, ему нравится держать город и пролетариат за горло.
С каждым годом нам становилось всё труднее вырывать у мужика хлеб.
Мы стояли перед выбором: или мужик сомнёт нас, или мы в корне изменим положение дел.
Мы сумели изменить положение. В корне. Не принимая во внимание причитанья «правых», невзирая на злобу мужика, пренебрегая скулежом белоэмиграции.
В эпоху «великого перелома» сотни тысяч мужицких семей отправились поднимать сельское хозяйство в районы крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Трудно? А кому легко в период строительства социализма?
Откровенные враги отправились в лагеря. Там для них была настоящая работа: долбить рудники, валить лес, строить дороги в тайге и тундре.
Часть мужицких семей оказалась в городе и на великих стройках социализма. Нам нужны были рабочие руки, мы строили тысячи предприятий.
Оставшиеся пошли в колхоз. Мы не заблуждались, они шли в колхоз безо всякого желания. Но куда им было теперь деваться? Время анархии прошло. Пролетарское государство укрепилось настолько, что могло заставить любого работать на общее благо. И здесь нам очень помогла школа русской общины.
Мы, большевики, всегда считали общину пережитком, недостатком России – в отличие от прогрессивного пролетарского Запада.
Мы ошибались. Мы допустили много ошибок. Мы вообще плохие теоретики. Никто не мог предвидеть, какие задачи придётся решать пролетарскому государству во враждебном окружении. Ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин. О Троцком и говорить не стоит. Он был умный и большой говорун, но из говорунов не выходят великие вожди.
Мы, большевики, плохие теоретики, зато – мы способны делать выводы из своих ошибок. Так вот, мы ошибались насчёт общины. С общиной нужно было не бороться, её следовало использовать на благо построения социализма. Как говорится, оборотить нужду в добродетель.
Мужик веками жил в нищете, а средством контроля над ним была община. Он научился выживать в общине и давать государству то, что от него требуется, и за тот кусок, что ему оставят на прожитие.
То есть, на новом витке исторического развития община стала колхозом. Такая вот диалектика. В конце концов, почему бы пережитку напоследок не поработать на будущее?
Только потомки по достоинству оценят наши усилия. Нам удалось анархичную русскую деревню, не способную к системным усилиям на благо страны, превратить в гигантскую аграрную фабрику, которая устроена по нашему закону и повинуется государственным управляющим воздействиям. И если внесли цифру в план, она будет исполнена любой ценой. «Любой ценой» – это означает, что для выполнения плана из деревень вывезут весь хлеб, в том числе семенной, фуражный и предназначенный для выдачи колхозникам за «трудодни».
Во всяком случае – могут вывезти. И решать это будет государство, а не какой-нибудь мужик из Ивантеевки.
Нас обвиняют в том, что мы перестарались с управляющими воздействиями в начале 30-ых. Дескать, излишне беспощадный подход привёл к тому, что в 1932 году в деревнях зерновой полосы России, Украины и Казахстана разразился голод. И что погибли миллионы. Будто бы вымирали целые селения и даже, якобы, случалось людоедство.
Что тут скажешь? Во-первых, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Мы идём к коммунизму неторной дорогой. Жертвы были, но мы можем утешиться тем, что общие усилия не пропали даром: зерно тех урожаев превратилось в новые социалистические предприятия, которые обеспечили нашу промышленную независимость. За всё приходится платить.
Ещё нам тычут «Законом об охране социалистической собственности» (от 7 августа 1932 года). В просторечье – закон о колосках. Да, мы не отрицаем, закон был направлен против тех, кто в колхозе не работает на совесть, зато норовит украсть из общей житницы. За хищение колхозного и кооперативного имущества – высшая мера социальной защиты, расстрел с конфискацией всего имущества либо 10 лет с конфискацией. Звучит грозно, а много ли было расстреляно? Десяток-другой воров. Да тысячу-другую посадили. Так ведь каков был урок! С нашим народом можно ли по-другому?
Как бы то ни было, нашими усилиями деревня, антисистемная русская деревня дала жизнь социалистической индустрии.
Это был настоящий подвиг партии.
Ведь что нам предлагали «правые» и всякие там «сменовеховцы»? Договориться с мужиком, не обижать его, давать ему за хлеб ту цену, которую он требует. Да сбалансировать экономику так, чтобы социалистическая индустрия ждала, пока частная деревня не накопит жирка да не соизволит кинуть нам кусок от своих щедрот.
Если вдуматься, это был план реставрации капитализма. Только такой глупец, как Бухарин, мог этого не понимать. То, в чём он признавался на прошлогоднем процессе, – конечно, чушь, это всё для советской публики и для буржуазной прессы. Какой он шпион? Он – настоящий коммунист, он – за мировую революцию, в этом нет никакого сомнения. Но он не сумел перестроиться вовремя под новые задачи и в своей формальной теоретической правоте стал голосом классового врага, голосом враждебной деревни. Ещё немного, и он создал бы партию в партии. От этого – один шаг до многопартийности и буржуазной демократии.
Разве мы могли этого допустить?
И кого из настоящих коммунистов в этих опасных условиях противостояния могли смутить жертвы у классового врага? В конце концов, чем больше жертв у классового врага, тем лучше для пролетариата.
Таким образом, великий перелом – одним ударом – позволил нам достичь двух целей: нейтрализовать враждебный класс и создать благоприятные условия для индустриального подъёма.
Настоящего индустриального подъёма.
Мы не повторим ошибок царского правительства, которое вынуждено было просить русских фабрикантов в первую мировую производить ту продукцию, которая нужна армии.
Наша промышленность – часть социалистического государства, она будет производить ту продукцию, которая нам необходима для победы над врагом. И ту продукцию, которая необходима для жизни страны. И сколько нужно военной продукции и сколько – гражданской – будем решать мы, а не заводчик Иванов или заграничные вкладчики капитала.
Десять лет назад, когда шли споры о путях развития нашей экономики, умники из Госплана, деятели вроде Бухарина, Чаянова или Кондратьева убеждали нас, что нельзя нарушать экономические закономерности, законы экономики.
Какие законы, какие закономерности?
Законы капиталистической экономики, закономерности капиталистического развития?
Эти деятели не способны были заглянуть за горизонт, им помешали предрассудки буржуазной науки. А мы, настоящие большевики, предпочли действовать в духе Александра Македонского, который разрубил гордиев узел одним ударом, вместо того, чтобы играть по правилам своего противника.
Мы не стали играть по буржуазным правилам. Мы создали индустрию волевым усилием партии и сознательного, передового отряда пролетариата. Эти тысячи заводов, фабрик, комбинатов, разбросанные по всей стране, от Днепра до Амура, – залог мощного развития страны по социалистическому пути. На этих заводах – передовой отряд строителей социализма. Это люди, прошедшие школу партийной и государственной работы. Это – не теоретики, умеющие только болтать и дискутировать о партийной демократии. Это люди, умеющие поднять людей на любые свершения. Это люди, которые не остановятся ни перед чем для выполнения задания партии.
Этот передовой отряд строителей социализма – лидеров – не является застывшей кастой и уж тем более заслуги отцов не засчитываются детям. Свою преданность делу государства нужно доказывать ежедневно и ежечасно. Тот, кто не выдерживает этой проверки, кто расслабился, кто размяк духом и телом, – тот покидает ряды лидеров и пополняет ряды тех, кто обустраивает отдалённые, но важные участки социалистического строительства. Этот механизм очистки рядов работает надёжно, как швейцарские часы, и неумолимо, как отмщение Немезиды. Этот механизм иногда запускается даже в предупредительных целях, для предотвращения ущерба, который могут нанести наши враги. Для этого нам пришлось отбросить буржуазные предрассудки вроде презумпции невиновности, соревновательности сторон в суде и прочую либеральную чепуху.
С кем соревноваться социалистическому государству?
Есть ли у нас время на это?
Мы создали вертикали партийной власти, которые пронизывают все поры и ячейки нашего государства. Эти вертикали пронизывают и такие участки нашей государственной работы, как армия и специальные органы.
Нас убеждали паникёры и псевдотеоретики вроде Тухачевского, что военное дело должно быть в руках узкой касты посвящённых. Что партийный контроль над армией вреден и мешает продуктивной работе. Что ж, Тухачевский и его приспешники по антисоветским заговорам наглядно убедились в том, что партийная вертикаль контроля не дремлет и способна защитить армию и органы от тлетворного влияния буржуазных перерожденцев, предателей и вражеских наймитов.
Наша армия, оснащённая самым передовым вооружением, способна решать все задачи, стоящие перед социалистическим государством, которое развивается во враждебном буржуазном окружении.
Наша армия получит столько танков, самолётов, пушек, пулемётов и другого вооружения – сколько потребуется для выполнения тех задач, что стоят перед партией и государством.
Вся эта свора наших врагов – от поляков до французов с англичанами вкупе с бесноватым фюрером – хотят втянуть нас в какую-нибудь авантюру, чтобы потом пожинать плоды своих интриг.
Но они не дождутся от нас никаких ошибок. Мы будем терпеливы, как китайский крестьянин, и хитры, как еврейский процентщик. Мы дождёмся, пока они перегрызутся между собой, пока они обескровят себя и своих визави.
Тогда настанет наш час. Это будет началом настоящей всемирной революции. И мы возглавим этот великий пролетарский всемирный поход.
Так думал человек, стоявший на трибуне съезда мартовским днём 1939 года, читая страницы доклада, подготовленного его помощниками.
Или – мог думать.
В той или иной форме, в тех или других формулировках, – это было подведение итогов большой работы, проведённой этим человеком. И он вправе был этой работой гордиться – вне зависимости от того, нравится это миллионам людей по всему миру или нет.
В это же самое время далеко от Москвы, на другом континенте, другой человек, имевший самое непосредственно отношение и к старой России, и к новому Советскому Союзу, – размышлял над судьбами русской революции.
Лев Троцкий, последний настоящий вождь этой революции, в Мексике подводил итоги строительства социализма в СССР и в некотором смысле подводил итоги своей жизни. Судьба дала ему возможность увидеть и оценить то, за что он боролся всю жизнь: социальную революцию громадных масштабов и её результаты через двадцать лет.
Оказавшись во второй раз в эмиграции, – на этот раз по воле его собственных товарищей по большевистской партии, – Троцкий имел возможность судить о событиях в Советском Союзе уже со стороны. Это давало свои преимущества, поскольку он уже не нёс ответственности за текущие деяния советской власти. Свои мысли и соображения об итогах работы этой новой власти Троцкий изложил в книге «Преданная революция».
Первое, с чего начинает Троцкий, – он подчёркивает беспримерные в истории человечества достижения советского государства в развитии народного хозяйства: «С господами буржуазными экономистами спорить более не о чем: социализм доказал своё право на победу не на страницах «Капитала», а на хозяйственной арене, составляющей шестую часть земной поверхности; не языком диалектики, а языком железа, цемента и электричества».[69]
В декабре 1913 года Донецкий бассейн дал 2,2 тыс. тонн угля, а в декабре 1935–7,1 тыс. тонн, – перечисляет Троцкий успехи советской власти. – В 1920 году, когда составлялся первый план электрификации, в стране было 10 районных станций, общей мощностью в 253 тыс. кВт, а в 1935 – уже 95 станций общей мощностью в 4,345 тыс. кВт. В 1925 году СССР занимал 11-ое место по производству электроэнергии, а в 1935 году он третий после Германии и США. По производству тракторов Советский Союз – первый в мире.[70]
Но Троцкий совсем не склонен впадать в эйфорию. Эта беспримерная динамика ещё не решает вопроса о первенстве социализма. Одно дело – построить огромные заводы, используя технические достижения капитализма, другое – обеспечить высокую культуру и производительность труда. И здесь достижения Советского Союза очень скромны. Индивидуальная производительность труда в среднем в пять раз ниже американской. «Трактор представляет гордость советской индустрии. Между тем коэффициент полезного действия тракторов крайне низок, – вынужден признать он. – В течение прошлого хозяйственного года пришлось подвергнуть капитальному ремонту 81 % тракторов, причём значительное количество их снова вышло из строя в самый разгар полевых работ. По некоторым исчислениям, машинотракторные станции станут рентабельны лишь при урожайности в 20–22 центнера зерна с гектара. Сейчас, когда средний урожай не достигает и половины, государству приходится нести миллиардные расходы на покрытие дефицитов. Ещё хуже обстоит дело с автотранспортом. В Америке грузовая машина пробегает 60–80 000, даже 100 000 километров в год; в СССР только 20 000, т. е. в 3–4 раза меньше. Из каждых 100 машин в работе только 55: остальные в ремонте, или в ожидании его. Стоимость ремонта в 2 раза превышает стоимость всех выпускаемых новых машин. Немудрено, если по отзыву государственного контроля, «автотранспорт ложится исключительно тяжёлым бременем на себестоимость продукции».[71]
Переходя в политическую плоскость своего анализа, Троцкий напоминает об одном из главных тезисов большевистской программы, развёрнутый Лениным в работе «Государство и революция»: об отмирании государства и переходе всех рычагов управления непосредственно в руки трудящихся масс. «Режим пролетарской диктатуры с самого своего возникновения перестаёт таким образом быть «государством» в старом смысле слова, т. е. специальным аппаратом по удержанию в повиновении большинства народа, – напоминает Троцкий. – Материальная власть, вместе с оружием, прямо и непосредственно переходит в руки таких организаций трудящихся, как советы. Государство, как бюрократический аппарат, начинает отмирать с первого дня пролетарской диктатуры. Таков голос программы, не отменённой до сего дня. Странно: он звучит, как загробный голос из мавзолея».[72]
К концу второго десятилетия своего существования, – констатирует Троцкий, – государство не только не отмерло, а наоборот, превратилось в небывалый в истории аппарат принуждения. Бюрократия не только не исчезла, уступив своё место массам, но стала бесконтрольной силой, которая властвует над массами. «При наивысшем напряжении фантазии трудно представить себе контраст, более разительный, чем тот, какой существует между схемой рабочего государства по Марксу-Энгельсу-Ленину и тем реальным государством, какое ныне возглавляется Сталиным».[73]
Бюрократия, – безжалостно бьёт по самому больному Троцкий, – победила не только левую оппозицию, лидером которой был он сам, – она победила саму большевистскую партию. «Она победила программу Ленина, который главную опасность видел в превращении органов государства «из слуг общества в господ над обществом». Она победила всех этих врагов – оппозицию, партию и Ленина – не идеями и доводами, а собственной социальной тяжестью. Свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции. Такова разгадка советского Термидора».[74]
Почему же это произошло, почему бюрократия сумела победить, сумела подавить живую энергию масс, совершивших величайшую социальную революцию?
Одну из главных причин бюрократической победы Троцкий видит в том, что произошло сближение, почти слияние партийного аппарата с государственным. Демократия, по его мнению, сжималась по мере того, как нарастали трудности и крайности гражданской войны. Оппозиционные партии были запрещены. Вожди большевизма надеялись, что это временная мера, однако теперь даже от внутрипартийной демократии остались одни воспоминания в памяти старшего поколения. «Вместе с ней отошла в прошлое демократия советов, профессиональных союзов, кооперативов, культурных и спортивных организаций. Над всем и всеми неограниченно господствует иерархия партийных секретарей. Режим получил «тоталитарный» характер за несколько лет до того, как из Германии пришло это слово. <…> Если Молотов в марте 1936 года мог похвалиться перед французским журналистом тем, что правящая партия не знает больше борьбы фракций, то лишь благодаря тому, что разногласия разрешаются ныне в порядке автоматического вмешательства политической полиции. Старая большевистская партия мертва, и никакие силы не воскресят её».[75]
Кроме того, Троцкий вынужден признать тот печальный для большевизма факт, что освободиться от бюрократического диктата мешают не какие-то там «пережитки» прошлого, а объективно действующие могущественные факторы, такие как – материальная скудость, культурная отсталость и вытекающее отсюда господство права сильного при распределении материальных благ. «Социальный смысл советского Термидора начинает вырисовываться перед нами, – догадывается он. – Бедность и культурная отсталость масс ещё раз воплотились в зловещей фигуре повелителя с большой палкой в руках. <…> Где отдельная комната, достаточная пища, опрятная одежда все ещё доступны лишь небольшому меньшинству, миллионы бюрократов, больших и малых, стремятся использовать власть прежде всего для обеспечения собственного благополучия. Отсюда величайший эгоизм этого слоя, его крепкая внутренняя спайка, его страх перед недовольством масс, его бешеная настойчивость в удушении всякой критики, наконец, его лицемерно-религиозное преклонение перед «вождём», который воплощает и охраняет власть и привилегии новых господ».[76]
Что же такое СССР второй половины 30-х годов? Верно ли, – спрашивает Троцкий, – что в СССР уже осуществлён социализм?
Маркс называл низшей стадией коммунизма то общество, в котором произошло обобществление производительных сил на самом высоком уровне достижений капитализма. Но, по мнению Троцкого, – «…определение это явно не подходит к Советскому Союзу, который и сегодня ещё гораздо беднее техникой, жизненными благами и культурой, чем капиталистические страны. Правильнее, поэтому, нынешний советский режим, во всей его противоречивости, назвать не социалистическим, а подготовительным или переходным от капитализма к социализму».[77]
И вот каков прогноз: дальнейшее накопление противоречий может как привести к социализму, так и отбросить назад, к капитализму; на пути к капитализму контрреволюция может сломить сопротивление рабочих; на пути к социализму рабочие должны низвергнуть бюрократию…
Такой прогноз (как и всё, что делал Лев Троцкий в эмиграции – написание биографии Сталина, основание IV Интернационала) не мог понравиться главе советской бюрократии. Последний настоящий вождь русской революции был убит советским агентом в августе 1940 года. По-видимому, это и был ответ нового вождя – старому – в споре о социализме.
