Легенды губернаторского дома
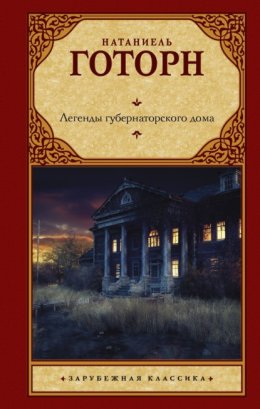
© Перевод. И. Комарова, 2018
© Перевод. В. Муравьев, наследники, 2018
© Перевод. Е. Токарев, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Видение в ручье
Когда мне было пятнадцать лет, я приехал погостить в деревню, расположенную более чем в ста милях от моего родного города. На другое утро после приезда – на дворе стоял сентябрь, но утро выдалось такое теплое и солнечное, что не уступало июльскому, – я отправился побродить по лесу. Густая листва дубов, росших там вперемежку с орешником, почти смыкалась у меня над головою, образуя непроницаемый свод. Земля в лесу была неровная и каменистая; во всех направлениях его пересекали тропки, протоптанные между кустами и молодыми деревцами пасшейся тут местной скотиной. Одна тропа показалась мне шире других; она вывела меня к хрустально-прозрачному роднику, берег которого покрыт был свежей, почти что майской зеленью. Над водою, отбрасывая кружевную тень, нависала ветка раскидистого дуба; одинокий солнечный луч пробивался сквозь густую листву и играл в ручье, как золотая рыбка.
Мне с детства нравилось наблюдать за течением воды, и я тут же предался своему любимому занятию. Ручей в этом месте расширялся, образуя небольшой, но довольно глубокий водоем приятной округлой формы, нечто вроде выложенной камнями чаши; некоторые камни поросли мхом, другие отливали самыми разнообразными оттенками белого, бурого и красноватого цветов. Дно было песчаное; крупные зерна песка поблескивали в луче солнца, и казалось, что водоем освещается снизу – не отраженным, а собственным светом. В одном месте течение сильно взмутило песок на дне, но при этом вода в глубине оставалась прозрачной, а поверхность родника – гладкой как зеркало. Мне представилось, что из ручья вот-вот возникнет живое существо – какая-нибудь речная нимфа или наяда в облике юной горделивой красавицы, в прозрачном покрывале из водорослей, в ожерелье из радужных брызг, холодная, чистая и бесстрастная. Я заранее ощутил дрожь страха и восторга, которая охватила бы нечаянного зрителя при виде того, как она, примостившись на камне и опустив в воду свои беленькие ножки, шалит с волнами и поднимает тучу брызг, чтобы полюбоваться их блеском на солнце. Она касалась бы играючи травы и цветов – и они тут же покрывались бы капельками влаги, словно первой утренней росой. Вдоволь наигравшись, она бралась бы за работу, как рачительная хозяйка, и приводила в порядок свой родник: выбирала из него сухие листья, полусгнившие щепочки, прошлогодние желуди, зернышки пшеницы, попавшие в ручей во время водопоя, и прочий мусор, и песок на дне начинал бы сверкать, словно россыпь драгоценных камней. Но если бы случайный наблюдатель дерзнул приблизиться, то на том месте, где ему явилось чудесное создание, увидел бы лишь легкую завесу летнего дождя…
Богиня водной стихии, однако же, не показывалась, и тогда я сам прилег на прибрежный травяной ковер и наклонился над водою. Из водного зеркала на меня глянули глаза – отражение моих собственных. Я всмотрелся внимательнее – и что же? Рядом с моим в глубине родника виднелось еще чье-то лицо – отчетливое и вместе неуловимое, как мимолетная мысль. Видение мое имело облик обворожительной юной девушки с бледно-золотистыми кудрями. Глаза ее лучились смехом, в ямочках на щеках пряталась лукавая улыбка, и все ее прелестное личико, по которому то и дело пробегали легкие тени, непрестанно было в движении – словом, если бы игривый лесной ручеек, журча и плескаясь на солнце, вздумал обернуться женщиной, более подходящего воплощения нельзя было бы и вообразить. Сквозь прозрачный румянец ее щек я различал в воде побуревшие дубовые листья, обломки веток, желуди и устилавший дно песок. Одинокий солнечный луч играл в ее волнистых волосах, пронизывая их мягким, трепетным светом, отчего ее головка казалась окруженной волшебным сияющим ореолом.
Мое пространное описание совершенно не передает внезапности, с которою явилось и исчезло чудное видение. Я сделал вдох – и увидел его; я выдохнул – и оно пропало! Может быть, моя нимфа ускользнула, а может, растаяла в воде? Я уже готов был поверить, что она мне только пригрезилась…
Любезные мои читатели, вообразите, в какие сладостные мечты я погрузился, оставшись на берегу ручья, где посетило меня и вновь покинуло волшебное видение! Я провел там без малого час; сперва сидел притаившись, ожидая, что оно покажется опять, и боясь спугнуть его неосторожным движением или вздохом. Так иногда, пробудившись от сладких сновидений, мы остаемся лежать в постели, закрыв глаза, в надежде, что сон наш продолжится… И все это время я размышлял о природе загадочного явления. Может статься, оно мне померещилось и было лишь плодом моей фантазии – сродни тем несусветным созданиям, которые снятся детям, наслушавшимся сказок? Ужели эта пленительная краса порадовала меня на миг, растворившись затем без следа? А может быть, это была все-таки фея или наяда, покровительница ручья, или лесная нимфа, которая прибегала полюбоваться своим отражением? Или мне явился призрак какой-нибудь безымянной девы, утопившейся здесь от несчастной любви? Наконец, то могла быть и вполне земная девушка из плоти и крови, в чьей груди билось настоящее сердце и к чьим губкам можно было бы приникнуть… Что если она неслышно подошла к берегу у меня за спиной и на миг отразилась в воде?
Я все смотрел и ждал, но видение не возвращалось. После часа напрасных ожиданий я покинул это место, вконец завороженный, и в тот же день, ближе к вечеру, неодолимая сила снова потянула меня туда. Все было там по-прежнему: так же струилась вода, так же поблескивал песок на дне, так же сквозил в листве солнечный луч. Только видения не было: вместо него взору моему предстала громадная пятнистая лягушка – местная пустынница, которая тотчас юркнула под камень и затаилась там, выставив наружу свои длинные задние ноги. «Что за дьявольщина! – подумалось мне. – Уж не злая ли это колдунья и не держит ли она под водою в плену мою красавицу?» Я готов был убить эту противную лягушку!
Унылый и подавленный, возвращался я к себе в деревню. Издалека уже завидел я церковную колокольню; прочие же деревенские строения заслонял от меня небольшой, поросший деревьями холм, высившийся как раз на полдороге. Это был как бы отдельный, самостоятельный лесок; на верхушках дубов еще играли отблески закатного солнца, а к востоку от холма ложилась тень. В преддверии сумерек солнечный свет казался печальным, а тень, напротив того, веселой: в безмятежности предзакатного солнца смешивались блеск уходящего дня и мрак наступающей ночи, как будто под деревьями на вершине холма встречались и братались в этот час дух дня и дух вечера, и трудно было отличить их друг от друга. Наслаждаясь этой мирной картиной, я вдруг заметил, что из чащи деревьев показалась юная девушка. Сердце мое встрепенулось: я узнал ее! Это была моя водяная красавица. Но сейчас она была так далека, воздушна и бесплотна, так преисполнена светлой печали, разлитой вокруг места, где она стояла, что у меня упало сердце. Смогу ли я когда-нибудь приблизиться к ней?..
Пока я любовался ею, налетел короткий летний дождь. Он весело забарабанил по листьям, и воздух тут же наполнился сиянием, потому что в каждой падающей капле вспыхивала искорка солнца. Туманная пелена дождя, на вид почти невесомая, затянула горизонт, как бы стремясь вобрать в себя закатный солнечный свет. В небе выгнулась многоцветная радуга – яркая, точно радуга над Ниагарским водопадом. Южный ее конец достигал как раз леска на вершине холма, окутывая мою нимфу покровом, сотканным из небесных красок, единственно достойных прикасаться к ней. Когда же радуга растаяла, вместе с ней исчезла и та, которая казалась ее неотъемлемой частью. Может быть, эфемерный призрак и вправду растворился в зыбком воздухе, поглощенный одним из красивейших явлений природы? И однако я не стал поддаваться отчаянию: верил, что снова увижу ее, – ведь она предстала мне в сиянии радуги, как символ надежды!
Так расстался я с моим видением, и с момента разлуки прошло немало печальных дней. Я искал ее всюду и везде – у ручья и в дремучей чаще, на лесистом холме и в своей деревне; искал на рассвете, по утренней росе, в горячий полдень и в тот волшебный час заката, когда видел ее в последний раз, – но искал напрасно. Дни шли за днями, пролетали недели и месяцы, а она так и не показывалась. Я никому не мог поверить свою тайну; я бесцельно бродил по окрестности или часами сидел в одиночестве, как человек, которому посчастливилось увидеть небо и которого не прельщают больше радости земли. Я уединился в свой особый мир, где существовали только мои собственные мысли и где царило мое видение… Постепенно я сделался как бы сочинителем и вместе героем бесконечного романа: я выдумывал себе соперников, рисовал события самые драматические, включая свои и чужие подвиги, испытывал все, какие только могут быть, оттенки страсти – и в конце концов, пройдя через ревность и отчаяние, познавал неземное блаженство… Ах, если бы я по сей день обладал пламенным воображением юности! Я смог бы прибавить к нему тот более рассудочный дар, который приносят нам зрелые годы, – дар словесного выражения чувств; и как трепетали бы тогда ваши сердца, мои любезные читательницы!
В середине января я был отозван домой. Накануне отъезда я еще раз посетил места, где являлось мне мое видение: ручей затянут был зеркальной коркой льда, а на холме, над которым в тот памятный день сияла радуга, теперь блестел под зимним солнцем снег. «Нет, я не расстанусь с надеждой, – подумал я, – иначе сердце у меня обледенеет, как этот родник, и мир вокруг покажется таким же пустынным, как этот заснеженный холм». Весь день провел я в приготовлениях к отъезду, назначенному на четыре часа утра. После ужина, уложив свой багаж, я спустился в гостиную, чтобы проститься со своими гостеприимными хозяевами – стариком священником и его семьей. Порыв сквозняка задул мою лампу в момент, когда я переступал порог.
По многолетней привычке – ведь так приятно посумерничать, когда в камине весело потрескивает огонь! – все домочадцы расположились у очага, не зажигая света. Поскольку скудные размеры жалованья вынуждали хозяина дома прибегать ко всяческого рода экономии, топили тут обычно дубильным корьем – проще говоря, размельченной дубовой корой, которая никогда не горела ярким пламенем, а только тлела потихоньку с утра до вечера. Сегодня в камин была подложена свежая порция этого топлива; на куче корья я различил три сырых дубовых поленца да несколько сухих сосновых чурок, которые еще не занялись. В комнате было почти темно, если не считать тусклого свечения двух головешек, лениво догоравших на очаге. Но я хорошо знал, где стоит кресло моего хозяина, где помещается его супруга со своим неизменным вязаньем, как именно надо пройти, чтобы не побеспокоить хозяйских дочек, – одна из них была крепкая, коренастая девушка, истинная сельская жительница, другая страдала чахоткой. Пробравшись ощупью в потемках, я нашарил наконец свой стул и уселся рядом с сыном священника, ученым малым, студентом какого-то колледжа, который приехал к родителям на зимние каникулы и собирался провести их с пользой, учительствуя в местной школе. Я обратил внимание на то, что стул его был сегодня придвинут к моему ближе обычного.
В темноте люди любят помолчать, и в первые минуты после моего появления в гостиной не было произнесено ни слова. Тишина нарушалась только мерным постукиваньем спиц почтенной хозяйки дома. Время от времени слабый отблеск огня в камине отражался в стеклах очков хозяина и на секунду высвечивал силуэты сидящих, оставляя во мраке их лица. Вся эта призрачная сцена походила на сборище потусторонних теней, и у меня мелькнула мысль, что так могли бы сообщаться на том свете души некогда близких людей, сохранивших и за гробом свои земные связи. Мы ощущали присутствие друг друга без помощи зрения, осязания или слуха – одним лишь внутренним сознанием. Не так ли было бы и в вечной жизни?
Молчание прервала чахоточная дочь священника, заговорив с кем-то из присутствующих, кого она назвала по имени – Рейчел. В ответ на ее вопрос, произнесенный прерывисто и еле слышно, прозвучало одно только слово, но слово это было сказано голосом, который заставил меня встрепенуться. Слышал ли я когда-нибудь раньше этот нежный, мелодичный голос? А если нет, отчего он пробудил во мне столько воспоминаний – действительных или кажущихся; отчего он возмутил в душе моей призрак чего-то знакомого и в то же время неведомого; отчего мгновенно нарисовал в моем воображении черты той, которая произнесла в темноте одно-единственное слово? Кого узнало мое сердце, что так отчаянно оно забилось в груди? Я весь превратился в слух, пытаясь уловить ее легкое дыхание, и, повернувшись на звук ее голоса, изо всех сил стал напрягать глаза, чтобы разглядеть ее в сумраке гостиной.
Внезапно сухое сосновое дерево занялось; огонь в камине вспыхнул красноватым пламенем, и там, где только что царила тьма, появилась она – мое видение! Я подумал, что она дух света: в прошлый раз она исчезла вместе с радугой, сейчас возникла в блеске пламени из очага – и, наверное, пропадет опять, когда огонь погаснет… Но щеки ее цвели живым румянцем, и черты юного лица в тепле уютной комнаты были еще нежней, еще прелестней, чем представлялось мне в моих воспоминаниях! И она узнала меня! Глаза ее так же лучились смехом, а в уголках губ и в ямочках на щеках пряталась та же лукавая улыбка, что и в тот день, когда красота ее впервые заворожила меня. На миг наши взгляды скрестились – но тут на разгоревшиеся ветки обрушилась куча сырого корья и тьма опять похитила дочь света, на сей раз навсегда…
Прекрасные читательницы, что я могу еще добавить? Должен ли я раскрыть этот несложный секрет и объяснить, что Рейчел была дочерью местного помещика, что ее увезли в пансион на другое утро после моего прибытия на жительство в деревню и что вернулась она в канун моего отъезда?.. И удивительно ли, если я преобразил ее в ангела? Так поступает всякий юный влюбленный. Вот и вся моя история. Как же немного нужно, милые девицы, чтобы вы могли сойти за ангелов!
Молодой Гудман Браун
Молодой Гудман Браун на закате вышел на улицу Салема, но, ступив за порог, обернулся, чтобы поцеловать на прощание молодую жену. А Вера, которой это имя подходило как нельзя лучше, высунула в дверь хорошенькую головку. Ветер тотчас заиграл розовыми лентами ее чепца, когда она обратилась к Брауну.
– Дорогой мой, – тихо и немного грустно прошептала она, наклонившись к самому его уху. – Прошу тебя, отложи путешествие до рассвета и поспи этой ночью в своей кровати. Когда женщина одна, ее одолевают такие сны и мысли, что иногда она сама себя пугается. Пожалуйста, дорогой мой муж, побудь со мной этой ночью – именно этой из всех ночей в году.
– Любимая моя Вера, – ответил молодой Гудман Браун. – Из всех ночей в году именно этой ночью я должен ненадолго тебя покинуть. Мое путешествие, как ты его называешь, нужно завершить, пройдя туда и обратно до рассвета. Неужели ты, моя дивная красавица жена, сомневаешься во мне всего лишь через три месяца после венчания?
– Тогда храни тебя господь, – сказала Вера, и розовые ленты взвились на ветру, – и да увидишь ты все во благости, когда вернешься.
– Аминь! – воскликнул Гудман Браун. – Помолись же, Вера, и ляг спать, как только погаснет вечерняя заря. И ничего плохого с тобой не случится.
Засим они расстались, и молодой человек зашагал своей дорогой, пока, решив свернуть за угол у молельни, не оглянулся и не увидел, что Вера по-прежнему смотрит ему вслед с печальным лицом, несмотря на веселые розовые ленты.
«Бедная Вера! – подумал он с болью в сердце. – Какой же я бессовестный, что оставляю ее, отправляясь по такому делу! Она еще и о снах говорит. Думается мне, что при упоминании о снах лицо у нее было встревоженное, словно сон предупредил ее о том, что надо сделать нынче ночью. Но нет, нет, такие мысли убили бы ее. Ведь она ангел земной, и после этой ночи я неотлучно буду при ней и вместе с нею взойду на небо».
Приняв столь превосходное решение о своем будущем, Гудман Браун счел себя вправе поспешить по теперешнему недоброму делу. Он шел мрачной и безлюдной дорогой, и черневшие деревья делали ее еще темнее, едва расступаясь по обе стороны узкой тропинки, после чего снова смыкались за спиною путника. На тропе не было ни души, а в подобном одиночестве есть та особенность, что идущий не знает, кто может скрываться за бесчисленными стволами и нависающими над головой ветвями. Так что, шагая по безлюдной тропинке, он в то же время может идти сквозь невидимую толпу.
«Тут за каждым деревом может скрываться злобный индеец, – сказал себе Гудман Браун и, опасливо оглянувшись, добавил: – А что если сам дьявол идет рядом со мной?»
Продолжая оглядываться, он миновал поворот и, снова глядя вперед, увидел фигуру скромно одетого человека, сидевшего под старым деревом. При появлении Гудмана Брауна тот поднялся и зашагал рядом с ним.
– Ты опоздал, Гудман Браун, – произнес он. – Когда я проходил по Бостону, часы на Старой Южной церкви били, а это произошло добрых пятнадцать минут назад.
– Меня немного задержала Вера, – ответил молодой человек слегка дрожавшим голосом, причиной чего было внезапное, хотя и не совсем неожиданное появление его спутника.
В лесу уже окончательно стемнело, особенно там, где шли те двое. Второй путник, примерно лет пятидесяти, явно того же звания, что и Гудман Браун, весьма походил на него, однако, возможно, скорее выражением лица, нежели чертами. И все же их можно было принять за отца и сына. Однако в том, что постарше, несмотря на простые одежду и манеры, чувствовалась неуловимая уверенность человека много повидавшего, который не сконфузился бы за обедом у губернатора или при дворе короля Вильгельма Оранского, если бы оказался там волею судеб. Но единственное, что при взгляде на него бросалось в глаза, – это посох, похожий на большую черную змею, столь причудливо выгнутый, что, казалось, он извивается и дергается, как живой аспид. Это, разумеется, было обманом зрения, дополненным еще и изменчивым светом.
– Живее, Гудман Браун! – крикнул его спутник. – Таким шагом негоже начинать путешествие. Возьми мой посох, если ты так быстро устал.
– Друг, – сказал Браун и остановился вместо того, чтобы прибавить шагу, – исполнив уговор с тобой здесь встретиться, я теперь хочу вернуться туда, откуда пришел. Я сомневаюсь касательно ведомого тебе дела.
– Вот как ты заговорил? – отозвался державший аспидный посох. – Давай все же двинемся дальше и по пути поговорим. Если я не смогу тебя убедить, то ты повернешь назад. Мы совсем недалеко зашли в лес.
– Слишком далеко! Слишком! – воскликнул Браун, невольно возобновляя шаги. – Ни мой отец, ни отец моего отца никогда не ходили в лес по подобному делу. Со дней мучеников все мы честные люди и добрые христиане, и быть ли мне первым из Браунов, кто ступит на сей путь и свяжется…
– …С такой компанией, хочешь сказать? – заметил тот, что постарше, именно так поняв нерешительность Брауна. – Отлично сказано, Гудман Браун! Я так же хорошо знаю твое семейство, как и остальных пуритан, и это не пустые слова. Я помогал твоему деду-констеблю, когда тот истово гнал плетью квакершу по улицам Салема, и именно я подал твоему отцу горевшую сосновую головню из своего очага, когда тот во время Войны короля Филиппа поджег индейскую деревню. Оба они были моими добрыми друзьями, и много раз мы с ними приятно прогуливались по этой дороге, в веселом расположении духа возвращаясь после полуночи домой. Ради них я готов и с тобой подружиться.
– Если все так, как ты говоришь, – ответил Гудман Браун, – то мне странно, что они никогда об этом не упоминали. Хотя удивляться тут нечему: ведь если бы об этом возник хоть малейший слух, то нас бы изгнали из Новой Англии. Мы люди истово верующие, к тому же трудолюбивые, и не потерпели бы подобного греховодства.
– Греховодство или нет, – произнес путник со змеившимся посохом, – но я в Новой Англии знаю очень многих. Дьяконы многих церквей пили со мной вино причастия, члены советов многих городов выбирали меня своим главою, а большинство законников и судей блюдут мои интересы. Вот и с губернатором мы… Но это государственная тайна.
– Разве так может быть?! – вскричал Гудман Браун, удивленно глядя на бесстрастного спутника. – Хотя мне дела нет до губернатора и законников: у них все по-своему устроено, и они не образец для простого селянина вроде меня. Но, пойди я с тобой, как мне потом смотреть в глаза доброму старику, пастору нашей церкви в Салеме? О, ведь от его голоса я дрожу в день субботний и во время проповеди.
Дотоле старший по возрасту путник слушал Брауна с должной серьезностью, но теперь им овладело неудержимое веселье. Он так сотрясался от смеха, что, казалось, вместе с ним извивается и его похожий на змею посох.
– Ха-ха-ха! – вновь и вновь хохотал он, затем взял себя в руки. – Ну же, продолжай, Гудман Браун, продолжай, но только не умори меня смехом.
– Так вот, чтобы раз и навсегда покончить с этим делом, – весьма уязвленным тоном проговорил Гудман Браун. – У меня есть жена Вера. Это разбило бы ей сердечко, а я уж лучше свое разобью.
– Если так, то я отказываюсь, – ответил его спутник. – Ступай своей дорогой, Гудман Браун. Я не смог бы причинить Вере зла даже ради двадцати старушек вроде той, что идет перед нами.
С этими словами он указал посохом на шагавшую по той же тропинке женскую фигуру, в которой Гудман Браун узнал набожную и благообразную даму, что учила его в детстве катехизису и до сих пор была его советчицей и наставницей в вопросах веры вместе с дьяконом Гукином.
– Воистину удивительно, что благочестивая Клойз оказалась ночью в таком пустынном месте, – проговорил он. – Но с твоим уходом, друг, я двинусь напрямик через лес, пока эта добропорядочная женщина не останется позади. Будучи с тобой не знакомой, она может спросить, с кем я говорю и куда иду.
– Да будет так, – согласился его спутник. – Иди лесом, а я пойду по тропинке.
По уговору молодой человек свернул в сторону, но при этом не терял из виду спутника, мягко шагавшего по тропинке, пока не оказался от старухи не дальше, чем на длину посоха. Она тем временем двигалась вперед с необыкновенной для своего возраста прытью, что-то бормоча себе под нос – несомненно, молитву. Путник вытянул вперед посох и коснулся им морщинистой шеи женщины, словно змеиным хвостом.
– Дьявол! – вскричала набожная пожилая дама.
– Значит, благочестивая Клойз узнаёт старого друга? – заметил путник, остановившись чуть впереди и опершись на кривую палку.
– Ой, и вправду! Вы ли это, ваша милость?! – воскликнула добропорядочная старушка. – Да, верно, да еще в образе моего кума, констебля Брауна, деда того молодого недоумка, который сейчас здравствует. Однако поверит ли ваша милость в то, что у меня странным образом пропала метла? Подозреваю, что ее украла эта неповешенная ведьма Кори, да к тому же тогда, когда я вся натерлась снадобьем из сока сельдерея, лапчатки и бореца.
– Смешанных с мукой и жиром новорожденного младенца, – дополнило обличье констебля Брауна.
– Ой, ваша милость знает этот рецепт! – громко хихикая, вскричала старуха. – Так вот, продолжу. Приготовилась я ехать, а коня не было, вот я и решила идти пешком. Говорят, нынче ночью посвящают приятного молодого человека. Но если ваша милость предложит мне руку, то мы домчим в одно мгновение.
– Это вряд ли, – ответил ее друг. – Не смогу предложить тебе руку, благочестивая Клойз. Но если нужен мой посох, то вот он.
С этими словами он бросил посох к ее ногам, где, возможно, тот ожил, поскольку был одним из жезлов, которые его владелец некогда одолжил египетским чародеям. Однако об этом Гудман Браун знать не знал. Он изумленно взглянул вверх, а когда снова опустил глаза, то не увидел ни благочестивой Клойз, ни аспидного посоха. На тропинке остался лишь его спутник, дожидавшийся его с таким спокойным видом, словно ничего и не случилось.
– Эта старуха учила меня катехизису, – проговорил молодой человек, и в этом простом замечании содержалась глубокая многозначительность.
Они продолжили идти вперед, а путник постарше все увещевал Брауна прибавить шагу и поторопиться, подбирая слова так, что его доводы словно рождались в груди слушателя, а не исходили от него самого. По дороге он сорвал с клена огромный сук, чтобы сделать себе новый посох, и начал очищать его от веточек и сучков, мокрых от вечерней росы. Едва он касался их пальцами, они странно вяли и засыхали так быстро, словно их неделю жгло яркое солнце. Так они двигались широким шагом, пока, спустившись в небольшую темную лощину, Гудман Браун вдруг не присел на пенек, отказавшись идти дальше.
– Друг, – упрямо заявил он, – я все для себя решил. По этому делу я больше шага не сделаю. Что если эта вздорная старуха решила отправиться к дьяволу, когда я подумал, что она устремилась в ад? Разве это причина, чтобы я бросил дорогую Веру и последовал за ней?
– Постепенно ты передумаешь, – сдержанно ответил его спутник. – Посиди, передохни немного, а когда захочешь снова двинуться в путь, вот тебе в помощь мой посох.
Не говоря больше ни слова, он бросил своему спутнику посох и так быстро исчез из виду, что как будто растворился в сгущавшейся темноте. Молодой человек несколько мгновений посидел на обочине, аплодируя сам себе и думая, с какой чистой совестью завтра встретит пастора во время его утренней прогулки и не станет отводить глаза от доброго дьякона Гукина. И каким сладким будет его сон в эту ночь, которую он собирался провести столь нечестиво, но теперь столь целомудренно и сладко проведет в объятиях Веры! Эти приятные и достойные похвалы размышления были прерваны топотом копыт где-то на дороге, и Гудман Браун счел разумным скрыться в лесу, памятуя о приведшем его туда нечестивом искусе, хотя уже и счастливо отринутом.
Все ближе становились цокот копыт и голоса всадников – два старца рассудительно и неспешно вели разговор. Эти звуки, похоже, двигались вдоль дороги всего в нескольких метрах от того места, где спрятался молодой человек. Но, вне всякого сомнения, благодаря сгустившейся над лощиной темноте ни всадников, ни лошадей разглядеть было нельзя. Хотя их фигуры задевали ветки у самой обочины, они даже на мгновение не заслонили слабую полоску света от ночного неба, которую наверняка пересекали. Гудман Браун то приседал на корточки, то вставал на цыпочки, раздвигая ветки и вытягивая голову, насколько осмеливался, но видел лишь размытые тени. Еще больше его раздражало то, что он мог поклясться – будь это мыслимо, – что опознал голоса, принадлежавшие пастору и дьякону Гукину, когда они, по обыкновению, ехали неспешной рысью, направляясь на рукоположение или заседание церковного совета. Их еще было слышно, когда один их всадников остановился сорвать прутик.
– Из двух оказий, ваше преподобие, – произнес похожий на дьяконов голос, – я бы скорее пропустил ужин по случаю рукоположения, нежели нынешний ночной сбор. Говорят, кто-то из нашего братства собирается прибыть из Фалмута и даже из более дальних мест: из Коннектикута и Род-Айленда. Плюс еще несколько индейских жрецов, в которых по-своему больше дьявольщины, как и у лучших из нас. Более того, будут посвящать одну благочестивую молодую женщину.
– Просто отлично, дьякон Гукин! – внушительно пророкотал голос пожилого пастора. – Пришпорьте лошадь, иначе мы опоздаем. Сами знаете, ничего не начнется, пока я не слезу с коня.
Снова застучали копыта, и голоса, столь странно говорившие в пустынном лесу, растаяли в чаще, где никогда не собирались верующие и никогда не молился одинокий путник-христианин. Тогда куда же направлялись двое святых отцов, так далеко заехав в языческие дебри? Гудман Браун вцепился в дерево, чтобы не упасть, вот-вот готовый осесть наземь, ослабев от непомерной тяжести на сердце. Он поднял глаза, сомневаясь, осталось ли над ним небо. Однако он увидел темно-синий небосвод с ярко сверкающими на нем звездами.
– С небесами надо мною и Верой в сердце я выстою против дьявола! – воскликнул Гудман Браун.
Пока он глядел на простиравшуюся над ним небесную твердь и молитвенно воздевал к ней руки, набежала какая-то туча, несмотря на безветрие, и скрыла ярко сверкающие звезды. Все еще проглядывало синее небо, лишь прямо над головой Брауна темнело, и облако быстро мчалось на север. Откуда-то с высоты, будто бы из самой тучи, послышался сумбурный гомон. Если прислушаться, то можно было различить голоса земляков, мужчин и женщин, набожных и неверующих, многих из которых он встречал в церкви, а других видел бесчинствующими в кабаке. Но голоса звучали так неясно, что в следующее мгновение Брауну показалось, будто слышит он лишь шелест листвы в притихшем лесу. Затем снова накатил вал голосов, которые он каждый божий день слышал на улицах Салема, но ни разу под покровом тьмы. Среди остальных выделялся голос молодой женщины, причитавшей громко, но не очень горестно, и молившей о какой-то милости, которую, возможно, она сама боялась получить. Невидимая толпа святых и грешников, казалось, подбадривала ее и не давала умолкнуть.
– Вера! – с тоской и отчаянием вскрикнул Гудман Браун, и лесное эхо глумливо откликнулось «Вера! Вера!», словно сбитые с толку чудища бросились искать ее в пустынной чаще.
Не успел этот крик горя, злобы и ужаса смолкнуть в ночи, как несчастный муж затаил дыхание в ожидании ответа. Раздался визг, тотчас же потонувший в громком гомоне, переходящем в смех и удалявшемся по мере того, как ветер уносил тучу прочь. Над головой Гудмана Брауна снова воцарилось ясное и безмолвное небо. Но что-то еле заметно прилетело сверху и зацепилось за ветку. Молодой человек вытянул руку и увидел зажатую в пальцах розовую ленту.
– Моей Веры больше нет! – вскричал он, оправившись от оцепенения. – Нет на земле добра, а грех – всего лишь слово. Приди, дьявол, ибо тебе отдан этот мир.
И после, обезумев от отчаяния, Гудман Браун хохотал долго и громко, а затем схватил посох и снова зашагал с такой скоростью, что, казалось, он не шел и не бежал по тропинке, а летел над нею. Тем временем тропинка становилась все мрачнее и неприветливее, ее становилось все труднее разглядеть, и, наконец, она совсем исчезла, оставив его посреди темной чащи. Но Браун по-прежнему рвался вперед, повинуясь инстинкту, который влечет смертного к греху. Лес был полон пугающих звуков: скрипа деревьев, воя диких зверей и криков индейцев. Ветер временами заунывно гудел, словно далекий церковный колокол, иногда окутывал путника громким ревом, словно природа презрительно насмехалась над ним. Но главный ужас являл собою он сам и не шарахался от прочих ужасов.
– Ха-ха-ха! – громко ревел Гудман Браун, когда над ним смеялся ветер. – Давай послушаем, кто смеется громче. И не вздумай напугать меня своей чертовщиной. Выходи ведьма, выходи, колдун, выходи, индейский жрец, выходи хоть сам дьявол – вот идет Гудман Браун. Бойся меня, как я тебя.
По правде говоря, во всем лесу не было никого страшнее Гудмана Брауна. Он рвался вперед среди черных сосен, неистово размахивая посохом, то разражаясь жуткими богохульными проклятиями, то хохоча так, что весь лес оглашался демоническим эхом. Демон в его собственном обличье куда ужаснее, чем когда вселяется в человека. Так и мчался одержимый им Браун, пока не увидел за деревьями мерцающий красный свет, похожий на пламя, когда на вырубке сжигают поваленные стволы и ветви, и свет этот в полночный час озарял небо грозным сиянием. Когда гнавшая его вперед буря унялась, он остановился и услышал доносившийся издалека многоголосый хор, певший что-то наподобие гимна. Браун узнал мелодию – ее пели хором в деревенском молельном доме. Последняя строфа тревожно смолкла, за ней раздался припев, исполняемый не человеческими голосами, а звуками ночной чащи, сливавшимися в жуткую гармонию. Гудман Браун закричал, но крик его поглотил вопль лесной глуши.
В наступившем безмолвии он пробирался вперед, пока свет не ударил ему в глаза. На краю большой поляны, окруженной темной стеной леса, высился огромный камень, очертаниями отдаленно напоминавший алтарь или церковную кафедру, окруженный четырьмя соснами с пылающими верхушками и нетронутыми жаром стволами, похожими на свечи, зажигаемые перед вечерней молитвой. Листва выше верхней оконечности камня горела, озаряя ночь всполохами огня и ярко освещая поляну. Каждую веточку и каждый листик объяло пламя. Когда его яркие языки то взмывали к небу, то опадали, всполохи то высвечивали многочисленных собравшихся, то погружали их во тьму, то снова вырывали из нее, наполняя жизнью глухую лесную чащу.
– Мрачное собрание в темных одеяниях, – проговорил Гудман Браун.
Правду сказать – это так и было. Среди собравшихся, то озаряемые светом, то поглощаемые тьмой, мелькали лица, которые назавтра увидишь в совете округа; которые каждое воскресенье благочестиво возносят глаза к небу и со священных алтарей благосклонно взирают на сидевшую на скамьях паству. Некоторые утверждают, что видели там жену губернатора. По крайней мере, на собрании присутствовали приближенные к ней высокопоставленные дамы и жены почтенных мужей, вдовы в огромном количестве, и старые девы с безупречной репутацией, и хорошенькие девицы, трепетавшие при одной мысли, что за ними проследят матери. Или Гудмана Брауна ослепили всполохи яркого света над далекой поляной, или он и впрямь узнал нескольких прихожан салемской церкви, известных особой набожностью. Благочестивый дьякон Гукин уже прибыл и ждал подле преподобного старца, досточтимого пастора. Но там же, вызывающе близко от почтенных, уважаемых и набожных людей, церковных старшин, благонравных дам и целомудренных дев, стояли известные своей распутной жизнью мужчины и женщины с запятнанной репутацией, негодяи, подверженные всем и всяческим порокам и даже подозреваемые в жутких преступлениях. Странно было видеть, как благочестивые не шарахались от нечестивых, а святые не смущались присутствием грешников. Среди бледнолицых врагов то и дело попадались индейские жрецы, или шаманы, наводившие на леса страх такими жуткими заклинаниями, какие и не снились ни одной английской ведьме.
«Но где же Вера?» – подумал Гудман Браун и задрожал, когда сердце его озарилось надеждой.
Медленно и скорбно зазвучала очередная строфа гимна, который так любят набожные люди, но в нее вплетались слова, выражавшие все, что природа наша связывает с грехом. Премудрость асмодеев недоступна пониманию простых смертных. Пели строфу за строфой, и после каждой все так же взлетал припев хора лесной чащи, похожий на самый низкий бас могучего органа. После заключительного раската этого жуткого песнопения раздался звук, словно ревущий ветер, бурные реки, воющие звери и все нестройные голоса лесной чащи слились с голосом грешника, воздающего хвалу князю тьмы. Огонь с пылающих сосен взметнулся еще выше и смутно высветил жуткие призраки в клубах дыма, поднимающихся над сборищем нечестивцев. В то же мгновение красное пламя рванулось вверх, образовав у основания камня светящуюся арку, под которой возникла человеческая фигура. Да будет это сказано с глубоким почтением, фигура эта никоим образом – ни одеянием, ни манерою – не походила ни на одно почтенное духовное лицо церквей Новой Англии.
– Приведите новообращенных! – крикнул голос, эхом разнесшийся по поляне и затихший в лесу.
Услышав эти слова, Гудман Браун вышел из тени деревьев и приблизился к собравшимся, с которыми он почувствовал греховное единение во всем нечестивом, что таилось в его душе. Он мог поклясться, что из клуба дыма его поманил призрак родного отца, а женщина со смутным выражением отчаяния на лице предостерегающе протянула руку с поднятой ладонью. Возможно, это его мать? Однако он не нашел в себе сил ни отступить даже на шаг, ни воспротивиться, когда пастор и благочестивый дьякон Гукин схватили его под руки и повели к ярко сверкавшему камню. Туда же подошла стройная женщина с закрытым вуалью лицом, которую с обеих сторон поддерживали благочестивая Клойз, набожная учительница катехизиса, и Марта Кэрриер, получившая от дьявола обещание сделать ее царицей ада. Это была свирепая ведьма. Оба новообращенных остановились под огненным куполом.
– Добро пожаловать, дети мои, – произнесла темная фигура, – в приобщение к племени своему. В младости вы обрели сущность и судьбу. Оглянитесь, чада!
Они обернулись, и в ярко вспыхнувшем языке пламени стали видны поклоняющиеся демону. На каждом лице мрачно сияла приветственная улыбка.
– Там, – продолжила черная фигура, – собрались все, кого вы чтите с младых ногтей. Вы считали их благочестивее себя и отвращались от грехов, сравнивая жизнь с жизнью этих праведников, полной молитв и небесных устремлений. Однако все они поклоняются мне. Этой ночью вам будет дано познать их тайные дела: как седобородые богобоязненные старики шептали блудные слова молоденьким служанкам в своих домах, как многие женщины, стремившиеся украсить себя трауром, перед сном давали мужьям питье и позволяли им заснуть у них на груди последним сном. Как безусые юноши торопились унаследовать отцовские богатства, как хорошенькие девицы благородного звания – не краснейте, красотки! – копали в садах могилки и звали меня одиноким плакальщиком на похороны младенцев. Благодаря расположенности человеческого сердца к греху вы всюду почувствуете его запах – в церкви, в спальне, на улице, в поле или в лесу – там, где совершалось преступление, и возрадуетесь, увидев, что вся земля есть пятно греховное, пятно кровавое. Более того, вам будет дано проникать в каждое сердце и видеть там глубоко спрятанную тайну греха и источник нечестивых ухищрений, который неистощимо питает куда больше злокозненных помыслов, нежели власть человеческая – нежели моя безграничная власть – способна воплотить в деяниях. А теперь, дети мои, поглядите друг на друга.
Они поглядели, и в свете зажженных от адского огня факелов несчастный увидел Веру, а жена – мужа, дрожавшего у неосвященного алтаря.
– Вот вы стоите тут, дети мои, – медленно и торжественно провозгласила фигура почти грустно с ужасающим отчаянием в голосе, как будто некогда падший ангел все еще мог скорбеть о жалком роде человеческом. – Взаимно связанные сердечными узами, вы все-таки надеялись, что добродетель не есть мечта. Теперь вы избавлены от обмана. Природа человеческая есть зло. Зло должно стать вашей единственной отрадой. Еще раз добро пожаловать, дети мои, в приобщение к племени своему.
– Добро пожаловать, – повторили почитатели дьявола единым возгласом отчаяния и торжества.
Они стояли рядом, единственная пара, казалось, еще не решившаяся преступить грань грехопадения в этом темном мире. В камне виднелось углубление. Была ли там вода, красноватая от огненных всполохов? Или кровь? Или, возможно, жидкий огонь? Зловещая фигура погрузила туда руку и изготовилась пометить их чело знаком крещения, дабы они приобщились к тайнам греха, узнали тайные прегрешения других, в деяниях и помыслах куда больше, нежели собственные. Муж взглянул на побледневшую жену, а Вера на него. Каких отвратительных чудищ они увидят друг в друге при следующем взгляде, оба содрогнулись при виде открывшегося им!
– Вера! Вера! – вскричал Гудман Браун. – Взгляни на небо и отринь нечистого!
Послушалась его Вера или нет, Браун не знал. Едва он умолк, как оказался один среди ночной тишины, где прислушивался к реву стихавшего в лесной чаще ветра. Он покачнулся и вцепился в камень, холодный и влажный, а свисавшая ветка, недавно вся пылавшая, брызнула на него холодной, как лед, росой.
На следующее утро молодой Гудман Браун медленно вышел на улицу Салема, смущенно оглядываясь по сторонам. Благочестивый пожилой пастор прохаживался по кладбищу, нагуливая аппетит перед завтраком и обдумывая предстоящую проповедь. Увидев Брауна, он благословил его. Тот шарахнулся от святого отца, будто от анафемы. Старый дьякон читал молитву своим домочадцам, и слова ее доносились из открытого окна. «Какому Богу молится этот колдун?» – еле слышно проговорил Гудман Браун. Благочестивая Клойз, образцовая христианка, стояла у забора и наставляла маленькую девочку, принесшую ей кружку свеженадоенного молока. Гудман Браун схватил девочку и потащил прочь, словно вырвал ее из лап самого дьявола. Повернув за угол у молитвенного дома, он заметил Веру в чепце с розовыми лентами, встревоженно всматривавшуюся вдаль. Она так обрадовалась, увидев мужа, что бросилась бежать по улице и едва не расцеловала его на глазах у всей деревни. Но Гудман Браун лишь сурово и грустно посмотрел ей в глаза и пошел дальше, не сказав ни единого слова.
Может, Гудман Браун заснул в лесу, а ведьмин шабаш ему лишь приснился?
Пусть так и будет, если вам угодно. Но увы! Для Гудмана Брауна этот сон стал зловещим предзнаменованием. С той ночи, когда ему привиделся этот жуткий кошмар, он сделался суровым, грустным, мрачно-задумчивым, недоверчивым, если не вконец отчаявшимся человеком. В день субботний, когда собравшаяся паства пела псалмы, он не мог их слушать, поскольку в ушах у него грохотал гимн греха, заглушая песнопения Божьи. Когда пастор, положив руку на раскрытую Библию, авторитетно и страстно-красноречиво вещал с кафедры о священных истинах нашей веры, о праведной жизни и достойной смерти, о грядущем блаженстве и непередаваемых словами страданиях, Гудман Браун бледнел, боясь, как бы крыша с грохотом не обрушилась на седого богохульника и его слушателей. Частенько, внезапно проснувшись в полночь, он резко отодвигался от Веры, а утром или на закате, когда семья преклоняла колени в молитве, он хмурился, бормотал что-то себе под нос, сердито смотрел на жену и отворачивался. А когда он прожил долгую жизнь и его, поседевшего, чинно отнесли на кладбище в сопровождении постаревшей Веры, детей, внуков и нескольких соседей, то на надгробном камне не высекли возвышенной эпитафии, ибо его смертный час был мрачен и печален.
Майское дерево Мерри-Маунта
В любопытной истории одного из первых поселений Новой Англии близ горы Уолластон, известного под именем Мерри-Маунт, или Веселая гора, кроется богатый материал для целого философского романа. В предлагаемом читателю беглом наброске сухие факты, обнаруженные нами в анналах Новой Англии, сами собою сложились в некую аллегорию. Праздничные обряды, ряженые и маски, упоминающиеся в рассказе, представлены в полном соответствии с обычаями той поры. Подтверждение этому читатель найдет в сочинении Стратта «Об играх и забавах англичан».
Весело жилось в Мерри-Маунте, когда на майском дереве развевался флаг этой беззаботной колонии! Если бы победа осталась за теми, кто водрузил в поселке символическое дерево, суровые холмы Новой Англии на долгие годы озарились бы солнечным светом, а земля ее покрылась бы неувядающим цветочным ковром. Здесь боролись за власть веселье и мрак. Наступил уже канун Иванова дня – время, когда древесная листва приобретает сочный густо-зеленый оттенок, а розы, которые природа рассыпает вокруг щедрой рукою, пышным цветом своим затмевают нежные бутоны весны. Но месяц май, или, вернее сказать, радость жизни, которую олицетворяет этот зеленый месяц, круглый год царила в Мерри-Маунте: резвилась вместе с летом, пировала вместе с осенью, а долгою зимою мирно грелась у камелька. С мечтательной улыбкой на устах порхала она над миром, полным трудов и забот, и в конце концов нашла себе пристанище среди беспечных колонистов Веселой горы.
Никогда еще майское дерево не красовалось тут в таком роскошном наряде, как в час заката накануне Иванова дня. Стволом ему служила сосна, сохранившая стройную гибкость молодости, но высотой уже соперничавшая с вековыми лесными исполинами. На верхушке развевался шелковый флаг всех цветов радуги. От самой земли ствол украшен был ветками березы и других деревьев, выбранными за особо яркую зелень или красивый серебристый цвет листвы; ветки эти крепились с помощью хитроумно привязанных лент, которые трепетали на ветру двумя десятками разнообразнейших, но исключительно веселых оттенков. Среди зелени, поблескивая каплями росы, мелькали и садовые цветы, и более скромные полевые; и все они имели такой свежий вид, что казалось, будто они сами, как по волшебству, выросли на этой необыкновенной сосне. Наверху же, где кончалось все это цветочно-лиственное великолепие, горело семью цветами радуги знамя колонии. На самой нижней ветке висел огромный венок из диких роз, собранных на солнечных лесных прогалинах, и из роз лучших английских сортов, выращенных в поселке. О жители золотого века! Из многоразличных трудов земледельца главным для вас было разведение цветов…
Но что за невиданный народ толпился, взявшись за руки, вокруг майского дерева? Неужто фавны и нимфы древности, изгнанные из античных рощ и прочих мифических обителей, нашли убежище, в числе других преследуемых, в заповедных лесах Нового Света? Нет, это были скорее какие-то средневековые чудовища, хотя, быть может, и происходившие от древнегреческих богов. На плечах одного из юношей вздымала ветвистые рога голова дикого оленя; на плечах другого скалилась свирепая волчья морда; третий, с человеческим телом, руками и ногами, был рогат и бородат, как почтенный старый козел. Имелся там и медведь на задних лапах – зверь зверем, если не считать красных шелковых чулок и башмаков с пряжками. И тут же – о чудо! – стоял и взаправдашний медведь, хозяин дремучего леса, ухватившись передними лапами за руки своих соседей по кругу, готовый вместе со всеми пуститься в пляс. И в этом диком хороводе его звериная природа не так уж сильно отличалась от людской… Иные лица смахивали на мужские и женские, или, скорее, походили на смехотворно искаженные их отражения в кривом зеркале: у одного свисал чуть не до подбородка непомерно длинный красный нос, у другого ухмылялся до ушей размалеванный рот. Здесь можно было видеть знакомую всем из геральдики фигуру дикаря – волосатого, словно павиан, в юбочке из зеленых листьев. Рядом с ним находился воинственный индеец – такой же ряженый, хоть и поблагороднее на вид, в боевом уборе из перьев, перепоясанный вампумом. Многие из этой пестрой компании щеголяли в шутовских колпаках и позвякивали пришитыми к одежде бубенчиками в такт неслышной для чужих ушей музыке, весело звеневшей в их сердцах. Были там и менее казисто одетые юноши и девушки, но их присутствие среди разномастной толпы не слишком бросалось в глаза, поскольку лица их носили печать всеобщей необузданной веселости. Такое зрелище являли собою колонисты Мерри-Маунта, собравшись при ласковом свете заката вокруг почитаемого ими майского дерева.
Если бы странник, сбившийся с дороги в этом сумрачном лесу, заслышал их смех и гомон и украдкой бросил взгляд в их сторону, то в испуге решил бы, что перед ним сам бог Комус в окружении своих приспешников, которые либо уже оборотились в диких зверей – кто целиком, а кто наполовину, – либо вот-вот оборотятся, а пока предаются неуемному пьяному разгулу. Но для отряда пуритан, наблюдавших описанную сцену без ведома ее участников, все эти шуты и скоморохи были погибшими душами, воплощением нечистой силы, водившейся, по их поверьям, в здешних лесах.
В хороводе чудовищных личин выделялись два ангелоподобных существа, коим бы пристало не ступать по твердой земле, а парить на золотисто-розовом облачке. Один был юноша в одежде, сплошь расшитой блестками, с двойною перевязью всех цветов радуги на груди. В правой руке он держал золоченый посох – знак его особого положения среди присутствующих, а левой сжимал нежные пальчики прелестной юной девушки в столь же ослепительном наряде. В темных шелковистых кудрях у обоих пламенели алые розы, и земля вокруг тоже была усыпана розами – впрочем, возможно, что цветы эти сами расцвели у их ног. Против них, у самого ствола майского дерева, тень от ветвей которого играла на его жизнерадостной физиономии, стоял англиканский священник в традиционном облачении, однако тоже разубранный цветами на языческий лад; на голове у него красовался венок из листьев местного дикого винограда. Его бесшабашно-веселый вид и кощунственное пренебрежение к священному одеянию выдавали в этом человеке главного заводилу праздника: казалось, он и есть сам Комус, собравший вокруг себя чудовищный сонм своих приспешников.
– Служители майского дерева! – возгласил этот странный пастор. – Весь нынешний день окрестные леса звенели эхом вашего веселья. Но теперь настал самый веселый ваш час, дети мои! Перед вами майские король и королева, которых я, оксфордский клирик и верховный жрец Веселой горы, намерен сочетать священными узами брака. Внемлите мне, плясуны, певцы и музыканты! Внемлите, старцы и девицы, и вы, волки и медведи, и все остальные, рогатые и бородатые! Затянем хором нашу праздничную песню – пусть она гремит, как в доброй старой Англии, пусть вольется в нее шум весеннего леса! А потом дружно пустимся в пляс и покажем нашей юной паре, что такое жизнь и с каким легким сердцем надо шагать по ней! Итак, всех, кто поклоняется майскому дереву, я призываю вплести свой голос в свадебный гимн в честь короля и королевы!
Объявленное таким странным образом бракосочетание было задумано всерьез – не в пример обычному круговороту событий в Мерри-Маунте, где потехи и забавы, лицедейство и притворство сливались в беспрерывный карнавал. Майские король и королева – правда, этот почетный титул они должны были сложить с себя в момент заката солнца – действительно собирались стать спутниками на жизненном пути, а вернее сказать, партнерами в жизненном танце, и первые па им предстояло сделать именно в этот радостный вечер. Венок из роз, украшавший нижнюю ветку майского дерева, сплетен был нарочно для них: ему надлежало стать символом их увенчанного цветами союза. Как только священник окончил свою речь, толпа чудовищ разразилась возгласами неистового ликования.
– Начните вы, преподобный отец, – раздался единодушный клич, – а мы подхватим, и здешние леса услышат такой веселый хор, какого еще не слыхивали!
И тотчас из ближних зарослей полились звуки музыки – то запели свирель, контрабас и кифара под пальцами искусных менестрелей, и заразительный их напев заставил даже ветки майского дерева заколыхаться в ритме танца. Но майский король – юноша с золоченым посохом, наклонившись к своей королеве, поражен был задумчиво-печальным взглядом ее глаз.
– Эдит, прекрасная моя королева, – шепнул он с легким укором, – отчего ты так грустна? Или эта розовая гирлянда кажется тебе нашим похоронным венком? О, Эдит, это наш золотой час! Не омрачай же его своей задумчивостью; может статься, до конца жизни у нас не будет ничего счастливее простого воспоминания о том, что происходит сейчас.
– Потому я и грущу, что думаю об этом. Как ты догадался? – отвечала Эдит еле слышно, ибо любое проявление печали в хороводе у майского дерева считалось изменою. – Потому я и вздыхаю при звуках этой праздничной музыки. И знаешь ли, милый мой Эдгар, мне кажется, что я сплю и вижу дурной сон, что вокруг меня одни лишь призраки, и веселье у них не настоящее, и на самом деле ты вовсе не майский король, а я не королева. Какая-то тревога гложет мне сердце…
В этот миг, словно расколдованные от долгой спячки, лепестки вянущих роз дождем посыпались с майского дерева. Ах, бедные влюбленные! Как только в их юных сердцах зажглось пламя подлинного чувства, в души к ним проникло ощущение непрочности и легковесности их прежних забав и утех – вместе со зловещим предчувствием неминуемых перемен. Полюбив, они отдались во власть забот и печалей – обычного удела людей; радость их не была уже безоблачной, и среди жителей Веселой горы они более не находили себе места. Таковы были причины неясной тревоги, охватившей молодую девушку. Но оставим это шумное сборище – пусть священник венчает нашу майскую пару, пусть все пляшут и веселятся: есть еще время до заката, до той минуты, когда угаснет последний солнечный луч и мрачные тени лесных деревьев смешаются с хороводом ряженых. Оставим их – и посмотрим, откуда взялся этот беззаботный народ.
Две сотни лет назад, а то и больше, Старый Свет и его обитатели поняли, что изрядно надоели друг другу. Тысячи людей стали отправляться на запад: одни затем, чтобы менять стеклянные бусы и тому подобные побрякушки на меха, добытые индейцами; другие затем, чтобы покорять неведомые земли; третьи – угрюмые аскеты – затем, чтобы молиться. Но первые поселенцы Мерри-Маунта не принадлежали ни к одной из этих групп, и к отъезду их побудило совсем иное. Во главе их стояли люди, всю молодость проведшие в забавах и увеселениях: даже Разум и Мудрость зрелых лет не могли побороть их суетность и тщеславие – и, более того, не устояли сами перед тысячью житейских соблазнов. Сбитый с толку Разум и вывернутая наизнанку Мудрость нацепили карнавальные личины и принялись корчить шутов. Утратив задор и непосредственность юности, люди, о которых мы ведем речь, решились покинуть родину и на новом месте осуществить идеал своей доморощенной безумной философии: удовольствие превыше всего. Они собрали под свое знамя представителей того ветреного племени, чья повседневность неотличима от праздников их более трезвых соотечественников. Были там бродячие музыканты, хорошо известные на улицах Лондона; странствующие комедианты, дававшие представления в домах знати; скоморохи, канатные плясуны, шуты и гаеры, без которых в доброй старой Англии не обходились ярмарки, сельские пирушки и престольные праздники, – короче говоря, там были все, кто умел потешить публику, а умельцев таких в те времена было хоть отбавляй, и многие из них на собственной шкуре успели испытать, чем грозит им распространение пуританства. Они шли по жизни не задумываясь – и так же, не задумываясь пустились в плавание через океан. Одни, побывав во многих передрягах, впали в какое-то веселое отчаяние; другие отчаянно веселились просто потому, что были молоды – как майские король и королева, – но каковы бы ни были поводы для веселья, все первые поселенцы Мерри-Маунта, молодые и старые, веселились напропалую. Молодежь ничего лучшего и не желала и почитала себя вполне счастливою; люди же постарше, если и сознавали, что веселье не замена счастию, по собственной охоте следовали за этой лукавой тенью, поскольку ее одежды блестели ярче других. Дав обет без оглядки растратить свою жизнь на пустые утехи, они и слышать не хотели о более суровой жизненной правде – даже во имя истинного спасения.
Новосельцы пересадили на другую почву все традиционные забавы старой Англии. На Рождество устраивалась шуточная коронация рождественского короля; во главе праздничного стола величественно восседал председатель «пира дураков». В канун Иванова дня целые участки леса вырубались и шли на костры, и колонисты всю ночь напролет плясали вокруг них в цветочных венках и бросали цветы в огонь. Во время жатвы, как бы ни был скуден урожай, они мастерили из снопов огромное чучело, разукрашивали его гирляндами плодов и листьев и торжественно несли домой. Но главным предметом культа у жителей Мерри-Маунта было, разумеется, майское дерево, и потому история ранних лет поселения читается как волшебная сказка. Весной майское дерево убиралось первыми цветами и молодыми побегами; летом его наряд составляли пышные розы и густая лесная листва; осень приносила великолепие золота и пурпура, превращавшее любой древесный лист в произведение искусства; зима развешивала на ветвях ледяные сосульки и серебрила инеем ствол майского дерева, так что все оно сияло и сверкало, как застывший солнечный луч. Всякое время года воздавало на свой лад почести и платило доброхотную дань майскому дереву. Его восторженные почитатели по крайней мере раз в месяц сходились плясать вокруг дерева, называли его своим алтарем, своей святыней, и всегда на нем развевалось семицветное знамя Веселой горы.
К несчастью, не все в Новом Свете придерживались той же веры, что поклонники майского дерева. Недалеко от Мерри-Маунта находился поселок пуритан – мрачных фанатиков, которые до свету служили заутреню и день-деньской трудились в лесу или на пашне, пока не наступало время служить вечерню. Они не расставались с оружием и пускали его в ход при любой случайной встрече с дикарями. Вместе они сходились отнюдь не для веселья, а для того лишь, чтобы слушать многочасовые проповеди или назначать награды за волчью шкуру или индейский скальп. По праздникам они постились, а в виде развлечения пели хором псалмы. И беда тому юнцу или девице, которые посмели бы выказать желание потанцевать! Старейшина делал знак констеблю – и легкий на ногу преступник уже сидел в колодках, а если и доводилось ему поплясать, то разве что вокруг позорного столба – этого пуританского майского дерева.
Отряды суровых пуритан, с трудом продираясь сквозь чащу, приближались иногда к залитым солнцем владениям Мерри-Маунта. Обремененные железными доспехами, какие впору было бы навьючить на лошадь, они наблюдали из-за кустов, как разодетые в шелк колонисты скачут вокруг майского дерева. То они обучали медведя плясать и выделывать разные штуки, то старались втянуть в свои забавы степенного индейского вождя, то рядились в шкуры оленей и волков, на которых охотились с этой именно целью. Частенько затевалась общая игра в жмурки: всем жителям колонии, включая членов местной управы, завязывали глаза, и все наперебой гонялись за каким-нибудь козлом отпущения, который еле увертывался от своих преследователей, жалобно позвякивая пришитыми к одежде бубенчиками. Говорят, что однажды пуритане видели в Мерри-Маунте похоронную процессию, когда усопшего, убранного цветами, провожали к могиле с музыкой и хохотом. Один покойник не смеялся… В более тихие часы они распевали баллады и рассказывали сказки, просвещая тем самым своих набожных посетителей, или поражали их ловкостью рук, показывая фокусы, или, просунув голову в лошадиный хомут, строили дурацкие рожи. Когда же им приедался весь этот балаган, они, не теряя чувства юмора, устраивали конкурс на самый продолжительный и звучный зевок. Железные пуритане качали головой при виде всех этих безобразий и так сурово хмурились, что весельчаки невольно поднимали глаза кверху, глядя, не набежала ли на солнце тучка, – а солнечным светом они дорожили превыше всего. Пуритане, в свою очередь, утверждали, что, когда из их святилища неслось псалмопение, эхо его, возвращаясь из леса, сильно смахивало на припев озорной песни, завершавшийся раскатом хохота. Кто же так докучал им, если не сам дьявол и его верные слуги – шайка обитателей Мерри-Маунта? Вражда между подобными соседями была неизбежна – и она началась. Со стороны пуритан это была вражда угрюмая и ожесточенная, а со стороны колонистов Мерри-Маунта – настолько серьезная, насколько серьезность вообще допускалась в среде легкомысленных поклонников майского дерева. От исхода этой вражды зависел будущий характер Новой Англии. Если бы нетерпимые праведники одержали верх над беспечными грешниками и установили свои законы, мрачный дух пуританства навсегда превратил бы этот край в царство грозовых туч, унылых лиц, безрадостного труда, псалмов и проповедей. Если же знамя победы взвилось бы над Веселой горой, здесь не бывало бы пасмурных дней; на полях и лугах круглый год цвели бы цветы, и отдаленные потомки колонистов воздавали бы почести майскому дереву.
Покончив с этими историческими отступлениями (за их подлинность мы ручаемся), вернемся теперь к нашей свадебной церемонии. Увы! Мы слишком много времени уделили истории, и события успели приблизиться к печальной развязке. Одинокий закатный луч освещает только самую верхушку ствола и золотит трепещущий на ней радужный флаг, но вот-вот угаснет и этот последний отблеск. На смену зыбкому свету сумерек приходит вечерняя мгла, и из темного леса к Веселой горе со всех сторон подступают зловещие тени. И самые мрачные из них – тени в людском обличье – внезапно врываются в ликующий майский хоровод…
Так завершился последний радостный день в жизни обитателей Мерри-Маунта. Круг ряженых смешался и рассыпался; олень в смущении понурил свои великолепные рога; волк сделался слаб, как ягненок; бубенчики на шутовских колпаках зазвенели от страха. Пуритане вступили в игру, словно им тоже была отведена роль в карнавале их недругов. Черные силуэты пришельцев смешались с толпою ряженых, и вся эта сумятица похожа была на картину человеческого сознания в минуту пробуждения от сна, когда трезвые мысли дня вторгаются в самую гущу не успевших еще развеяться ночных фантазий. Предводитель пуритан стал в центре круга и обвел грозным взглядом сонм чудовищ, которые съежились от страха, словно злые духи при появлении всемогущего чародея. В его присутствии немыслимы были шутовство и фиглярство. Наружность этого человека была так сурова и неприступна, что и душа его, и тело казались выкованными из одного куска железа, наделенного способностью дышать и мыслить; он составлял как бы единое целое со своим шлемом и панцирем. То был пуританин из пуритан – то был сам Эндикотт!
– Изыди, жрец Ваала! – прогремел он, обратившись к священнику и оттолкнув его прочь без всякого почтения к духовному сану. – Я знаю тебя – ты Блэкстон![1] Ты не желал блюсти законы своей же богопротивной церкви и явился сюда проповедовать порок, подавая пример собственными деяниями. Но настал час показать всем, что не напрасно Господь освятил сии пустынные места, даровав их избранному своему народу! Горе тому, кто посмеет осквернить их! И первым делом пора покончить с гнусным алтарем богохульства и идолопоклонства! Мы свалим это разубранное цветами бревно!
И, выхватив из ножен шпагу, Эндикотт нанес сокрушительный удар по славному майскому дереву. Сопротивлялось оно недолго. Унывно застонав, стряхнуло на плечи неистового своего противника целый каскад лепестков и листьев – и стройный сосновый ствол покачнулся и рухнул наземь со всеми ветками, цветами и лентами, как древко побежденного знамени, как символ минувшего счастья. Легенда утверждает, что небо после этого сразу потемнело и тени от деревьев сделались еще более зловещими.
– Конец! – воскликнул Эндикотт, обозревая с торжеством плоды своих трудов. – Конец последнему в Новой Англии майскому дереву! Оно повержено во прах, но это лишь первый шаг: я твердо верю, что подобная судьба уготована всем шутам и бездельникам среди нас и среди наших потомков. Аминь! Так говорю я, Джон Эндикотт!
– Аминь! – подхватили его товарищи.
Но из уст почитателей майского дерева при виде их низвергнутого идола вырвался глухой стон. Услышав этот стон, вождь пуритан обвел глазами пеструю толпу ряженых: маски по-прежнему скалили свои хохочущие рты, но странным образом выражали теперь скорбь и смятение.
– Доблестный капитан, – произнес Питер Пэлфри, старейшина отряда, – что делать с пленными?
– Я полагал, что, сокрушив майское дерево, не стану сожалеть о нем, – ответил Эндикотт, – но теперь почти готов водрузить его на прежнее место и заставить каждого из этих богомерзких язычников еще раз хорошенько поплясать вокруг своего кумира. Отменный получился бы позорный столб!
– Тут и сосен в избытке, – возразил Питер Пэлфри.
– Твоя правда, почтеннейший, – согласился капитан. – Итак, свяжите эту банду идолопоклонников да задайте-ка им плетей для начала; позднее суд назначит им всем наказание по справедливости. Самых отпетых негодяев нехудо бы посадить в колодки, чтобы поразмыслили на досуге, но придется подождать, пока мы с божьей помощью доберемся до одного из наших благоустроенных поселений. Приказ относительно дальнейших мер, как то: клеймение, отрезание ушей и прочее воспоследует в самом скором времени.
– Сколько плетей назначить попу? – спросил старейшина.
– Этого пока оставьте, – ответил Эндикотт, метнув на преступника суровый взгляд из-под насупленных бровей. – Его гнусные злодеяния будет рассматривать Генеральный суд – он один полномочен решить, достаточно ли подвергнуть его обычному наказанию плетьми либо длительному тюремному заключению, или же он достоин более строгой кары. Пусть знает, что получит по заслугам! К тем, кто нарушает гражданские законы, допустимо иногда проявить милосердие, но горе тому нечестивцу, который посягнет на нашу веру!
– А что делать с медведем? – продолжал допытываться старейшина. – Выпороть, как прочих плясунов?
– Сей же час пристрелите его! – распорядился энергичный пуританин. – Я подозреваю, что в этом звере сидит нечистая сила!
– А вот еще пара красавчиков! – добавил Питер Пэлфри, указывая на майского короля и королеву. – Эти, по всему видать, в особом почете у шайки кознодеев, так что заслуживают по меньшей мере двойной порции плетей!
Опершись на свою шпагу, Эндикотт смерил пронизывающим взглядом нашу злосчастную чету. Они стояли перед ним, потупив глаза, бледные и смятенные, но лица и позы их выражали взаимную поддержку и нежное участие, кроткую мольбу о помощи и готовность оказать ее; видно было, что это истинные муж и жена, союз которых благословлен и узаконен. В минуту опасности юноша бросил свой золоченый посох и обнял майскую королеву, которая доверчиво прильнула к его груди, и они продолжали стоять обнявшись, как бы показывая, что судьбы их навеки связаны, что они будут вместе и в радости, и в горе. Поняв, что очередь дошла до них, они сперва взглянули друг на друга, а потом подняли глаза на неумолимого капитана. Это был первый час их супружества – час, когда праздное веселье, олицетворявшееся их товарищами, отступило перед суровыми жизненными невзгодами в лице угрюмых пуритан. И никогда их юная, цветущая красота не представлялась более чистой и одухотворенной, чем в годину напасти.
– Юноша, – произнес Эндикотт, – дела твои плохи: вы оба повинны в беззаконии – и ты, и твоя невеста. Приготовьтесь же – я намерен сделать так, чтобы вы на всю жизнь запомнили день вашей свадьбы!
– О, грозный воин, – воскликнул майский король, – как могу я разжалобить твое жестокое сердце? Будь я вооружен, я сражался бы до последнего вздоха, но я беспомощен и вынужден просить милости. Делай со мной все, что хочешь, но пощади мою жену и отпусти с миром!
– Как бы не так! – возразил неумолимый фанатик. – Не в обычае у нас проявлять преступное снисхождение к полу, который надлежит содержать в вящей строгости. А ты что скажешь, девушка? Согласна ли ты, чтобы твой раззолоченный жених принял на себя двойную кару?
– Пусть этой карой будет смерть, – ответила Эдит, – и пусть она постигнет меня одну!
Эндикотт не погрешил против истины – дела нашей юной четы и впрямь выглядели скверно. Их враги торжествовали победу, их друзья были схвачены и подвергнуты унижениям; вместо крова у них был объятый мраком лес, и проводником их в этих дебрях была жестокосердая судьба, принявшая обличье пуританского вождя. Однако в густеющем свете сумерек они заметили, что железный человек слегка смягчился: трогательное зрелище юной любви вызвало на его губах улыбку, и он украдкой вздохнул о неизбежном крушении юных надежд.
– Невзгоды рано коснулись этой молодой пары, – промолвил Эндикотт. – Посмотрим, как они справятся с первым своим испытанием, прежде чем подвергнутся новым. Если есть среди добычи одежда попристойнее, дайте ее этому франту и его невесте: пусть скинут с себя всю прежнюю мишуру, дабы суетность и тщеславие никогда больше не касались их! Займитесь ими кто-нибудь!
– Не обстричь ли молодцу волосы? – спросил Питер Пэлфри, глядя с отвращением на длинные шелковистые кудри майского короля, затенявшие его лоб и спадавшие до самых плеч.
– Обстригите его немедля, да как положено – наголо! – приказал капитан. – И уведите их отсюда вместе с остальными, но не будьте с ними чересчур суровы. В юноше я замечаю свойства, которые могут сделать из него храброго воина, усердного труженика и набожного христианина, а его невеста, быть может, станет в нашем Израиле добропорядочной матерью и сумеет воспитать свое потомство в более праведном духе, чем воспитали ее самое. Мы живем на этом свете лишь мгновение, и не в том счастье, чтобы тратить отпущенный нам краткий миг на пляски вокруг майского дерева!
С этими словами Эндикотт, самый твердокаменный из всех пуритан – родоначальников уклада Новой Англии, поднял с земли розовый венок, чудом уцелевший среди остатков майского дерева, и своей рукой в тяжелой рукавице накинул его на плечи майского короля и королевы. Этот жест оказался пророческим. Подобно тому как жизненные уроки затмевают недолговечные людские радости, дремучие леса Новой Англии заполонили тот приют беззаботного веселья, где выросли наши герои: их дом подвергся опустошению, и возврата назад для них не было. Но увенчавшая их гирлянда роз сплетена была из самых ярких и душистых цветов во всей округе, и потому в соединившие их брачные узы вплелись все самые чистые и светлые радости их юных лет. Они пошли путем спасения, поддерживая друг друга на этом многотрудном пути, и ни единой мыслью не сожалели о суете и тщеславии, царивших когда-то на Веселой горе.
Опыт доктора Хейдеггера
Однажды отличавшийся чудаковатостью старый доктор Хейдеггер пригласил к себе в кабинет четырех почтенных друзей. Ими были три седобородых господина – мистер Медбурн, полковник Киллигру и мистер Гайскойн, – а также увядшая пожилая вдова по фамилии Уичерли. Все они выглядели меланхоличными стариками, которым не повезло в жизни, и главное их невезение заключалось в том, что все они уже стояли у края могилы.
Мистер Медбурн во цвете лет стал преуспевающим торговцем, но лишился богатства в результате безрассудной спекуляции и теперь влачил полунищенское существование. Полковник Киллигру растратил лучшие годы жизни, здоровье и состояние в стремлениях к греховным наслаждениям, что породило целый букет болезней, включая подагру и прочие душевные и телесные недуги. Мистер Гаскойн был низвергнутым с высот политиком, снискавшим дурную славу, или, по крайней мере, являлся таковым, пока время не стерло его из памяти нынешнего поколения и не обрекло на безвестность взамен осуждения. Что же касается вдовы Уичерли, то в молодости, говорят, она славилась дивной красотой, но вот уже очень долго жила в уединении по причине скандальных историй, испортивших ей репутацию. Стоит упомянуть то обстоятельство, что каждый из вышеназванных пожилых господ – мистер Медбурн, полковник Киллигру и мистер Гаскойн – находился в одно время в любовной связи с вдовой Уичерли и однажды соперники чуть не перерезали друг другу глотки.
Прежде чем продолжить, отмечу, что доктор Хейдеггер и четверо его гостей считались людьми немного не в своем уме, что не редкость среди стариков, отягощенных или насущными заботами, или скорбными воспоминаниями.
– Дорогие мои друзья, – произнес доктор Хейдеггер, жестом приглашая всех сесть. – Хочу попросить вас о помощи в одном небольшом опыте из тех, какими я время от времени развлекаюсь.
Если верить слухам, кабинет доктора Хейдеггера являлся местом прелюбопытнейшим. Это была полутемная старомодная комната с гирляндами паутины и многолетней пылью повсюду. Вдоль стен выстроились дубовые книжные шкафы, нижние полки которых заполняли ряды огромных фолиантов и антикварных книг форматом в одну четвертую листа, а на верхних стояли томики размером с двенадцатую долю листа в пергаментных переплетах. На возвышающемся в центре шкафу красовался бронзовый бюст Гиппократа. По рассказам знающих людей, доктор обычно консультировался с ним по всем трудным случаям в своей практике. В самом темном углу комнаты виднелся высокий узкий стенной шкаф из дуба с приоткрытой дверью, за ней угадывалось нечто, напоминающее человеческий скелет. Между шкафами висело большое запыленное зеркало в поблекшей золоченой раме. Среди множества легенд об этом зеркале выделялась одна, гласившая, что внутри него обитают духи умерших пациентов доктора, которые глядят ему в глаза всякий раз, когда тот в него смотрится.
Противоположную стену кабинета украшал ростовой портрет некоей молодой дамы в дивном наряде из шелка, атласа и парчи. Однако краски его так же потускнели от времени, как и ее лицо. Более полувека назад доктор Хейдеггер едва не женился на этой женщине. Однако за день до свадьбы с ней приключилось легкое недомогание и, проглотив предписанное возлюбленным лекарство, она скоропостижно скончалась. Остается упомянуть главный и самый примечательный предмет в кабинете: огромный фолиант в переплете из черной кожи с массивными серебряными застежками. Надписей на нем не было, и названия книги никто не знал. Но книга эта считалась волшебной, и однажды, когда служанка подняла ее, чтобы смахнуть пыль, скелет в шкафу загремел костями, молодая дама на портрете ступила одной ногой на пол, из зеркала выглянули несколько наводящих ужас физиономий, а бронзовая голова Гиппократа нахмурилась и сказала: «Изыди!»
Таков был кабинет доктора Хейдеггера. В тот солнечный летний день, о котором идет повествование, посреди комнаты помещался небольшой круглый стол черного дерева; на нем стояла хрустальная чаша изысканной формы и тонкой работы. Лучи солнца проникали между тяжелыми фестонами дамасских штор и, отражаясь от этой чаши, озаряли пепельно-серые лица сидевших вокруг стариков. Там же, на столе, стояли четыре бокала для шампанского.
– Дорогие мои друзья, – повторил доктор Хейдеггер, – могу ли я рассчитывать на вашу помощь при постановке чрезвычайно интересного опыта?
Так вот, доктор Хейдеггер был пожилым человеком с огромными странностями, и его эксцентричность стала причиной возникновения тысячи фантастических россказней. Некоторые из них – сознаюсь, к своему стыду, – возможно, появились благодаря моей приверженной к объективности особе. И если что-то в настоящем повествовании покажется читателю недостоверным, мне должно принять клеймо досужего выдумщика.
Когда гости доктора услышали от него о предстоящем опыте, они не ожидали ничего более удивительного, чем убиение мыши при помощи воздушного насоса, исследование под микроскопом паутины или тому подобных пустяков, какими он имел привычку постоянно докучать близким друзьям. Однако, не дожидаясь ответа, доктор Хейдеггер, прихрамывая, двинулся в дальний конец кабинета и вернулся с тем самым переплетенным в черную кожу фолиантом, который молва полагала волшебной книгой. Щелкнув серебряными застежками, он раскрыл его и достал лежавшую между страниц с готическим шрифтом розу. Точнее, то, что некогда было розой, поскольку теперь зеленые листочки и алые лепестки обрели монотонный бурый окрас, а древний цветок, казалось, собирался рассыпаться в прах в руках доктора.
– Эта роза, – со вздохом проговорил доктор Хейдеггер, – этот увядший и осыпающийся цветок распустился пятьдесят пять лет назад. Его подарила мне Сильвия Уорд, чей портрет висит вон там, и я хотел вдеть его в петлицу в день нашей свадьбы. Пятьдесят пять лет она хранилась между страницами этой старинной книги. Теперь скажите, допускаете ли вы, что эта роза сможет снова зацвести полвека спустя?
– Чепуха! – ответила вдова Уичерли, раздраженно тряхнув головой. – С тем же успехом можно спросить, способно ли вновь зацвести морщинистое старушечье лицо.
– Глядите! – воскликнул доктор Хейдеггер. Он снял крышку с чаши и бросил цветок в налитую туда воду. Сначала роза неподвижно лежала на поверхности жидкости, не впитывая влагу. Однако вскоре стали заметны происходящие с цветком удивительные перемены. Сморщенные и иссохшие лепестки шевельнулись и стали постепенно принимать алый оттенок, словно пробуждаясь от летаргического сна. Тонкий изящный стебель и листочки снова сделались зелеными. И вот уже роза, полвека пролежавшая в фолианте, выглядит такой же свежей, как в ту пору, когда Сильвия Уорд вручила ее своему возлюбленному. Бутон едва распустился, поскольку нежные красные лепестки стыдливо обрамляли влажную сердцевину, в которой сверкали две или три капли росы.
– Определенно – дивный фокус! – заявили друзья доктора, не особенно, впрочем, впечатлившись, поскольку видели куда более чудесные вещи на представлениях иллюзионистов. – Но скажите на милость, как вам это удалось?
– Вы никогда не слышали об Источнике Юности? – спросил доктор Хейдеггер. – Том самом, на чьи поиски двести или триста лет назад отправился испанский искатель приключений Понс де Леон?
– А разве Понс де Леон нашел его? – спросила вдова Уичерли.
– Нет, – ответил доктор Хейдеггер, – поскольку он искал Источник не в том месте. Знаменитый Источник Юности, если меня верно информировали, находится в южной части полуострова Флорида, недалеко от озера Макако. Родник скрыт несколькими гигантскими многовековыми магнолиями, сохраняющими первозданную свежесть благодаря чудодейственным свойствам тамошней воды. Один мой знакомый, зная мой интерес к подобным предметам, прислал мне жидкость, которую вы видите в чаше.
– Грмм! – откашлялся полковник Киллигру, не веря ни единому слову из рассказа доктора. – А каким может быть воздействие этой жидкости на человеческий организм?
– Вы должны составить об этом собственное суждение, мой дорогой полковник, – ответил доктор Хейдеггер. – И вас, мои уважаемые друзья, я приглашаю выпить ровно столько этой восхитительной влаги, сколько потребуется для того, чтобы возвратить вам цветение юности. Касательно себя скажу, что мне стоило немалых трудов состариться, и поэтому я не тороплюсь вновь становиться молодым. Посему, с вашего разрешения, я стану лишь следить за ходом эксперимента.
С этими словами доктор Хейдеггер наполнил четыре бокала водой из Источника Юности. Она, очевидно, была насыщена неким шипучим газом, поскольку со дна бокалов постоянно поднимались крохотные пузырьки и лопались на поверхности серебристыми брызгами. Поскольку напиток источал приятный аромат, старики не сомневались, что он обладает стимулирующими и освежающими свойствами. И хотя гости с огромным скепсисом относились к заключенной в нем силе омоложения, тем не менее они намеревались залпом осушить бокалы. Однако доктор Хейдеггер убедил их немного подождать.
– Прежде чем выпить, мои уважаемые друзья, – сказал он, – я хочу чтобы вы, руководствуясь опытом прожитых лет, вывели каждый для себя несколько общих правил, дабы следовать им, когда во второй раз станете подвергаться опасным соблазнам юности. Подумайте, сколь греховно и позорно было бы пренебречь особыми преимуществами и не стать образцами добродетели и мудрости для теперешнего молодого поколения!
Четверо почтенных друзей доктора в ответ лишь рассмеялись слабым, безжизненным смехом – настолько комичной им казалась мысль о том, что они смогут вновь впасть в соблазны, зная, сколь близко покаяние следует за прегрешением.
– Итак, пейте, – с поклоном произнес доктор. – Я радуюсь, что так удачно выбрал участников для своего эксперимента.
Дрожащими старческими руками гости поднесли бокалы к губам. Если напиток и вправду обладал приписываемыми ему доктором Хейдеггером свойствами, стоило бы труда найти представителей рода человеческого, нуждающихся в нем более остро. Гости выглядели так, словно никогда не ведали, что такое молодость и наслаждение. Наоборот, они казались порождениями старческого слабоумия матушки Природы, словно всегда были седыми, иссохшими существами, которые теперь, скрючившись, сидели за столом в кабинете доктора, столь хилые душой и телом, что придать им живости не могла даже возможность снова стать молодыми. Они выпили воду и поставили бокалы на стол.
Безусловно, облик гостей почти мгновенно изменился к лучшему, подобно тому, как это случается после бокала благородного вина. И одновременно на их лица упали веселые солнечные лучи. Пепельно-серая бледность, делавшая их похожими на покойников, сменилась здоровым румянцем. Они смотрели друг на друга, и им казалось, будто некая волшебная сила и вправду начала разглаживать глубокие и скорбные борозды, которые безжалостное Время давным-давно проложило на челе каждого из них. Вдова Уичерли поправила чепец, поскольку снова начала чувствовать себя женщиной.
– Дайте нам еще этой чудесной воды! – жадно вскричали гости. – Мы стали моложе, но мы все еще слишком стары! Быстрее дайте нам еще!
– Терпение, терпение! – взывал доктор Хейдеггер, сидевший и с философским спокойствием наблюдавший за ходом опыта. – Вы очень долго старились и, конечно же, захотите помолодеть за полчаса. Однако вода в вашем полном распоряжении.
Он снова наполнил бокалы гостей напитком молодости, которого в чаше оставалось столько, что можно было бы половину стариков в городе сделать ровесниками собственных внуков.
Едва у краев бокалов успели заиграть пузырьки, как гости схватили их со стола и залпом выпили. Не успела жидкость миновать их глотки, как каждый из них всем своим существом ощутил разительные перемены. Или это им только чудилось? Глаза их сделались ясными и лучистыми, седые кудри стали темнеть. И вот за столом уже сидели трое мужчин средних лет и полногрудая женщина в самом соку.
– Дорогая вдова, вы очаровательны! – воскликнул полковник Киллигру, впившийся глазами в ее лицо, в то время как тени старости покидали его, подобно тьме, отступающей под натиском утренней зари.
Красавица-вдова давно знала, что комплименты полковника Киллигру не всегда соотносятся с правдой. Поэтому она ринулась к зеркалу, все еще боясь, что ее взору предстанет безобразное старушечье лицо.
Тем временем поведение троих джентльменов явственно доказывало, что вода из Источника Юности обладает некими опьяняющими свойствами, если только их веселость и приподнятое настроение не объяснялись легким головокружением, причиною которого стало освобождение от бремени прожитых лет. Мистера Гаскойна, похоже, занимали политические темы, но определить, относятся они к прошлому, настоящему или будущему, представлялось сложным, поскольку одни и те же идеи и словеса были в моде последние пятьдесят лет. Вот он громогласно вещал о патриотизме, славе нации и правах народа. Вот он лукавым и опасливым шепотком высказывал пагубные сентенции, да так осторожно, что его собственный ум не до конца вникал в суть. Вот он произносил речь столь размеренно и почтительно, словно его отточенной риторике внимало августейшее ухо. Полковник Киллигру все это время напевал застольную песню, позвякивая бокалом в такт припеву, а взгляд его блуждал по пышным формам вдовы Уичерли. Сидевший по ту сторону стола мистер Медбурн погрузился в денежные расчеты, странно сочетавшиеся с прожектом поставки льда в Вест-Индию посредством упряжки китов, тянущих за собой полярный айсберг. Что же до вдовы Уичерли, то она стояла перед зеркалом, жеманно улыбаясь и делая реверансы своему отражению, приветствуя его, как друга, которого любишь больше всех на свете. Она едва не прижималась лицом к стеклу, чтобы разглядеть, исчезла ли давняя морщинка на лбу или гусиная лапка возле глаза. Она пристально всматривалась, без остатка ли стаял снег в волосах, чтобы можно было без опаски раз и навсегда выбросить вдовий чепец. Наконец, резко отвернувшись от зеркала, она, пританцовывая, подошла к столу.
– Мой дорогой доктор! – воскликнула она. – Молю вас, дайте мне еще бокал!
– Разумеется, сударыня моя, непременно! – галантно ответил доктор. – Глядите! Бокалы уже налиты.
И действительно, на столе стояли четыре бокала, до краев наполненные живительной влагой, а сверкание лопавшихся на поверхности пузырьков напоминало трепетный блеск бриллиантов.
Солнце почти зашло, и в кабинете начал сгущаться сумрак, однако от чаши исходило мерное, похожее на лунное, бледное сияние, освещавшее лица гостей и величественную фигуру доктора. Он сидел в дубовом кресле с украшенной изысканной резьбой высокой спинкой, и лицо его, обрамленное благородными сединами, вполне могло сравниться с ликом самого Времени, чье могущество никогда не оспаривалось никем, кроме этой компании счастливчиков. Даже поглощая третий бокал воды из Источника Юности, гости испытали почти благоговейный ужас, увидев загадочное выражение лица доктора. Но в следующее мгновение освежающий поток молодости разнесся по их жилам. Теперь они оказались в самом расцвете беззаботной юности. Старость с ее жалкой чередой забот, скорбей и болезней вспоминалась как страшный сон, обернувшийся радостным пробуждением. Вновь обретенная душевная легкость, утраченная так рано, что сменяющие друг друга события мирской жизни представлялись без нее лишь галереей поблекших картин, снова придала очарование всем их помыслам. Они чувствовали себя заново рожденными обитателями заново сотворенной вселенной.
– Мы молоды! Мы молоды! – восторженно кричали они.
Молодость, как и глубокая старость, сгладила отличительные черты, приобретенные ими в среднем возрасте, и сделала их похожими друг на дружку. Они превратились в веселую молодежь, едва не обезумевшую от свойственной их возрасту жизнерадостности. Наиболее ярким проявлением такой беззаботности стало осмеяние немощи и дряхлости преклонного возраста, которыми они совсем недавно страдали. Они громко хохотали над своей одеждой – ведь на юношах красовались широкополые сюртуки и старомодные жилеты с отворотами, а на цветущей девушке – старушечий чепец и чопорное платье. Один из них захромал по полу, передразнивая походку разбитого подагрой старца, другой водрузил на нос очки, делая вид, что вчитывается в испещренные готическим шрифтом страницы волшебной книги, третий уселся в кресло и принялся пародировать величественную фигуру доктора. Затем все они с довольными криками стали прыгать по комнате.
Вдова Уичерли – если можно назвать вдовой цветущую девицу – подошла к доктору с озорной улыбкой на порозовевшем лице.
– Доктор, дорогой наш старикан! – воскликнула она. – Встаньте и потанцуйте со мной!
Вся четверка молодых людей рассмеялась еще громче, представляя, какие па станет выписывать бедный старый эскулап.
– Прошу меня извинить, – негромко ответил доктор. – Я стар, у меня ревматизм, и танцы для меня остались в далеком прошлом. Однако любой из этих веселых молодых джентльменов с радостью составит тур с такой прелестной дамой.
– Потанцуйте со мной, Клара! – воскликнул полковник Киллигру.
– Нет, нет! Этот танец мой! – вскрикнул мистер Гаскойн.
– Она пятьдесят лет назад обещала мне руку! – обидчиво возопил мистер Медбурн.
Все трое обступили красавицу-вдову. Один страстно сжимал ее руки в своих ладонях, другой обнимал за талию, третий запустил пальцы в блестящие локоны, выбивавшиеся из-под вдовьего чепца. Краснея, задыхаясь, ворча и смеясь, по очереди обдавая каждого теплым дыханием, она старалась уклониться от их объятий, но не могла высвободиться. Невозможно представить себе более живую картину соперничества юношей за прекрасную чаровницу. Однако из-за странного оптического обмана или благодаря царившему в кабинете сумраку и старомодным нарядам высокое зеркало, как поговаривают, отразило фигуры трех седых иссохших стариков, состязавшихся за обладание худой, морщинистой и безобразной старухой. Но они были молоды, и это доказывала их пылкая страстность.
Распаленные до полубезумия кокетством девицы-вдовы, которая не принимала и одновременно не отвергала их ухаживаний, трое соперников принялись обмениваться угрожающими взглядами. Не выпуская из рук драгоценной добычи, они неистово вцепились друг другу в глотки. Во время борьбы опрокинули стол, и чаша разлетелась на тысячу осколков. Драгоценная Вода Юности сверкающим потоком разлилась по полу, намочив крылья бабочки, которая состарилась к концу лета и присела на пол в ожидании смерти. Она вспорхнула, весело пролетела по комнате и приземлилась на седую голову доктора Хейдеггера.
– Довольно, довольно, господа! Довольно, госпожа Уичерли! – воскликнул он. – Право же, я возражаю против подобной необузданности!
Они замерли и содрогнулись, поскольку показалось, что седое Время призывает их из солнечной молодости обратно в холодную и темную юдоль старости. Они поглядели на почтенного доктора Хейдеггера, который сидел в резном кресле и держал в руке розу возрастом в полвека, извлеченную из-под осколков разбитой чаши. По взмаху его руки четыре нарушителя спокойствия снова заняли места за столом – довольно охотно, поскольку необузданные шалости утомили их, пусть к ним и вернулась молодость.
– Роза моей бедной Сильвии! – вырвалось у доктора Хейдеггера, державшего цветок в лучах пробивавшегося сквозь облака предзакатного солнца. – Кажется, она снова вянет.
Так оно и было. Пока собравшиеся глядели на него, цветок продолжал чахнуть, покамест не сделался таким же сухим и хрупким, как до помещения в чашу. Он стряхнул оставшиеся на лепестках капельки влаги.
– Я люблю ее так же, как и в пору ее первозданной свежести, – заметил он, прижимая увядшую розу к своим сморщенным губам.
Пока он говорил, бабочка вспорхнула с его седых волос и упала на пол. Гости снова вздрогнули. Их постепенно начала охватывать странная вялость. Вялость то ли тела, то ли духа – нельзя сказать наверное. Они поглядели друг на друга, и им показалось, что каждое убегающее мгновение уносит с собой частицу очарования, оставляя все углубляющиеся морщины там, где раньше их и в помине не было. Или это только чудилось? Неужели перемены всей жизни втиснулись в столь малый промежуток времени, и они опять старики, сидящие в гостях у давнего друга, доктора Хейдеггера?
– Мы снова так быстро состарились?! – жалобно вскричали они.
Они действительно состарились. Вода Юности обладала действием более кратковременным, чем вино, и вызванное ею опьянение улетучилось. Да, они опять превратились в стариков. Судорожным движением, все еще свойственным женщине, вдова сцепила у лица тощие руки и пожелала, чтобы лицо ее накрыла крышка гроба, поскольку оно больше не может быть красивым.
– Да, друзья, вы снова стары, – проговорил доктор Хейдеггер. – Взгляните! Вся Вода Юности расточена по земле. Но я об этом не стенаю, ибо, даже если бы источник ее забил у самого моего порога, я бы не нагнулся, чтобы омыть в нем губы. Нет – пусть даже опьянение длилось бы годы, а не мгновения. Таков урок, что вы мне преподали.
Однако четверо друзей доктора не извлекли для себя уроков из случившегося. Они тотчас же решили совершить паломничество, дабы денно и нощно вкушать от Источника Юности.
Легенды губернаторского дома
Маскарад у генерала Хау
Однажды прошлым летом я как-то днем гулял по Вашингтон-стрит, и мое внимание привлекла вывеска, помещавшаяся над узкой аркой почти напротив Старой Южной церкви. Там был изображен фасад величественного здания, а рядом красовалась надпись: «СТАРЫЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ, содержатель Томас Уэйт». Я обрадовался, поскольку вспомнил о давнишнем желании посетить и осмотреть особняк прежних королевских губернаторов Массачусетса. Я прошел под арку, пробитую в кирпичной стене торговых рядов, и, сделав несколько шагов, перенесся из оживленного центра современного Бостона в маленький уединенный двор. По одну сторону стоял квадратный фасад трехэтажной резиденции губернаторов, увенчанный башней, на самом верху которой виднелась фигура индейца с натянутым луком, будто бы целившегося во флюгер на шпиле Старой Южной церкви. Фигура эта целится из лука уже больше семидесяти лет, с тех пор как дьякон Драун, искусный резчик по дереву, установил ее в касчестве охраняющего город стража.
Губернаторский дом построен из кирпича, и его стены, похоже, совсем недавно выкрасили светлой краской. Короткая лестница из красного песчаника с балюстрадой с изящным узором ведет к широкому крыльцу, над которым нависает балкон с чугунными перилами с таким же узором. Здесь к узору добавляются буквы и цифры «16 П.С. 79», очевидно, обозначающие год постройки и инициалы архитектора.
Через широкую двустворчатую дверь я попал в вестибюль, где по правую руку находится вход в буфет. Полагаю, именно здесь давнишние губернаторы устраивали приемы, пышностью не уступавшие вице-королевским, стоя в окружении военных, советников, судей и прочих служителей короны, тогда как верноподданные толпами валили, чтобы оказать им почести. Но теперешний вестибюль по виду не может похвастаться даже отблесками прежнего великолепия. Деревянные стенные панели покрыты потускневшей краской и кажутся еще темнее из-за тени, которую на губернаторский дом отбрасывает кирпичная стена, отделяющая его от Вашингтон-стрит. Туда больше не проникает луч солнца, как и не долетает свет праздничных факелов, погасших во времена революции. Самый примечательный и красивый тамошний предмет – камин, выложенный голландскими изразцами, на которых в два цвета – синим и белым – изображены сцены из Священного Писания. Судя по тому немногому, что я знаю, у этого камина могла сидеть жена губернатора Паунэлла или Бернарда, которая рассказывала детям истории по сюжету каждого из изразцов. Вдоль стены располагается современная буфетная стойка, плотно уставленная графинами, бутылками, ящиками с сигарами и плетеными корзинками с лимонами. Там же помещается пивной кран и фонтанчик с содовой водой.
Войдя, я заметил пожилого мужчину, который причмокивал губами от удовольствия, и я тут же ощутил уверенность, что в погребах губернаторского дома по-прежнему стоят бочки с хорошим вином, хотя, несомненно, далеко не тем, которое смаковали губернаторы минувших времен. После стакана портвейна с мускатным орехом, умело приготовленного проворными руками мистера Томаса Уэйта, я попросил досточтимого преемника и «наследника» многих исторических лиц провести меня по освященному славой былых времен особняку. Он охотно согласился, однако, правду сказать, мне пришлось довольно сильно напрягать воображение, чтобы найти что-то интересное в доме, который, если отбросить его историческое прошлое, является заурядной гостиницей, и где обычно живут благообразные пожилые горожане и старомодные господа из провинции. Внутренние покои, вероятно, в прежние времена очень просторные, теперь разделены перегородками на тесные клетушки, в которых едва помещаются узкая кровать, стул и туалетный столик. Однако главная лестница без особого преувеличения представляет собой образчик пышности и великолепия. Она располагается посереди здания, широкие марши перемежаются просторными квадратными площадками и простираются до самого купола. Вдоль нее до самого верха с обеих сторон тянутся перила с резными балясинами диковинной формы. На нижних этажах они сверкают свежей краской, а ближе к верхним становятся грязноватыми. По этим ступеням многие губернаторы в военных сапогах или, возможно, в мягких туфлях для подагриков поднимались на башню, откуда открывался дивный вид на город и его окрестности. Башня представляет собой восьмиугольник с ведущей на крышу дверью. Отсюда, думал я, Гейдж мог наблюдать свою пиррову победу в битве при Банкер-Хилле (если только ему не мешала одна из вершин прилепленных друг к дружке холмов), а Хау отмечал приближение осаждавших город войск Вашингтона, хотя построенные с тех пор здания заслоняют вид на все, кроме колокольни Старой Южной церкви, до которой, кажется, можно дотянуться рукой. Спускаясь с башни, я задержался у чердака, чтобы посмотреть на мощные стропила из белого дуба, куда более массивные, чем в современных домах, и потому напоминающие скелет древнего животного. Стены из голландского кирпича и деревянные перекрытия все так же прочны, но полы и другие части здания основательно прогнили. По этой причине есть мысли снести все внутри и выстроить новое здание, помещенное в старый каркас из кирпича и дерева. Среди других неудобств мой провожатый отметил то, что при любом сильном ударе или резком движении наверху пыль веков сыплется на головы обитателей нижнего этажа.
Через огромное окно до пола мы вышли на балкон, откуда, вне всякого сомнения, в былые времена наместники короны показывались верноподданному населению, благосклонно внимая восторженным возгласам и взирая на подбрасываемые вверх шляпы. В те дни фасад губернаторского дома выходил на улицу, и место, ныне занятое кирпичной громадой торговых рядов, а также двор отдали под зеленую лужайку с тенистыми деревьями, обнесенную кованой железной оградой. Теперь старое барственно-изысканное здание прячет поблекшие от времени стены за новоделом. В одном из задних окон я заметил хорошеньких швей, занятых шитьем, болтавших и смеявшихся за работой. Они то и дело поглядывали на балкон. Потом мы спустились и снова вошли в буфет. Вышеупомянутый пожилой господин, чье причмокивание столь лестно говорило о содержимом винного погреба мистера Уэйта, все так же сидел, развалившись на стуле. Похоже, там он считался если не постояльцем, то, по крайней мере, завсегдатаем с открытым у хозяина кредитом; для него держали место у окна летом и у камина – зимой. Будучи человеком общительным, я отважился обратиться к нему с замечанием, рассчитанным на то, чтобы он пустился в исторические воспоминания, если таковые у него имеются. Попытка моя была вознаграждена тем, что этот почтенный господин, как оказалось, знал несколько любопытных историй, связанных с губернаторским домом, пусть они и представляли собой нечто среднее между правдой и вымыслом. Меня особенно заинтересовал фрагмент нашего с ним разговора, который стал основой приводимого ниже рассказа. По словам этого господина, он услышал его от потомка очевидца в первом или втором поколении. Однако его содержание с течением времени наверняка менялось с каждым новым изложением. Поэтому, не теша себя надеждой на изложение истинных обстоятельств, я решился внести в повествование некоторые изменения ради пользы и удовольствия читателя.
На одном из праздников, устроенных в губернаторском доме ближе к окончанию осады Бостона, произошел случай, которому до сих пор не найдено приемлемого объяснения. Британские армейские офицеры и оставшиеся верными короне помещики, большинство которых собралось в осажденном городе, были приглашены на бал-маскарад, поскольку сэр Уильям Хау стремился скрыть бедствия, опасности и становившееся все более безнадежным положение в городе пышностью и показным весельем праздников. Если верить самым старым представителям тогдашнего высшего общества, во дворце губернатора никогда еще не устраивали столь веселого и роскошного приема, как в тот вечер. Множество людей, наполнявших ярко освещенную резиденцию, похоже, сошли с потемневших полотен старинных портретов или со страниц романов, или же, на крайний случай, прилетели из одного из лондонских театров прямо в сценических костюмах. Закованные в железо рыцари времен Вильгельма Завоевателя, бородатые вельможи елизаветинской эпохи и фрейлины королевы-девственницы в высоких плоеных воротниках смешивались в толпе с персонажами комедий, такими как шут в разноцветном наряде и колпаке с бубенчиками, Фальстаф, почти такой же смешной, как его прототип, и Дон Кихот с жердью вместо копья и крышкой от кастрюли вместо щита.
Но наибольшее веселье вызвала группа в потешной старой военной форме, похоже, купленной на армейской барахолке или найденной на свалке, куда французы и британцы выбрасывали изношенные мундиры. Кое-какие из этих одеяний, вероятно, носили еще во время осады Луисбурга, а наиболее новые шинели, наверное, были иссечены саблями, пулями и штыками в эпоху побед генерала Вульфа. Один из этих храбрецов – высокий и худой, размахивавший ржавой шпагой непомерной длины, – изображал не кого иного, как генерала Джорджа Вашингтона, а другие подобные ему чучела – других военачальников американской армии: Гейтса, Ли, Патнэма, Скайлера, Уорда и Хита. Героико-комические переговоры между мятежными воинами и британским главнокомандующим вызвали бурю аплодисментов, при этом громче всех хлопали местные лоялисты.
Однако среди гостей находился человек, стоявший в стороне и глядевший на это фиглярство одновременно и сурово, и презрительно, нахмурив брови и горько улыбаясь. Это был старик, некогда занимавший в колонии высокое положение и пользовавшийся доброй репутацией, а также бывший очень известным военным чином. Вызывало удивление, что полковник Джолифф, известный своими виговскими взглядами, хоть и слишком пожилой, чтобы участвовать в борьбе между партиями, остался в Бостоне во время осады. Еще более странным казалось то, что он согласился приехать в резиденцию сэра Уильяма Хау. Однако он приехал туда под руку с хорошенькой внучкой и стоял посреди всеобщего веселья и шутовства суровой одинокой фигурой, как нельзя лучше представляя посреди этого маскарада древний дух своей родины. Кое-кто из гостей утверждал, что сердитый пуританский взгляд Джолиффа словно бы отбрасывал вокруг него темную тень, однако, несмотря на его хмурый вид, они продолжали веселиться еще пуще, подобно – жутковатое сравнение! – светильнику, который разгорается еще ярче перед тем, как вскоре догореть.
Через полчаса после того, как часы на Старой Южной церкви пробили одиннадцать, среди веселившегося общества прошел слух, что вскоре последует новое представление или живая картина, которая станет достойным завершением этого феерического вечера.
– Какую еще забаву вы нам приготовили, ваше превосходительство? – спросил преподобный Мэзер Байдз, чьи пресвитерианские принципы не помешали ему принять участие в увеселении. – Верьте слову, сэр, я уже насмеялся больше, чем подобает моему сану, вашим уморительным переговорам с мятежным генералом-оборванцем. Еще одна такая шутка, и мне придется снять сановное облачение.
– Вы не правы, дорогой мой доктор Байлз, – ответил сэр Уильям Хау. – Будь веселье прегрешением, вы никогда бы не стали доктором теологии. Что же до новой забавы, то я знаю о ней не больше, чем вы, возможно, даже меньше. А если честно, доктор, уж не вы ли подвигли некоторых своих воздержанных земляков, чтобы те разыграли на маскараде какую-нибудь сцену?
– Возможно, – лукаво заметила внучка полковника Джолиффа, чье самолюбие было уязвлено многочисленными насмешками над жителями Новой Англии, – возможно, нам предстанет шествие аллегорических фигур: Победы с трофеями из Лексингтона и Банкер-Хилла, Изобилия с переполненным рогом, символа нынешнего богатства нашего дивного города, и Победы с венком на челе вашего превосходительства.
Сэр Уильям Хау улыбнулся, услышав эти слова, на которые бы он ответил, грозно нахмурив брови, если бы их произнесли губы, под которыми красовалась борода. Случившееся следом избавило его от необходимости парировать подобную насмешку. Снаружи послышалась музыка, словно на улице заиграл военный оркестр, но вступил он не с приличествующей случаю праздничной мелодией, а с медленным похоронным маршем. Барабаны ударили приглушенно, трубы жалобно запричитали, отчего веселье гостей сразу улетучилось и собравшиеся ощутили удивление пополам с дурным предчувствием. Многие решили, что у входа в резиденцию остановилась похоронная процессия, провожающая в последний путь какого-то великого человека, или что в парадные двери вот-вот внесут отделанный бархатом и пышно украшенный гроб. На мгновение прислушавшись, сэр Уильям Хау строгим голосом подозвал капельмейстера, который до того развлекал общество веселыми легкими мелодиями. Капельмейстер был тамбурмажором[2] одного из британских полков.
– Дайтон, – сурово спросил он, – что это за дурачество? Немедленно прекратите похоронный марш, иначе, даю слово, мои гости и вправду впадут в уныние. Прекратить, и сейчас же!
– Покорнейше прошу прощения, ваше превосходительство, – ответил тамбурмажор, чье румяное лицо моментально побледнело, – я не виноват. Мой оркестр здесь в полном составе, и я сомневаюсь, что хотя бы один из музыкантов смог сыграть этот марш без нот. Я слышал его лишь однажды – на похоронах Его Величества покойного короля Георга Второго.
– Так, так! – проговорил сэр Уильям Хау, беря себя в руки. – Это, наверное, прелюдия к какой-то маскарадной сцене. Пусть играют.
В зале появилась еще одна фигура, но никто из множества одетых в самые фантастические костюмы и маски не мог точно сказать, откуда она взялась. Человек в старомодном наряде из черной саржи с лицом и осанкой дворецкого или мажордома приблизился к парадному входу, настежь распахнул двустворчатую дверь, отошел чуть в сторону и оглянулся на широкую лестницу, словно ожидая выхода важной особы. В то же время музыка взлетела ввысь в громком скорбном призыве. Взгляды сэра Уильяма Хау и его гостей были прикованы к лестнице, и вот с верхней площадки, которая хорошо просматривалась снизу, начали спускаться несколько фигур. Впереди шел мрачный человек в остроконечной шляпе, надетой поверх скуфьи, в темном плаще и больших сапогах со складками выше колен. Под мышкой он нес знамя, похожее на британский флаг, но странно продырявленное и оборванное. В правой руке он держал шпагу, в левой – Библию. За ним следовал другой с лицом менее суровым, но не уступавшим первому в величественности, одетый в мантию из тканого бархата, черный бархатный камзол и панталоны в обтяжку. Борода его свисала на широкий плоеный воротник, в руке он держал рукописный свиток. Сразу за ними спускался молодой человек, резко выделявшийся манерами. На челе у него лежала печать глубоких раздумий, глаза то и дело вспыхивали восторженным сиянием. Одежда у него, как и у шедших впереди, была старинная, а на плоеном воротнике алело пятно крови. За ними шло еще трое или четверо, все с величественными властными лицами, ведшие себя так, словно привыкли к взглядам толпы. Глядевшие на них гости губернатора решили, что эти люди собираются присоединиться к загадочной похоронной процессии, остановившейся у дверей. Однако эта догадка противоречила выражению торжества, с которым они помахали руками, прежде чем вышли за порог и скрылись из виду.
– Черт подери, это что еще такое? – пробормотал сэр Уильям Хау, обращаясь к стоявшему рядом господину. – Парад судей-цареубийц, обрекших на смерть короля-мученика Карла Первого?
– Это, – проговорил полковник Джолифф, едва ли не впервые за весь вечер нарушив молчание, – если я правильно понимаю, пуританские губернаторы Массачусетса, правители-родоначальники демократической колонии. Эндикотт со знаменем, с которого он сорвал символ папского владычества, Уинтроп и сэр Генри Вейн, Дадли, Хейнс, Беллингем и Леверетт.
– А почему у молодого человека кровь на воротнике? – спросила мисс Джолифф.
– Потому что впоследствии, – ответил ей дед, – он положил мудрейшую в Англии голову на плаху во имя свободы.
– Не прикажет ли ваше превосходительство вызвать караул? – прошептал лорд Перси, который вместе с другими британскими офицерами подошел к генералу. – За этим лицедейством может скрываться заговор.
– Чушь! Нам нечего бояться, – беспечно ответил сэр Уильям Хау. – В этом балагане измены не больше, чем шутки, и шутки глупейшей. Будь она даже острой и язвительной, нам лучше всего над ней посмеяться. Смотрите! Вон еще какая-то братия идет.
По лестнице спускалась еще одна группа. Впереди шел почтенный седобородый старец, осторожно щупавший дорогу посохом. Следом торопливо шагал, вытянув руку в перчатке, словно пытаясь ухватить старика за плечо, высокий, похожий на воина человек в стальном шлеме с плюмажем, в сверкающем нагруднике и с длинной, грохотавшей по ступенькам шпагой. За ним следовал плотный мужчина в богатой одежде придворного, но не с придворными манерами. Он шел вразвалку, как матрос, и, случайно споткнувшись на лестнице, вдруг посуровел лицом и отчетливо выругался. Затем стал спускаться человек с благородным лицом в завитом парике, какие можно увидеть на портретах времен королевы Анны и чуть раньше, грудь его камзола украшала вышитая звезда. Идя к двери, он изящно и подобострастно кланялся направо и налево, но, ступив за порог, в отличие от губернаторов-пуритан, в отчаянии заломил руки.
– Почтенный доктор Байлз, прошу вас внести лепту, – произнес сэр Уильям Хау. – Кто эти достойные господа?
– С позволения вашего превосходительства, они жили до меня, – ответил доктор. – Однако наш друг полковник, несомненно, был близко с ними знаком.
– При жизни я никого из них не знал, – мрачно проговорил полковник Джолифф, – хотя и лично говорил со многими правителями земли нашей. Думаю, старческой рукой благословить еще одного из них, прежде чем умру. Но речь идет об этих фигурах. Полагаю, что почтенный старец – это Брэдстрит, последний из пуритан, бывший губернатором где-то в девяносто лет. Следом шагает сэр Эдмунд Андрос, тиран, известный в Новой Англии каждому школьнику. За это его и скинули с вершин власти и бросили в темницу. За ним идет сэр Уильям Фиппс, пастух, бондарь, шкипер и губернатор. Дай Бог многим его землякам подняться так же высоко из самых низов! И наконец, вы видели благородного графа Белламонта, правившего нами при короле Вильгельме Оранском.
– Но что это все означает? – спросил лорд Перси.
– Будь я мятежницей, – вполголоса сказала мисс Джолифф, – решила бы, что тени прежних губернаторов вызваны сюда для того, чтобы составить процессию на похоронах королевского владычества над Новой Англией.
Теперь на площадке лестницы появились еще несколько фигур. У шедшей впереди было задумчивое, встревоженное и хитроватое лицо, свидетельствовавшее о том, что его обладатель вполне способен пресмыкаться перед теми, кто выше него. Через несколько ступенек от него шагал офицер в расшитом алом мундире старинного покроя, который, вероятно, носил еще герцог Мальборо. Его розоватый нос в сочетании с блестящими глазами характеризовал хозяина как любителя выпить с веселыми собутыльниками. Однако его явно что-то беспокоило: он то и дело озирался по сторонам, словно боясь тайных интриг. Затем шел дородный господин в сюртуке из ворсистой ткани с подбоем из тонко выделанного бархата. Лицо у него было умное, хитроватое и веселое, под мышкой он держал толстую книгу. Но в то же время казалось, словно он чуть ли не до смерти доведен неустанными и мучительными размышлениями. Он торопливо спустился, и за ним последовал статный мужчина в костюме из пурпурного бархата с чрезвычайно богатой вышивкой. Он выглядел бы еще величественнее, если бы не сильная подагра, из-за которой он еле ковылял по ступеням, то и дело содрогаясь всем телом и морщась от боли. Увидев на лестнице эту фигуру, доктор Байлз затрясся, будто в лихорадке, но продолжал неотступно следить за подагрическим господином, пока тот не дошел до порога, тоскливо и отчаянно взмахнув рукой, и не скрылся в темноте, куда звала его траурная музыка.
– Губернатор Белчер, мой былой благодетель, прямо как живой! – ахнул доктор Байлз. – Какое жуткое глумление.
– Скорее пошлая выходка, – с равнодушным видом заметил сэр Уильям Хау. – Но кто же трое предшественников?
– Губернатор Дадли, коварный политик, однако собственное интриганство довело его до тюрьмы, – ответил полковник Джолифф. – Губернатор Шют, прежде служивший полковником у герцога Мальборо. Народ вынудил его бежать отсюда. И, наконец, ученый губернатор Бернетт, которого непомерные труды на ниве закона довели до лихорадки и свели в могилу.
– Мне думается, что все эти королевские губернаторы Массачусетса были убогими и несчастными людьми, – заметила мисс Джолифф. – Боже праведный! Как быстро гаснет свет!
И действительно, освещавшая лестницу большая люстра горела теперь блекло, отчего несколько фигур, торопливо спустившихся по ступенькам и исчезнувших за порогом, больше походили на призраков, нежели на людей из плоти и крови.
Сэр Уильям Хау и его гости стояли у дверей примыкавших к залу апартаментов и наблюдали за этой пышной процессией со смешанными чувствами: злобой, отвращением и смутно ощущаемым страхом, но все без исключения – с тревожным любопытством. Фигуры, похоже, заторопившиеся присоединиться к таинственной процессии, теперь узнавали только по поразительным отличиям в одежде или бросавшимся в глаза особенностям поведения, а не по портретному сходству с их прототипами. Лица всех без исключения скрывались в густой тени, но доктор Байлз и другие господа, знавшие сменявших друг друга правителей Новой Англии, шепотом называли имена Ширли, Паунэлла, сэра Френсиса Бернарда и недоброй памяти Хатчисона, тем самым признавая, что актеры, кто бы они ни были, в этой призрачной череде губернаторов сумели достичь сходства, пусть и отдаленного, с реальными людьми. Когда они исчезали за дверью, их тени продолжали горестно вскидывать руки к небу. Вслед за изображавшей Хатчисона фигурой появился военный, прикрывавший лицо снятой с напудренного парика треуголкой, однако эполеты и другие знаки отличия говорили о том, что это генерал-майор, и что-то в его наружности напоминало о человеке, который недавно был хозяином губернаторского дома и правителем окружающих земель.
– Это же Гейдж, прямо как живой! – бледнея, воскликнул лорд Перси.
– Конечно же нет! – с истерическим смехом вскричала мисс Джолифф. – Это не Гейдж, иначе сэр Уильям обязательно бы поприветствовал давнего товарища по оружию. Возможно, следующего он не обделит вниманием.
– В этом будьте уверены, барышня, – ответил сэр Уильям Хау, впившись многозначительным взглядом в застывшее лицо ее деда. – Я достаточно долго пренебрегал долгом хозяина по отношению к уходящим гостям, и следующий, кто вознамерится откланяться, удостоится этой чести.
В открытую дверь ворвалась мрачная, безотрадная музыка. Казалось, медленно собиравшаяся процессия вот-вот тронется, и это громкое завывание труб и глухая барабанная дробь призывают поторопиться кого-то замешкавшегося наверху. Многие взгляды, следуя неодолимому порыву, обратились на сэра Уильяма Хау, словно именно его печальная музыка звала на похороны ушедшей в мир иной власти.
– Смотрите! Вот последний идет! – прошептала мисс Джолифф, дрожащим пальцем показывая на лестницу.
Появилась будто бы шагавшая вниз по ступеням фигура, однако там, откуда она явилась, царила такая мгла, что некоторым показалось, словно она возникла из темноты. Фигура спускалась вниз четким строевым шагом, и когда она дошла до последней ступени, то все увидели высокого мужчину, закутанного в военный плащ, доходивший до ворсованных полей обшитой галуном шляпы и поэтому полностью скрывавший лицо. Но британские офицеры решили, что раньше уже видели этот плащ, и даже узнали обтрепанную вышивку на воротнике, как и позолоченные ножны шпаги, выбивавшиеся из-под складок и блестевшие в лучах света. Но помимо этих малозначительных признаков были еще походка и манера держаться, которые заставили изумленных гостей перевести взгляды с закутанной фигуры на сэра Уильяма Хау, словно чтобы удостовериться, что хозяин внезапно не исчез со своего места. Они увидели, как генерал с потемневшим от злости лицом вытащил шпагу и шагнул к фигуре в плаще, прежде чем та успела сделать шаг вперед.
– Открой лицо, негодяй! – вскричал он. – И ни шагу дальше!
Фигура даже не шевельнулась при виде устремленной ей в грудь шпаги. Торжественно выдержав паузу, она опустила верх плаща, закрывавшего лицо, но недостаточно для того, чтобы его разглядели зрители. Однако сэр Уильям Хау наверняка увидел, сколько нужно. Суровость на его лице сменилась изумлением, если не страхом, когда он отступил на несколько шагов и уронил шпагу. Человек в военном одеянии снова прикрыл лицо плащом и двинулся дальше, оставаясь спиной к собравшимся, но, дойдя до порога, топнул ногой и потряс в воздухе кулаками. Позднее утверждалось, что сэр Уильям Хау повторил этот полный ярости и отчаяния жест, когда он как последний королевский губернатор покидал резиденцию.
– Слушайте! Процессия двинулась, – сказала мисс Джолифф.
Музыка на улице стала затихать, и ее печальные аккорды сливались с полночным боем часов на башне Старой Южной церкви и с грохотом орудий, возвещавшим о том, что осаждавшая город армия Вашингтона подошла к его стенам так близко, как никогда раньше. Когда гром пальбы достиг ушей полковника Джолиффа, он не без усилия выпрямился и мрачно улыбнулся британскому генералу.
– Вашему превосходительству угодно еще глубже вникнуть в тайну этого маскарадного действа? – спросил он.
– Побереги седую голову! – яростно вскричал сэр Уильям Хау, пусть и дрожащим голосом. – Она слишком долго держалась на плечах предателя.
– Тогда вам нужно поторопиться ее отрубить, – спокойно ответил полковник, – поскольку не пройдет и нескольких часов, как власти сэра Уильяма Хау или его короля не достанет на то, чтобы с этой седой головы упал хотя бы один волос. Сегодня вечером Британская империя находится в своей старой колонии при последнем издыхании. И когда я говорю эти слова, она уже труп. Сдается мне, что тени прежних губернаторов – подходящие плакальщики на ее похоронах.
С этими словами полковник Джолифф набросил плащ и, взяв под руку внучку, покинул последний праздник, устроенный британским наместником провинции Массачусетс-Бэй. Полагали, что полковник с внучкой обладают некими секретными сведениями о загадочном представлении, разыгранном тем вечером. Но как бы то ни было, эти сведения так и не стали достоянием широкой публики. Участвовавшие в живых картинах актеры исчезли даже вернее, чем переодевшиеся индейцами горожане, побросавшие в воды залива груз чая с кораблей, но так и оставшиеся неизвестными. Однако одна из легенд, связанных с этим особняком, упорно твердит, что каждую ночь перед годовщиной окончания британского владычества в Массачусетсе тени прежних губернаторов выходят из парадного подъезда резиденции. И последней в их череде появляется фигура, закутанная в генеральский плащ, потрясающая воздетыми к небу кулаками и топающая обутой в кованый сапог ногой на широкой лестнице из красного песчаника, не издавая при этом ни единого звука.
Когда смолк говоривший «сущую правду» голос пожилого господина, я глубоко вздохнул и оглядел зал, изо всех сил пытаясь силою воображения придать окружавшей меня действительности оттенок романтичности и прошлого великолепия. Но в ноздри мне ударил запах табачного дыма, облака которого обильно пускал рассказчик, как я полагаю, в знак того, что его история овеяна флером неясности и расплывчатости. Более того, мои дивные фантазии были горестно нарушены позвякиванием ложечки в бокале с пуншем, который мистер Уэйтс готовил для очередного посетителя. Не добавляла романтики деревянным стенным панелям и висевшая на одной из них вместо геральдического щита одного из родовитых губернаторов грифельная доска с расписанием почтовых дилижансов до Бруклина. У окошка сидел кучер такого дилижанса и читал свежую дешевую газетку «Бостон Таймс». Он являл собой типичный образец горожанина, портрет которого вполне мог красоваться на первой полосе лет семьдесят или сто назад. На подоконнике лежал аккуратный сверток из коричневой бумаги, на котором я из чистого любопытства прочел надпись: «Мисс Сюзан Хаггинс, гостиница “Губернаторский дом”». Несомненно, какая-нибудь хорошенькая горничная. По правде говоря, чрезвычайно трудно придать ореол старины вещам, которые связаны с нашей жизнью и которые мы видим каждый день. И все же, когда я смотрел на величественную лестницу, по которой спускалась процессия губернаторов, и когда выходил из парадных дверей, из которых до меня прошествовали их тени, я с радостью ощутил благоговейный трепет. Затем я нырнул под узкую арку, сделал несколько шагов и вскоре оказался на оживленной Вашингтон-стрит.
Портрет Эдуарда Рэндолфа
Почтенный завсегдатай губернаторского дома, чей рассказ так поразил мое воображение, с лета до самого января не выходил у меня из головы. Как-то в середине зимы, в свободный от всяких дел вечер, я решился нанести ему повторный визит, полагая, что застану его, как обычно, в самом уютном уголке гостиничного бара. Не утаю, что я при этом льстил себя надеждой заслужить признательность отечества, воскресив для потомков еще какой-нибудь позабытый эпизод его истории. Погода стояла сырая и холодная: яростные порывы ветра со свистом проносились по Вашингтон-стрит, и пламя газовых фонарей то замирало, то вспыхивало. Я торопливо шел вперед, сравнивая в своем воображении нынешний вид улицы с тем, какой она, вероятно, имела в давно минувшие дни, когда дом, куда я теперь направлялся, был еще официальной резиденцией английских губернаторов. Каменные строения в те времена были чрезвычайно редки: их начали возводить лишь после того, как бо`льшая часть деревянных домов и складов в самой населенной части города несколько раз кряду выгорела дотла. Здания стояли тогда далеко друг от друга и строились каждое на свой манер: их физиономии не сливались, как теперь, в сплошной ряд утомительно одинаковых фасадов – напротив, каждый дом обладал особенными, неповторимыми чертами, сообразно со вкусом владельца, и вся улица являла собою зрелище, пленявшее живописной прихотливостью, отсутствие которой не возместится никакими красотами нашей новейшей архитектуры. Как непохожа была улица тех времен, окутанная мглою, сквозь которую лишь кое-где пробивался слабый свет сальной свечи, мерцавшей за частым оконным переплетом, на нынешнюю Вашингтон-стрит, где было светло как днем, – столько газовых фонарей горело на перекрестках, столько огней сверкало за огромными стеклами витрин.
Но, подняв глаза, я решил, что черное, низко нависшее небо, должно быть, так же хмуро глядело на обитателей Новой Англии колониальной поры и точно так же свистел у них в ушах пронизывающий зимний ветер. Древняя колокольня Старой Южной церкви, как и прежде, уходила в темноту, теряясь между небом и землей, и, приблизившись, я услышал бой церковных часов, которые многим поколениям до меня твердили о бренности земного существования, а теперь веско и медленно повторили и мне свою извечную, столь часто оставляемую без внимания проповедь. «Еще только семь часов, – подумал я. – Хорошо, если бы рассказы моего приятеля помогли мне скоротать время до сна».
Я прошел под узкой аркой и пересек закрытый двор при свете фонаря, подвешенного над парадным крыльцом губернаторского дома. Как и ожидал, первый, кого я увидел, переступив порог общего зала, был мой старый знакомец. Хранитель преданий сидел перед камином, в котором ярко пылал антрацит, и курил внушительных размеров сигару, пуская клубы дыма. Он приветствовал меня с нескрываемым удовольствием: благодаря редкостному дару терпеливого слушателя я неизменно пользуюсь расположением пожилых джентльменов и словоохотливых дам. Придвинув кресло поближе к огню, я попросил хозяина приготовить нам два стакана крепкого пунша, каковой напиток и был незамедлительно подан – почти кипящий, с ломтиком лимона на дне, с тонким слоем темно-красного портвейна сверху, щедро сдобренный тертым мускатным орехом. Мы чокнулись, и мой рассказчик наконец отрекомендовался мне как мистер Бела Тиффани; странное звучание этого имени пришлось мне по душе – в моем представлении оно сообщало облику и характеру особы, носившей его, нечто весьма своеобразное. Горячий пунш, казалось, растопил его воспоминания – и полились повести, легенды и истории, связанные с именами знаменитых людей, давно покойных; одни из этих рассказов были по-детски наивны, как колыбельная песенка, иные же могли бы оказаться достойными внимания ученого историка. Сильнее прочих впечатлила меня история таинственного черного портрета, когда-то висевшего в губернаторском доме, как раз над той комнатой, где сидели теперь мы оба. Читатель едва ли отыщет в других источниках более достоверную версию этой истории, чем та, которую я решаюсь предложить его благосклонному вниманию, – хотя, без сомнения, кое-кому моя повесть может показаться чересчур романтической и даже похожей на сказку.
В одном из покоев губернаторского дома на протяжении многих лет находилась старинная картина: рамы ее казались вырезанными из черного дерева, а самое полотно так потемнело от времени, дыма и сырости, что на нем нельзя было различить даже самого слабого следа кисти художника. Годы задернули картину непроницаемой завесой; что же касается предмета изображения, то на сей счет существовали самые смутные толки, предания и домыслы. Губернаторы сменяли друг друга, а картина, словно в силу какой-то неоспоримой привилегии, висела все там же, над камином; продолжала она оставаться на прежнем месте и при губернаторе Хатчинсоне, который принял управление провинцией после отъезда сэра Фрэнсиса Бернарда, переведенного в Виргинию.
Однажды на исходе дня Хатчинсон сидел в своем парадном кресле, прислонившись головой к его резной спинке и вперив задумчивый взор в черную пустоту картины. Между тем время для подобных праздных мечтаний было вовсе не подходящее: события величайшей важности требовали от губернатора безотлагательных действий, ибо не далее как час назад он получил известие о том, что в Бостон прибыла флотилия британских кораблей, доставивших из Галифакса три полка солдат для подавления беспорядков среди жителей. Войска ожидали разрешения губернатора, чтобы занять Форт-Уильям, а затем и самый город. Однако же вместо того чтобы скрепить своей подписью официальный приказ, губернатор продолжал сидеть в кресле и так старательно изучал пустую черноту висевшей перед ним картины, что его поведение привлекло внимание двух людей, находившихся в той же комнате. Один из них, молодой человек в желтом военном мундире, был дальний родственник губернатора, капитан Фрэнсис Линколн, комендант Форт-Уильяма; другая, юная девушка, сидевшая на низкой скамеечке рядом с креслом Хатчинсона, была его любимая племянница, Элис Вейн.
В облике этой хрупкой бледной девушки, одетой во все белое, сквозило что-то неземное: уроженка Новой Англии, она получила образование в Европе, и теперь казалась не просто гостьей из чужой страны, но почти существом из иного мира. Много лет, до кончины ее отца, она прожила вместе с ним в солнечной Италии и там приобрела вкус и склонность к ваянию и живописи – склонность, которую редко можно было удовлетворить в холодной и аскетической обстановке жилищ провинциальной знати. Говорили, что ее собственные первые опыты показывали недюжинное дарование, однако суровая атмосфера Новой Англии неизбежно сковывала ей руку и лишала блеска многоцветную палитру ее воображения. Но сейчас упорный взгляд губернатора, который, казалось, стремился пробиться сквозь туман долгих лет, окутывавший картину, и обнаружить предмет, на ней изображенный, пробудил любопытство молодой девушки.
– Известно ли кому-нибудь, милый дядюшка, – спросила она, – что это за картина? Быть может, предстань она перед нашим взором в своем первозданном виде, мы признали бы в ней шедевр великого художника – иначе отчего она так много лет занимает столь почетное место?
Видя, что губернатор, против обыкновения, медлит с ответом (он всегда бывал так внимателен к малейшим капризам и прихотям Элис, как если бы она приходилась ему родной дочерью), молодой комендант Форт-Уильяма решился прийти ему на помощь.
– Этот старинный холст, любезная кузина, – сказал он, – перешел в губернаторский дом по наследству и хранится здесь с незапамятных времен. Имя художника мне неизвестно, но если верить хотя бы половине слухов, что ходят об этой картине, даже величайшим итальянским живописцам не удавалось создать произведение столь прекрасное.
И капитан Линколн тут же рассказал несколько связанных с этой старинной картиной легенд, которые хранились и передавались из уст в уста подобно народным поверьям, поскольку опровергнуть их с помощью зримых доказательств не было никакой возможности. Одна из самых фантастических и в то же время самых распространенных версий утверждала, что это подлинный и достоверный портрет самого дьявола, каковой позировал художнику во время шабаша ведьм близ Сейлема, и что поразительное и страшное сходство портрета с оригиналом было впоследствии публично засвидетельствовано многими ведьмами и чародеями, судимыми по обвинению в колдовстве. Другая версия гласила, что за черной поверхностью картины обитает некий дух, нечто вроде фамильного демона губернаторского дома, который уже не раз являлся королевским губернаторам в годину каких-либо грозных бедствий. Например, губернатору Шерли зловещий призрак показался накануне постыдного и кровопролитного поражения армии генерала Эберкромби у стен Тикондероги. Многим слугам губернаторского дома, когда они ворошили тлеющие в камине уголья, нередко чудилось, будто чье-то мрачное лицо выглядывает из черных рам – бывало это обычно на рассвете, в сумерках или же глубокой ночью, – однако, если который-нибудь из них отваживался поднести к портрету свечу, полотно представлялось таким же непроницаемо-черным, как раньше. Старейший житель Бостона вспоминал, что его отец, при жизни которого на полотне сохранялись еще слабые следы изображения, взглянул как-то раз на таинственный портрет, но ни единой душе не решился поведать, чье лицо там увидел. В довершение загадочности в верхней части рам сохранились каким-то чудом обрывки черного шелка, указывавшие, что портрет был некогда завешен вуалью, на смену которой явилась затем более надежная завеса времени. Но удивительнее всего было, разумеется, то, что важные губернаторы Массачусетса, словно по уговору, сохраняли за этой изгладившейся картиной ее законное место в парадном зале губернаторского дома.
– Многие из ваших историй, право же, наводят ужас, – заметила Элис Вейн, у которой рассказ ее кузена не единожды вызывал то улыбку, то невольное содрогание. – Было бы любопытно удалить с этого полотна верхний, почерневший слой краски – ведь подлинная картина наверняка окажется менее устрашающей, чем та, которую нарисовало людское воображение.
– Но возможно ли, – осведомился ее кузен, – возвратить этому старинному портрету его изначальные цвета?
– Таким искусством владеют в Италии, – отвечала Элис.
Губернатор меж тем очнулся от задумчивости и с улыбкой прислушивался к беседе своих юных родственников, но когда предложил им свое объяснение загадки, в голосе его послышались странные ноты.
– Мне жаль подвергать сомнению правдоподобие легенд, которые ты так любишь, Элис, – начал он, – но мои собственные изыскания в архивах Новой Англии давно помогли мне разгадать тайну этой картины – если только можно назвать ее картиной, ибо образ, запечатленный на ней, никогда более не предстанет перед нашим взором, точно так же как сам давно умерший человек, с которого она была писана. Это был портрет Эдуарда Рэндолфа, основателя этого дома, лица знаменитого в истории Новой Англии.
– Портрет Эдуарда Рэндолфа? – вскричал капитан Линколн. – Того самого, который добился отмены первой хартии Массачусетса, дававшей нашим прадедам почти демократические права? Того самого, который заслужил прозвище злейшего врага Новой Англии и чье имя до сего дня вызывает негодование как имя человека, лишившего нас наших законных свобод?
– Да, того самого Рэндолфа, – ответил Хатчинсон, беспокойно повернувшись в кресле. – Ему на долю выпало отведать горечь народного презрения.
– В наших хрониках записано, – продолжил комендант Форт-Уильяма, – что всенародное проклятие тяготело над Рэндолфом до конца его жизни, что оно навлекало на него одну беду за другой и наложило печать даже на его последние мгновения. Говорят также, будто невыносимые душевные муки, причиняемые этим проклятием, пробились наружу и начертались на самом лице несчастного, вид которого был настолько ужасен, что на него нельзя было глядеть без содрогания. Если в действительности все было так и если висящий здесь портрет верно передавал облик Рэндолфа, мы можем лишь возблагодарить Небо за то, что теперь его скрывает темнота.
– Все это глупые россказни, – возразил губернатор. – Мне ли не знать, как мало общего они имеют с исторической правдой! Что же касается личности и жизненной стези Эдуарда Рэндолфа, то тут мы чересчур доверились доктору Коттону Мазеру, который, как ни прискорбно говорить об этом (ведь в моих жилах есть капля его крови), заполнил наши первые хроники бабьими сказками и сплетнями, столь же неправдоподобными и противоречивыми, как предания Греции и Рима.
– Но разве не правда, – шепнула Элис Вейн, – что в каждой сказке есть нравоучение? И если лицо на этом портрете и впрямь так ужасно, мне думается, не зря он столько лет провисел в губернаторском доме. Правители могут забыть о своей ответственности перед согражданами, и тогда не мешает напомнить им, как тяжко бремя всенародного проклятия.
Губернатор вздрогнул и кинул тревожный взгляд на племянницу: казалось, что ее ребяческие фантазии задели в его груди какую-то чувствительную струну, оказавшуюся сильнее всех его твердых и разумных принципов. Он превосходно понимал, что кроется за этими словами Элис, которая, невзирая на европейское воспитание, сохранила исконные симпатии уроженки Новой Англии.
– Умолкни, безрассудное дитя! – произнес он наконец небывало резким тоном, поразившим его кроткую племянницу. – Недовольство короля должно быть для нас страшнее, чем злобный рев сбитой с толку черни. Капитан Линколн, я принял решение. Один полк королевских солдат займет Форт-Уильям, двум другим я прикажу расположиться в городе или стать лагерем за городской чертой. Давно пора, чтобы наместники его величества после стольких лет смут и чуть ли не мятежей получили надежную защиту.
– Повремените, сэр, не отвергайте с такой поспешностью веры в преданность народа, – возразил капитан Линколн, – не отнимайте у людей надежды на то, что британские солдаты навсегда останутся им братьями, что сражаться они будут лишь плечом к плечу, как сражались на полях Французской войны. Не превращайте улицы своего родного города в военный лагерь. Взвесьте все еще раз, прежде чем отнять Форт-Уильям, ключ ко всей провинции, у его законных владельцев – жителей Новой Англии – и отдать его в чужие руки.
– Молодой человек, это дело решенное, – повторил Хатчинсон, вставая с кресла. – Нынче же вечером сюда прибудет британский офицер за инструкциями касательно размещения войск. Для этого потребуется и ваше присутствие. Итак, до вечера.
С этими словами губернатор поспешно покинул зал; молодые люди, переговариваясь вполголоса, в нерешительности последовали за ним и с порога еще раз оглянулись на таинственный портрет. При этом капитану Линколну почудилось, что в глазах Элис промелькнуло затаенное лукавство, сообщившее ей на мгновение сходство с теми сказочными духами – феями или персонажами еще более древней мифологии, – которые вмешивались порой в дела своих смертных соседей, отчасти из озорства, отчасти из сострадания людским напастям. Пока молодой человек придерживал дверь, чтобы пропустить вперед свою кузину, Элис помахала портрету рукой и с улыбкой воскликнула:
– Явись нам, дьявольская тень! Твой час настал!
Вечером того же дня генерал Хатчинсон снова восседал в зале, где произошла описанная выше сцена, на сей раз в окружении людей, которых свели вместе самые различные интересы. Сюда прибыли члены Бостонской городской управы – простые, непритязательные представители патриархальной власти, достойные наследники первых эмигрантов-пуритан, чья угрюмая сила наложила столь глубокий отпечаток на душевный склад жителей Новой Англии. Как непохожи были на этих людей члены колониального совета провинции, державшиеся с церемонной манерностью придворных и щеголявшие, согласно пышной моде того времени, в напудренных париках и расшитых камзолах! Среди собравшихся был и майор британской армии: ждал распоряжения губернатора относительно высадки войск, которые до сих пор не сошли с кораблей. Капитан Линколн стоял рядом с губернаторским креслом, скрестив руки на груди и несколько высокомерно взирая на британского офицера, своего будущего преемника на посту коменданта Форт-Уильяма. На столе посредине комнаты стоял серебряный шандал, и пламя полудюжины свечей бросало яркий отблеск на документ, по всей видимости ожидавший губернаторской подписи.
