За дверью, в ночи
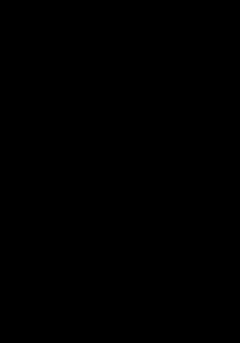
Платье в цветочек
– Какой же ты у меня глупенький, Марвин. Просто беспомощный ребенок.
Тихий смех рассыпался серебряными колокольчиками в ночной тиши.
– Ты ведь никогда не мог сделать ничего путного без своей милой женушки. Верно? Ну, хоть за ручку приведи и покажи, так нет же – все равно где-нибудь, да и наломаешь дров. Непутевый ты мой. И что это тебе вздумалось бродить по ночам, клады искать.
Еще один перезвон колокольчиков.
– Ну посмотри на себя – руки дрожат, ты весь взмок, да и глаза ничего, поди, не видят. И, явно, не взял с собой смену. Ты же простудишься раньше, чем что-то накопаешь. А потом будешь перхать неделю, или еще хуже – сляжешь с температурой. И кто за тобой будет смотреть? Ведь ты даже лекарство без меня принять не сможешь. А температуру померить, а компресс на лоб, а травяной чай! Ох ты, господи, почему это ты у меня такой непутевый? Никогда не мог за собой присмотреть.
«Пожалуйста, помолчи. Прошу тебя, замолчи хоть на минуту. Я так больше не могу, я не могу, не могу.»
Он повторял эти слова, как заклинание, последние полчаса, если не больше. Я так больше не могу – удар лопаты. Я так больше не могу – еще один удар. С каждым замахом силы покидали его, если они вообще и были с самого начала. Он ощущал себя безвольным манекеном, тряпичной куклой, в которую всевышний забыл вдохнуть жизнь.
«Что со мной стало. Я же разваливаюсь на куски. Как-будто эту яму тогда рыл кто-то другой, а не я. Мне тяжело дышать, сердце сейчас разорвется, а не продвинулся и на полметра. А если это вообще не здесь!»
Он с ужасом представил, что копает не там, где нужно. О том, чтобы начать свои поиски в другом месте, он боялся даже подумать. Десять лет назад, когда он был здесь в последний раз, сил и энергии у него было на порядок больше.
«Я превратился в дряхлого старика. Одышка, спину ломит, колени болят. А ведь мне еще нет и шестидесяти. Черт бы тебя побрал, что ты со мной сделала, что ты со мной сделала, тварь, мерзкая тварь.»
Эти слова заменили старый рефрен и следующие удары лопатой (хотя, это скорее были вялые шлепки по замерзшему грунту) он наносил под заклинание – «Что ты со мной сделала, тварь».
– Прости, дорогая, я не подумал.
– Ну, конечно, не подумал. Когда же ты думал? А?! Для этого голова нужна. Ты же привык, что я за тебя думаю, я за тебя делаю, а ты и спасибо не всегда удосуживаешься сказать. Вот у других мужья так мужья – и зарабатывают, и шмотки покупают, и дома, и машины. А мой дальше простого синего воротничка и не ушел. И о чем я думала, когда за тебя замуж выходила? Другие выбирали себе и покрасивее, и ростом выше, и тех, у кого деньги водились. А я, дуреха! Присмотрела себе заморыша, пожалела. Думала – ничего, сделаю из него человека, станет, не хуже других. Не вышло. Так ведь, как моя мама говорила – в пустой колодец сколько воды не лей, полным не станет. Вот и осталась у пустого колодца. С другими и сравнивать не хочется. Всю свою молодость на тебя угробила, а что получила? Заморышем и остался. Непутевый, никчемный, одним словом.
«Господи, сделай так, чтобы она замолчала. Заткнись, прошу тебя, заткнись, заткнись.»
Лопата в руках весила, казалось, больше пудовой гири. Вдобавок, он уже умудрился натереть кровавую мозоль на ладони, и она ужасно зудела, обещая еще несколько дней мучений после ночной вылазки. Пот стекал со лба грязными ручьями – он вытирал его руками, перепачканными землей и дорожной пылью, и теперь они собирались в крупные капли на его подбородке и носу, смешиваясь с соплями и слезами из воспаленных глаз. Всего меньше чем за час он превратился из обычного городского жителя в потасканного рудокопа, бродягу, обыденного персонажа городских трущоб, в котором невозможно было узнать его, прежнего.
Его судорожные движения, которые он считал копанием, давно подпитывались только отчаянием и желанием заглушить ее сверлящий уши голос.
– Ну просто беда с тобой, просто беда. Сорвался среди ночи, посмотри на него. Ведь не мальчик уже. Лучше бы ты так работал, как сейчас, по ночам бегаешь. Небось, и жили бы лучше, и на люди не стыдно было бы выйти. Надо было мне прислушаться к своей маме, упокой, господи, ее душу. Ты ведь никогда ее не любил, не уважал. Хотя она к тебе, как к родному сыну, относилась. Что, разве не так?
– Так, дорогая. Я ее тоже очень любил.
– Ну, не заливай. Любил он. Если бы любил, она бы с нами и жила. Не помню я, чтобы ты очень уж этого хотел. Ты бы и от меня, небось, не прочь был избавиться, а, Марвин?
– Нет, дорогая. Что ты? У меня никогда и мысли не было!
– Да знаю я. Куда ты без меня. Как потерянный, право слово. И на работу с утра сам не собрался бы. И штанов бы не отыскал.
«Зачем я это делаю? Кому это нужно? Для чего? Лучше все равно не будет. Я уже умер и умирал каждый божий день все десять лет. Что мне стоит умереть на самом деле? Меня никогда, на самом деле, и не было. Это не я. Это не я. Это не я.»
Повтор – удар, повтор – удар. С черного неба начало что-то накрапывать. Ко всем его несчастьям добавился леденящий северный ветер, который постепенно набирал силу. В поясницу как будто вбили кол. То ли еще будет завтра. Если он, конечно, вообще когда-нибудь доберется до дома.
Мойра продолжала говорить и говорить. За долгие годы он научился мысленно отводить ее голос куда-то на периферию своего сознания (того потерянного, как щенок без хозяина, скулящего сознания, которое у него еще осталось), и, при этом, вылавливать ее вопросы и правильно их комментировать. Правда, особого умения для этого не требовалось – главное, вовремя соглашаться или мягко возражать. Если ничего не упустить, то можно избежать бури. Хотя, буря все равно была в программе как минимум, раз в день. Это уж, как пить дать. Ничто не повторялось с такой завидной регулярностью в их доме. Его слух чутко улавливал интонации, паузы, порывы ветра, предсказывавшие погоду в ее голосе и настроении. Он вообще уже давно стал специалистом – предсказателем настроения в одной отдельно взятой семье. Настроения чертовой стервы, которую он ненавидел всеми клеточками своего измученного тела, которое даже не кричало, а вопило и стонало, желая одного – покоя.
Но, до покоя еще далеко. Еще полметра пройдено. Он очень надеялся, что большая часть дела сделана. Черт бы тебя побрал, проклятая стерва.
– Ты что-то сказал, милый?
Последняя нота, в сочетании со словом «милый», не сулила ничего хорошего. Он привык ко всем насмешливым прозвищам в свой адрес, но только не к тем, которые используются в других, нормальных, семьях. «Милый» – это, как далекий раскат грома.
Неужели, она услышала его мысли, почувствовала ненависть, с которой он вонзал лопату в неподатливую холодную землю? Может, ощутила эти удары, эти толчки, которыми он вбивал в ее плоть свой гнев, остатки гордости и жалость к самому себе.
Он мог по пальцам пересчитать количество раз, когда она разрешала ему быть главным, хоть в чем-то, хоть когда-нибудь. И даже тогда он не мог расслабиться, позволить себе быть самим собой, потому что боялся – она поймет, она услышит. И тогда ему не поздоровится. Ох, как не поздоровится. И тогда она его ударит. И тогда уже не будет слов, издевок, прозвищ. Тогда она оторвется по полной. А когда она начинала, только ей было известно, когда она закончит. Бывало, он потом по полдня валялся в постели, прежде чем мог просто сесть и спустить ноги с кровати.
В душе поднялось ужасная мешанина из чувств, что-то темное, противное, его второе, жалкое «Я», многократно растоптанное, выросшее вкривь и вкось, как бледный немощный побег, которого и быть не должно было, а вот вырос. И никому не нужен. Кроме нее. Если только она захочет. У него не было названия всем чувствам, которые поднялись вместе с волной кислоты из желудка и теперь разжигали едкой слюной его горло. Но, вместе с тем, к ним примешивалось еще одно, давно забытое, но не менее приятное, постыдное, постоянно подавляемое.
Он взглянул на нее украдкой, исподлобья. Она сидела там, недалеко. Свет фонаря освещал ее всю, как алмаз на витрине ювелира. Чистая и аккуратная, несмотря ни на что. Несмотря на то, что дождь шел уже в полную силу, а ветер норовил смешать его с грязью и выстудить из него саму жизнь. Вся грязь досталась только ему. Она была, как всегда, безупречна, как японский клинок. На ней было его любимое платье в цветочек. Из-под подола виднелась только щиколотка и лодыжка до половины.
Желание окатило его волной, невзирая ни на что, неожиданно и бесповоротно. Он хотел поцеловать ее в этот кусочек белого тела прямо здесь и сейчас, если она ему позволит. Все воспоминания вернулись, как будто только и ждали этой минуты. Ее запах, ее голос, ее вкус, ее сильные руки. Он бил лопатой в каменную землю, выскребая один кусочек за другим, высекая каждый год совместной жизни на черном полотне безмолвной пустоши. Он вонзал ее снова и снова, это было его время, когда она ему разрешала быть главным. Когда она ему разрешала думать, что он главный.
– Нет, дорогая. Я люблю тебя.
– Конечно, любишь. А как же. Еще бы не любил. А кому ты еще нужен, кроме меня? А? Думаешь, не вижу, как ты на меня смотришь, глазами стреляешь? Какой же ты жалкий, Марвин, какой предсказуемый. Жалкий, жалкий, жалкий. Ничего тебе сегодня не светит, не раскатывай губу. Неужели ты думаешь, я позволю такому замухрышке, как ты, прикоснуться к себе? Да ты меня всю запачкаешь. Жалкий грязнуля!
Судорожный тягучий всхлип свел его челюсти. Одновременно в ладонь глубоко, до крови, вошла длинная заноза. Она вскрикнул, выронил из рук лопату и закрыл лицо руками, пытаясь взять себя в руки, закрыться от нее, спрятаться. Спрятаться, спрятаться, стать невидимым.
– Да ты, никак, плачешь, Марвин? И что ты мне прикажешь делать? Утешать тебя, или сопли подтирать? Быстро приведи себя в порядок. А то и смотреть на тебя не буду. Противно, честное слово.
Он зубами вытянул занозу и схватился снова за рукоятку лопаты, оставляя на ней мокрые красные отпечатки. На нем не осталось сухого места, как будто само небо рыдало над его усилиями. И, скорее всего, рыдало от смеха над жалким неумехой со старой лопатой в трясущихся руках, на пустыре, пытающегося отнять у земли то, что отдал ей на хранение десять лет назад.
Он копал и копал, вонзал стальное лезвие раз за разом в застывшую многолетнюю грязь, спрессовавшуюся от постоянных дождей и ветров, и превратившуюся в прочную глину под жарким сухим солнцем. И когда древко вдруг переломилось посередине, не выдержав этого яростного сражения, он продолжил свою работу, используя жалкий огрызок, который ему остался, а потом и вовсе опустился на колени, разрывая, разгребая почву ногтями, стирая их до мяса, уходя с головой в могилу, которая и не ждала, что он к ней вернется, и которая, казалось, уже готова была поглотить его целиком. Он был готов остаться здесь навсегда, уйти вниз, глубоко, зарыться в эту жирную, тугую, почти резиновую землю в безнадежной попытке заглушить ее голос, который продолжал слышать с поразительной чёткостью, несмотря ни на что, несмотря ни на какие усилия. Он уже не замечал ничего вокруг, была только яма, которую он продолжал терзать и выгрызать, и вымаливать, и проклинать, и ночь, и он. И еще голос. Ее голос.
– Глупенький Марвин. Куда же ты без меня. Жалкий, жалкий, жалкий.
Тихий, почти неслышный стон зародился в его глотке. Он все крепчал и набирал силу, пока не разнесся по всему черному полю, отдаваясь в ушах людей, которые наблюдали за ним с самого вечера, когда он только собирался в дорогу, неуклюже осматривался, а потом ехал с выключенными фарами, в полной уверенности, что никто его не видит.
– Глупенький, жалкий, замухрышка Марвин. Посмотри, какой же ты грязный, мерзкий, противный.
Это существо в яме, копошащееся, как навозный жук, в мокрой, стылой земле и завывающее, как только может выть человек, потерявший самого себя, вселял в них ужас. Они стояли, как каменные истуканы, как свидетели на последнем суде. И только, когда на дне колодца появилось нечто оборванное, и только отдаленно напоминающее платье с рисунком в мелкий цветочек, они решились взглянуть на того, кто был главным. И только тогда он кивнул, отдавая безмолвный приказ, и они нехотя полезли вниз, чтобы выловить сегодняшний улов, за которым они охотились десять лет.
– Марвин Прайс, вы арестованы по подозрению в убийстве своей жены, Мойры Прайс. Вы имеете право хранить молчание…
Это подобие человека, этот покрытый глиной голем, размахивающий руками и ногами, как насекомое, проколотое иглой энтомолога, продолжало завывать и биться в сильных руках детективов.
– Нет, она не умерла! Она жива! Вы не понимаете! Она здесь, со мной, она всегда была со мной!
– Вам не следовало писать эту жалобу. Со временем дело бы закрыли. А после вашего письма, мне пришлось всем заниматься по новой. Это наш человек позвонил и сказал вам, что полиция все знает. А вы бросились перепрятывать тело, как мы и ожидали. Нервишки, то, видать, уже не те, что десять лет назад. А, мистер Прайс? Или, может быть, просто Марвин?! Жалкий, жалкий Марвин. Какой же ты грязный, противный, Марвин. Ты только посмотри на себя..
Это была она, опять она, чистая, красивая, недоступная. Опять она. Неотразимая. В своем светлом платье в цветочек.
Странная ночь
Уж несколько лет прошло, пролетело, а я все не могу избавиться от тех странных воспоминаний. Сидит занозою в памяти это мое необычное путешествие, и ночь, что я провел в незнакомом городке, которого потом так и не смог найти на карте. И кто мне скажет, было ли это в самом деле, или играет со мной воображение, превращая картины прошлого в некую искаженную быль, ничуть не похожую на реальность.
Но что поделать, если временами, закрывая глаза, я все еще вижу эти вытянутые вдоль стен тени, эти глухие двери, обращенные ко мне и не могу избавиться от ощущения тихого ужаса, дрожи во всем теле, когда заглядываю ночами, что наполнены светом луны, в закрытые наглухо шторами, гардинами и ставнями, бесконечные окна, которыми следят за нами слепыми своим глазами мрачные коробки домов на безымянных улицах тех до отказа набитых ульев, что мы называем городами и мегаполисами.
Что за этими окнами? Кто знает, что скрывают стены, двери, ограды и модные зеленые заборы и изгороди, увитые плющом и жимолостью, призванные сделать наше существование максимально комфортным, но на деле скрывающим все грехи этого мира, коим есть название, а еще больше те, которым названий еще не придумано.
Кто мы за ними, когда разоблачаемся, приводим себя в исконный вид, считая, что никто нас не видит?
Что мы прячем? Почему выключаем свет и превращаемся в один только слух и огромный следящий глаз, неутомимый и ненасытный в своем любопытстве, охочий до уродства и вычурности, отвратительных прелестей, что он так жаждет лицезреть?
Куда мы уходим? Где проводим половину своей жизни?
И что так жаждем увидеть в эти свои специально оставленные для постыдных целей щели, прорехи и смотровые отверстия? Что надеемся найти и кого боимся? Не себя ли? Не таких же, как мы сами?
И возможно ли почувствовать себя более защищенно, надежно, спокойно за двойными, тройными, колючими преградами под напряжением, высокими и мощными стенами, бетонными перекрытиями, окружёнными смотрителями, сторожами и охранниками?
И как часто мы смотрим внутрь себя и что находим там, в самой глубине? И не потому ли строим заборы, что страшна сама истина познания, само понимание того, что глубина и непроглядность зла, что прячется, таится, скрывается там, в самой бездне, черной дыре, грозит, будучи разбуженной, поглотить нас, увлечь в самый безнадежный и страшный хаос, что царит в эпицентре, сломать и сокрушить все и вся, не зная преград и остановок, пока не уничтожит все, что есть вокруг.
Как хрупка и ненадежна эта система, призрачная надуманная бесполезная система охраны наших хрупких телесных оболочек, замыливающих, закрывающих привычным видом, неприметным образом, похожестью на таких же особей человеческих, ту беспросветную ночь, свернувшуюся личинкой, ждущего своего часа эмбрионом, что так и ждет своего шанса, своего часа, чтобы, вырвавшись наружу при полной луне, рвать до крови острыми своими клыками, в припадке ярости и безумной страсти саморазрушения.
Не знал и не задумывался я об этом до той самой минуты, когда по наитию или проклятию, по чьему-то навету, злой силе и ненасытному адскому желанию, сделал тот самый нечаянный поворот, крутанув покрытыми грязью колесами на пыльной обочине, подняв душное вязкое облако, задохнувшись от кашля и потому просмотрев название на синей табличке.
А секундой спустя было поздно, и трасса осталась позади, и скрылась из вида, и катил я навстречу предписанному мне свыше приключению.
Ехал я из служебной командировки, обычной, и ничем не примечательной. Одной из многих, когда дорога превращается в самый смысл существования и держит тебя на своей бесконечной оси и ты передвигаешься вдоль нее, как челнок на прядильном станке, и все встречи и знакомства – это лишь короткие, ни к чему не обязывающие остановки, передышки, мимолетные и быстро забывающиеся.
Я страшно устал, и послав подальше все надежды и мечты на ударный пробег до самого своего дома, и, решив, хоть раз, почувствовать себя нормальным человеком, принять душ, напиться до потери совести и выспаться, наконец, что случалось до обидного редко в моей тогдашней жизни, а, если честно, то и вовсе никогда.
Постучался в первый же понравившийся мне дом с прекрасным палисадником и белым образцовым по своей чистоте крыльцом. Хозяин и хозяйка были на редкость приветливы и добродушны. За какой-нибудь час я был и умыт и накормлен и уютно устроен в милой комнатке с видом на улицу, что широкой полосой пронизывала все небольшое поселение, каким-то чудом получившее статус города. Не иначе, как помогли родственные связи или еще что-то в таком же роде.
После великолепного обеда я, в рамках небольшой культурной программы, еще нашел в себе сил прогуляться вдоль той самой улицы, обойти несколько местных достопримечательностей, и поболтать с некоторыми обходительными горожанами, которые были, под стать моим гостеприимным хозяевам, улыбчивы и словоохотливы.
Только потом, по прошествии многих дней, что пролегли в каньоне времени висячим мостом между прошлым и моим настоящим, я пришел к очевидному выводу и удивился тому, насколько абсолютно, совершенно, все, все без исключения в этом городе было хорошо, и причесано, и напудрено, и прилизано донельзя.
Простак, одним словом.
И как только можно выдумать, нарисовать в воображении, представить такой картинный, книжный городишко, что повторял нашу избитую общественную мечту слово в слово, точь в точь, до последнего штриха, черточки, оттенка.
И белые крашеные заборы без единого пятнышка, и ухоженные дети, с лубочным румянцем во всю щеку, бантами и нарядными одеждами, и чистейшие блестящие велосипеды, что сновали тут и там, и почтальоны, разносящие газеты и конверты, и молочники, что проезжали весело на своих фургончиках, и мороженщики в белых колпаках, и тетушки преклонного возраста в буклях и при вуалях с небольшими сумочками в лапках, более напоминавших птичьи, и смеющиеся девушки в очаровательных платьях, умащенных крупным горохом, и молодые люди, старательно и усердно чинившие местную церковь, покрытые потом и пылью, но ничуть не менее счастливые и радостные самому этому солнечному дню и холодной кружке пива, что подносили им юные красавицы. И важный судья, шествовавший впереди помощника, с трудом за ним поспевавшего на коротких толстых ножках, перебирая ворох бумаг и поправляя очки на мокрой переносице, и серьезный и худой, как жердь, священник, спускавшийся по ступеням после службы, и мэр города, запиравший контору после трудового дня, и банковский управляющий в костюме тройке, и много других запоминающихся всего на долю секунды персонажей, что все вместе составляли прямо таки завораживающий ансамбль, умно и тщательно подготовленное театральное зрелище, рассчитанное на своего зрителя, что ненароком попадает в эти ласковые, добрые, любовно раскрытые объятия.
И было множество коротких встреч и разговоров невзначай, и болтовни ни о чем, и шуток на расхожие темы, и легкое любопытство, и похлопываний по плечу, и опрокинутых пивных кружек, и хохота в новой нескучной компании.
Впрочем, усталость непреодолимо брала свое, и побродив вокруг да около, посидев и перебрав косточки тех, кого знал, и, безусловно тех, кого не знал, направился я обратно, отдать должное заждавшейся меня мягкой и просторной, что твой кадиллак, кровати.
Стоило мне только прилечь, только занести голову над подушкой, как я уже спал, как младенец, так крепко и так глубоко, как не спал, вероятно, никогда.
Проснулся я, как мне показалось поначалу, далеко за полночь. Однако, короткий взгляд, брошенный на светящийся циферблат моих наручных часов, подсказал, что всего только десять, и ночь еще молода, и что мне отнюдь не хочется более спать, и, возможно, лучше немного подышать воздухом, прежде чем улечься до утра.
Оделся я быстро, и достаточно живо выскочил на лестницу, что вела на первый этаж, и только там осознал, что во всем доме ужасно тихо, и, вероятно, несмотря на ранний еще час, хозяева уже легли, и мне стоит быть осторожным, чтобы не разбудить их топотом шагов и скрипом двери.
И уже на цыпочках крался я мимо их спальни, и все так же преследовала меня тишина, оцепеневшая, застывшая, словно слой жира на дне кастрюли. И выскользнул ужом на узкую веранду, и просочился по ступенькам на улицу, и только там осмотрелся, вздохнул во всю ширь легких, и зашагал так уверенно, точно ждало меня какое-то срочное неотложное дело, и вот-вот кто-то меня встретит нетерпеливо и приступит к запланированному, намеченному загодя разговору.
Но, лишь пройдя метров, наверное, сто или около того, я все же замедлил шаг, замешкался, осознав, что спешить мне все же некуда, и прогулка сама по себе подразумевает спокойное шествие, степенное движение, неторопливое и сосредоточенное дефилирование по тем проспектам и улочкам, что в некотором роде мне были знакомы после дневного моциона.
И стоило мне перейти с галопа на рысцу, а потом и вовсе на легкий шаг, не обязывающий и не привлекающий внимания, как я, наконец, понял, что тишина вокруг не похожа на ту, что я привык наблюдать в подобных городах и поселениях. И ночь была черна, как сажа, как деготь, что стекает липкой тягучей слезой в нутро дубовой бочки, и высокие мерцающие фонари мало что дают и скорее трепещут мотыльками, грозя погаснуть в любой момент, и что сами грязные размывы желтого цвета, всплески вокруг немытых ламп усиливают глубину и тяжкость тьмы, что обступила меня со всех сторон.
Та чудная картинка, что привиделась мне еще несколько часов назад, превратилась вдруг в негатив, выхолощенное подобие себя, как будто ушли сразу все краски, все светлые пятна, все, что представляло жизнь, и цвет, и звук. Все утонуло в болоте, отдало само себя, умерло до утра, залив в уши и глаза тонны непроглядного варева, первозданного, неприрученного, необузданного, из чего состоит сама вселенная, выпотрошив и вынув из этого поселка всю веселую начинку, выключив в домах свет, остановив музыку и всякое движение, дыхание, само колыхание воздуха, поднимавшихся от земли паров и эха шагов, став отражением в глубокой воде.
И появилось стойкое ощущение картонности, искусственности, фальши, бутафории. Фасады, состоящие только из фасадов, дороги и улицы, нарисованные только что и состоящие из невесомого тонкого полотна, развернутого перед тобой и убираемого сразу после тебя. Оно появлялось сразу, внезапно, там, куда ты бросал свой взгляд, и исчезало так же сразу, стоило только тебе отвести глаза, отвернуться, забыть о его существовании.
Я остановился, сраженный суровым присутствием ночи. Я словно случайно попал на ее самый сокровенный шабаш, сакральный тайный праздник, на котором меня быть не должно было. И сгустилась она до плотности, ранее мною не испытываемой никогда, и прикасалась к моим губам и рукам, и ложилась на плечи, укрывая плащом и причащая к чему-то важному, и уж коль скоро я здесь все же появился, незваным гостем, то теперь должен был сыграть свою роль, вне зависимости от моих желаний.
Я потерял всякое чувство реальности, я не знал, куда идти, все направления и ориентиры смешались, стали ничем, перестали означать что-либо и вели сразу во все стороны и обратно, ко мне, внутрь меня, смыкаясь там, где я стоял, указывая перстами своими на мою мятущуюся душу, открытую всем ветрам и бесам, что таились прямо за спиной, пока я их не видел.
И я брел через силу, не разбирая пути, пытаясь выцарапать, выкрасть, урвать хоть кусок понятного пространства от того, что я помнил, что я видел при свете дня, разобрать в этой мешанине, несусветном, нечеловеческом, одинаковом, путающем и пугающем хаосе.
И волнами со всех сторон набрасывалась на меня ночь, и не давала мне покоя, и требовала и звала за собой, и, клянусь, я слышал ее голос, и даю вам слово, она произносила мое имя, раз за разом, вертя мною, как игрушкой, насмехаясь, отпуская, и снова обнимая до потери дыхания и пульса, выбивая, выжимая, выдавливая из меня жизнь и слабое ожидание утра, как пасту из тюбика.
И вот там, в тот самый момент моего забытья, моей чудовищной лихорадки, что приступами брала и сотрясала до самых костей и позвонков мое тело, и испытывала его на прочность, на устойчивость, на измор, я всем своим существом почувствовал присутствие окон и дверей.
И за каждым окном и за каждой дверью были они. Я ощущал их неровное дыхание, нетерпеливый скулеж, постукивание копытец и скрежетание ногтей. Это были те, что сменили, наконец, свою личину, и стали самими собой, спрятавшись в своих убежищах, жилищах, неприступных крепостях. Но я знал, что они там – прижались, влились, расползлись по всем немыслимым порам и отверстиям, как железная стружка, притягиваемая единственным центром, в котором стоял я.
Все маски были сброшены, улыбки стерты, зубы заострились, глаза сузились и протянулись к вискам, уши поднялись торчком, пасти приоткрылись в хищном оскале, слюна, едкая, горячая слюна, капала на дощатый пол, изрезанный их бесноватым топотанием.
Они молча рвались вперед, они не имели ничего общего с прекрасными образами дня, они отпустили, распрощались, скинули, как ненужные платья, смыли бесполезный грим, прикрывавший еле-еле их звериную натуру. Они вдыхали влажный теплый воздух широко разверстыми ноздрями, стараясь не упустить ни единой частицы, ни малейшего намека на предвкушение крови.
Дети вылезали из своих колыбелек, хватаясь цепкими мохнатыми ручками за деревянные прутья. Девушки, обернувшись развратными дьяволицами, горели жарким огнем и облизывали острыми язычками пламенеющие губы. Парни, встав во весь рост, налившись силой ночи, упершись ногами в пол, а рогатыми головами в потолок, били нещадно хвостами, колотили, теряли сознание от вынужденного томительного ожидания.
Они все были там, в подполах, в комнатах и коридорах, в залах и на чердаках, все чертово отродье, лениво игравшее свои роли днем, и поднимавшее свою уродливую морду ночью, закидывавшее голову назад и воющее на подступающую к своему величию луну.
Что я потерял здесь? Как случилось так, что я повернул в несчастный час и неурочную минуту, одним только окаянным движением изменив свою судьбу?
Кто завлек меня на сатанинский алтарь? Кому я был нужен до этого момента и почему так неудачно повернулись стрелки часов, приговорив меня, и выбросив из мешка мое имя?
Сколько таких городов и деревень я проехал за свою жизнь, сколько улиц, парков и переулков повидал, сколько дверей, калиток, ворот, окон и окошек смотрело, пробегало мимо, пропускало меня незамеченным, давало мне время, позволяло жить и дышать, наивно полагать, что я что-то делаю, что-то значу, чем-то занят, и кому-то нужен.
Лица, люди, разговоры и слова, объятия и посиделки, пересуды и дружеские советы. Все, что ты видишь, все, что на виду, все, во что веришь и принимаешь за чистую монету. Все, чтобы ты только приехал сюда, на аутодафе, предназначенное тебе, уготованное давно и планомерно подводящее тебя к нужной черте. Словно корабль, затягиваемый в водоворот, или муха, запутавшаяся в паутине, бьющаяся в надежде спастись, но отдающая уже последнюю свою дань, последнюю жертву.
Тщетно. Напрасно. Бесполезно.
Они там, за своими надежно запертыми дверьми.
Они там, за своими прикрытыми окнами.
Затаились.
Ждут.
Скоро начнется.
И некуда бежать. Не имеет смысла.
К чему?
Раз все частички головоломки совпали, собрался пазл, упала последняя песчинка в песочных часах, могу ли я пойти против неизбежного?
Я пришел сюда сам, своими ногами.
Я стою посреди созданного мною и для меня образцового совсем недавно городка, причесанного и напомаженного, надушенного и прилизанного.
И я жду.
Что скажут они, как поведут себя они, какую участь мне уготовили они?
Те, что скрываются за дверьми и окнами.
Я закрываю глаза, принимая и смиряясь.
И тут, вдруг, свершается, выходит луна, и освещает все вокруг, и бьет ярким светом мимо меня, бросая тени, очерчивая линии и предвещая всю последовательность событий.
Эту ли команду все ждали? Сигнал, знамение, указующий луч маяка?
И замерло все, и ничего не происходит так невыносимо долго, что я сам теряю терпение, и мучаюсь и ненавижу эту незаслуженную пытку.
Открываю глаза и вижу лишь черное и белое. Чернильно-черное и бледно белое. День и ночь смешались на контрасте. Свет луны разрезал весь мир напополам, четко отделив уголь от снега, вскрыв всю сущность зла до самых его корней.
Но не это занимает мои мысли, и не думаю я более о навязчивых понатыканных справа и слева густо дверях и окнах, не помышляю о тварях, что скрываются за ними, а смотрю лишь во все глаза на черную землю и белый забор. На белый забор и на черную тень на нем. Единственную тень на всей улице. Единственную тень на всей планете, которая только и осталась в свете луны. Эта тень страшна своими очертаниями, она поражает своими размерами, она убивает своей реалистичностью, гибкостью и статью животного, хищного, яростного, жестокого. И вижу я все до мельчайших подробностей, до самых мелких деталей: и вздыбленную на загривке шерсть, и мощные изгибы тела, и частокол зубов, торчащих из пасти.
И поворачивается эта тень ко мне и смотрит мне прямо в глаза, проникая вглубь и исторгаясь из этой самой глубины.
А за моей спиной одиноко, но честно, без прикрас, светит луна, и смотрит на меня, одиноко стоящего на улице, посреди притихших тварей, что скрываются за дверьми и за окнами.
А утром я покинул тот городишко.
Уехал навсегда.
Но, как и сказал в самом начале, не нашел его потом более ни на карте, ни на путеводителях, словно не существовало его и в помине.
Поминки
Он появился у дома ровно в ту секунду, когда последний луч солнца погас на горизонте, забыв после себя кровавое зарево ушедшего дня. Черный костюм, черный галстук, черные очки. В другое время это бы выглядело, как избитое клише. Но, как же было не поддаться искушению побыть самим собой на претенциозном людском маскараде!
Двухэтажный дом в престижном районе города, сдержанный, предельно выверенный церемониал у входа. Рукопожатия, строгие кивки, тронутые печалью лица – ритуал, изысканный спектакль, отточенный поколениями, чтобы обозначить, подчеркнуть момент ухода одного из своих представителей, скромную, но достойную эпитафию. Присутствующие выражают свою скорбь, раскрывая целую гамму чувств: от осмысления понесенной потери до стоического принятия бренности их существования, через сопереживание и единение, до станции подведения итогов невосполнимой утраты и невыносимой, горькой, как синильная кислота, необходимости двигаться дальше, не смотря ни на что, на фоне тщательно подавляемой радости от того, что провожают не тебя и твоя конечная еще не скоро.
Ярко освещенная терраса, несколько невысоких ступенек, ядовито зеленый газон в лучах придорожных фонарей. С каждым шагом, приближавшим его к дому, он чувствовал все большую уверенность и спокойствие, вдыхая чудесный прохладный воздух близкой ночи, наполненной музыкой шумного города: гудящих улиц, далеких разговоров за тысячами окон, звенящих проводов вдоль мостовых, хлопаньем крыльев невидимых птиц в затухающей синеве над головой, перестука шагов, дроби вагонов метро глубоко под землей, шороха шин, беззвучного смеха, отраженного множество раз от стен из стекла и бетона. Он любил это время суток. Вернее, полюбил его не так давно. Оно наполняло его энергией, желанием, ощущением полноты бытия, а самое главное – он ощущал любовь, горячую, страстную, пульсирующую во всем сущем. Любовь самой ночи, встречающей долгожданное дитя.
Несколько коротких приветствий, проигранная и переигранная печаль, еще одна монетка в копилку, проходящую по рукам, еще одно действие в наборе ролей, отпущенных каждому на пути от колыбели до могилы. «Очень жаль!», наклон головы, пируэт, «Да, сожалею. Кто бы мог подумать…», нахмуренные брови, легкое па, «Виделись совсем недавно. Выглядел абсолютно здоровым», поджатые губы, поклон корпусом, «Береги себя», «До встречи!», «Для тебя, наверное, это был серьезный удар. Сожалею. Вы были друзьями…», «Да, больше тридцати лет.», «Он был лучшим из нас», сдержанные аплодисменты зала.
Свою партию он играл с честью и достоинством. Тридцать лет знакомства, еще с университета. Сколько приключений довелось пережить. Сколько историй можно рассказать.
Было бы кому слушать.
Теперь, конечно, одним умным собеседником стало меньше. Мир еще более потерял свою привлекательность, стал глупее и бесполезнее.
В доме народа было не меньше. Если не считать мертвого тела в дальней комнате, такую тусовку можно было применить к любому торжественному случаю – помолвке, дню рождения, встрече одноклассников, даже показу мод, никто бы не смог придраться. Наверное, это и хорошо. В конце концов, это крайне удобный повод для общения: все те же, минус один. Людская социализация, роение, танцы с волками, смазка на шестеренках нескладной системы, придуманной человеком, как и все неестественное в этом мире. Покойный из нее выбыл, он уже не с нами, но дела, увы, не ждут. Поспеши, пока сам не оказался в коробке, на постаменте в дальней комнате, в которую стараются не заглядывать, словно боясь побеспокоить этот квелый кусок мертвой плоти.
Прогуливаясь по комнатам и коридорам, от одной группы беседующих к другой, становилось все более очевидно, насколько ему наскучила, опостылела эта душесмердящая условность, громогласная недосказанность, зеркальная отраженность переживаний, убогая квадратура эмоций: «надо взять себя в руки и жить дальше» на поминках, и «желаем молодым счастья, с нетерпением ждем пополнения!» на свадьбе, различного кроя и расцветок костюмы и платья, придающие хоть какую-то привлекательность змеевидным телам, разбитые улыбки, липкие прикосновения, все эти элементы обязательной программы, знакомой всем с детства игры, не приемлющей импровизаций.
К своему неудовольствию он заметил, что сигара и дорогой коньяк не доставляют ему прежнего удовольствия. Вряд ли дело в обстановке: что-то безвозвратно изменилось в его восприятии атрибутики светской жизни. Вполне возможно, все это случилось одновременно с пробуждением от навязанной ему псевдореальности, в которой не было места ничему настоящему.
Странно, осознание этого факта не вызвало у него никаких эмоций. Он словно наблюдал за своим телом, лежащим на столе операционной, не питая особых надежд на успешное завершение и ничуть об этом не сожалея.
Однажды, не так, впрочем, и давно, словно кожей почувствовав искусственность всего, к чему он прикасался, он стал искать настоящего себя, островок подлинной, живой, даже животной, сути, в океане бессмысленной и убаюкивающей суеты. Он не смог бы сказать, как и когда ему стала очевидна истина, к которой он исподволь стремился. Сейчас он с улыбкой вспоминал свою незрелость, бесконечные ночные страхи, которыми он не мог ни с кем поделиться, неуверенность в каждом последующем шаге. До того момента, когда был пройден последний отрезок пути, когда заветная цель предстала его глазам и можно было не скрываться перед самим собой, не таиться от самого простого и правильного ответа на все его вопросы. Никогда ранее он не чувствовал себя настолько полноценным, свободным, наполненным подлинными соками земли, единственным живым среди этих ходячих мертвецов (хотя расхожие сказки утверждают обратное), что могли сколько угодно говорить, ходить, заниматься любовью и рожать, но все равно не были способны жить и на малую толику того, что выпало на его долю.
Неожиданно для себя, он усмехнулся себе под нос. Какова ирония – таинственный зритель из зала, украдкой проникнувший на вечерю бледных теней, ни на секунду не принадлежавших его миру, на поминках того, кто был ему, на самом деле ближе, чем все присутствующие.
А все-таки, подумалось ему, жаль потерять вкус к сигарам и коньяку, тем более, из коллекции настоящего ценителя изысканных удовольствий. Ну что ж, как говорится: «лучшее – враг хорошего». Это, как раз, его случай. Переходя на ступень выше, готовься попрощаться с прежними привычками, и, к сожалению, вкусами и наслаждениями. Тем больше причин лучше познать новые, и в полной мере восполнить ими образовавшийся пробел в палитре восприятия и эмоций.
Прежде чем пройти к своему, уже бывшему, другу на последний поклон, он остановился у последней небольшой группы людей в том же черном, но с ценником на порядок выше. Это была его старая университетская братия, состоявшиеся, маститые мастодонты.
Прошедшие тридцать лет оставили свой щедрый отпечаток на каждом. Морщины, опустившиеся уголки губ, поредевшие волосы, не стесняющиеся животы, ссутулившиеся плечи, и все другие симптомы солидного среднего возраста, когда седина в бороду уже в наличии, а бес в ребро так и не попал.
Эти были еще печальней и пасмурнее, чем все остальные. Неудивительно, смерть близкого друга – это почти приглашение с того света. Буквально вчера ты еще хорохорился, подкатывал к молоденьким секретаршам и официанткам, балагурил на вечеринках, а сегодня вдруг стало совершенно очевидно, что пуля просвистела совсем рядом и просто чудо, что ты в этот момент наклонился, чтобы закурить. В следующий раз судьба злодейка может оказаться точнее и эта же церемония вполне может быть организована и по твою душу, и тогда все будут так же грустно дефилировать по комнатам, пока ты отдыхаешь в одиночестве в дубовом ящике, обитом белым атласом, перед последней малоувлекательной поездкой и добротным погружением в никуда. И не было среди них ни одного, кто бы втайне не мечтал передать эстафету кому-нибудь другому.
Очередная порция замыленных штампов, вздохи, покачивания головой.
«Давно не встречаемся», «Обязательно надо собраться», «Время идет. Всякое может случиться».
Он поддерживал несложную беседу, кивал, поддакивал. В этой компании ему было относительно комфортно.
