К зиме, минуя осень
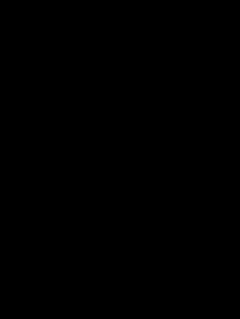
Рисунки А. Тамбовкина
© Семёнов Г. В., наследники, 1972
© Тамбовкин А. Г., наследники, рисунки, 1979
© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2021
Глава 1
Была там густая, цветистая трава, все перепуталось там: белые, красные, лиловые и розовые клевера, и ромашки, повилика, и лиловые колокольчики, и голубые, как небо, дикие астры, и множество всяких желтых и оранжевых цветков, – все это как будто кружилось перед глазами, и они шли по этим цветам, а цветы мешали идти, потому что приходилось преодолевать их цепкое и упругое сопротивление. Палило солнце, горели щеки, обожженные душистым жаром спелых трав, и всюду жужжали, прыгали и ползали мухи, шмели, пчелы, мириады кузнечиков – вся округа была заполнена этим знойным цветным гудением и звоном.
Они продирались сквозь цветущие травы к березам, которые чередой стояли среди поля.
Ему было одиннадцать лет, а ей на полгода меньше. И оба впервые в жизни были влюблены. Она любила его, а ему казалось, что самая красивая, самая нежная, самая верная и самая грустная на свете – это она… Ему нравились задумчивые и грустные девочки. А эта была самая задумчивая. И ему впервые приходилось вот так, как теперь, заблудившись, идти рядом с ней и знать, что они заблудились, знать, что им еще долго идти и, может, вообще не найти никогда дороги.
Он ни разу еще не дотрагивался до нее, даже не брал ее за руку – здоровались молча, одними только глазами; лишь однажды, когда их старшие группы купались, а она собирала в мокром песке маленькие ракушки, он тоже набрал их целую горсть, подошел к ней и спросил:
– Тебе нужны ракушки?
– Нужны, – сказала она и подставила ладони.
Он с робостью коснулся ее холодных, мокрых рук, высыпая крошечные ракушки, и спросил:
– А зачем тебе?
– Просто так.
Неделю назад их подстригли наголо, как в больнице, – и мальчиков и девочек, – и она в тот день ходила заплаканная, в белой косыночке, боясь попадаться ему на глаза. И только на реке она была без косынки, и он заметил, что у нее на голове словно бы серая шапочка вместо волос. Ему тоже, конечно, неприятно было, его тоже никогда не стригли наголо, но он-то знал, что идет война, и не очень жалел.
Он вздохнул тогда и сказал:
– Без волос даже лучше. Не жарко, – и погладил себя по голове, словно по шершавой шкурке.
Она потупилась и покраснела, разглядывая ракушки, и только темя ее стало как будто бы голубым и нежным под тонкими колючками волос, и пальцы ног стыдливо зарылись в мокрый песок.
А сегодня после завтрака он притаился возле железной бочки с тухлой водой и ждал, когда выйдет Гыра: надо было отомстить, потому что тот вчера плеснул ему этой тухлятиной в лицо и удрал.
Гыра был парень вредный, потому уже двое в интернате носили обидные клички: одного он прозвал Пудиком, а другого Цыпой. Ему нравились клички, и он охотно откликался на свою – Гыра, хотя звали его просто Женей. Он, наверное, придумал сам себе эту грозную кличку, чтоб избежать обидной. Хитрый был и обжора страшный, а говорил как с кашей во рту. «Лопшля и пшленка – обошлешься!» – сказал Гыра как-то после обеда тем, кто ждал своей очереди.
Признаться честно, не очень-то хотелось связываться с этим Гырой: приклеит какую-нибудь кличку, потом не отлепишь никакими силами, а он и без того носил странное, как ему казалось, и смешное имя – Иннокентий, или Кеша.
Так вот, когда Кеша таился за железной бочкой, которая стояла на заднем дворе школы, и ждал Гыру, потому что Гыра всегда приходил сюда, на этот заросший травой и бурьяном двор, помочиться после еды и питья, – вместо Гыры во двор вышла Лариса Белякова. Гыра называл ее Ралисой. Она увидела Кешу и остановилась, а потом, вглядевшись и словно бы узнав, наконец спросила с удивлением:
– Что ты тут делаешь?
А он пожал плечами и сказал:
– Ничего, – хотя ужасно смутился, потому что представил на миг, будто она могла подумать, что и он приходит сюда за тем же, что и Гыра.
– А чего в этой бочке? – спросила она.
– Тухлятина.
Она приблизилась к маслянисто-темной, мертвой какой-то воде, склонилась над бочкой, понюхала и сказала:
– Прудом пахнет.
– Каким прудом? Что ты! – воскликнул он и стал тоже нюхать воду.
Они теперь вместе склонились над застывшей водой. И он совсем забыл про запах, потому что вдруг увидел в черной воде, в этом черном зеркале, темное ее лицо, а рядом с ним свое, тоже темное, круглое, ушастое. Ее лицо было очень хорошее в этой тухлой тьме, и глаза ее были хорошо видны, большие и грустные. И он понял вдруг, что она тоже пристально смотрит на отражения, едва колеблемые дыханием.
– А мы как негры! – сказала она удивленно.
– Ага, – согласился он.
Запах тухлой воды, который только что казался ему отвратительным, стал вдруг входить в сознание живым каким-то запахом. Кеша втягивал воздух и не чувствовал брезгливости. Скорее наоборот – ему нравился этот густой и тягучий запах! А те мгновения, когда они, склоняясь над железной бочкой, вместе смотрели в черноту ее тухлой воды, показались ему бесконечно долгими и радостными, тревожными минутами.
– А косынка у тебя белая, – сказал он.
– Это потому, что ее солнце освещает, – ответила она. – А я знаю, где тут есть… настоящая пасека.
Она окунула пальцы в воду и сразу взъерошила отражения.
– Фу! – сказала она. – Действительно тухлая! А мы как дураки…
Светило солнце, мир был ярок и свеж, за школой галдели, били по мячу, смеялись ребята, на лугу перед селом паслись белая коза и два серых козлика, а из-за угла поглядывал Гыра и злорадно улыбался.
– Ой, держите меня! – заорал он во всю глотку и захохотал, хватаясь за живот. – Держите меня! Они пили из бочки!
– Дурак! – крикнул ему Кеша в отчаянии. – Сам ты пил! Дам по уху, тогда будешь орать…
Лариса взяла вдруг Кешу за руку и решительно сказала:
– Пошли отсюда, от этого полоумного, подальше…
И Кеша, подчиняясь, пошел за ней следом, хотя руку из ее руки постарался высвободить, потому что Гыра, видя все это, падал на траву и дрыгал ногами. К счастью, никто из ребят не пришел на его хохот и крик.
Кеша был, конечно, смущен, когда Лариса, взяв его, как маленького, за руку, на глазах у этого Гыры повела прочь, куда-то в сторону села Незнанова, к белой козе с козлятами, и внутренне весь сопротивлялся этому, хмурился и молчал, не понимая своей покорности и стыдясь ее. А Лариса шла в розовом сарафане чуть впереди него и грустно взглядывала, словно бы оправдывалась.
– Не расстраивайся, – сказала она с просьбой в голосе. – Пожалуйста! Этот Гыра как вода в бочке: тронешь – запахнет гадостью всякой… Ты его обязательно стукни как-нибудь разочек. Только без меня. Ты с ним сладишь, я знаю… Как следует стукни…
– Да хоть сейчас! – сказал Кеша воинственно.
– Не-ет, сейчас не надо. Мы ведь на пасеку с тобой собрались…
Они шли по зеленой выщипанной шерстке, на которой паслись серые гуси. И всякий раз, когда проходили мимо гусей, Лариса пугалась гневного их шипения, изогнутых шей и, сторонясь, не спускала с них глаз. Взгляд ее становился оторопелым, а протянутая к Кеше рука вздрагивала и волновалась, словно Лариса шла по жердочке через ручей, ища рукой невидимую опору. А Кеша, который тоже побаивался этих клювастых и важных птиц, шипящих по-змеиному, сохранял спокойствие и чувствовал себя чуточку храбрецом на этой зеленой деревенской улице.
Потом они вышли к кладбищу, к облезлой церкви, в которой был клуб. Там, возле церкви, хоронили мертвых, там было много красной бузины и крестов. Они туда не пошли, а по тропочке под липами – огромными и раскидистыми, которые были посажены, наверное, очень-очень давно, – миновали кладбище. Пахло липами. Деревья уже зацвели и казались гигантскими букетами.
– А я совсем не боюсь ходить по кладбищу, – сказала Лариса, когда они вышли к чечевичному полю. – Чего бояться-то, правда?
– Конечно, – согласился с ней Кеша, слыша позади птичий гомон и писк. – Мы, когда бабушку хоронили, я с мамой… потом уже… в темноте совсем… мы были… у нас дома там такие, знаешь, кустики на кладбище, а на них зеленые такие колбаски… До них дотронешься, а они – трык! – в пальцах сворачиваются, как пружинки, а горошинки маленькие разлетаются… А у вас на кладбище есть такие?
– Не знаю, – сказала Лариса удивленно. – У нас, по-моему, никакого и кладбища нет…
– Ну как же нет?!
– Не знаю… У нас во дворе лепешечки растут, и мы их ели… всегда. Тут почему-то таких нет. Кеша, а твой папа на фронте?
– На фронте. А твой?
Лариса вздохнула и сказала:
– Тоже. Я видела, тебе письмо недавно было… От папы?
– От отца…
– А мой не пишет… Мама только…
– Фотокарточку прислал, – сказал Кеша с хвастливым и жестоким превосходством. – Они там сидят, наверное, около аэродрома, на земле, и отец смеется.
– Он летчик?
– Нет, он не летчик… он, вообще, механик, самолеты чинит. Пробьют крыло, а он починит. А форма у него как у летчика.
– А мой папа… Мы на даче жили, когда началась война… А он рыбу ушел еще вчера… ловить… Ну… вечером вот… Потом пришел и ничего не знает… А мы с мамой ждали, ждали. А папа пришел и говорит… и спрашивает: «Вы чего это носы повесили? Я рыбы наловил». А мама ему говорит: «Война». Он собрался и уехал… А рыба вся испортилась…
Чечевичное поле с белесой от пыли большой дорогой, вдоль которой далеко-далеко уносили куда-то столбы провисшую от жары проволоку, темно зеленело перед глазами. И казалось, будто над далекими его краями воздух пропылился зноем. Над дорожной пылью ластились молчаливые ласточки, молниеносно и упруго облетая Кешу и Ларису, а впереди над деревянными столбами, над проволокой дрожала в воздухе пустельга. Она как-то особенно часто махала крылышками и оставалась на одном месте, а когда Кеша и Лариса приближались, ее словно бы ветром сдувало и уносило. Но снова, трепеща, зависала она вдали над столбами, чтобы опять улететь. Она как будто поджидала и заманивала, заманивала в бесконечные дали двух маленьких человечков. И эти два человечка шагали вдоль вереницы столбов и говорили о войне и о своих отцах. Один говорил радуясь, а другой человек – печалясь. И они плохо понимали друг друга.
– Кеша, – вдруг сказала Лариса, все убыстряя шаг, – давай с тобой потихонечку от всех дружить.
Он тоже пошел ходче и, не глядя на нее, сказал:
– Давай.
– Только – никому! – сказала она. – А потом, после войны, когда мы будем большими, мы с тобой поженимся. Как все.
Она это сказала так, будто для нее это был давно уже обдуманный и решенный вопрос – дело оставалось только за временем, за очень медлительными, долгими годами. Он, в свою очередь, тоже подумал, что хорошо бы скорей стать большим и жениться на ней: проснуться бы завтра и… Но он так разволновался, услышав эти ее неожиданные слова, что никак не мог ничего сказать в ответ. А она шла чуть впереди него в насквозь пропыленных сандалиях, в розовом сарафане-колокольчике, худущая и смуглая, и он видел только очень красивый овал ее щеки, кончик носа и немножечко подбородок… И ему вдруг стало очень обидно, что им еще просто нельзя, просто никак невозможно жениться. В сознании своем он успел уже построить за эти мгновения целый комплекс каких-то непредвиденных обстоятельств, случайностей, которые могут всё изменить, всё разрушить, потому что впереди слишком уж много лет. Ему даже страшно стало, когда он подумал об этом или, вернее, когда почувствовал и ощутил, что Лариса может не навсегда быть только для него и только с ним, как теперь. Он даже успел разозлиться на нее за это.
– Смотри только! – сказал он неожиданно для себя самого мрачно и угрожающе. – Если ты все это врешь!
А Лариса тоже рассердилась и сказала:
– Ну и ладно. Я пошутила.
Она вдруг остановилась посреди дороги, повернулась к нему, насупленная, и хмуро сказала:
– Никуда я не пойду.
Он не ожидал этого и растерялся, но тоже остановился и сказал со злостью, поглядывая исподлобья на нее:
– Ну и не ходи!
Так они впервые в жизни поссорились.
Она стала снимать с ног сандалии и вытряхивать из них пыль. А он увидел в чечевичных зарослях плеть гороха, выдрал ее с корнем и стал есть зеленые, нежные, водянистосладкие стручки, сплевывая жвачку в пыль.
– Ну чего ты разозлилась? – спросил он, когда Лариса снова надела на ноги сандалии. Он заговорил именно в этот момент, ибо понял, что она и впрямь может сейчас повернуть домой.
– Я?! – удивилась она.
– А я, что ль? Я потому что… ты ничего не понимаешь! Я и не злился на тебя никогда.
– И я тоже.
– Хочешь гороху?
Лариса с сомнением посмотрела на протянутые стручки.
– Неспелый, – сказала она.
Но Кеша стал нахваливать и уверять, что это самый вкусный горох – неспелый и что потом, когда горошины будут твердыми, их и в рот-то не захочешь брать…
– Попробуй, попробуй, – говорил он. – Они сладкие…
И она взяла протянутый стручок, который был еще совсем прозрачный и еще даже цветок не отлетел от его острой макушки, а по просвеченному краешку смутно темнели изнутри и чуть бугрили глянцевую кожицу будущие горошины.
Так они тоже впервые и тоже незаметно для себя легко помирились, и Кеша стал рассказывать ей, как он вчера курил с ребятами свернутые в трубочку табачные листья – «сигару».
В этом районе Рязанской области было много полей, засеянных табаком. Мохнатенькие листья, высушенные на солнце, почему-то не желтели, как настоящий папиросный табак или махорка, а делались бурыми, издавая резкий и дурманящий запах. Свернутые, они никак не хотели дымиться, и редко кому из ребят удавалось раскурить свою «сигару». И все старательно сплевывали тягучую, терпкую слюну. Но все-таки иногда удавалось – и тогда ребята смотрели на счастливчиков с завистью, а Гыра восторженно советовал: «Жадохнись, жадохнись». Но никто не решался задохнуться ядовитым дымом, от которого было горько и горячо во рту, а на сердце жутковато. Не решался и Кеша, видя в этом какой-то Гырин подвох и вовсе еще не представляя себе, как и зачем курят взрослые люди. И все же ему приятно было и тревожно втягивать в рот едкий дым и, подержав его там затаенным дыханием, выпускать. «А слабо жадохнуться! – поддразнивал Гыра. – Слабо!» Кеша отдал ему свою дымящуюся «сигару», тот ее взял двумя пальцами и на глазах у всех с отрешенным взглядом втянул в себя дым и вдруг задохнулся по-настоящему. С выпученными мокрыми глазами он долго и натужно кашлял, выпуская слюни. Лицо его стало мучительно красным, и синие жилки вздулись на лбу. Гыра хрипел, словно подавился огромной костью, отплевывался, ему не хватало воздуха, и взгляд его выражал неподдельный испуг. Он с трудом отдышался, утерся рукой и, все еще покашливая, бледный и дурной на вид, сказал удивленно и весело, словно бы радуясь, что остался в живых: «Во жаража! Думал, подохну…» – и все тер и тер себе грудь, которая, наверное, болела от дыма и удушливого кашля.
Именно вчера после случая с «сигарой» Гыра и плеснул Кеше в лицо тухлой водой. Это было очень оскорбительно, потому что кое-кто из ребят видел и все они смеялись над Кешей и даже не пустили его, когда он пытался броситься на Гыру. Но он и не предполагал, что последует за этим случаем и за той «сигарой», дымом которой на глазах у всех Гыра бесстрашно затянулся. У него и в мыслях не было, что Гыра теперь возвысится над ним недосягаемо, а сам он словно бы проиграет в жизни что-то очень важное, что-то такое, что уже почти невозможно отыграть.
Ему все это не приходило в голову. Он просто был зол на Гыру и рассчитывал рано или поздно отомстить ему, хотя тоже еще не знал, что теперь всякая месть его будет выглядеть в глазах интернатских ребят просто-напросто мелкой и бесполезной попыткой обидеть Гыру, и ребята теперь ни за что не простят ему этого и еще пуще станут смеяться над ним, а Гыру будут возвышать в своем сознании, наделяя всеми качествами признанного вожака.
Ничего он этого не знал, когда шел с Ларисой к близкому уже лесочку и хвастливо рассказывал, как он вчера курил с ребятами.
– Противно? – спрашивала Лариса с отвращением.
А Кеша, которому и в самом деле было противно держать во рту дымящийся, свернутый в трубку табачный лист, от которого щипало губы и язык, отвечал ей с ухмылочкой:
– А как же все-то?
– А ты не будь как все.
– Почему?
– Потому, – с упрямством в голосе говорила Лариса.
Тем временем чечевичное поле оказалась позади, и лесочек, который совсем недавно казался просто какой-то мутью на горизонте, надвинулся, вознесся к небу, стал зеленым и курчавым, и уже слышно было, как цвиркали там потихонечку птицы.
Кеша спросил:
– Ты здесь бывала?
– Не-а… – протянула Лариса беззаботно.
И он с удивлением увидел, как она, сойдя с дороги, стала рвать львиный зев, словно бы ей ничего и не надо было больше.
– А про пасеку откуда знаешь?
Она вдруг смутилась и, краснея, сощурилась виновато.
– Кеша, – сказала она, – я пошутила. Просто хотелось куда-нибудь удрать, а я одна… И придумала про пасеку… Ты ведь не сердишься на меня, Кеша?
…И вот теперь, заблудившись в лесу и выйдя на какое-то незнакомое поле, они шли по цветущей траве к череде берез, думая, что березы растут вдоль дороги, которая куда-нибудь да выведет. Впрочем, думал об этом один только Кеша. Лариса просто шла по пятам и, хоть очень устала, все равно успевала срывать красивые кашки, похожие на маленькие розы, все увеличивая и без того огромный и, наверное, тяжелый букет, который она неизвестно зачем тащила, прижав к груди.
Этот-то букет больше всего на свете злил Кешу. Он не мог и не хотел понять, зачем ей нужен был этот дурацкий букет сейчас, когда они, пропустив, наверное, уже время обеда, не знали, куда им идти. Он представлял себе, как завтра на утренней линейке, с которой начинался день в интернате, все будут поглядывать на него и на Ларису и как начальница интерната Лидия Фёдоровна вызовет их из строя и при всех будет говорить своим резким и крикливым голосом что-нибудь плохое про них, а все будут слушать и думать: «Как им не стыдно! Ушли вдвоем, никому ничего не сказав, и пропадали до вечера». И будут потихоньку думать, что этот Кеша и эта красная от стыда Лариса, стоящие перед строем, «влюбились».
И это последнее казалось самым ужасным, что мог себе представить Кеша. Его вдруг охватило при этой мысли тоскливо-тревожное чувство, злость на Ларису и на ее дурацкий букет, и были даже минуты отчаяния, когда он останавливался и, оглядываясь, готов был плакать, и кричать, и звать кого-то на помощь, хотя никого не было видно вокруг и никого они не встретили с тех пор, как вышли из интерната, словно бы люди все вымерли или ушли воевать, бросив эти поля, перелески, лощины, и словно все дороги Рязанщины уже заросли травой и стали совсем незаметными, а им теперь не найти ни одной из них. В такие минуты Кеша готов был вырвать из рук Ларисы букет с повисшими, вялыми цветами и растоптать его.
А ее лицо пылало жаром, словно при температуре под сорок, а она смотрела на Кешу так доверчиво и так виновато, что все его раздражение пропадало, и только голосом своим выдавал он тревогу и растерянность.
– Хоть бы какое-нибудь дерево попалось, – говорил он в отчаянии.
– Ага, – соглашалась с ним Лариса покорно.
– Ага-ага! А зачем, думаешь, дерево-то нужно?
Она робко, словно бы боялась, что ее сейчас поколотят, спрашивала:
– В тенечке посидеть? Да, Кеш? А то жарко…
Он хмурился и по-взрослому говорил:
– Не до отдыха… С дерева можно оглядеться, залезть на макушку и оглядеться… Поняла?
– Ага, – говорила Лариса.
Теперь, когда они подходили к березам, она надеялась, что Кеша заберется на одну из этих берез, оглядится вокруг, увидит вдалеке село и, может быть, интернат и все станет опять хорошо, а она успеет чуточку отдохнуть под березой, чуточку посидеть на земле и даже полежать.
Глава 2
Им повезло, потому что за березами и в самом деле была проезжая дорога со следами колес, и хотя она не была похожа на ту пыльную и широкую дорогу, по которой они шли сегодня к лесочку, радость их была беспредельна. Лариса даже вскрикнула от этой радости: «Ура-ра-ра-ра-ра-ра! Ура!» – а Кеша улыбнулся снисходительно и, поглядывая на Ларису, сказал ей, что теперь-то, конечно, можно и отдохнуть немножко.
Впрочем, минутная радость его вскоре сменилась новой озабоченностью, потому что Кеша совсем не представлял, куда и в какую сторону нужно идти. Спросить было не у кого, а березы… Уж очень не хотелось сейчас на дерево, да и вряд ли можно было рассчитывать, забравшись на одно из них, увидеть какое-нибудь село, или сам интернат, или хотя бы знакомые места, по которым они уже проходили раньше, – кругом одни только луга и луга да цветы…
Он свалился в прохладную траву под березами, лег на спину, закрыл глаза и, видя сквозь веки полуденный свет, полетел. Ему было легко лететь в розовом мутном сиянии, и какое-то воздушное течение плавно подхватило его, и он, невесомый, покачиваясь, плыл в этом течении, и ему чудилось, будто ноги поднимались все выше и выше, переворачивая его вниз головой, и ничего нельзя было поделать, словно ноги наполнялись каким-то летательным газом, словно газ этот стал уже распирать и раздувать ноги, которые приятно и в то же время тягостно начали побаливать… Голова была очень тяжелая, и вся кровь будто прилила к голове и бухала в висках, горячая и торопливая…
Веки у Кеши стали сами собой подрагивать, пытаясь раскрыться, и, как он ни старался продлить странное и непривычное состояние, зная, что все это ему только кажется, как он ни пытался еще немножко полежать в траве с закрытыми глазами, какая-то сила подняла веки, и он упал на землю. И почувствовал сразу ее неласковую жесткость.
Над ним сквозь листья посверкивало солнечное небо, листья чуть шевелились, и он бездумно и отрешенно стал смотреть на эти сверкающие листья, чувствуя и даже, кажется, слыша внутренним своим слухом, как гудят его натруженные, потяжелевшие ноги.
Он вспомнил о Ларисе и окликнул ее, все еще глядя на листья.
– Ты чего делаешь? – спросил он, когда она отозвалась.
– Тоже лежу.
– Устала?
– А ты?
– Я не устал.
– Я почему-то тоже не устала… Я тут землянику нашла.
– Много?
– Одну…
– Съела?
Лариса промолчала, и он услышал, как она поднялась, приблизилась и, невидимая, сказала где-то рядышком, сбоку:
– Закрой глаза.
Он легко подчинился, и Лариса положила ему в губы что-то маленькое, шершавое и круглое. Потом эта ягода, когда он раздавил ее языком, стала душистой и вкусной. А потом, как бритва, резанула по пересохшему языку своей остротой. Он открыл глаза и увидел прямо над собой Ларису, ее худущие смуглые ноги с бурыми следами царапин, костистые коленки и счастливое ее лицо под косынкой.
«Смешная!» – подумал он застенчиво и спросил:
– А сама?
– Пить, Кешка, хочется ужасно!
– Да, – сказал он, вставая, – надо идти. Ничего… Потерпи немножко, мне тоже хочется.
Эта дорога совсем не была похожа на ту вспухшую и взбитую от глубокой пыли дорогу. Ноги там утопали по щиколотку в нежной и тяжелой пыли, которая не вздымалась от шагов, не летела, хотя была как пудра или как мука, а просто расступалась под ногами. Шаги не слышались на той мучнистой дороге, и следы не оставались ни от ног, ни от колес.
А это была живая, упругая, заросшая цветущими подорожниками, хорошая луговая дорога, идти по которой было бы очень приятно, знать бы только куда.
И не скоро бы они вернулись домой, если бы не встретилась им на этой дороге подвода. Чалая лошадка вразвалочку рысила им навстречу, а в небольшой телеге на зеленой травяной подстилке сидела старая женщина. И когда она остановила лошадь, то и от лошади, и от этой зеленой вянущей травы запахло так хорошо, что казалось, будто и нет на свете более знакомого приятного запаха, чем этот запах, теплый и какой-то очень родной.
А когда женщина, улыбнувшись горько и скорбно, посадила их в телегу на холодную и сочную траву, Кеша и Лариса, которые только что взволнованно и наперебой объясняли ей, кто они и куда им нужно, сразу притихли на тряской телеге, забрались как будто бы в свои какие-то панцири, втянули и головы, и руки, и ноги, словно черепашки, и задумались.
Только теперь страх прокрался в их души. Оба они хорошо себе представляли, что ожидало их в том доме, куда они наконец-то возвращались, и каждый из них уже сейчас переживал это остро и болезненно. Лошадь резво бежала по крепкой и ровной дороге, ее не нужно было подгонять, потому что она бежала домой. Старая женщина, не оглядываясь и ни о чем не спрашивая, тоже спешила домой. А Кеша, свесив ноги и вцепившись руками в гладкую жердину, завидовал этой чалой лошади и этой старой женщине, которым было сейчас хорошо и покойно, потому что они возвращались к себе домой без боязни и страха. Ему же придется спрыгнуть с телеги и вместе с Ларисой идти к своему живому, глазастому дому, который, казалось ему, зарычит и загогочет, затопает ногами, когда они подойдут поближе, схватит их за руки и стоголосо закричит: «Ага! Попались, субчики-голубчики!»
Он понимал, конечно, что, если бы не Лариса, ничего подобного не случилось бы и ему не нужно было бы думать сейчас о расплате. Но он даже и не помышлял упрекать ее в чем-либо, потому что ему было жалко ее.
Она совсем пригорюнилась, тоже вцепившись побелевшими пальцами в жердину, и глаза ее были очень грустными и испуганными.
«Ей-то, конечно, хуже, чем мне, – думал Кеша. – Я в крайнем случае сбегу на фронт, и все… Или в Москву удеру. Пусть тогда бесится эта Лидия Фёдоровна».
И, развлекая себя, он рисовал мысленно картины бегства, военные подвиги, подбитый немецкий танк, под который он бросается со связкой гранат и погибает… А Лидия Фёдоровна, прочитав в газетах и услышав о нем по радио, побледнеет вся, заплачет и будет сама пугаться всех, потому что все будут знать, что он из-за нее убежал из интерната и погиб как герой… А потом приедет отец… и тогда…
– Вот и приехали, – сказала женщина.
– Уже?! – воскликнула Лариса. – Ой, Кешка, я так боюсь!
А он, очнувшись от своих размышлений, тоже испугался этого «вот и приехали», которое словно кнутом ошпарило его по спине.
– Э-э-эх! Ну ладно. Была не была! – сказал он и стал благодарить женщину, которая сочувственно улыбалась детям, видимо хорошо понимая их состояние.
Лариса, чуть не плача, сказала:
– Скорей бы эта война кончилась!
Но женщина только сокрушенно покачала головой.
– Теперь уж не скоро… Вон куда, проклятый, докатился… И прет и прет… Теперь пока его остановят, пока обратно погонят… Скоро это не делается, детки мои. Ну, идите… Поругают маленько, а вы не обижайтесь… Им ведь за вас отвечать, у них ведь вас вон сколько. Идите с богом, не бойтесь…
К интернату они подъехали со стороны табачного поля. Приземистое школьное здание, в котором разместили эвакуированных московских ребят, смотрело на них как раз своим главным фасадом, своими большими окнами и большими дверями. Здесь всегда, в любое время дня, толпились ребята. И теперь нужно было идти на виду у всех по тропинке прямо к дому, который на этот раз был, как им казалось, зловеще насторожен и тих…
– Детки! – крикнула женщина, уже отъехав. – Цветы-то свои оставили.
Кеша обернулся и махнул рукой: не до цветов, мол. А Лариса прижалась к нему плечом и, испуганно поглядывая на притихший дом, взяла его за руку.
– Да ты что!
– Боюсь я ужасно, – сказала она шепотом.
– «Боюсь, боюсь»! А чего бояться-то! – проворчал Кеша, хотя все в нем замирало и сжималось от страха и неизвестности.
Но он еще не подозревал, подходя к интернату, что те наказания, которые они получат от своих воспитателей и от начальницы, будут сущим пустяком по сравнению с наказанием, которое уготовили ему сверстники, чье сознание было уже не детским, но еще не стало и юношеским, а потому всякое сближение мальчика и девочки возбуждало в них какие-то туманные, пугающие представления. Они уже знали слово любовь, но еще не доросли даже для приблизительного понимания, что же означало на самом деле это слово, которое вызывало у них интерес, но которое одни из них произносили со стыдливостью, с опаской и робостью, другие с наглой усмешкой, а третьи вообще не решались сказать его вслух.
Кеша и Лариса тоже не отличались в этом смысле от своих сверстников, но так уж случилось, что именно они поставили себя в такое положение, когда самым страшным для них словом с этого дня стало хорошее слово «любовь».
Глава 3
Да, их ругали, конечно, и воспитатели и начальница, и грозились написать родителям об их поступке.
На следующий день их выставили перед всеми на утренней линейке, и Лидия Фёдоровна говорила металлическим голосом о трудностях, которые переживает вся страна, и о легкомысленном поступке Кеши Казарина и Ларисы Беляковой, который они совершили в это трудное для всех и тревожное время. Все внимательно и хмуро слушали ее. Кеша почти не поднимал глаза, разглядывая Ларискины сандалии, которые как-то смешно съежились на ее ногах, покоробились и задрали кверху круглые, настеганные травой облезлые носы.
Потом линейка кончилась, и они, не глядя друг на друга, разошлись, а Кеша, проходя мимо ребят, вдруг спиной услышал голос Гыры, который сказал всего-навсего:
– Ралиса… – обращаясь именно к нему, к Кеше.
В этом слове и насмешку и презрение услышал Кеша, словно бы Гыра имел право на эту жестокую насмешку. Кеша весь собрался, напрягся, готовый тут же ударить по нахальной роже этого Гыру.
И если бы Кеша сейчас, сразу же после линейки, при всех ударил Гыру и сшиб его с ног, ударил бы очень сильно и зло, усугубив и без того незавидное свое положение, тогда, быть может, он сумел бы как-то изменить отношение ребят к себе. Могло бы случиться так, что ребята отвернулись бы от Гыры или, во всяком случае, перестали смотреть на него как на вожака, а Кеше простились бы и невыкуренная «сигара», и тухлая вода, которую он, так сказать, еще не смыл со своего лица, и эта затянувшаяся с утра до ужина прогулка с Ларисой. Все, конечно, могло пойти по другому руслу, если бы… Если бы Кеша хоть смутно догадывался о том, что означали все эти слова, жесты, поступки Гыры для будущей его жизни в интернате…
Но он не догадывался. Он просто злился. И в этот раз, услышав Гыру, разозлился ужасно, но простодушная и добрая его натура не отозвалась должным образом, потому что он совсем не понимал этого Гыру, не хотел понимать и принимать его всерьез, только удивляясь порой, почему доставляет тому удовольствие издеваться над ребятами, над ним в том числе, и всячески подчеркивать свое какое-то дурацкое превосходство… С некоторых пор Гыра ему стал противен – и все. Он не замечал никакого его превосходства, оно ему, в общем-то, не мешало жить. Собственно, его и не занимало все это, он вовсе не стремился быть вожаком, чувствуя себя достаточно самостоятельным для своих лет человеком.
Именно эта независимость вызывала у Гыры, который был старше Кеши – ему уже почти исполнилось тринадцать, – какую-то неосознанную, но постоянную тревогу и раздражение.
Чувствуя в Кеше Казарине полную свою противоположность, Гыра настойчиво стремился подчинить его себе. А обстоятельства складывались сейчас в пользу Гыры.
Кеша не ударил Гыру, когда тот назвал его Ралисой. А Гыре нужна была победа как раз в этот день, когда заварилась такая история с девчонкой. И он победил.
Кеша даже не обернулся. А Гыра нагло смеялся ему вслед.
Ребята тоже смеялись и кричали:
– Ралиса, Ралиса!…
Кеше хотелось плакать от обиды, и он все время щурился и смотрел поверх голов, чтобы не расплакаться.
А получалось, будто смотрел он на ребят свысока и презрительно, и, видимо, это так и понималось ими, потому что даже те из них, на которых надеялся Кеша, не подошли, когда он остался один: то ли постеснялись, то ли в самом деле решили, что он зазнался.
А Лариса как ни в чем не бывало пошла со своими девчонками завтракать. И когда Кеша это увидел, он совсем растерялся и, оставшись в одиночестве, на дворе, всхлипнул и что есть силы стиснул зубы.
Глава 4
А на завтрак была горячая отварная картошка, от которой шел пар, и половина большого холодного огурца. Картошка была молодая, но уже крупная и рассыпчатая, а огурцы с кислинкой – переросшие семенники с пожелтевшей кожей.
Кончался июль.
А когда он прошел и наступил последний летний месяц, стали по ночам греметь грозы и лить дожди. И это было очень кстати, потому что все уже пожухло от зноя, а дожди словно бы вернули к жизни и деревья и травы – все опять зазеленело и зацвело, как в мае.
Кеша свыкся уже со своим одиночеством и отчуждением, свыкся и с тем, что теперь на обеденных столах, на стенах и даже просто на вытоптанной земле на волейбольной площадке или на бочке с тухлой водой видел он вырезанные ножом, нацарапанные гвоздями или написанные мелом, карандашом, куском кирпича прочные и как будто извечные, привычные уже слова: «Кеша + Лариса = любовь».
Эти слова теперь были не только на стенах, на коре деревьев или на земле – эти слова теперь были навечно вырезаны в его сознании, в душе, ему даже порой казалось, что они были в воздухе, звучали там и звенели.
Первое время Кеша пытался зачеркивать, стирать, затаптывать эти слова, но потом смирился и незаметно для самого себя даже стал иногда откликаться, когда его называли Ралисой.
Что-то смирилось в нем, и он уже не мог, не имел как будто никакого права, не смел обижаться, когда его называли Ралисой или не приглашали играть в футбол, хотя он не хуже других гонял потрепанный мяч и не хуже других мог ударить по воротам…
Иногда ему доверяли место вратаря, но это было пустое место, потому что никто не умел и не хотел стоять в воротах и редко кому удавалось брать мячи; никто из вратарей не падал, конечно, в ноги нападающим, не брал угловые мячи, а надеялся только на свои ноги и не работал руками. Это было пустое место! И когда никто не хотел стоять в воротах, тогда кто-нибудь вспоминал о Кеше и кричал ему, а он всегда был где-нибудь поблизости, где-то в сторонке:
– Ралиса, вставай на кипера! Только смотри, гад! Держи ворота.
И Кеша, забывая о гордости, бежал обрадованно к пустой рамке ворот и очень старался, очень нервничал, падал с восторгом на идущий мяч, ловил его, но чаще пропускал, потому что он тоже, как и другие, не умел и не любил стоять в воротах… Да и матчи кончались обычно с огромным счетом.
Но всякий раз, когда проигрывала команда, в которой Кеша стоял за кипера, возбужденные и потные ребята в азартной злобе говорили между собой:
– Да этот Ралиса! Дырка.
– А кто его звал-то? Тебя кто просил в ворота? Эй, Ралиса!
– Ему в куклы, а не в футбол играть… Иди-ка ты к своей Ларисе. Чего ты тут?!
А когда команда выигрывала, о Кеше забывали.
Но все равно это были лучшие минуты в его жизни, когда ребята, с которыми он играл, одерживали победу. Он радовался вместе со всеми и тоже посмеивался, улыбался, даже если Гыра вдруг, заметив улыбку, показывал на него пальцем и удивленно восклицал:
– А этот-то! Тоже выиграл! Хе-хе! Ралиса-то лыбится! Умора! Ну чего ты лыбишься?
– Да ладно тебе, – говорил ему Кеша с обидой, но уже без прежней злости и ненависти, которые он тоже незаметно для самого себя утратил, робея теперь перед этим Гырой и надеясь только на его снисходительность и доброту.
А Гыра безбоязненно мог теперь подойти к нему и отвесить «шелобан» по лбу – без злости тоже и без причины даже, а просто так, куражась у всех на виду.
И странное дело! Кеша переносил это спокойно и даже как будто весело, словно так оно и должно было быть теперь, словно это был единственный способ остаться среди разных – добрых, злых, умных и глупых – ребят, которые казались ему теперь такими славными и необходимыми, что он готов был вытерпеть ради них всевозможные унижения, лишь бы они не дразнили его, не чурались и не гнали от себя.
Он теперь не мог без них. Они теперь были нужны ему в жизни так, как никто никогда прежде не был нужен. Именно они, эти ребята, ровесники, с которыми связала его судьба, стали для него мерилом всех добрых и злых дел, стали судьями, которые, как ему чудилось в лучшие минуты, готовы были простить и забыть обо всем, если бы только не Гыра…
Глава 5
Впрочем, теперь и Гыра почти перестал обращать на него внимание. Просто он держал его на почтительном от себя расстоянии, не выказывая ему ни доброты своей, ни злости… Но близко все-таки не подпускал.
И когда Кеше нестерпимо горько становилось в одиночестве, когда он опять и опять понимал, что никто из ребят не хочет серьезно слушать его, серьезно говорить с ним, и когда наступало отчаяние, ему вдруг хотелось подойти к этому Гыре и попросить его по-дружески, попросить очень искренне, чтобы тот перестал к нему так относиться, а если Кеша в чем-нибудь виноват перед ним, то простил.
Это были тяжелые минуты, когда он так задумывался, не видя выхода и ни на что уже не надеясь. Будущее представлялось ему в эти минуты таким безрадостным и жестоким, что становилось страшно. И он завидовал всякому, кто не был, как он, отвергнут, кто мог спокойно сидеть в столовой и есть свою кашу или картошку с огурцом, зная, что никто не сыпанет вдруг соли в тарелку и не бросит огрызок огурца. Он не мог еще постичь истинных причин и размеров того горя, которое рухнуло вдруг на него и придавило, и потому оно казалось ему огромным, как жизнь, которую не обойти и не объехать.
Те дни, когда ребята работали на колхозных полях, пропалывая морковь или свеклу, а руки, пропитанные почерневшим соком, саднили от колючих сорняков, – эти дни миновали, и теперь ребят часто водили на далекие луга ворошить сено. Это была приятная и легкая работа, словно бы им разрешали взрослые люди делать что-то недозволенное – тормошить скошенное, подсыхающее сено, раскидывать его с весельем и беспечностью и слышать еще к тому же благодарность от колхозников за свой радостный и какой-то душистый труд. Намахавшись за день граблями, чувствуя приятную ломоту в плечах, они приходили на реку купаться.
Кеша обычно сидел в сторонке и пересыпал текучий сухой песок, который просачивался сквозь пальцы, и песчинки, увлекая друг дружку, ускользали из рук… На это можно было смотреть бесконечно, как на огонь или воду, и ни о чем не думать. Это было приятно. Иногда ему попадался на глаза черный муравьишка, и он засыпал его песком, а потом долго ждал, когда на скате ровной песчаной пирамидки вдруг начнут пошевеливаться песчинки и вороненый муравей как ни в чем не бывало выберется из-под тяжелого песка.
Кеше казалось, когда он наблюдал за муравьями, что муравьи эти заблудились в песчаной пустыне и сами не знают, куда и зачем спешат. А он для них – никто. Он так велик для них, что они его просто не видят и не понимают, что он тоже живой, как и они… И ему приятно было делать эти маленькие открытия и наблюдать за тем, как муравьишка выбирается из-под толщи сухого, горячего песка на свет. Это была увлекательная и немного страшная игра без правил, в которую муравьишке, наверно, тоже было интересно играть.
А река протекала здесь чистая и глубокая, с темными омутами под нависшим ивняком и желтыми перекатами. И вода была теплая. А там, где был песок, там были мелкие и тихие заводиночки, вода в которых особенно сильно прогревалась под солнцем. Там хорошо и вкусно пахло рекой, там собирались стайками крошечные мальки величиной с овсинку. Они все разом серым каким-то дымком вытекали вдруг из заводи, когда Кеша приближался к ней, и только редкие из них метались, посверкивали искорками, не видя в панике выхода в реку.
Однажды Кеша увлекся и далеко ушел от пляжа, а потом, когда возвращался, увидел Ларису. Она, не замечая его, шла по-над берегом с подружкой и собирала цветы. Кеша испугался и бросился в куст, притаившись там в его гущине над водой.
На Ларисе был тот же розовый сарафан, но только теперь он казался белым, потому что выгорел за лето, словно бы отцвел, а на голове была тоже выгоревшая, светлая тюбетейка, из-под которой на лоб уже стала наползать черная челка отрастающих волос. И сама она вся почти черной казалась, потому что шла по вершине крутого бережка на фоне огромного слепящего неба, которое сплошным сверкающим солнцем, сплошным каким-то сиянием возносилось над ней, над зеленым берегом и над белыми песчаными плешинами, над кустами ивняка, росшими на этом песке. А в этом ярком мире кучились в небе прозрачные облака, и чудилось, будто они были выше солнца.
Так ее увидел Кеша в это мгновение и, обмирая, смотрел на глиняную обожженность ее острых плеч, на смуглую ее щеку и всем своим существом чувствовал, как она красива теперь и как хорошо, что она живет в интернате и, наверное, еще долго будет жить, потому что война, и как странно теперь знать, что именно с ней и совсем еще недавно ходили они, потеряв дорогу, по лугам, с ней говорил он и слушал ее… И все это казалось ему теперь, когда вот уже чуть ли не месяц они избегали друг друга, какой-то доброй и заманчивой, очень хорошей неправдой, так как все тогда было просто и ясно, а теперь он боялся ее и не смел подумать, чтобы так же, как раньше, встретиться с ней и хотя бы сказать ей «здравствуй». Теперь это было почти невозможно. Теперь он мог лишь исподтишка смотреть на нее и вспоминать с удивлением и восторгом… Так же вот, как и сейчас, в ивовых зарослях.
– Смешно! – сказала Лариса своей подруге. – Ты очень смешно говоришь.
Он и голоса ее тоже давно не слышал. А теперь она словно ему сказала: «Очень смешно говоришь». Он даже затаил дыхание – так неожиданно это было.
– Почему же? – возразила ей та.
– Нет, Вера, странно… Глупая! Неужели ты думаешь… Он мне совсем не нравится…
В первое мгновение, когда он так близко услышал ее голос, его испугало вовсе не то, что кто-то ей совсем не нравится, а то испугало, что она, говоря про это, могла вдруг увидеть его и очень смутиться, могла растеряться вдруг и покраснеть от стыда, а потом долго переживать свое признание, которое он невольно подслушал. Ему было неловко за нее и не хотелось делать ей больно, а он понимал, что, если Лариса увидит его, ей будет стыдно и больно, потому что, быть может, это о нем она говорила: «Он мне совсем не нравится», – потому что о ком еще из ребят могла бы она так сказать?
«Конечно, обо мне, – подумал внезапно Кеша с удивлением. – Почему? „Он мне совсем…“ Почему „совсем не нравится?… Я?»
– Нет, Вера, – говорила Лариса, скрываясь уже из виду, – я не могу этого сделать. Это будет нечестно. Я все уже поняла… Всё! Честное слово. А если мальчишки всякое там пишут на столах, то и пусть. Меня не касается…
Вера ей что-то невнятное стала говорить, Кеша не расслышал, но опять очень четко и громко отвечала Лариса:
– Ну почему? Я ж его не просила! Он сам… Неужели ты думаешь?!
И теперь, когда Кеша окончательно понял, что Лариса и в самом деле говорила о нем, когда он осознал все это и уже где-то внутри себя услышал ее слова, интонацию, с какой она произносила: «Он мне совсем не нравится», – он подумал в смятении: «Ну, нет же, конечно! Может, вовсе не обо мне… Она говорила: „Я же его не просила, он сам“. А что сам? О чем она меня не просила? Ничего этого не было? Не было. Значит, она о ком-то другом сказала… Она не такая. Она не может. Просто притворяется. И скрывает. Ну и хорошо, что скрывает».
И когда он незаметно, кустами и по воде, вернулся на пляж, на котором всё еще шумно возились уже озябшие ребята с пыльными спинами, ему стало совсем тяжело, как будто он очень, очень устал.
– Казарин, – услышал он голос воспитательницы. – Кеша! Ты что, оглох? Мы скоро уходим. Ты не будешь купаться? Заболел?
– Нет, – ответил Кеша.
– Что нет? – спросила Анна Сергеевна.
– Не заболел. Не хочется мне.
– Сейчас же в воду!
И Кеша, подчиняясь, пошел. Вода показалась ему ледяной, и он, зайдя по колено, остановился, не решаясь идти дальше, и почувствовал, как холод сковывает нестерпимой болью все его тело. Он сделал шаг еще и услышал вдруг сзади топот по песку и тут же брызги, но было поздно, потому что хохочущий Гыра, а с ним еще трое толкнули его, схватили ледяными руками и, хохоча, поволокли на глубину, туда, где было по шею.
– Ну что! – сказал он с отвращением. – Ну зачем? Пустите… Да пустите же…
Он не кричал и не смеялся, он говорил это тихо, с брезгливостью в голосе, понимая, что бесполезно спорить или кричать. Надо было смеяться, а он не мог в этот раз. И никто ничего не понимал. Его окунули и отпустили на глубине, а Гыра стукнул ладонью по воде, направив брызги прямо ему в лицо, и Кеша зажмурился, чуть не заплакав от обиды.
– Гад, – сказал он тихо и зло и посмотрел с ненавистью в хохочущие Гырины глаза.
А Гыра удивленно замер и с застывшей ухмылкой сказал:
– Повтори…
– Гад, – так же тихо сказал ему Кеша.
– Хочешь, утоплю? Хочешь наглотаться?
– Учти, Гыра, – неожиданно для самого себя еле слышно сказал Кеша, – если ты сейчас дотронешься до меня, я вцеплюсь в тебя зубами, утащу на глубину и утоплюсь вместе с тобой… Учти это, Гыра…
– Тронулся? – спросил Гыра с удивлением и захохотал опять.
Но смех его был на этот раз напряженным и скованным, потому что озябшие ребята вышли уже на песок, а Кеша стоял рядом с ним на глубине и с нешутейным безумством говорил ему, шевеля посиневшими губами:
– Уйди, Гыра… Я не отвечаю за себя… Уйди.
– Еэ-э-эй! – крикнул вдруг Гыра на всю реку. – Давай сюда!
Но Анна Сергеевна никого не пустила: все и так уже перекупались. А Кеша, тяжело идя к берегу, с ужасом и смятением думал о своей бешеной смелости, которую Гыра, как всегда, не простит, конечно, и что-то еще придумает, что-то будет еще тайно готовить, чтобы отомстить. Сердце колотилось так, что чудилось, будто оно колотилось в горле. Кеша уже жалел о случившемся.
Глава 6
Но Гыра не спешил. Он как будто бы не придал никакого значения случившемуся, забыл обо всем и не хотел вспоминать. И только спустя много дней, когда Анна Сергеевна, очень еще молодая и милая учительница, видимо уловив в Гыре какие-то способности подчинять себе ребят, назначила его старостой старшей группы, Кеша узнал наконец жестокую Гырину месть.
Анна Сергеевна, муж которой, воюя с первых дней, давно уже не писал, была поглощена невеселыми своими мыслями: ей было страшно, и она даже чувствовала потребность бросить всю эту возню с детьми и уехать в Москву, чтобы находиться поближе к фронту, поближе к мужу, к главным событиям войны, которые там, в Москве, конечно, осмысливались отчетливее и яснее, чем здесь. В этом своем состоянии душевной тревоги она не очень-то задумывалась, кого назначить старостой, ибо ей хотелось в какой-то степени освободить себя от ежечасных дум о ребятах, от постоянного беспокойства за них – просто нужно было найти властного и послушного ей парня, которому смогла бы она доверять. Выбор пал на Гыру, а ребята, когда Анна Сергеевна объявила об этом своем решении, хором поддержали ее.
Ребята из старшей группы, как, впрочем, и все остальные, жили в большой двухоконной светлой классной комнате. Школа была только что выстроена, и в ней еще ни разу не звенели звонки. Она, конечно, не была похожа на московскую четырехэтажную, но все-таки это была хорошая кирпичная школа с большими окнами, с большими классами, стены которых были окрашены в желтый приятный цвет, а рамы и двери – в белый.
В комнатах, в которых собирались в этот год учиться сельские ребята, теперь стояли деревянные топчаны, застеленные разноцветными ватными и байковыми одеялами – теми самыми одеялами, какими снабдили своих детей родители, отправляя их в интернат. Топчаны стояли почти вплотную друг к дружке, упираясь торцами в стены, и все ребята как будто бы были равны, но все-таки в каждой комнате имелись такие местечки, которые считались предпочтительнее и удобнее других: например, в углах около окон. Это были самые лучшие места, потому что можно было лежать, отвернувшись к стенке, а можно было смотреть в окно… Были и другие места, похуже – вдоль стен. Но были и вовсе плохие два места по обе стороны входной двери.
