Путь из Орхидеи на работу
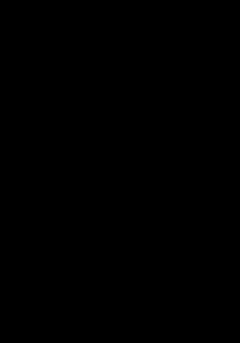
***
Асфальт шершав как горная слюда,
автобусы снуют туда-сюда,
распутье светофорами моргает –
мешает продвиженью ходока.
Окраинность любого городка
к лирическим стихам располагает.
И к мыслям о затерянных мирах,
куда нас загружают впопыхах,
снабдив функциональностью убогой,
характером, похожим на штрих-код,
и памятью, что жизнь – лишь переход
под транспортом заполненной дорогой.
Заводы выдыхают перегар.
Колонны, проходные, тротуар,
ветрами обцелованные клены.
Так и живешь на краешке земли –
летишь на красный, душу оголив,
или стоишь, уставившись в зеленый.
Но чаще ждешь. Автобусы ревут,
где остановка – сомкнутый редут –
скрывает тень в коричневой футболке.
В какие дали катится земля?
Пластинку птиц вращают тополя,
и раздается чирк из-под иголки.
***
Полынь, крапива, подорожник,
случайных флоксов белый клок;
за гаражами, как заложник,
родной природы уголок.
В раю, в кустах за гаражами,
щенков неугомонный ком
собака с черными ушами
выкармливает молоком.
Еду приносит ей старуха,
из листьев блюдо мастерит,
собака, приподнявши ухо,
грызет мослы и сухари.
Старуха, что-то балаболя,
вздыхает, молится кусту –
здесь нет ни радости, ни боли,
природа любит пустоту.
***
Над районом каркнула отмычка,
это ночь крадется, как бандит,
что за неприятная привычка –
каждый вечер снова приходить.
Божий свет преступно убивает,
а к утру становится бела.
Я-то знаю, ночи не бывает –
это тень на здание легла.
Пожалей ты нас, умалишенных,
тех, о ком печалится луна,
для кого в карманах заоконных
тьма на черный день припасена.
***
Все вроде, как прежде, но что-то не так –
я вижу, в кастрюле сгущается мрак,
чернеют края, закипает вода,
а в центре системы блистает звезда.
Забиты парсеки свекольной ботвой,
петрушка вращается по часовой,
капуста рисует спирали во мгле
кружась по овалу, подобно юле.
Семья остается сегодня без щей,
но я постигаю природу вещей –
за это я мучаюсь в черной дыре,
за это Джордано горел на костре.
***
Дуреет город от духоты,
а в сквере, в его тиши,
стоит скамейка у той черты,
где видно, как хороши
ее металлические бока
и крашеная ламель,
и я на ней посижу – пока
солнце идет на мель.
Вечерний город похож на труп –
не дышит. Но голосит
над ним завод. Из кирпичных труб
сыпется диоксид.
Вечерний город велик, могуч.
Медлительный самолет
летит туда, где обломки туч
сгрудились в кислород.
А я сижу. От чужой ходьбы
город истоптан весь,
и думаю, боже, что, если бы
скамейки не было здесь,
возможно, тут же, до темноты
калужниц расставил строй
закон замещения красоты
правильной красотой.
Спокоен город в яслях своих,
деревья стоят кругом,
дымятся сумерки, будто их
парили утюгом.
Иду домой. По бокам – кювет,
вымощенный внутри,
и стелют под ноги рваный свет
первые фонари.
***
Природа не выносит ширпотреба –
лоснится жук, повисший на стебле!
Здесь умирают, но сияет небо,
пока тела купаются в земле.
Была бы Розой, стала белошвейкой
для птиц и зауральских пастухов,
к своим оберткам «Раковою шейкой»
заманивала армии стихов.
Стегала бы по краю силуэта,
ворочая невидимый челнок,
среди растений тоже есть поэты –
Латук, Ромашка, Примула, Чеснок.
***
Как будто ловят из эфира
сигнал и сходятся гурьбой.
Скамейка эта – центр мира
для нашей пьяни дворовой.
Пустым до головокруженья,
годами падавшим на дно, –
в дар хаотичное движенье
им, как молекулам, дано.
Элементарные частицы
парят в свободном веществе:
один – изломанный, как птица, –
лежит в рыжеющей листве,
другой – в пожеванной панаме,
терзая воздух, словно нить, –
у проходящей мимо дамы,
шатаясь, просит закурить,
а третий – с формами аскета,
с пугливой резкостью ежа –
к сирени, вместо туалета,
несется в муках терпежа.
***
Оттого, что душа сбоит,
или же по другим причинам,
надо мною всегда стоит
тень с заряженным карабином.
Я сегодня проснулась, глядь –
она стала темней и шире.
Ну и пусть. Я пойду гулять,
изучать обстановку в мире.
Всадник медленный на осле,
дети, розы, мороз в июне,
прорастает в сырой земле
дождь, случившийся накануне.
Белый ветер, играй со мной
в стаю ящеров длиннохвостых –
я когда-то была женой,
а теперь превратилась в воздух.
Половых и любовных сфер
я пыталась достичь, однако
мой утробный карабинер
отвергает идею брака.
Холод падает. Свод-батут
отпружинит его едва ли,
вишни, думала, зацветут,
но они поутру завяли.
***
Феноменально, чудно, непривычно,
необычайно и как-то нелепо –
в верхних слоях шахматист ироничный
двигает тучи по клеточкам неба.
Все надоело – холодные руки,
дождь, на погоду пускающий слюни,
шапки, зонты, недовольство в фейсбуке.
Шутка ли – холод в начале июня.
Лето нам подали без подогрева,
рвутся на части воздушные шири,
розы и пятое дерево слева
клонятся к дереву номер четыре.
Справа, по центру, в роскошном зеленом
шаре – знакомое чудится, если
всмотреться – зову его кленом,
раз у деревьев названья исчезли.
***
Магазин, кафетерий, почта,
остановка, пустырь, завод,
за цехами темнеет то, что
превратится в луну вот-вот.
Место, где мы с тобой друг друга
не нашли, завели в тупик, –
город Пэ квадратурой круга
так похож на константу Пи.
Но бывают и здесь сюрпризы –
безразличен и близорук,
временами на край карниза,
словно пыль, оседает звук.
И тогда отсыревший воздух
у подъезда огнем горит –
стая зябликов длиннохвостых
дождь за небо благодарит.
***
Пыли дорожной нечистые танцы,
слева подсолнухи, справа картофель, –
я позабыла название станций,
помнится шахты египетский профиль.
Помню, что воздух полынный был горек,
простыни в крошеве угольной пыли,
крышу сарая и маленький дворик,
где мы белье по субботам сушили.
Помню подвал, и на полках – бутыли,
мусорник, старую каменоломню,
место роддома, который закрыли…
А вот причину рожденья – не помню.
Помню в окне своего кабинета
обруч копра, исполняющий сальто.
Щелкали счеты, вращалась планета,
и не сходилось конечное сальдо.
Дальнее время, начало начала,
стертые знаки забытого мига,
необратимость того, что умчалось,
но отразилось в бухгалтерской книге.
Так и живу по привычке, иначе
мир не докажет свое постоянство.
Все мы равны перед космосом – значит
я говорю не в пустое пространство.
***
Ощутив себя в ячейке
временного промежутка,
я сидела на скамейке
и ждала свою маршрутку.
Как подброшенные стразы –
окна ерзали огнями…
Я обдумывала фразы,
что звучали между нами.
Городская суматоха
вобрала меня всецело,
мне сначала было плохо,
но затем похорошело.
Мне и вправду стало легче
возле зарослей левкоя,
потому что время лечит,
даже краткое такое.
Вскоре выкатился глобус
над водой большого пруда,
а потом пришел автобус
и увез меня оттуда.
***
Дверь с домофоном, в подъезде зеленые стенки,
надпись «люблю тебя, зайка», пролеты, ступеньки,
сколько здесь всякого разного мной пережито,
свет не погашен в прихожей и дверь не закрыта,
нечего брать, потому и не страшен грабитель, –
угол мой теплый, моя городская обитель.
Много здесь всякого разного – книги, одежда,
полка с сезонною обувью встроена между
старым пеналом и новым высоким проемом.
Сколько хорошего дарит простое жилье нам –
от табуретки дубовой, до тряпки гладильной.
Я никогда б не подумала, что холодильник
сдвинется влево и преобразится с годами,
станет усеян котятами и городами.
Кухонный мир: полотенце, посудная губка,
на подоконнике ваза, комбайн, мясорубка,
желтые стены, прозрачные шторы с цветами,
бежевый кафель от времени треснул местами,
помню, когда-то висело панно в цикламенах…
Время не лечит, а делает трещины в стенах,
время не лечит, а чертит, используя уголь,
то ли прямую, то ли развернутый угол.
***
У меня внутри поют сверчки,
и блуждает леший с бородою,
беленая хата у реки,
вербы над прохладною водою.
Через реку переброшен мост,
за рекою – ивовая чаща,
где волшебный, одинокий дрозд
исполняет гимн животворящий.
Что еще об этом рассказать?
Кукуруза зреет в огороде,
голосит соседская коза,
да перины сохнут на природе.
В переулке солнце пролилось
и детишки в лужицах играют,
дед Иван вколачивает гвоздь
в лестницу, приросшую к сараю.
Золотая внутренность моя,
космос, оплетенный виноградом –
без тебя я фантик, чешуя,
бабочка, разорванная «Градом».
***
В одном и том же платке летом, весной, зимой.
Я, говорит, ваш путь, а вы не следуете за мной,
катит коробку, внутри – возня,
я, говорит, ваш учитель, а вы не слушаете меня,
показывает фотографии, мол, кошачий приют
нуждается в помощи. Многие подают.
Иногда открывает крышку, а там, на дне,
четыре котенка в штопаной простыне,
обвязанные ленточками вокруг груди,
чтобы не сбежали. Она останавливается посреди
вагона, говорит, я – истина, я – господь,
двигается по проходу назад-вперед.
Она и сама привязана к электричке ленточкой из сукна,
как котенок, живет в коробке, где тишина,
упоение и нет желаний уже давно:
я – путь, я – истина, здравствуй дно;
легкая, будто сбросила страшный гнет,
перережешь ленточку, кажется, упорхнет.
***
Ночью небо в черном своем дуршлаге
промывает звезды, и до зари
от любви, числа и цветной бумаги
новые родятся календари.
И ясней становится с каждой датой,
что мы сверху сброшены на убой,
что пасет нас временный соглядатай,
ну и пусть, не страшно. Ведь мы с тобой
превратимся в пыль, погоди немного,
позади района – несложный лес,
и пересекает его дорога
с белою маршруткой наперевес.
***
Колесо дребезжит на оси,
значит будет небезынтересно
подъезжающему такси
под осиной найти себе место.
Вот уже показалось. Оно
чуть коснулось крылом турникета,
потому проникает в окно
звук, похожий на шелест пакета.
У таксиста в глазах пустота
и мечтательность Ференца Листа,
значит, хочется мне неспроста
говорить с молчаливым таксистом.
Но не стану. Возникла река
под мостом, холодна и белеса,
отражаются в ней облака,
и шуршат по дороге колеса.
***
Олег просыпается, в офис идет с утра.
Начальник у него – ретроград, любит Аббу и Баккара,
вот и включает, согнав в кабинет свой маленький коллектив,
настраивает работников на удачу и позитив.
Все танцуют: Беляков, Анисимов, его жена,
и Олег танцует, удача ему, как и другим, нужна.
Олег не химик, не менеджер, не пилот —
