Схождение на да
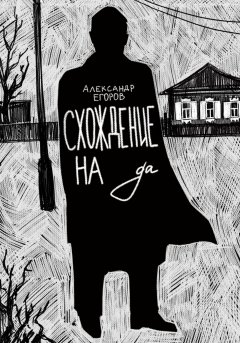
***
У меня была забота –
перелезть через забор.
Только не было забора,
был простор –
степь да степь. Железно веря
в то, что где-то есть лесок,
я ушёл искать деревья
на восток.
В тот же день узрел пригорок,
а на нём – горящий куст.
«Значит, лет так через сорок
доберусь».
Фартануло. Через месяц
я добрался до леска –
отщепенец, чужеземец –
тчк.
Завалил немало сосен,
пару розовых берёз.
Труд казался мне несносным,
но я снёс.
Сердцем важность акта чуя,
на забор полез. Потом
понял: с ним назад лечу я.
Бах – горбом.
…Я очнулся. Ни забора,
ни чего бы то ещё.
Степь да степь. Свобода взора.
Хорошо.
Тоска по себе, или Эгоцентричное
Лагерь имени предателя отца.
Ни работы стылой, ни ковида,
и на теле нету холодца.
Вот он – я, совсем ещё пацан,
за засос едва заметный стыдно.
Дискотека (дрыгаясь, балдей).
Танец жизни. Позабыт макабр.
Выясняли, кто кого живей,
сорок или более детей,
а ещё – кто здесь труслив, кто храбр.
Небо вдруг возьми и разразись.
Молнии и гром. «Пойдём-ка снова
под дождём топтать земную слизь, –
Стрекозе я предложил. – Кажись,
начался». Она была готова.
Пахло хвоей. Заиграл медляк.
Руки вверх? Quest Pistols? Не припомню.
Мы сцепились, мы сцепились так:
намертво. Дождь – афродизиак.
Вспоминать об этом хорошо мне.
Минуло, пожалуй, восемь лет.
Замужем она, люблю другую
я. И мой единственный секрет…
Догадались, думаете? Нет,
не по ней, а по себе тоскую.
***
Девушка с татуировкой
«Молодость» на шее,
ты… Произнести неловко…
Тоже постареешь.
Буквы р а с п о л з у т с я или
слепятся в кмчк.
Почему-то все решили:
молодость – бессрочна.
Нет, увы. И ты, особа,
и пацан, что сбоку
(фейс в татуировках), – оба
отцветёте к сроку.
***
Прощай, моя молодость, феникс из пепла,
Зелёная ветка в костре.
Алексей Цветков
Хоть и нет на лице морщин,
хоть ещё далеко не старый –
ветка молодости трещит,
листья лопаются от жара.
Чем-то можно залить костёр?
Потушить, притушить возможно?
Стал степенным с недавних пор
я, до крайности осторожным,
равнодушным к добру и злу…
Эх, не буду иным, поскольку
ветка молодости в золу
превращается потихоньку.
Сочинённое на ходу
Холодный день.
Сижу один
в иркутском парке,
ассасин –
да-да, накинут капюшон.
Я голубем заворожён.
На шее – радуги кусок
у птицы серой. Смыть не смог
ни дождь, ни утренний туман.
Как надоел анжамбеман!
Разорванностью этих строк
я утверждаю: мир жесток.
Вдруг небосвод синее стал,
ангарский хиус потянул.
Мне захотелось за Байкал,
в родной аул.
Влеком
Хилком,
иду туда,
где поезда.
Иду. Навстречу – лица, лица…
Аж хочется остановиться
да заявить кому-то: «Ты –
нелепый сгусток пустоты!
Шагаешь, будто индивидуум!
Ты мною выдуман!
А я тобою». Вот в Хилке –
я личность, здесь – прозрачней сгустка.
Всё, вырываюсь из Иркутска
навечно, налегке.
Бац – ложка в кружке дребезжит,
вразрез с окном тайга бежит,
кричат детишки, плачут.
«Улисс» повторно начат.
Я скоро буду дома.
Знакомо?
***
Небо в трещинах
и земля.
Деревенщина –
дома я.
Лай и вой собак,
вой и лай.
Сопок обморок,
жаркий май.
В сердце – трепета
торжество.
Что исчезло-то?
Ничего.
Клумбы, деревце,
пёс Байкал…
Мне не верится
в «уезжал».
Где бы ни был я,
связь с Хилком –
нерушимая.
Дом есть дом.
Alea jacta est
Уже июнь. До судорог в кистях
пытаюсь лезть по скользкому канату.
Внизу – весна, прошедшая впотьмах.
Что наверху? Признанье, слава, дата
триумфа, ах!
Как доползу, мгновенно пропадёт
боязнь того, что дар меня покинет.
Авось Олимп (высо́та всех высот)
навстречу мне когда-нибудь низринет
запретный плод.
И я борюсь. Схватившись за канат,
мозолю рук невинные ладони.
Уже июнь. Семь лет тому назад
я начал эту долгую погоню –
меня простят.
Коль упаду, останется пятно,
верней сказать, раздавленная клюква.
Зачем тружусь? По-прежнему темно.
Всё озарит единственная буква:
лихое «О».
Окружность знака станет роковой
(его границы – согнутое жало),
поскольку жребий, брошенный судьбой,
не изменить – во что бы то ни стало –
своей мольбой.
Рывок, рывок. Едва ль со стороны
заметен я, так тянущийся к цели.
«Сизифов труд! Поэты не нужны!» –
орёт душа. Сомнения на деле
подтверждены?
Что делать?
Священный глас природы
не в силах пробудить уснувшей лиры звук.
Тимур Кибиров
Силюсь взяться за перо –
ни фига, блин!
Взгляд усталый на приро-
ду направлен.
Там заросший тиной пруд
(или ряской?),
в коем думы напрочь мрут.
Супервязкой
жижей вымазан мой мозг.
Кто бы вытер…
Дело в том, что я прирос к
граням литер.
Эй, бессмертный алфавит,
ты ли топишь
мысли? Хва! Башка болит,
ноет то бишь.
Раньше, помнится, творил
чаще многих,
ныне – полный дырбулщыл! –
я у ног их.
Скоро буду, тьфу-тьфу-тьфу,
тупо славить,
чтобы вновь родить строфу/
ы. Всегда ведь
людям, пишущим про власть,
деньги, моду
(список куц), живётся всласть.
К чёрту оды!
Только красные от слёз
я закрою –
чернышевсковский вопрос
предо мною.
***
Валяюсь вялым языком,
сказать не в силах ни о ком
и ни о чём – не в силах.
Другие хвалят, матерят
и пустозвонят. Я же, я
безмолвствую уныло.
Красуюсь мёртвым языком
на глиняной табличке – сонм
червеобразных закорючек.
Мои носители во мне
теперь, а были-то вовне.
Земля людей живучей.
Лежу тяжёлым языком,
без колокола, под песком,
и жду, когда отроют.
Однако если и найдут,
то как металлолом сдадут,
решат, что вторсырьё – я.
Сижу упрямым языком
под пытками. То кулаком,
то вдруг коленом с разворота –
удар, удар… «Тащи сюда
сапёрную лопату. Да,
отрубим пальцы идиоту!»
Четыре разных языка.
Я всеми ими был, пока
не кончился творкризис.
Рад: вялость, мёртвость, тяжесть и
упрямство наконец прошли,
в столбцы переродились.
Назиданьице другу
Совершай променад почаще,
соверши променад по чаще,
где вода вдоль стволов бежит
снизу вверх, будто явь лишилась
гравитации; знай, магнит
в виде центра Земли терпимость
проявляет сугубо к тем,
кто безмозгл, статичен, нем…
Нагулявшись, присядь на грунт.
Одержимый судьбой секунд,
ты захочешь помчаться вон.
Время – деньги, которым здесь
делать нечего. Зря пленён
каждый третий призывом «Грезь
о наживе!»… Короче, Стёп,
протори-ка систему троп.
***
Вся моя одежда,
за исключением пары футболок и рубах,
купленных давно на родительские деньги, –
соткана из букв.
Моя шапка
равняется одной статье,
пуховик – шести статьям,
кофта – трём,
джинсы – четырём.
На джинсах, пожалуй, и остановлюсь.
Питаюсь я опять-таки ими,
буквами.
Всё, что ем –
если меня, конечно, не угощают, –
имеет приятный привкус типографской краски,
хотя мои тексты публикуются в интернете.
Был и неприятный момент –
я сломал зуб
об орешек в конфете
(это «ъ» попался).
Да, журналистика –
работа с сиюминутным, актуальным.
Сегодня материал читают и цитируют,
завтра он обязательно канет в информационную Лету.
Поэзия – работа с вечным,
однако за неё не платят,
во всяком случае, мне.
А ходить в обносках
и жить впроголодь –
как-то не хочется.
С детства
я мечтал зарабатывать умственным трудом,
потому что труда физического мне хватало:
приходишь после школы домой –
дров наколи,
воды натаскай.
Летом мы всегда что-нибудь строили.
Ну и за огородом нужно было ухаживать.
Благо скотину не держали –
а то когда бы я читал?
На здании библиотеки Томского госуниверситета
крупными литерами написано:
«МЫ – БУКВЫ, С НАМИ ТЕКСТ».
Мы – люди, с нами Бог,
но мы и буквы.
По последним подсчётам,
на Земле восемь миллиардов «Я».
У каждого «Я» – своё имя.
Моё имя образуют буквы
«А», «Л», «Е», «К», «С», «Н», «Д», «Р».
Схождение на да
У ба́бра гигантского мучаюсь в лапах
и не обоняю живительный запах
черёмухи-памяти. Лишь изо рта,
точнее из пасти, воняет гниеньем.
Есть фотки, конечно,
но лень им, но лень им
прошедшее строить… Das Ende. Черта.
Покамест висит лепестковая перхоть –
окончу (осталось чуть-чуть) универ хоть,
а после помилует города тигр
меня. При таком-то шикарном раскладе
во имя мечты,
возвращения ради
уйду от придурками созданных игр.
С другой стороны, ностальгия чревата
потерей реальности вне аромата.
Господь, умол-я-я-я-ю, довольно химер!
Растают ли дни, что представлены кроной,
всегда белоснежной,
никак не зелёной?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Желудок зверюги бурлит по-ангарски.
Сгущаются краски.
До трапезы, значит, мгновенье осталось,
ну, самая малость…
Ура!
***
Цветущая веточка черёмухи,
сорванная и засушенная мной много лет назад,
