Знамение змиево
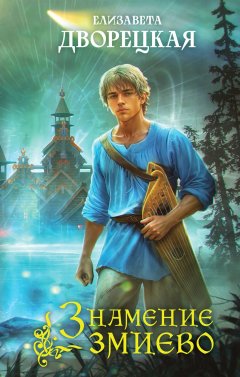
© Дворецкая Е., текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Часть первая
В открытом поле ветер едва не сбивал с ног, бросал в лицо холодные капли. Проходя перекрёсток дорог – на Лепёшки и Песты, – Воята Задор, новый молодой парамонарь[1] Власьевой церкви Сумежского погоста, надвинул шапку поглубже, чтобы закрыть уши. И всё равно услышал: где-то рядом раздавался младенческий плач.
Вздрогнув от неожиданности, Воята остановился и оглянулся: позади бредёт какая-то баба с дитём? Но никого не увидел – на всей протяжённости дороги через сжатое ржаное поле, до самого леса, не было ни единой живой души, ни человека, ни пса. Только вихри крутили палые листья и всякий травяной сор. Кому тут ходить в эту пору? Холодно, слякотно, ветер пронимает даже через толстую свиту валяной шерсти. Он и сам сейчас лучше бы возле печи сидел, а баба Параскева шила и рассказывала что-нибудь занятное про здешнюю старинную жизнь… Да нет, отец Касьян в Видомлю послал, деревню за семь вёрст, дескать, Ксинофонт Хвощ ему уж три года две резаны не отдаёт, сходи взыщи…
Воята снова двинулся по дороге, но не прошёл и трёх шагов, как младенческий плач раздался снова, гораздо ближе и яснее. Воята ещё раз огляделся, пошарил глазами по земле. Сырая пожня, больше ничего.
Плач шёл от кучи веток у обочины. Подойдя вплотную, Воята оглядел прикрытый ветками небольшой бугорок и аж передёрнулся: неужели кто-то бросил в поле младенца да ветками закидал? Кто ж такой злыдень? Девка, может, родила беззаконно? От возмущения стало жарко, даже холод и ветер забылись.
Живо наклонившись, Воята поднял и отбросил одну ветку, другую…
Под ветками проглянула влажная земля, уже слежавшаяся, топорщилась отсыревшая стерня.
Плач звучал прямо из-под земли, из-под этих вот комьев с торчащими соломинками.
В замешательстве Воята отшатнулся. Жар сменился ознобом, сорочка показалась ледяной. Он застыл в шаге от бугорка, стиснул зубы, невольно ухватился за крест на груди.
– Господи, помилуй!
Плач всё не унимался. Он звучал совершенно ясно, лишь чуть приглушенный толщей земли. Казалось, надрывается голодный младенец, засыпанный на глубину с ладонь, не больше.
Боже святый, но как… Землю, уже прибитую дождями, с отпечатками толстых веток, которыми прикрывали малюсенький холмик, явно копали не вчера, не третьёва дня… Не может живой младенец неделю и больше лежать под землёй…
А неживой?
Невидимые пронзительно-холодные пальцы прошлись по затылку, по шее, пощекотали спину. Воята передёрнул плечами и ещё раз безотчётно перекрестился. Потом ещё раз. Плач не прекращался. Воята сглотнул, пытаясь собраться с мыслями. От холода застучали зубы, стало душно, будто это он сам – маленький комочек плоти, лежащий под грудой промёрзшей, влажной, тяжёлой земли.
«Холодно, холодно!» – пискнул в ухо, сзади и сверху, тонкий жалобный голосок.
Воята резко развернулся – никого, само собой, не увидел.
«Холодно, люди добрые! – заныло уже у другого уха. – Положила меня мати голенькую, даже пелёночки не дала! Ой-о-ой!»
Невидимая маленькая девочка жалобно плакала где-то позади, но сколько Воята ни вертелся, ни увидеть её, ни уйти от голоса не удавалось. Опомнившись, он сделал несколько быстрых шагов по дороге. Но плач только усилился, переходя в визг, – в нём звучали отчаяние, возмущение, гнев.
«Ни пелёночки! Ни лоскуточка! Ни единой ниточки!» – кричал тоненький детский голосок, и Воята себя самого ощущал голеньким младенцем, брошенным посреди поля на верную смерть, голодную и холодную…
На погибель души…
Да вот же в чём дело!
Глубоко вдохнув, Воята шагнул обратно к бугорку. Плач немного поутих: не прекратился, но в нём теперь слышалось ожидание.
Не отрывая глаз от бугорка, Воята пошарил по поясу, нашёл нож, вынул, откинул полу свиты. Натянул подол сорочки, вспорол плотную льняную тканину и с трудом, наполовину отрезал, наполовину оторвал лоскут меньше ладони. Жалко новой сорочки, но ничего другого нет под рукой.
– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! – хрипло выкрикнул он в сторону бугорка.
Разом стало легче, вернулась уверенность и светлое чувство, с которым он читал в церкви.
– Коли ты мужеска пола, то будь Иван! – чисто для порядка сказал Воята, хотя уже знал, что никакой это не Иван. – А коли женского – будь Марья!
И бросил лоскут от рубахи на бугорок.
Ветер подхватил его – прямо вырвал из рук, не дав коснуться земли, и мигом унёс.
Плаксивый голос всхлипнул ещё раз, переводя дух, и затих. Сквозь завывания ветра, по-прежнему бесившегося между тучами и полем, души Вояты коснулась тёплая, ласковая тишина, напоённая нездешними ароматами. Будто раскрылись где-то рядом ворота незримого сада, пропуская спасённую младенческую душу, и закрылись опять. Но ощущение тепла осталось, задержалось под суконной свитой, крепко обняло Вояту, будто в благодарность.
Медленно он убрал нож обратно в ножны на поясе. Подошёл, пошевелил ногой оставшиеся несколько веток на бугорке. Отбросил их прочь – уже не нужны. Теперь это просто бугорок, чуть крупнее кротовины. Не будет под ним больше плакать.
Рубаху жалко. Матушка собирала, причитала: кто же тебе, дитятко, в этом Сумежье сорочки-то помоет, залатает? Найдётся ли добрая душа?
Ну да ладно. Воята хмыкнул: пусть-ка теперь Павшина баба ему новую сорочку поднесёт за это дело…
«Господину архиепископу новгородскому владыке Мартирию сумежане, Великославльской волости, тебе, господарю, челом бьют от мала до велика…»
Писарь читал, стоя над ворохом сегодняшних грамот. Архиепископ медленно прохаживался по горнице, заложив руки за спину, – устал сидеть. Владыка Мартирий лишь три года назад достиг возраста, когда допустимо епископское посвящение[2]; был он чуть выше среднего роста, прям станом и худощав, отчего казался более рослым, чем был на самом деле. Стоял жаркий летний день, мухи жужжали возле забранного слюдой оконца, со двора пахло сеном. Полосы солнечного света лежали на половицах и сами казались липкими и тягучими, как светлый мёд. С близкой Софийской площади доносился гомон торжища.
– «Как поп наш Горгоний наглой смертью умре, так и стоит Власьева церковь Сумежского погоста без пения уж второе лето…»
– Постой! – Архиепископ знаком остановил Гостяту. – Сам прочти: опять они за своё? Попа себе просят? Я ж писал им – нету у меня для вас попа! Присылайте дьяка, поставлю его попом.
– Так у них, господине, нету дьяка. Отец Горгоний раньше дьяком был, его ещё прежний владыка, Дионисий, попом к Святому Власию поставил.
– А в другом приходе? Великославльская волость же большая, сколько там, десять погостов?
– Десятину платят с десяти погостов, а церкви только две поставлены: Власьева в Сумежье, где волостной погост, и Николина – в Марогоще. У Власия служил отец Горгоний, у Николы – Касьян. И пути между ними на весь день.
– Что говоришь? – Архиепископ наклонился, не дослышав.
– Пути между ними день!
– Да что же такое? – Владыка в досаде оглянулся на дверь. – Поди узнай, что там за крик?
Гостята, ещё довольно молодой мирянин, положил грамоту от сумежан в кучу других и с охотой направился к лестнице. В сенях внизу раздавался гомон, нарушающий покой в архиепископских палатах близ Святой Софии новгородской. Даже мух заглушил. Прозвучал голос Гостяты, привычно водворяющий порядок; ему отвечало, перебивая друг друга, несколько других.
Вот Гостята вернулся; видно было, что недавно смеялся. Поклонился, придавая лицу сдержанное и скромное выражение.
– Там, господине, отроки посадничьи с торгу привели… – Он всё же не удержался и фыркнул в рукав. – Воятку Задора, попа Тимофея сына, что у Святой Богородицы в Людином конце. Подрался с одним, с Миронегова двора. Рассудишь их или пусть пока в погребе посидят?
– Попа Тимофея сын? Ну, давай его сюда.
Архиепископ уселся в резное кресло и сложил руки. Он сам был рад передохнуть от грамот. И не лень же людям драться в жару такую!
В палату вошёл посадничий десятский, поклонился.
– Тут, господине, попович с Людина конца. На торгу драку учинил с Микешкой Косым, и горшки ещё побили. Мы было взяли их, да коли этот из поповской чади, так тебе его судить. Сам сказал: к владыке, мол, ведите.
– Коли сын поповский, то моя чадь, – кивнул архиепископ. – Где он у вас?
В дверь пролез кто-то со связанными руками – такой здоровенный, что плечи его едва прошли в проём. За ним втолкнули ещё одного, потом вошли двое посадничьих отроков.
– Вот они, господине, оба перед тобой.
– Опять ты здесь? – обратился архиепископ к здоровяку, что вошёл первым. – Как тебя… Воятка?
Если раньше на румяном, округлом лице молодого здоровяка было возмущённое выражение, то теперь, оказавшись перед владыкой, он присмирел и устыдился. Рубаха на плече была порвана, на лице засохла кровь из разбитой брови. Противник его, мужик постарше, выглядел ещё хуже – сломанный нос покраснел и распух, один глаз совсем заплыл, рубаха была в пыли и в пятнах; архиепископ дёрнул носом, уловив запах конского навоза.
– Воята я, Тимофеев сын. – Детина лет двадцати, здоровенный, как медведь, смущённо уставился под ноги. – Отец мой служит у Святой Богородицы…
– А по-крещёному как?
– Гавриил…
– А что имя сие значит, ведомо тебе?
Ещё сильнее устыдившись, Воята опустил глаза.
– Значит, «муж Божий», – продолжал епископ. – Святой Архистратиг Гавриил – Божественного всемогущества служитель, добрых вестей податель. Видно, плачет он горько, на дела твои глядючи. Ты-то чем Господу служишь? Помнишь, в Неревском конце той зимой была драка, ты у меня потом сто поклонов в день клал?
– Помню, владыка…
И в кого только вымахал такой, ещё раз удивился про себя архиепископ. Отец Вояты, поп Тимофей, росту обыкновенного, жена его тоже не медведица, двое старших сыновей – люди как люди. А младшего Господь сотворил здоровенным, что сосна бортевая, и нравом буйного. Оно хорошо в стеношных боях и в драке на мосту, однако не на торгу же. А по лицу видать, что хоть горяч, но не глуп и не лукав, вид смышлёный и честный.
Стыдясь смотреть архиепископу в лицо, Воята не отрывал взгляда от его сложенных рук – с изящными, тонкими кистями, немного опухшими суставами пальцев. Даже эти руки будто дышали умом, прилежанием и благочестием – не то что собственные Воятины кулачищи, в которых бронзовое стило соломиной кажется.
– А на Святки тогда Гюрятину чадь поколотил, – напомнил десятский.
– Так чего они на девок навалились, наших, людинских? Кто их звал?
– А с медведем на прошлую Масленицу зачем сцепился? Помял же скотину бессловесную?
– Те скоморохи сами виноваты! – Воята вскинул глаза. – Сами зазывали с медведем бороться, а медведь-то у них плюгавенький…
Архиепископ едва скрыл усмешку. Вблизи его лицо – щёки впалые, борода и усы светло-русые, без налёта рыжины; большие глаза с темными тенями внизу на бледной коже; у тонкой переносицы, над концами бровей стоячие тонкие морщинки – казалось лицом добродушного человека, который принуждает себя быть строгим, и Воята понадеялся на добродушную сторону владычьей души. Только светло-русые брови-стрелы от переносицы так резко шли вверх, будто грозили тайком: насквозь тебя вижу!
– Ладно! В сей раз ты что натворил?
– Прости, владыка! – Воята неловко поклонился со связанными руками. – Я б не тронул никого, да Микешка, – он покосился на супротивника, – бранить меня начал, вот тем же самым, что я только кулаками махать горазд, а грамоте-де я не знаю и мне в изгои прямая дорога.
– Прямо так начал бранить, без причины?
– Ну, шёл я по торгу, торг ведь нынче. Мы с Будьшей вдвоём шли, орешков хотели посмотреть. Иду я, через людей так, бочком пробираюсь. А вдруг этот, – он кивнул вбок на Микешку, – как начнёт орать, что-де я его насмерть убил… Убил бы – он не орал бы…
– Да он как толканул меня, чудище, я аж в лыки отлетел! – не выдержал Микешка. – Я ему говорю: куда валишь, будто медведь, ты гляди, куда прёшь! А ещё, говорю, попович! Куда тебе в церкви служить, ты и грамоте-то не знаешь…
– Сказал, будто мне в изгои прямая дорога! – подхватил Воята. – И меня осрамил, и батюшку, и брата Кирика, что уже дьяконом поставлен к Святому Илье от Нежаты Нездинича, а меня батюшка с ним заодно обучал. Я ему говорю: ах ты, рожа… – Он запнулся, спохватившись, что перед архиепископом повторять всё, что было сказано, никак нельзя. – Так обидно мне стало, что и не знаю, что сказать. Ну, я его вынул из лык-то и глаз ему маленько подправил, чтобы лучше глядел. Легонько так, чтобы только вежество помнил… А он как кинется на меня, и руками своими молотит, как петух крыльями на навозной куче…
– Сам ты… прости, владыко!
– Я ему врезал под дых, чтоб охолонул. Его и скрючило. Я думаю, пойду восвояси, подобру-поздорову, пока не вышло какого худа, как с теми скоморохами. А он разогнулся, злодей, да как подпрыгнет, как вцепится мне в волосья и давай рвать. Я его, клеща кровопивственного, оторвал от себя и дал раз… или два. Он и отлетел, да прям в горшки Федкины, только черепки брызнули. Чую, на спине у меня кто-то повис. Я его вперёд сбросил, успокоил разок – глядь, а это Федка! И рубаху мне порвал, – Воята двинул плечом, – а рубаха новая, матушка пошила. И такое меня зло взяло, что вынул я Микешку из горшков… А тут отроки, да на плечах повисли сразу двое…
Воята окончательно смешался и потупился. Густые тёмно-русые волосы закрыли высокий лоб, но сквозь них проступала зреющая красная шишка.
– А Микешка меня зря бранил, по вредности, – закончил он. – Я читать могу, и книги святые знаю, и Псалтирь, и Апостол, и Часослов, и писать умею.
– Да уж я наслышан от отца Климяты, все книги в хранилище ты пересмотрел. – Архиепископ посмеялся. – Иди, – он кивнул в сторону стола, – читай. Псалтирь видишь?
Воята, робко ступая, пробрался к столу, где лежала большая книга в кожаном переплёте.
– Развяжи ты его, – велел архиепископ десятскому. – Ты ж, чадо, буянить не станешь больше?
– Не стану, ей-богу, – насупившись от стыда, ответил Воята. – Я ж не коркодил какой…
Десятский подошёл и распутал ремень у него на руках. Воята украдкой потёр запястья, потом вытер ладони о подол рубахи, перекрестился.
– Читай, где открыто! – велел архиепископ.
Воята не наклонился, лишь опустил взгляд с высоты своего роста. Красиво выписанные чёрные буквы тесно сидели в ровных строчках двух столбцов.
– Вси видящие мя поругаша ми ся, глаголаша устами, покиваша главою: упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хощет его…[3]
– Он на память повторяет, – прошипел Микешка. – А сам и ступить не умеет!
– Цыц! – прикрикнул на него архиепископ. – Слово Божие прерывать вздумал!
– Прости, владыка! – Микешка присел, съёжился, однако торопливо продолжил, не в силах сдержать вредность души: – А только он на память повторяет. От отца наслушался да и запомнил.
– Всем бы так запомнить. Вот что – возьми… Гостята, дай ему грамоту какую ни то. – Архиепископ обернулся к писарю.
Гостята, улыбаясь, взял верхнюю из вороха.
– «А ты бы, господин, попа Касьяна, что у Святого Николы Марогощского погоста, поставил нам попом у Святого Власия, – прочёл Воята там, куда Гостята ткнул пальцем, не так бойко, как из Псалтири, но вполне уверенно. – С тем тебе, господин, челом бьём».
– Вот они что придумали! – Архиепископ вспомнил, о чём шла речь до привода драчунов. – Касьяна? Это он на два прихода будет у них один? Управится ли? Он и в грамоте не боек, на память больше, я слыхал…
Взгляд его упал на Вояту, стоявшего с понурым видом.
– Ну вот… – задумчиво произнёс архиепископ. – Читать ты, чадо, умеешь, так что попрекали тебя зря.
– Так батюшка ж выучил…
– Ещё бы он смирению тебя выучил, а не только кулаками махать.
– Тут уж не батюшки вина. Я бы хотел, да как начнут меня на задор брать, так нет мочи, будто бес какой толкает.
– Бес молитвой изгоняется. Проси прощения у Микешки, что побои ему причинил.
Воята поджал губы и дёрнул носом. На лице его ясно отразилось возмущение: меня без вины обругали, и я прощения проси?
– А Микешка сам у тебя и у Бога прощения попросит, что понапрасну бесчестил.
– Радуйся, дурак, легко отделаешься! – шепнул Вояте десятский. – Кланяйся и благодари!
Воята вздохнул и послушно поклонился своему обидчику.
– Федка пусть объявит, на сколько вевериц вы ему горшков побили, пусть поп Тимофей разочтётся. О прочем же я с отцом твоим потолкую… – задумчиво добавил архиепископ. – Ну, ступайте.
Это «прочее» могло означать шестьдесят кун, которые архиепископ должен был взыскать с отца Тимофея. Воята стойко терпел брань и попрёки, не столько от отца даже, сколько от старшего брата, Кирика.
– Дубина выросла, прости Господи, а ума как у теляти! – возмущался дьякон. – И правильно тебя Микешка бранил, хоть он и сам дурак! Грамоте ты обучен, да толку от грамоты, когда ума нет! Тебе бы жениться да жить как все люди, глядишь, иподиаконом скоро бы стал. Прознает Нежата Нездинич про твои дела, о приходе забудь! К князю в гридьбу поступай, там тебе грамота не понадобится! Срамишь нас только на весь город! Коркодил ты и есть!
– Ладно тебе! – унимала его мать. – Родного брата да коркодилом бранишь!
Воята молчал и крепился, не поднимая глаз и не отвечая, упорно твердил про себя: «О святый Архангеле Гаврииле! Всеусердно молю тя, настави мя, раба Божьего Гавриила, к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере нашей, укрепи и огради души наша от искушений прельстительных…» Он был умнее, чем можно было судить по его поведению, и понял, зачем архиепископ велел ему просить прощения у вздорного дурака Микешки.
«Семь духов прельстительных выпустил в мир Сатана, – рассказывал ему дьякон Климята. – Влезают они в человека, к некой части его прилепляются и к тому греху толкают, к коему человек склонен. Дух несытости в утробе гнездится, духи славохотения, высокомудрия и лжи – в устах, в ушах, в мозге. И в коего человека сии духи прелести проникли, всеми помыслами его они обладают, и через них сам Враг род людской во власти своей пагубной держит. У тебя же бес – дух вражды, в самом сердце он гнездится. Силы телесной вон сколько тебе Господь отмерил – на троих хватит, а главный-то твой враг – задорный бес, он внутри, и ты его победи-ка!»
Воята сознавал правоту дьякона, но и задача ему выпала трудная. Выучиться смирению, что при его росте и силе важно, было ему труднее, чем овладеть грамотой. У дурака Микешки прощения просить стыдно и противно, да в другой раз будешь думать, прежде чем кулаком махать…
Однако этим дело не кончилось. Когда через пару дней за отцом Тимофеем прибежал отрок от владыки, тот подумал, что пора шестьдесят кун готовить. Но вернулся изумлённый и весьма взволнованный.
– Владыка тебя к делу определяет! – объявил отец Тимофей Вояте. – С Нежатой Нездиничем говорил, я сам его там видел. Хочет послать тебя в Великославльскую волость, в Сумежский погост. Священником там будет отец Касьян, а тебя ему парамонарём.
– Великославль! – охнула попадья. – Да это ж даль какая!
– Изрядно – дня три ехать. Зато к делу будешь пристроен. У них ныне на две церкви один поп, а не станешь дурью маяться, послужишь хорошо, тебе уже в иподьяконы годы почти вышли, а там глядишь, и рукоположит тебя владыка, будешь сам в Николиной церкви петь…
– А жениться? – всплеснула руками мать. – Когда ехать? Успеем сосватать хоть…
– Парамонарю женатому быть необязательно. Пусть пока один едет, оглядится, – рассудил отец Тимофей. – Куда жену молодую вести – ни двора там, ни хозяйства. Пока устроится, а мы ему тут жену подберём, без спешки. Уже всё-таки будет парень при деле, и невесты получше найдутся.
Отец Тимофей вздохнул: они с попадьёй уже не раз в последние три года думали женить меньшое дитя, надеясь тем его угомонить – в шестнадцать Воята смотрелся восемнадцатилетним. Но хорошие невесты не шли за поповича, столь буйного нравом и ещё не определённого к месту.
Однако мать, Олфимья, всё же сбегала тайком к бабе Ксенье – той, что в Людином конце занималась сватовством, и потолковала с ней: какие ещё, дескать, девки поповские на выданье будут? Вернулась совсем расстроенная.
– Услыхала меня Ксенья, аж руками замахала, – рассказывала Олфимья мужу, порываясь заплакать. – Дурная волость, говорит, Великославль этот. Хоть кого у Нежаты Нездинича на дворе спросите, всякий скажет. Волость это их, Миронежичей, они всё про неё ведают. А в том горе, что попы не ведутся там. Какого ни поставят, десяти лет никто не живёт. Один, сказала, утоп, другого деревом зашибло, третий зверем уяден! Издавна у них так. И ни одна, сказала, девка добрая не пойдёт за попа, что в Сумежье поставлен, потому что… – Мать осеклась, не желая даже додумывать мысль о том, что такое замужество сулит девушке скорое вдовство. – Куда же наше детище посылают-то, отец? Может, попросишь Нежату Нездинича? Пусть бы ещё с нами побыл, не объест…
– Ох, мать, зачем ты к этой Ксенье потащилась? – Отец Тимофей почти рассердился. – Глупой болтовни бабьей наслушалась, а теперь себе сердце рвёшь. Я уж слышал – отец Ерон, прежний поп сумежский, пил много, по все дни пьян был прямо с утра. Долго ли тут помереть? А ты уж выдумала.
– Сгубят детище… – Попадья всё же начала плакать. – Приглядеть за ним некому будет…
– Матушка, да ты на него погляди! – Отец Тимофей показал на детище, что стояло рядом и прислушивалось. – Да он быка кулаком убьёт! Медведя заломает! Кому на него напасть?
– То быка… – Олфимья утирала слёзы рукавом сорочки, поскольку вершники в эту пору носили с короткими рукавами. – А то если злыдни какие… порча…
– Святой крест оградит! – сурово напомнил отец Тимофей. – Он же при церкви будет, как его там порча достанет?
– Ерона достала ж…
– На бражку надо было меньше налегать, и не достала бы… Ну что, и ты забоялся с бабьей болтовни? – Отец Тимофей воззрился на чадо. – Что приуныл?
– Не забоялся я, батюшка, а только матушку жалко. Злыдней не боюсь. Пусть-ка полезут… – Воята по старой привычке сжал могучий кулак, но опомнился и сделал руки смирно.
– Может, там удали твоей дело сыщется… – пробормотал отец Тимофей.
В глубине души он тоже взволновался: а что если в бабьей болтовне кое-что правда? Младшего сына, приобретшего в последние годы славу драчуна и буяна, стоило из города убрать хотя бы на время. Иначе, пока его подвиги не забудутся, хорошего устройства ему не видать.
Сумежский погост, как Вояте по дороге рассказали люди Нежаты Нездинича, основала сама княгиня Ольга, когда ездила по земле Новгородской, но особенно разбогател и расцвёл он при внуке её, Владимире. По обычаю старинных городищ, лежал он на высоком мысу, где в Ниву впадала мелкая речка под названием Меженец. На вершине мыса располагались самые старые постройки: боярский двор, где когда-то останавливалась княжеская дружина полюдья, сто лет назад построенная церковь Власия, поповский двор, усадьбы старших здешних родов. Бывший княжеский двор теперь принадлежал боярскому роду Мирогостичей, но весь год там жил только Трофим, тиун, и несколько человек челяди, а сам боярин останавливался там раз в год, когда приезжал за данью и по торговым делам. Эта часть селения называлась Погостище; когда-то её отделял насыпанный поперёк мыса высокий вал, даже с бревенчатым частоколом, но от частокола давно остались одни предания, вал уже не был так высок, на нём появились хлебные печи, клети, меж которыми паслись козы.
За валом начинался посад, упиравшийся в овраг, а сразу за оврагом раскинулся старинный жальник – по обычаю давних времён, места обитания живых и мёртвых примыкали одно к другому. Несколько высоких сопок принадлежали к временам Ольги, сына её Святослава, внука её Владимира; после крещения высоких могил уже не делали, но хоронили покойных сумежан всё там же. За Меженцом тоже были разбросаны дворы, и та часть называлась Замеженье. Всего в Сумежье обитало человек триста, а по торговым дням на площадь перед церковью съезжались и жители окрестных деревень.
Вояту, как человека неженатого, определили на жительство к бабе Параскеве – вдове прежнего сумежского дьячка, отца Диодота, благо изба её стояла напротив Власьевой церкви. Баба Параскева, небольшого роста шустрая старушка, нравом отличалась добрым. Её двое сыновей умерли ещё отроками, дочери были розданы замуж, и она совсем уж было собралась переселиться к той из них, что наплодила более чад, но всё же сниматься с насиженного места ей не очень хотелось, и она обрадовалась Вояте как поводу остаться где есть и при деле. У него она быстро выспросила всё про семью, про оставшихся в Новгороде родичей. Рассказывать ей про ту драку Воята постыдился, зато старался следить за собой, чтобы в Сумежье таких приключений с ним больше не было. На приезжего новгородца, присланного владыкой и привезённого самим боярином, смотрели с несколько настороженным любопытством, а Воята понимал: по нему здесь будут судить и новгородское священство, и владыку, и Нежату Нездинича, и даже весь Новгород. Осрамить всё это своей несдержанностью совсем не хотелось, и некая отчуждённость, поначалу ощущавшаяся, в этом помогала.
Правда, брать его на задор пока желающих не было. Рослый, здоровый, приятный собою отрок, сын новгородского попа, мигом вызвал жгучее любопытство девок и в самом Сумежском погосте, и в окрестных сёлах, и Воята нередко заставал в гостях у бабы Параскевы какую-нибудь другую бабу, имевшую незамужних дочерей. Но Параскева встречала их довольно строго, будто мать, придирчиво отбирающая достойную невестку, за что Воята был ей благодарен. Жениться с наскоку он не хотел, а уж баба Параскева, родившаяся в Сумежье, как облупленных знает не только всех девок, но их матерей, бабок и прабабок…
Войдя во двор, Воята застал целый хоровод: с десяток девчонок-подростков стояли в круг, перебрасываясь тряпичным мячиком. На ступеньке крыльца сидела Неделька – самая старшая из семи Параскевиных дочерей, отданная замуж за кузнеца и жившая тут же, в Сумежье, только на посаде за валом, поближе к реке. Её старшие дочери уже были невесты, лет четырнадцати или пятнадцати, другие ещё ходили на «младшие супрядки» для девчонок. После месяца жизни у Параскевы Воята запомнил только старших её внучек, а младших не отличил бы от соседских.
Одна девочка бросила мячик через круг, другая поймала.
– А я – Анна, третья пятница! – объявила поймавшая. – Красная да Страшная!
С этими словами она тоже бросила мячик, его поймала девушка, Неделькина дочка.
– Я – Макрида, четвёртая пятница, Вознесенская!
Это какая-то игра, понял Воята: эту девушку звали вовсе не Макрида, а Федоська. Она бросила мяч, и поймавшая крикнула:
– А я – Катерина, пятая пятница, Зелёная!
– Нет, нет! – возмущённо закричали два-три голоса. – Врёшь, Анфуська! Пятая пятница – Варвара!
– Это Варвара – Зелёная!
– Я шестая пятница, Катерина! – слышал Воята за спиной, проходя в дом и кивая наблюдавшей за игрой Недельке.
Войдя, Воята, как положено, перекрестился на красный угол, подавляя вздох. Почётное место там занимала вырезанная на дереве икона Параскевы Пятницы; резные иконы Параскевы, как и Николы Милостивого, в этих краях встречались часто, а вот писаные, привезённые из Новгорода, имелись только в церквях – у Власия и Николы. Кстати сказать, греческого слова «икона» здесь ещё не знали и говорили «боженька». Рядом с «боженькой»-Параскевой стояла и другая – Богоматерь, держащая на руках младенца женского пола, в таком же платке. Увидев это впервые, Воята очень удивился, но баба Параскева пояснила: святая Параскева – дочь Богородицы, от непорочного зачатия рождённая, их вместе и почитают[4].
«Да что ты такое говоришь, мать? – возмутился было Воята. – Иисус один у Богоматери был сын, в Писании об этом ясно сказано! Куда отец Касьян смотрит, такую ересь позволяет держать!»
«Какая ж это ересь? – обиделась старуха. – Ты Писание-то знаешь, попович? Сказано: «Не сестры ли его зде в нас?»[5] Параскева Пятница и есть Господня сестра».
Воята не сразу нашёлся с ответом. Сказано так было, да.
«У нас батюшка из Евангелия-то читает, мы знаем», – добавила баба Параскева, гордая несокрушимостью своих доводов.
Воята задумался: поди-ка возрази! Имена Господних братьев в Писании перечислены: Иаков, Иосия, Иуда, Симон. Кто такие братья и сёстры Иисуса, об этом разные толкования есть: не то дети Иосифа-плотника, обручника Мариина, от его покойной первой жены, не то его брата Клеопы. Но имена сестёр не названы – поди докажи, что среди них не было Параскевы?
«Постой, она же из Иконии родом! – хмурясь, Воята пытался восстановить в памяти житие. – Там пострадала… Диоклетианово гонение… А Диоклетиан тот был три века спустя после Господа. Что же она, триста лет прожила?
«Чего же не прожить триста лет, слово Господне проповедуя? – Баба Параскева не видела в этом ничего удивительного. – Праведные люди долго живут, им бог много даёт веку. У нас вон старец Панфирий в пещерке при озере прожил сто лет ровно, а пришёл туда уж зрелым мужем».
На этом богословский спор Воята прекратил: в старца Панфирия здесь верили несокрушимо. Со временем Воята убедился, что вера в родство Богоматери и Параскевы Пятницы в Великославльской волости укоренилась так глубоко, что спорить – ровно воду в ступе толочь. Отец Касьян, сам здешний уроженец, с детства привык принимать это как должное и, решись Воята с ним об этом заговорить, ответил бы, как баба Параскева: век по́веки[6] так ведётся. А что век повеки ведётся, с того и волами народ не сдвинешь.
В избе Воята ожидал обнаружить ещё двух-трёх Параскевиных дочерей и внучек, но там сидела только одна гостья, притом не из родни, а соседка – Павшина баба.
– Каждую ночь всё плачет и плачет! – жаловалась она. – Из угла вроде голос, а там нет ничего. То плачет, то стонет, то воет… Только сядем за стол – воет. Только спать уляжемся – стонет. И так всякий день, святые угодники, будет ли мне избавленье!
– Это надо к отцу Касьяну, – советовала ей баба Параскева, не переставая шить. – Он бы отчитал.
– Надо бы, да боязно… – Павшина баба шмыгнула носом. – Он как глянет… я, мать, робею ему на глаза-то попадаться…
Когда Воята вошёл в избу, обе женщины повернулись к нему. Как и всегда: баба Параскева сидит с шитьём, а гостья – так, руки сложила, будто дома дела нет. Достанется ей когда-нибудь от мужа за эти побегушки…
– Ох мне! – видя, как Воята снимает кожух, баба Параскева всплеснула руками. – Медведь тебя подрал, что ли, голубчик мой?
– Это вот она виновата! – Воята ухмыльнулся, кивнув на Павшину бабу. – Сидеть бог по́мочь, Ваволя.
На лицах обеих женщин отразилось такое недоумение, что Воята едва не расхохотался и с трудом сохранил суровый вид. От воспоминаний о продуваемом осенними ветрами поле и сейчас морозом продирало по спине, но согревало сознание сделанного дела.
– Да я… – начала Ваволя, сама не зная, что хочет сказать.
– Как же она… – вступилась было баба Параскева. – Ты где был-то?
– В поле я был, где росстань на Песты и Лепешки. – Воята сел на лавку и расправил подол рубахи на коленях, чтобы была хорошо видна дыра от вырванного лоскута. – Смекаешь где?
Он строго воззрился на Ваволю.
Та издала какой-то писк и зажала себе рот кулаком. Сообразила: он говорит о том поле, где она зарыла у дороги, как полагается, своего новорожденного младенца, который не прожил даже полдня, так что его не успели окрестить. Отца Касьяна тогда не случилось в Сумежье – уехал в какую-то из деревень. Так младенец и помер «без покаяния», как рассказывала сквозь слёзы сама Ваволя, хотя как же бессловесное чадо могло каяться?
– Вот то-то же! – сказал Воята. – Шёл я через поле, услышал, как душа младенческая жаловалась. Я её и окрестил. Теперь звать её Марья, и тревожить тебя она больше не станет. Пришлось вот дать ей на сорочку, – он показал оборванный подол, – другого ничего не нашлось. Теперь с тебя новая рубаха.
– Да я… – опять начала Ваволя, будто пытаясь оправдаться, а потом до неё дошло. – Ох, родненький!
Вскочив, она устремилась к Вояте. Он подскочил с перепугу, а Ваволя с налёту бросилась ему на грудь, продолжая причитать:
– Избавил ты нас от беды! Век бога молить… и я, и Павша. Избавил… деточка моя бедная… Окрестил… Стало быть, она теперь у Бога?
Ваволя подняла веснушчатое лицо, и, хотя на щеках блестели следы слёз, светло-голубые её глаза уже смотрели с чистой, почти детской радостью. Баба она была молодая, лет двадцати пяти, довольно бестолковая и безалаберная, как определил любящий во всём порядок Воята, но не вредная.
– Теперь у Бога, – подтвердил он, снимая руки Ваволи со своей груди. – Бог-то не отвергнет душу невинную. Ей только путь указать надобно было.
– Но с чего она плакать начала? – не отходя далеко, Ваволя взглянула ему в лицо. Теперь ей казалось, что Воята должен и это знать. – Не в первый же раз… И у меня, и у Ярышихи, и у кого только детки не помирали. Но чтобы вот так плакало… Бабка Варсава рассказывала, случалось у них такое раз или два. При отце Горгонии такого не было!
– Ладно уж, молчи! – Баба Параскева нахмурилась. – Наладится всё. Ты знай на Бога надейся, а судить, что да отчего, не нашего ума дело.
– Так ты рубаху-то! – Воята снова показал оборванный подол. – Я для тебя оторвал, а мне матушка шила.
– Я сделаю! – Ваволя всплеснула руками. – У меня с той осени ещё лежит хороший холст, белёный! Локтей десять… – она смерила Вояту взглядом, – или двенадцать даже есть, тебе хватит. Сошью, принесу.
– Нет уж, ты лучше холст принеси, – поправила её баба Параскева. – А я сама сошью. Не то пойдёт разговор… только нам тут не хватало с Павшей твоим объясняться.
Ваволя удивилась, потом сообразила и прыснула от смущения и смеха, зажав рот кулаком. Метнула на Вояту вороватый взгляд, потом попыталась придать выражение добродетели своим подвижным чертам, но получилось плохо.
– Да я ж…
– Ты лучше расскажи, как тебя мужским именем окрестили? – ухмыльнулся Воята, чтобы уйти от неловкого поворота. – Женские, что ли, в тот день все вышли, до тебя разобрали?
Ваволя засмеялась и отошла к прежнему месту на лавке. Баба Параскева тоже усмехнулась:
– Да отец Ерон, что прежде отца Македона у нас пел, слеповат был да и забывчив. Принесут ему младенца крестить, он откроет Месяцеслов, увидит, на сей день чья память, имя по виду женское – тем и нарекает. Были у нас тут девки и Мина, и Сила, и Зосима. Есть баба Акила, да эта вот, – она кивнула на соседку, – по-писаному – Вавила, а говорят у нас – Ваволя. Есть одна молодка – Пергия. Это отец Ерон в Месяцеслов глянул, там написано: святого мученика Феодора, в Пергии Памфлийской. А он прочел: святых мучеников Феодора, Пергии. Думал, Пергия – имя такое. Ну и нарёк. Что поделать, второй раз не покрестишь. Так и живут.
– Может, оттого я такая несчастная… – начала было Ваволя, но бойкий взгляд, тайком брошенный на Вояту, выдавал мысли не столь уж печальные.
– Да ладно, не жалуйся! – Баба Параскева слегка махнула в её сторону рукой. – Бог всё слышит – как о себе говоришь, то и получишь. Думай лучше, сколько есть баб куда хуже тебя – у какой дети все до одного перемёрли, какая сама из одной хвори в другую только и перебирается… Етропию помнишь? Всю жизнь за детьми ходила, муж её гулял с кем ни попадя, а она пятнадцать лет его мать неходячую на себе тащила. А стала помирать – из детей никто проститься не пришёл. Вот у кого несчастье.
– Ну ладно, всякие страсти рассказывать. – Воята нахмурился. – Ты мне скажи лучше – выходит, у того отца… Ерона, да? Был Месяцеслов?
– Месяцеслов в Евангелии, в той же книге.
– В той же? А других, стало быть, и не было? Сто лет по одному Евангелию здесь у вас служат?
– Нет, отчего же. У отца Македона Апостол[7] был… Старинный, от самой древности, болгарского письма, – припомнила баба Параскева. – А у отца Ерона вроде была Псалтирь, только не помню, чтобы он читал с неё.
– Вот так богатство! Куда же всё делось?
Баба Параскева и Ваволя переглянулись…
Епископ Мартирий послал Вояту в Сумежье, чтобы хоть отчасти восполнить нехватку церковных людей. Однако, прибыв на место, Воята обнаружил, что отец Касьян вовсе ему не рад.
– К чему мне тут чтец, когда читать нечего! – сказал он боярину, когда тот подвёл к нему Вояту. – Одно Евангелие у меня, в нём Месяцеслов. Псалтири и то нет. Был бы хоть дьякон, а лучше иерей, поставил бы его владыка в Марогощи к Николе – был бы толк. Да книг бы прислал. А свечи тут есть кому зажигать и без ваших молодцев.
– Иереев у владыки нету для вас. Вы бы прислали кого, он бы и поставил, коли человек достойный.
– А где их возьмёшь, достойных? Чернознаи[8] да шиликуны[9] всякие водились тут, да я их повывел. Во всей волости грамоте разумеет один Трофимка твой!
– Трофимку не отдам, самому нужен! – засмеялся Нежата Нездинич. – Вот, Воята у вас обживётся, а как выйдут года – владыка его и рукоположит. Береги его, батюшка.
– Береги! Мне ж его теперь кормить с десятины, а что с него толку?
– Я псалмы на память петь могу, – вставил Воята. – Молитвы знаю.
Быстро выяснилось, что и порядок службы Воята знает лучше батюшки, но хватило ума это скрыть. Однако отец Касьян посматривал на нового помощника с недоверием, будто подозревал в неких тайных враждебных замыслах. И это смущало Вояту. После той драки на торгу архи-епископ ещё дважды говорил с ним. Наставлял, ободрял… Мол, отец Касьян теперь по просьбе жителей от Николы в Марогощах переводится на волостной погост к Власию, да сам он только два года Писанию обучался, а в волости будет один поп на два прихода, и те два прихода – на девять погостов… Дело-то вполне обычное для дальних погостов, но у Вояты осталось впечатление, будто владыка Мартирий хотел сказать что-то ещё. Призывал к осторожности – дескать, место дальнее, глухое, церкви там бедны, а старые обычаи сильны, от болванного поклонения народ отошёл недалеко…
Как недалеко, Воята увидел в первые же дни. Власьева церковь была не то что новгородские белокаменные: обычный сруб под крышей из дранки, спереди крыльцо и сени, алтарь – в такой же срубной пристройке позади. На длинном крыльце висело железное било, в которое ему теперь предстояло колотить дважды в день, созывая сумежан на пение[10]. Вместо нижней ступени перед крыльцом лежало несколько больших камней, и Воята поначалу не обратил на них внимания, но баба Параскева, когда водила его по Погостищу и показывала, где что, рассказала: это камни не простые. Когда-то, при Ольге ещё, на мысу стояло поганское мольбище, а в нём был каменный болван, именем Велес. И будто бы сама княгиня повелела его разбить на части, и сто лет обломки лежали. А потом, когда при князе Владимире Ярославиче в Сумежье поставили церковь, части того болвана сделали ступенями. Всё было правильно, однако Воята с содроганием в первые дни наступал на остатки разбитого идола, когда входил в церковь и выходил. Вглядывался, стараясь разглядеть какие-то признаки бесовской породы, но того, как видно, положили «лицом» в землю.
Внутри Власьева церковь тоже не могла соперничать с новгородскими: икон совсем мало, оклады старого серебра, стены простые бревенчатые, ни росписи, ни, конечно, мрамора. Алтарная занавесь, покровы и одеяния служителей были бедны и весьма стары. Только тябло[11], трудами местных умельцев украшенное резьбой в виде солнечных колёс, плетёнок, ростков и цветков, не выглядело так уж убого. Но и то – в резьбе столпов Вояте поначалу мерещились идольские лица. А всмотришься – просто угловатые узлы плетёнки.
Воята думал, что местный священник сам озабочен остатками поганских обычаев и обрадуется грамотному человеку, выросшему близ епископского престола. Но очень быстро понял: отец Касьян предпочёл бы, чтобы он там и оставался. Местный уроженец, он не хотел здесь чужих людей, если не посягающих на его власть, то к ней причастных. Не доверял чужаку.
И вот оказывается, что во Власьевой церкви был целый Апостол! Сам отец Касьян ни о нём, ни о Псалтири даже не упомянул ни разу…
– Он, отец Ерон ваш, давно помер? – начал Воята расспрашивать бабу Параскеву.
– Да уж лет… – Та задумалась и посмотрела на Ваволю. – Двадцать с лишним.
– Он меня крестил – совсем старый был, я его и не помню, – подтвердила та.
– А после него стал отец Горгоний?
– Нет, после Ерона был отец Македон. Лет пятнадцать он пел у нас тут, и Диодотушка мой при нём служил.
– От старца Панфирия, говорят старые люди, много книг осталось, – вставила Ваволя.
В её взгляде, устремлённом на Вояту, появилась некая новая подобострастность. Ещё вчера она так не смотрела. Правда, вчера она ещё рыдала по своему младенцу. Разродилась она в те самые дни, как Воята приехал с боярским обозом в Сумежье, и первые несколько дней баба Параскева всё у неё пропадала. Потом же Ваволя через день приходила к бабе Параскеве пожаловаться на жизнь, а на нового молодого парамонаря внимания обращала мало. Теперь же он, окрестив душу её помершего младенца, разом вырос в её глазах, и она с явным почтением взирала на парня лет на пять моложе себя. «Вот что значит человек учёный!» – читалось в её бледно-голубых, как незабудки в дождливую пору, глазах. Вояте стало неловко. Будучи парнем храбрым и решительным там, где могла грозить опасность или светила драка, он не был тщеславен и не привык, чтобы на него взирали с почтением.
– Много книг?
Воята удивился ещё и тому, что Ваволя об этом заговорила – уж она-то из тех, кто книгу видел вблизи только на своём венчании.
– Это же всё его книги, – пояснила та, как будто передаёт всем известное. – Евангелие, Апостол, Псалтирь. Из города Корсуни они вывезены князем Владимиром или Анной-царицей. Были те книги ценности несказанной – золотом и багрецом писаны, красками разными изукрашены, оклады в золоте и камнях самоцветных. Держал их старец Панфирий в пещерке своей, где жил. А как пришла пора ему помирать, призвал он к себе отца Платона, велел ему быть попом у Святого Власия, и те книги ему передал.
– И куда же они делись? – Воята посмотрел на бабу Параскеву, воодушевлённый мыслью о таких сокровищах, которые должны быть где-то тут, рядом!
– Чтобы Псалтирь… – стала припоминать баба Параскева, возведя глаза к матице, – не скажу, чтобы когда видела её. У отца Македона не было… У отца Илиана… не припомню, я тогда сама девкой была, чтобы мне до книг?
– Это было сколько лет назад?
– Отец Горгоний пел у нас семь лет, отец Македон – пятнадцать лет, отец Ерон – двадцать три года. Отец Илиан, стало быть, преставился…
Баба Параскева вопросительно посмотрела на Вояту, и тот быстро подсчитал в уме:
– Сорок пять лет назад.
– Вот, сорок пять. Это у Македоновой дочери спросить надобно, что у него было из книг. А вот Псалтирь у отца Ерона верно, была, это я помню. Да куда делась…
– Про Апостол отец Касьян ведает, – подсказала Ваволя. – Ты сама говорила: он ради того Апостола и женился, оттого что в нём сила особая заключена.
– Что? – Воята воззрился на Ваволю и даже привстал на скамье.
– Да это я так, болтала по закону бабьему. – Параскева слегка нахмурилась. – Не слушай, сынок.
– На ком отец Касьян женился?
– Да на Еленке же. У отца Македона она была единственная дочь. По всей волости считалась первая невеста…
Воята ещё подумал, пытаясь собрать в голове всё ему известное. Потом повернулся к Ваволе:
– Так если единственная, у кого ж теперь спросишь?
– У неё, – невинно ответила Ваволя. – У Еленки.
– Так она умерла! Я, думаешь, с покойниками разговаривать умею? Такому делу богопротивному не учили меня!
Ваволя фыркнула, зажав рот кулаком, и воровато посмотрела на Параскеву.
– Да жива она! – с недовольством ответила старуха.
– Отца Касьянова жена жива?
– Ну да. В Пестах она сидит, на старом дедовом дворе.
– Да как же… – Воята слегка опешил. – Я думал, она умерла… Отец Касьян вроде говорил…
Он попытался вспомнить, что ему об этом говорил отец Касьян, но не смог. А вернее, тот ничего и не говорил толком. Приехав в Сумежье, Воята обнаружил, что священник Святого Власия, к кому его прислали в помощь, сидит на поповском дворе один, а по хозяйству ему помогает старуха Ираида, но не живёт у него, и решил, разумеется, что отец Касьян вдов.
С первого взгляда было ясно, что батюшка до праздной болтовни не охотник. Рослый, плечистый, с тёмными длинными волосами, тот имел угрюмый и замкнутый вид. Сросшиеся чёрные брови, резкие черты лица, тёмные глаза и плотно сжатые губы в густой чёрной бороде. Во всей внешности его было нечто тяжёлое и мрачное, будто его вырезали из тёмного камня, и земля всё время тянет его назад к себе. Одним видом отец Касьян внушал робость, и Воята, парень довольно общительный, перед ним смущался и без особой нужды не беспокоил. Видя, что отец Касьян путается в службе, поправлять не смел. Где уж любопытствовать, куда жена делась! Ему-то что за печаль?
– Я думал, он вдовец, оттого и смурной такой, – сказал Воята Параскеве. – А что же она?
– Сбежала она от него, – неохотно пояснила старуха. – Давным-давно, лет десять уже или больше. То дело тёмное и не нашего ума. Не спрашивай его.
– Сбежала?
Воята был потрясён. В большом городе чего только не услышишь, он знал, что иные жёнки беспутные сбегают от мужей, но чтобы такое непотребство случилось в поповском дому!
– Она что… блудливая какая была?
– Да нет. – Баба Параскева чуть ли не обиделась. – Не блудливая она. Такого за нею не замечали. Одна сидит. Он-то к ней… зла не держит, припасами помогает. А вот она…
Было видно, что углубляться в это, при всей бабьей любви судить о чужих делах, у Параскевы охоты нет.
– Ну, бог с нею. Книги-то где? У отца Македона, выходит, был Апостол?
– Был. – Когда разговор вернулся к книгам, лицо бабы Параскевы слегка прояснилось. – У отца Македона был, и он говорил, что отдаст его тому, кто вслед за ним станет у Власия петь и дочь его в жёны возьмёт. Да и Апостола я не видела… – Она воззрилась на Ваволю, надеясь, что вид молодой бабёнки наведёт её на память, хотя та сама помочь тут не могла. – Да с самой его смерти и не видела… Как отец Горгоний начал у нас петь… не было у него других книг, кроме Евангелия. Только Еленка, может, знает. Но я не спрашивала, мне-то что…
– В Пестах, говоришь, сидит она? – в задумчивости повторил Воята.
Если бы достать тот Апостол! Всякая святая книга стала бы для здешнего прихода сокровищем, а тем более – от старца Панфирия, что и принёс в Великославльскую волость Божье слово. Но уместно ли искать его у поповой беглой жены? Хотел бы отец Касьян – сам бы и забрал. А если он не хочет, то чужому парню лезть к той бабе никак не годится.
– Ну, ступай, Вава, – поглядев на него, велела гостье баба Параскева. – А то Павша тебя искать станет, чего худое подумает.
– Будьте здоровы! – Ваволя встала и поклонилась. – И впрямь пойду. Полотно занесу на днях.
Она удалилась; Воята только кивнул ей на прощание. Мысли его вращались возле другой, неведомой бабы, зачем-то державшей у себя старинную книгу.
– Может, пойти бы разведать… – рассуждая вслух, он вопросительно посмотрел на хозяйку. – Правда ли у неё книга… или уже избыла, может, куда?
– Ты, яхонт мой, не лезь в это дело! – уверенно посоветовала баба Параскева. – Держись-ка от этих дел подальше – целее будешь. Своей лучше бабой обзаведись, о ней и думай!
Если баба Параскева намеревалась этим советом смутить поповича и заставить прервать разговор, то своей цели добилась.
Выехав из Сумежья, Воята почти сразу догнал Меркушку. Поначалу Воята знал в Сумежье только Параскевиных зятьёв да Трофима-тиуна – тоже новгородца родом, – но за пару месяцев перезнакомился со всем населением Погостища и частью жителей посада. Меркушка – рослый, худой, с вытянутым лицом и жидкой рыжеватой бородёнкой, был лет на десять старше Вояты и отличался разговорчивостью.
– Дороженька скатертью! – приветствовал он Вояту. – Куда путь держишь, попович?
– И тебе дай Бог добра! – Воята придержал лошадь. – Да вот, отец Касьян в Песты послал, жито отвезти. – Он кивнул на два мешка в телеге. – Жёнке одной…
– В Песты? – Меркушка обрадовался. – А не подвезёшь ли? Мне полпути с тобою, у путика[12] на Жабны сойду.
– Да полезай.
Меркушка бросил в телегу короб и забрался сам.
– На бобра ловушки буду ставить, – пояснил он, когда телега снова тронулась, а сам он уселся рядом с Воятой. – Бобра этого на Болотицком ручье нынче пропасть. А ты к Еленке же едешь?
– Сказал отец Касьян, спросить Елену Македоновну, – подтвердил Воята. – Ему, сказал, недосуг…
Сам бы он не решился расспрашивать отца Касьяна о его беглой жене, но тот сам вчера, окончив службу, подозвал Вояту.
«Завтра поутру бери ржи два мешка, что из Мокреди мужики привезли, запрягай Соловейку и вези в Песты, – велел отец Касьян. – Спросишь, где живёт Елена, попа Македона дочь, ей отдашь. А я в Ярилино наведаюсь, в часовню, мне недосуг разъезжать…»
Отвернулся и ушёл. Вороной конь, лучший из двух, уже был осёдлан, и священник тут же и отбыл. Воята был даже рад: его взволновало это поручение, так отвечавшее его тайным желаниям, а пристальный взгляд тёмных глаз отца Касьяна видел, казалось, всю душу и все помыслы насквозь.
– Недосуг ему! – Меркушка хмыкнул. – Это он видеть её не желает. Или она его.
– Она же правда… его жена? – решился спросить Воята.
– А как же! Она красавица была, Елена Македоновна-то! Я-то ей был не жених, ещё в отроках ходил, а она из всех девок на игрищах у озера была первая коловода![13] Старый поп ей и платья цветного надарил, и бус всяких! Из Новгорода нарочно купцам наказывал привозить. Да жениха-то у неё было два… – Меркушка глянул на Вояту весёлыми серыми глазами и подмигнул. – И по сердцу ей вроде другой приходился. Да…
– Что – да? – несколько сердито повторил Воята: ему было и стыдно, что слушает давние сплетни, и казалось важным хоть что-то узнать о той женщине, к которой он ехал.
– Да сгинул тот второй, будто в воду! И досталась она Касьяну. Только жили они худо с самой свадьбы… Говорили так, а отчего худо – того я не ведаю. А потом, лет уж десять тому или больше, сбежала Еленка из дому и в Пестах поселилась. Дед её, Ульян, помер, двор пустой остался, вот она туда и села. Отец Касьян сперва всё ходил, вернуться просил, да не пожелала она. Может, застала его с кем…
Меркушка прикрыл рот рукой и воровато оглянулся, хотя ехали они через лес и подслушать их было некому, кроме белок и сорок. Воята покачал головой: на охотника бегать за бабами отец Касьян ничуть не походил. Он и на людей-то не смотрит, будто они ему противны все до одного.
– Ты скажи лучше, правда ли, что у той Еленки от отца книга Божественная осталась? – решился он спросить о том, что занимало его мысли.
– Книга? – Меркушка удивился. – Вот уж чего не знаю. Зачем ей книга-то? Если осталось что от отца Македона, то у отца Касьяна, не у неё. Она-то в церкви не поёт!
И то правда, мысленно согласился Воята. Некоторое время они ехали молча. Издали донёсся волчий вой, и Меркушка приподнял голову, вслушиваясь.
– Это где-то у Видомли, – определил он. – Дядька Нежил сказывал, выводок там… Ну, придержи, тут сойду!
– Ступай с Богом. – Воята придержал лошадь, и Меркушка достал из телеги свой короб с ловушками. – Черна бобра в лукошко!
Меркушка хмыкнул в ответ на это пожелание и будто нырнул в заросли, куда уводила узкая тропа; Воята не успел и глянуть ему вслед, как его заслонили еловые стволы.
Песты были деревней из полутора десятка дворов, лежащей на небольших пригорках; один двор карабкался на гребень, другой уже его одолел и осторожно сползал с той стороны, и все они опасливо косились в заводь Болотицы, густо заросшую камышом. В двух-трёх местах камыш был срезан, в чистую воду протянулись мостки, вокруг них плавали утки и гуси, совали головы в воду, отлавливая жучков среди плавающих жёлтых листьев. Какая-то баба гордо шествовала по улице, ведя за собой двух белых коз – с таким видом, будто взяла их в полон.
– Бог помочь! – окликнул её Воята. – Где тут живёт Елена, попа Македона дочь?
Баба оглянулась на него, широко раскрыла глаза и молча махнула рукой куда-то вдоль деревни. Поблагодарив, Воята проехал, а она всё не сводила с него изумлённых глаз, будто здесь катался сам Змий Горыныч о трёх головах. Воята сюда наведался в первый раз. Каждое второе воскресенье отец Касьян ездил петь к Николе в Марогощи, вторую в волости церковь, и брал с собой парамонаря, но туда ехать на полудень, через Видомлю.
Перевалив горушку, Воята увидел ещё несколько дворов, широко разбросанных по обе стороны от дороги. Огляделся, но больше никого из людей рядом не приметил.
– Ну и куда мне дальше? – спросил он у лошади за неимением других советчиков.
– Вон туда, милок, – раздался рядом приветливый голос.
Вздрогнув от неожиданности – не Соловейка же отвечает! – Воята обернулся. Неподалёку стояла, обеими руками опираясь на палочку, старушка в беленьком платочке, сухонькая и маленькая, но по виду бойкая.
– Вон там Ульянов двор. – Старушка показала рукой. – Где ветла с дуплом и загородка покосилась.
– Спасибо, мати. – Воята кивнул в благодарность, хотя и удивился, откуда эта бабка тут взялась. Вроде он её не обгонял…
Ульянов двор возле старой ветлы показывал признаки запустения: жердевая ограда вся перекосилась, двор был закидан грязной соломой и козьими орешками, везде торчала жухлая злая крапива, в углу догнивали давно заброшенные сани. Однако на жердях торчали горшки, сушилось какое-то тряпьё, намекая, что изба обитаема. Оставив телегу у ворот, Воята огляделся, не будет ли пса, но из живности нашёл лишь несколько кур, гуляющих перед хлевом. Вокруг колоды были рассыпаны ошмётки щепок, сухих веток и коры, возле тощей поленницы свалено несколько охапок сушняка. Во всём видна была слабость хозяйской руки. Воята ожидал увидеть старуху, и, когда из-за угла хлева вышла женщина средних лет, подумал, что это соседка.
– Помогай Бог!
Женщина взглянула на него – и Воята вздрогнул от неожиданности, встретив взгляд необычайно ясных голубых глаз. Не яркие – светло-голубые, мягкие, – они светились, как летнее небо под первым утренним лучом. И годов ей было немало, и лицо потемнело от обычного для крестьянок загара, но сияние этих глаз проливалась в душу, будто благодать.
– И ты… – в удивлении начала женщина, окидывая Вояту взглядом с ног до головы, – бывай здоров.
– Как бы мне Елену повидать, попа Македона дочь? – пробормотал Воята, уже догадавшись, что она перед ним.
– Это я, – так же удивлённо ответила женщина: не ждала, что её не узнают на собственном дворе. – Ты кто такой?
– Парамонарь я новый, в Сумежье прислан от Нежаты Нездинича и владыки Мартирия. Звать меня Воята.
– Парамонарь? – Женщина недоверчиво взглянула ему в лицо. – Больно ты молод…
– Лет мне уже двадцать, а грамоте я обучен сызмальства, батюшке моему, попу Тимофею у Святой Богородицы в Людином конце, помогал уж лет восемь. Прислал меня владыка в помощь отцу Касьяну.
– А! – Женщина слегка вздрогнула и опустила глаза.
Вояте показалось, что это упоминание об отце Касьяне так на неё подействовало – угасило то небольшое оживление, вызванное удивлением. Хозяйка была замотана в платок по самые глаза и голову держала как-то наискось, не глядя на гостя. От этого Воята терялся, и всё хотелось ещё раз встретить этот ясный взгляд.
– Ко мне почто? – так холодно спросила она, будто перед ней стоял сам отец Касьян.
– Жито батюшка прислал. Два мешка у меня в телеге. Покажи, куда снести?
– Пойдём.
Хозяйка направилась к покосившейся клети, знаком велев Вояте идти за ней.
– Сюда. – Она показала в сусек, давно уже пустой. – Погоди, вымету.
Пока Воята переносил мешки, она подмела в сусеке пыль, сор и мышиное дерьмо. Ожидая, пока она закончит, он так и этак прикидывал, как бы завязать нужный разговор; не так чтобы он боялся девок или женщин, но перед таким явным нежеланием вести беседу любые попытки были бы грубыми.
Пересыпая зерно в сусек, он подумал: может, пригласит в дом? Время обеденное, от Сумежья тут не ближний путь… Но, когда мешки освободились, хозяйка не сказала ни слова и явно ждала, что он уберётся восвояси.
– А вот что ещё… – в тайном отчаянии начал Воята, поняв, что иной помощи, кроме собственной, ему не дождаться. – Слыхал я от людей… будто у тебя от отца твоего осталась книга Божественная… Апостол… от старца Панфирия…
Женщина молчала, но теперь в её молчании слышалась враждебность.
– Правда ли? – довольно беспомощно закончил Воята, с трудом подняв на неё глаза.
Сейчас она скажет «неправда», и конец беседе.
– Это что же, – Еленка скрестила руки на груди, – тебе отец Касьян велел про книгу выспросить?
– Н-нет… – Воята в полном смущении опустил глаза.
Скажи он «да» – это не поможет делу, ведь хозяйка не настроена идти навстречу мужу; но и «нет» не улучшало дела – с какой стати он суётся к чужому наследству? Да ещё и совсем новый человек в этих краях?
– Я сам… – добавил он, чувствуя, что окончательно тонет. – Прислал меня владыка Мартирий в церкви читать, а читать-то нечего! Одно Евангелие у отца Касьяна. А от старца Панфирия, слышно, остались хорошие книги – и Псалтирь, и Апостол. Их бы в церковь… Да есть ли те книги… или сказки одни?
Еленка ещё помолчала, оглядывая его; Воята чувствовал её взгляд, хотя сам на неё взглянуть не смел. Даже куры, казалось, из открытой двери во двор поглядывали на него, невежду, с осуждением.
– Нет у меня никаких книг, – медленно ответила Еленка. – Никаких. Так и передай.
– Кому? – Воята удивлённо взглянул на неё.
– Знаешь кому.
– Да я не…
Но Елена, больше не слушая, мимо него прошла к двери и исчезла. Скатертью вам дорога, как говорится.
На обратном пути испортилась погода: натянуло тучи, подул сильный ветер. Настоящего дождя пока не было, но ветром несло капли мороси, и Воята, поглядывая с недовольством на тёмную тучу впереди, натянул шапку поглубже на уши. Случится дождь – придётся мешками из-под ржи укрываться.
Незадача с беседой тоже не добавляла бодрости. Хозяйку он толком не разглядел и не понял, что она за человек – она будто отталкивала взгляд, не давала приглядеться. Она ли виновата, что в семье разлад? Коли жёнка сбежит, это ей чести не сделает, какова бы ни была причина, и Еленка, видно, знает это, стыдится. Но уже много лет живёт одна, не поддаётся на уговоры мужа и косые взгляды людей. Причины этой Воята знать не мог, но одно по лицу Еленки понял: не по легкоумию она, попова дочь, так поступает.
«Она красавица была, Елена Македоновна-то!» – говорил Меркушка. Красоты Воята не увидел, но те глаза… Неудивительно, что отец Касьян хочет её воротить – он-то помнит, какой она была лет двадцать назад. Не могла женщина с такими глазами ничего беспутного сотворить!
Когда въехал в лес, непогода разгулялась ещё сильнее: вихрь качал вершины деревьев, гудел и завывал. Раздавался треск ветвей. Раз позади возник такой грохот, что Воята оглянулся: старая ель медленно падала наискось через дорогу, с протяжным треском и воем разламываясь, цепляясь лапами за ближние деревья, будто надеясь задержать падение. Воята перекрестился, благодарно взглянув в небо. Замешкай он чуть-чуть – ель упала бы на него, на телегу, на лошадь. Могла бы насмерть задавить. Да и впереди рухнула бы – как бы он проехал? Вокруг через заросли с телегой не пробраться, да и отволочь с дороги ствол, весь в ветках, даже при его силе было бы едва ли возможно. И топора не прихватил, дубина…
Воята ещё размышлял об этом, когда лошадь вдруг дёрнулась и попятилась – испугалась чего-то. Придерживая её, Воята глянул вперёд.
Посреди дороги валялся плетёный берестяной короб. Остановив лошадь, Воята огляделся, но ничего больше не увидел. При виде короба ему вспомнился виденный утром на этой дороге Меркушка, но Меркушкин это короб или нет, так сразу Воята сказать не мог. Скорее тот – грибы и орехи давно сошли, народ с коробами в лес не ходит.
Соскочив с телеги, Воята подошёл к коробу и огляделся. Хотел позвать – и тут увидел ногу, торчащую из куста.
Первым чувством было изумление. Если это Меркушка – Воята думал о нём, поскольку других людей в этот день в лесу не встречал, – то с чего бы ему ложиться в куст? Пьян не был – не с бобрами же на Болотице пил!
– Эй! – окликнул Воята. – Кто там?
До ума дошло: неладно дело. Меркушка там или нет, а в эту пору никто просто так на землю не приляжет.
Воята подошёл осторожно и заглянул в куст. Всё тело было там, но густые ветки сильно дрожали под ветром и не давали ничего разглядеть. Ещё раз окликнул в последней надежде. Раздвинул куст… стала видна кровь на палых листьях.
Меркушка лежал на спине, раскинув руки. Вместо горла и верхней части груди была зияющая кровавая рана, лицо в крови, глаза выпучены.
Воята отшатнулся, схватился за собственное горло. Стал судорожно сглатывать, борясь с тошнотой. Отойдя в сторону, крестился и глубоко дышал, стараясь прийти в себя. От ужаса пересохло в горле. Огляделся – никого не увидел, но шум ветра в лесу, дрожь и качание ветвей не давали понять, есть ли кто поблизости. И позвать тут некого, только сороки скачут по веткам.
Некоторое время простоял, привалившись к толстой ели и стараясь унять гул в голове. Меркушка мёртв – уж это верно. Дикий зверь… волк?
Скрепя сердце, Воята взял тело за ноги и выволок из куста. Или медведь постарался? Но медведь сразу сожрал бы половину, а остатки прикопал бы под листья и валежник. Меркушка был загрызен, но если и съеден, то на небольшую часть… Но ведь ещё не зима! Звери от людей подальше держатся. Не мог же он сам напасть на хищного зверя – с пустыми руками?
И что теперь делать? Несмотря на холод и морось, Воята стащил шапку и вытер вспотевший лоб. Оставить тело здесь и привести людей из Сумежья или самому везти в погост? Делать этого не хотелось – хорош будет новый парамонарь, ввалившись в погост с мёртвым телом здешнего жителя! Но день на исходе. Пока доедешь до Сумежья, пока соберёшь людей да опять сюда прибудешь – стемнеет, да и дождь того гляди польёт. Искать труднее в темноте… особенно мертвеца. А если зверь вернётся? Если тот медведь где-то рядом… Воята содрогнулся и живо глянул по сторонам. Уйдёшь – а тот уволочёт добычу, так что потом и хоронить нечего будет.
Воята привязал лошадь к стволу, чтобы не пятилась от мёртвого тела, взял бедолагу Меркушку на руки, положил в телегу и накрыл пустыми мешками. Голова у трупа так болталась, будто сейчас оторвётся: зверь вырвал из шеи половину всей плоти. Туда же в телегу Воята забросил лёгкий короб – ловушки, надо думать, бедняга поставить успел, и зверь на него накинулся на возвратном пути.
– Ох, зря ты, парень, с места его стронул! – сказал ошарашенный Павша; как ближайший сосед, он первым успел на двор к бабе Параскеве. – Таких дурных мертвяков там и погребают, где сыскали. На жальнике не место им – земля их не принимает, могила не держит. Так и будут лежать они без тления, а тень по свету бродить. И куда ни отнесёшь его, всё равно будет на старое место приходить, где умер, и так семь лет.
– Это ты, Павша, с самоубийцами путаешь, – возра-зила Параскева. Она тоже немного переменилась в лице, побледнела, но держалась храбро, не вопя. – А тех, кто зверем уяден, в особом месте хоронят, но не там, где взяли.
– Я сам «Мертвенный канон»-то помню, – ответил им хмурый Воята. Они втроём стояли на дворе у Параскевы возле телеги, пока люди бегали к Меркушкиным домашним и за старостой. – Так владыка Мартирий велит: поминки по тем творить и на кладбище погребать нельзя, кто сам удавится, или зарежется, или с качели убьётся, или в воде шаля, утонет, или ещё какую смерть сам своими руками над собою учинит. Или ещё кто на разбое или воровстве каком убит будет, тех мертвяков у церкви Божией не погребать и над ними отпевать не велеть, а велеть их класть в лесу или на поле. Но тут не сам человек жизнь свою покончил, а уяден зверем, и читать по нему можно, хоть не в церкви, а дома.
– Читать! – Баба Параскева всплеснула ладошками. – Кто же будет по нём читать…
Но тут во двор вбежала Еликонида – Меркушкина баба, и разговор потонул в воплях и причитаниях.
Тело унесли в баню, во дворе у Параскевы собиралось всё больше народу. Для каждого пришедшего Вояте приходилось заново рассказывать, как он утром встретился с Меркушкой, как подвёз его и как потом нашёл.
Собираясь кучками, сумежане толковали между собой и тревожно оглядывались; то и дело косились на Вояту. Однако, как ему показалось, народ был больше напуган, чем удивлён.
– Что они так смотрят на меня? – в досаде спросил он у Павши. – Или думают, я сам его порвал?
– Э, да что ты! – Павша махнул рукой. – Это нам от Бога казнь такая положена.
– Что? – Воята пришёл в изумление. – От Бога? Какая казнь?
– В год по человеку… Осенесь[14] из Видомли одного мужика так вот порвало. А третьего лета – бабку одну из Овинов. Это так вот оно… водится.
– За что же вам такая казнь?
– А за то… – с важностью начал Павша, но сам себя прервал. – Что в месте таком живём… нехорошем.
– Чем же оно нехорошо?
– Поживёшь у нас поболее – узнаешь.
– Да что же вы облаву не сделаете, коли у вас так волки шалят? Собрались бы все мужики да и постреляли тех волков…
– Говорю же тебе – казнь нам такая. А стрелами того волка не возьмёшь. Не такой этот волк. Он уж двести лет в лесах наших ходит.
– Двести лет? – Воята совсем перестал понимать, о чём речь. – Что ты мне за сказки рассказываешь, дядька? Не живут волки двести лет.
– А этот и вовсе не живёт, – загадочно ответил Павша. – Оттого и не умирает.
Судя по Павшиному лицу, объясниться толковее тот не был настроен, и Воята решил расспросить лучше бабу Параскеву. А во дворе тем временем разгорался спор.
– Нельзя такого человека на жальник нести! – твердил дед Овсей. – Не примет земля, обидится, будут у нас летом бездожжие, а весной заморозки, и придёт голод на семь лет!
– Не пугай народ, Овсейка! – возражал ему Арсентий, староста. – Это если кто сам себя сгубит. Меркушка не сам же зарезался или удавился.
– Бросить его в озеро Дивное, да и всё! Иначе не видать нам хлеба семь лет!
– Нет, это уж никак нельзя! – возмутился Воята. – Такого дела безбожного и беззаконного нельзя допустить – человека без погребения оставить.
– Приедет отец Касьян, как он решит, так и будет, – сказал Арсентий. – Да только… Судьшу из Видомли в Лихом логу положили, как бы и с Меркушкой не велел отец Касьян того же сотворить…
– А что это за Лихой лог?
– Да есть у нас там… – Арсентий кивнул на восток, – место одно. Там кладут тех мертвяков, кого нельзя в земле хоронить. Кто утонет, или сгорит, или с дерева свалится. Бабка моя рассказывала, когда-то давно, ещё при Панфирии, там в первый раз нашли мужика, кого озёрный бес порвал, на месте и оставили. С тех пор всех свозят…
– Озорной бес? – Воята не расслышал.
– Озёрный.
– Оно обычно как – если помрёт человек своей смертью, то идёт, куда ему положено: либо в рай, либо к чертям в пекло, – добавил другой старик, Савва. – А кто дурной смертью помер, век свой не доживши, тот на небо не идёт, а ходит себе по земле. Так и ходит, пока час его не придёт. Вот и надо так их упрятывать, чтобы ходить им было несподручно.
– Ноги отрубить, – вставил кто-то из толпы.
– В воду метнуть! – добавил ещё кто-то.
– У вас в Новгороде, видно, нету таких. – Дед Овсей посмотрел на Вояту. – Вот вам и невдомёк.
– Даже если бы человек сам себя жизни лишил, владыка Мартирий не дал бы его в воду или в овраг бросать! – Понимая, что он тут моложе всех и к тому же чужой, Воята всё же не мог смолчать. – Владыка и самоубийц велит хоронить – не при церкви, а в поле, но всё же в землю.
– А вот оттого у вас и мор был, и скудельницы полные покойников наклали! – Дед Овсей погрозил пальцем. – У нас такого не водится – землю гневить. На всё свой порядок есть.
– Как отец Касьян велит, так и сотворим! – сурово напомнил Арсентий. – Давай, крещёные, расходись!
Вот о чём предостерегал его владыка! Какой-то озёрный бес, а главное, нелепые эти обычаи, что лишают невинного человека погребения! Глубоко дыша, Воята старался успокоить возмущение сердца и не дать воли «задорному бесу», который толкал его продолжать спор. Но что толку спорить с мужиками – решать будет отец Касьян.
Отец Касьян вернулся в сумерках, когда тело Меркушки, вымытое и завёрнутое в саван, уже лежало в избе. Воята, желая знать, чем кончится дело, и ожидая, что его свидетельство снова понадобится, весь вечер околачивался у Параскевиных ворот и видел, как священник проехал к своему двору. Заметно было, что утомлён: ехал, опустив поводья и свесив голову на грудь; даже в начавшихся сумерках было видно, что отец Касьян бледен, под глазами набухли мешки, складки возле рта стали более резкими. Воята только поклонился, ничего не сказав, и отец Касьян ему слегка кивнул.
– Отвёз? – Уже поехав мимо, он вдруг вспомнил утреннее поручение и придержал коня.
– Что отвёз? – Воята удивился; мельком подумал о теле Меркушки и ещё раз удивился, как отец Касьян успел об этом прознать.
– Жито отвёз в Песты?
– Господи помилуй! – Воята подивился на свою забывчивость – с чего всё началось, у него уже вылетело из головы. – Отвёз, как ты велел. Тут после того…
Но отец Касьян кивнул и поехал дальше. Воята вздохнул и остался у ворот – ждать, что будет.
Вскоре, как он и думал, к отцу Касьяну прошёл староста Арсентий. Через какое-то время вышел и махнул рукой, глянув на Вояту, будто хотел сказать: ничего не вышло. Арсентий двинулся к Меркушкиному двору, и Воята пошёл за ним.
– Я тут одна с ним не останусь! – услышал он, входя следом. – А то он ночью встанет да удавит меня! К матери пойду.
Меркушка, закутанный в саван, лежал на столе, а Еликонида, уже в белом платочке, повязанном по-вдовьи, стояла перед Арсентием. Меркушкина жена была коренастой, плотной, невысокой женщиной – мужу макушкой по плечо, – но жили они, по слухам, хорошо. Четверо их детей уже отвели куда-то к соседям.
– Что же ты – покойника одного на ночь оставишь? – спросил староста. – А если ночью… придут за ним?
– Ну да, и меня с ним заодно утащат! – Еликонида, с заплаканным лицом, вид имела решительный. – Детей на кого покину? К матери пойду! Пусть тут его, как ему судьба…
– Кто же будет над ним читать? – спросил Воята, и оба обернулись к нему. – Ты сговорилась с кем?
– Да с кем тут сговоришься? – Арсентий повёл рукой. – Грамотеев у нас не водится, да и Псалтири нет ни одной.
Воята мельком вспомнил, что ездил к Еленке в Песты, надеясь узнать о Псалтири, – книге, по которой читают целую ночь над умершими. Если умерший был хорошего рода, то в Новгороде и по три ночи читали, до самого погребения.
– У нас если кто доброй смертью помрёт, то отец Касьян над ним читает, сколько на память знает, – добавил Арсентий. – А если так вот… как тот мужик из Видомли или вот Меркушка… не станет он. Я к нему ходил, он сказал, в Лихой лог завтра свезти.
– Да как же так? – В душе Вояты поднималось возмущение. – Меркушка же не убивец какой и не сам на себя руки наложил. Как же его оставить нечисти на поживу – без чтения, без погребения! За что душу сгубить? Или он был такой дурной человек?
– Да человек как человек… А вот судьба выпала дурная…
– Нет никакой судьбы – есть Божья воля! – сурово возразил Воята. – А в Священном Писании нет такого – чтобы если кто волку в зубы попал, того христианского погребения лишать.
– Это, скажут, его бес озёрный выбрал себе в поживу…
– Он выбрал, а мы просто так и отдали? Человек ведь был, не курёнок!
– Отец Касьян так судил, ему виднее…
– Я пойду потолкую с ним! – решил Воята. – Не может такого быть, чтобы иерей крещёного человека вот так нечистому отдал!
– Сходи, миленький! – Еликонида сморщилась жалостливо, опять собираясь заплакать. – Может, он послушает тебя? Ведь Меркушка-то не шиликун был какой, не чернознай, человек простой, да не хуже других! Что же его, как пса… Весь грех-то его, что не уберёгся… А уж мы с Егоркой не вздорили никогда, и пироги ему носим, и яичко красное…
Что за Егорка и при чём здесь красное яйцо, Воята спрашивать не стал – уже думал о разговоре с отцом Касьяном. По пути к поповскому двору крепился. Сердце обрывалось от мысли о собственной дерзости. Кто он такой, попович, в Сумежье живёт всего ничего, чтобы священнику, здешнему уроженцу, указывать, кого как хоронить? Но и смириться он не мог – совесть замучила бы. Выросший в городе, где за всеми обрядами наблюдало недреманое око владыки Мартирия, он тем не менее знал по разговорам отца и других пастырей о сельских суевериях – о том, что селяне неохотно соглашаются хоронить в земле тех, кто умер дурной смертью. Видов дурной смерти много – «кто был водою покрыт либо бранью пожран, или убийцею убит, или огнём попалим, или попаляем от молний, морозом измёрз или всякою раною погублен». Но даже истинных грешников, самоубийц, кто сам полезет в петлю, или утопится, или зарежется, владыка Мартирий запрещал бросать в овраг, хотя и не разрешал отпевать их в церкви или погребать в освящённой земле. Утренняя встреча с Меркушкой хорошо помнилась Вояте – мужик был как мужик, ничем особенным не провинился. И что это за бессмертный волк его задрал? На какого беса озёрного все ссылаются? Отец Касьян, надо думать, об этом знает… Жаль, не успел расспросить бабу Параскеву.
Когда Воята вошёл, отец Касьян сидел за столом и вяло хлебал что-то из миски. Старая Ираида стояла у печки, дожидаясь, пока пора будет убирать со стола. Воята порадовался в душе её присутствию: оставаться наедине с отцом Касьяном он не любил, так и не сумев к нему привыкнуть. Широкий, рослый, тот не был выше самого Вояты, но подавлял, как грозовая туча над самой головой.
– Хлеб да соль! – Воята поклонился, не подходя близко к столу.
– Помогай Бог! – Отец Касьян с недовольством взглянул на него.
Взгляд его тёмных глаз под густыми чёрными бровями ложился на душу, будто камень. И сам весь он напоминал глыбу тёмного стоячего валуна: длинные, густые тёмные волосы с проседью – будто пряди метели в ночи, – продолговатое лицо с высоким лбом, прорезанным вдоль глубокими морщинами, густая тёмная борода, тоже с проседью по сторонам рта, острый нос с горбинкой. Выглядел он ещё не старым, но эта чернота и седина навевали мысли о чём-то потустороннем, ночном, мрачном. За всё время жизни в Сумежье Воята ни разу не видел у священника улыбки, приветливого взгляда, хоть проблеска радости в глазах или речах. Он будто носил с собой сумрачный поздний вечер и мог набросить тень на самый ясный полдень.
– Ну, что там? – К облегчению Вояты, отец Касьян сам начал разговор. – Передала она чего?
В быстром взгляде, который священник на него бросил, Вояте померещилась искра надежды. Поначалу он подумал, что отец Касьян говорит о свежей вдове Еликониде, просившей о более христианском погребении мужа, но, к счастью, вовремя вспомнил утреннее поручение и сообразил: отец Касьян спрашивает о Еленке. Казалось, он не сегодня её видел, а с неделю назад.
– Нет, отче, я не по тому делу.
Лицо отца Касьяна потемнело ещё сильнее.
– Так по какому же?
– Про Меркушку я.
– Что – про Меркушку? – Отец Касьян бросил на него угрюмый, отчасти досадливый взгляд.
Эта угрюмая досада давила, рождая непонятный страх. Воята, охотно пускавший в ход кулаки и не дрогнувший ни разу в поединках на волховском мосту, сколько ни стояло против него самых прославленных буянов Торговой стороны, робел под этими взорами, чувствуя себя ничтожной букашкой, лезущей к важному лицу со своими букашечьими заботами. Чудное дело – перед владыкой Мартирием, которого уважал бесконечно, Воята и вполовину так не робел.
– Бабы болтают, будто его нельзя хоронить по-христиански. Будто надо в лесу бросить…
– Ну? – Отец Касьян с нетерпением сдвинул брови. – Нечистый взял его себе на поживу, нет ему места среди честных христиан! Он теперь бесу озёрному слуга, пусть к нему и идёт. В Поганском озере ему могила, где все нечестивые сотоварищи его!
– Да как же так! – вырвалось у Вояты.
Он сам испугался своей дерзости, но остановиться уже не мог, чтобы не сойти заодно и за болвана. То, что священнослужитель своими руками отдаёт нечистому христианина, даже не пытаясь его спасти, испугало его больше.
– Владыка Мартирий запрещает людей земляного погребения лишать, пусто бы даже сам в петлю прыгнул! Беззаконно это и не по-христиански!
– Ты, щенок, недоносок, чёртов выползок, будешь меня учить! – загремел отец Касьян, воздвигаясь на ноги. – Да я тебя сейчас пинком отсюда выставлю, полетишь прямо до Новгорода, откуда тебя бесы к нам принесли!
– Твоя воля, отче! – со смелостью отчаяния ответил Воята; в мыслях мелькнуло, как стыдно будет явиться к владыке обратно через столь короткое время, но он и там расскажет, что тому причиной. – Как есть владыке расскажу, что здесь в Сумежье христиан бесу отдают. Даже пусть Меркушка и был в чём грешен, да кто не грешен? Не самоубийца он – можно и такого отчитать, отмолить. Не бросать же в лесу, зверям на поживу! В день Судный за такое придётся ответ держать – так владыка Мартирий говорит!
Отец Касьян словно бы задохнулся от изумления, темнея лицом. Воята вдруг испугался: вот он опять позволил задорному бесу толкнуть себя на ссору, да ещё с батюшкой, кому приехал служить! Но нет, не ради своего задора и упрямства он спорит. Воята знал, что думает о таких делах владыка, и если бы он молча позволил нарушить его волю, то стал бы пособником беззакония. Вот тогда на самом деле пришлось бы ему стыдиться самого себя.
Несколько тяжких мгновений отец Касьян молчал, и потом Воята ощутил, как напряжение в избе спадает.
– Одно правда… – негромким, низким голосом произнёс отец Касьян. Его дух изменился: он унёсся мыслями куда-то вдаль и даже разговаривал словно бы не с Воятой. – Что не Меркушкина вина… Не первый век… живёт в наших краях сила злобная, бесовская. Из озера Поганского выходит, мерзостями полного, в зверей диких вселяется и зло великое творит. Сколько тех зверей не убивай – дух злобный в озеро возвращается, после сызнова выходит. Он Меркушку прибрал. Не отдать ему добычу – посевы вымерзнут, мор чёрный придёт. Одно спасение – метнуть мертвяка в озеро Поганское нечистому на поживу.
– Нечистый живёт в озере? – осторожно спросил Воята.
– Полно озеро бесов. В иные ночи выходят они на берега погулять – у одних головы коровьи, у других пёсьи, у третьих хвосты волчьи или ноги козьи. Все они, нечистым схваченные. Только о том и надо Бога молить, чтобы провалилось озеро с бесами вместе в пекло огненное. Иначе переполнится озеро грехом, выйдет из берегов и всю землю смоет. Ты человек новый, а мы, как деды наши, сколько живём, столько маемся…
У Вояты мурашки побежали по спине – голос священника делал сказанное ещё страшнее. Вот так волость – где-то рядом полное озеро бесов! И не скажешь, что сказки, – жертву бесов сам домой привёз.
– Так зачем же ещё и Меркушку туда пихать! Всё одной душой в плену у нечистого будет меньше!
– Ты, что ли, такой праведник, чтобы его отмолить? – Отец Касьян словно вспомнил о Вояте.
– Я не праведник, а слово Божие – в нём вся сила. Дозволь мне ночью по Меркушке почитать – будет Божья воля, спасём его от нечистого.
– Да по чему же читать – нет у меня Псалтири. Из Евангелия только по иереям читают.
– Я, батюшка, Псалтирь-то помню… – Воята скромно опустил глаза.
– Всю?
Отец Касьян знал, что Воята помнит наизусть псалмы, употребляемые при богослужении – «Блажен муж», «Благослови, душе моя, Господа», «Хвалите Господа» и другие, но чтобы всю Псалтирь? Некоторое время поп разглядывал Вояту, будто невиданное диво. А потом Воята услышал звук, похожий на фырканье, и не сразу сообразил – отец Касьян так смеётся.
– Грамотей… Ну, будь по-твоему. Читай. До утра жив останешься… Тогда и поглядим.
– Благо тебе, отец Касьян! – Обрадованный победой, на которую не смел надеяться, Воята поклонился и пошёл прочь.
И только во дворе его как будто нагнал смысл услышанного напутствия. До утра жив останешься…
Ветер холодным порывом кинулся на него и стиснул в стылых объятиях. Воята содрогнулся с головы до ног – эта ледяная хватка была воплощением того ужаса, которым ему пригрозил отец Касьян. Да понял ли он, во что ввязался?
Завернув к Еликониде – предупредить, чтобы всё подготовила, – Воята вернулся домой и огорошил бабу Параскеву.
– Как же ты его уломал-то? – От удивления та выпустила шитьё из рук. – Никогда батюшка наш не дозволял такого, чтобы по зверем уяденному читать… Может, побоялся, что до владыки в Новгороде доведёшь…
– И доведу! – мрачно пригрозил Воята. – Зачем устав церковный, если сами же иереи не исполняют его? За душу христианскую биться надо, а не метать нечистому в пасть!
– Ох ты, Александр-воитель! – Баба Параскева похлопала его по плечу. – За твой задор из Новгорода услали тебя, а отсюда ушлют, куда денешься? В озеро Дивное?
– Вот что, мати! – Воята обрадовался. – Расскажи, что это за озеро у вас такое, что в нём бесы живут? Отец Касьян говорил, их там тьма-тьмущая, да все с головами коровьими…
– Ох, да нет времени у тебя, старые басни слушать…
Баба Параскева отошла к печи и стала переставлять горшки на полке, показывая вид, будто очень занята.
– Нет, ты расскажи! – Воята пересел поближе. – Отец Касьян грозил мне… Вот полезут в оконца бесы с волчьими хвостами и козьими ногами, я хоть знать буду!
– Не шути! – устало вздохнула Параскева. – Знаешь, почему волость наша Великославльской зовётся?
– Нет. Где-то есть город Великославль… или был?
– И был, и есть… или нет. Слушай, коли уж ввязался ты в эту брань… – вздохнув, баба Параскева села на лавку. – Жил в великом Славенске граде муж именем Понт, с женою своею, именем Понтия, был он зело богат и милостив…
Речь её потекла старинным ладом, донося сказание так, как сама она выучилась ему много лет назад.
– И родился сын у них, и наречено ему было имя Гостомысл. И той Гостомысл после отца своего Понта пожил тридцать три лета, и умножилось при нём в великом Славенске-граде народа. И обладал он от полуденных стран всею северною и западную полунощною страною. И все люди страны той старейшиною Гостомысла и князем почитали. И от великого множества народу поставил град на новом месте за полтора поприща от озера Ильмень вниз по Волхову-реке, и именовал новым именованием Великий Новград. И той Гостомысл и женился в Великом Новграде, у мужа именем Мунт взял дщерь его за себя, именем Мунтию. И пожил с нею три лета, родил сына и нарёк ему имя Славен Младый. И родил другого сына и нарёк ему имя Великослав. И той Великослав жил с отцом своим Гостомыслом в Великом Новгороде тридцать два лета…
Дальше речь шла о том, как из Великого Новграда разошлись люди, каждый со своим родом в особую сторону, и от тех родов пошли поляне, полочане, мутяне, нивяне, бужане, дреговичи, кривичи, смоляне, меря – сиречь ростовцы, древляне, мурома.
– И пришли с западной стороны выборные люди в Великий Новград с дарами поклониться великому князю Гостомыслу и сыну его Великославу, чтобы отпустил к ним в страну сына своего княжить и обладать ими, ибо у них старейшины и обладателя над ними нет. И положил с ними уговор великий князь Гостомысл, чтобы всякую дань с них имать, пока солнце нас согревает и земля питает. И приказал во всём Великослава слушать и град поставить во имя его на горе высокой – Великославль.
И пошёл князь Великослав вверх по Ниве-реке, и дошёл до той вершины, где текут из-под вязового пня и великих озёр реки Ясна, и Вязна, и Хвойна, и впадают в Ниву-реку. Там поставил он град Великославль во имя своё. Город сей был велик и славен: столпами медными огорожен, крыши серебром крыты, люди все в золоте ходили, дети на улицах каменьями самоцветными играли. В середине града было мольбище идольское – стояли изваяния бесовские, сами серебряные, головы золотые, очи яхонтовые. И помощию Перуна-бога и Мокоши великий князь Великослав в Великославле-граде народом своим управлял крепко, и было в земле его всякое изобилие, и умножился народ по обе стороны Нивы-реки. И пожил Великослав в граде своём двадцать пять лет, и умер.
После него остался в стране той сын его Иномир. Пожил он двадцать пять лет. После того Иномира остался сын его Дедогость. Радением князя Великослава и чад его и грады на земле нашей построены, и всякие оброки и дани в Новград Великий привозили довольно. И сделалась земля наша во всём изобильна и доброплодна, и жили люди, хвалу воздавая Перуну, и Макоши, и Велесу, и Живе, и Стрибогу, и иным богам великим и малым…
Речь бабы Параскевы текла ровно, будто река времени. Воята заворожённо слушал, и мерещилось, что говорит с ним сама земля, которая помнит и эту седую древность, и ту, что была задолго до неё.
– Постой… – когда баба Параскева замолчала, чтобы перевести дух, он не сразу опомнился. – Ты зачем это… богов старых поминаешь?
– В сказании так ведётся, – просто пояснила баба Параскева. – А из него слова не выкинешь – силу утратит.
Воята не стал спорить, хотя упоминание о Перуне и Мокоши его покоробило. В глубине души он понимал правоту бабки: если убрать хоть что-то, нарушится цельность древнего сказания, пропадёт та сила, то чувство прикосновения к истоку мира, от которого бегут по спине мурашки. Вспомнился разбитый на части каменный Велес, что и сейчас лежит у церкви лицом в землю, а христиане попирают ногами его спину. Однако тот озёрный бес показывает: не так уж бессилен старый бог… и может ещё мстить за своё бесчестье и поругание.
– Ну а что же про озеро-то? Почему отец Касьян его Поганским назвал?
– Отец Касьян зовёт Поганским, а у людей водится звать его озеро Дивное. Крестился святой Владимир князь и заповедал по всей земле Русской людям креститься во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, – заговорила баба Параскева снова. – Добрыню, вуя[15] своего, послал в Новгород, и с ним воеводой Путяту, и там повелел крестить всех. И пришли к Новгороду Добрыня с Путятой и с архиепископом Акимом Корсунянином… Как Новгород крестился ты, поди, лучше меня знаешь?
– Есть у нас предания такие. Как Добрыня и Путята… От Добрыни бояре наши, Мирогостичи, свой род ведут…
Речь его прервал стук в оконце.
– Баба Параскева! – раздался голос Еликониды. – Попович! Пойдёшь читать или как?
Воята, опомнившись, перевёл взгляд на оконце – снаружи совсем стемнело.
– Пора! – Он встал и взял шапку.
– Помогай тебе Бог, чадо! – напутствовала его баба Параскева.
Не удовольствовавшись этим, вышла за порог и махнула рукой вслед, передавая благословение.
Еликонида передвинула к столу, где лежал покойный, большой ларь, на него поставила миску с зерном, в миске – горящую свечу, с другой стороны положила небольшой каравай. Между ними полагалось класть Псалтирь, которой не было. Однако Вояте несложно было её вообразить – во владычном хранилище он не раз видел красивые Псалтири, старинные и новые, выполненные для кого-то из богатых бояр. Нетрудно было представить, как он поднимает крышку – от волнения Воята ощущал дрожь в руках, хоть никакой Псалтири перед ним не было, – и видит первую страницу: вверху цветные узоры из цветов, заголовки и первые строки – красным.
– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губитель не седе…
Начало первого псалма было как первый шаг на дороге – знакомой, но весьма длинной. В отцовской Псалтири, привычной Вояте, на странице слева ещё был изображен царь Давид, в короне и с нимбом, пишущий на листах. Святой псалмопевец был где-то рядом, и Воята вовсе не чувствовал себя одиноко наедине с мертвецом.
– Проси от мене, и дам ти языки достояние твое и одержание твое концы земли. Упасеши я жезлом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиша я…
На этом псалме Воята, как и всякий юный грамотей, учился чтению; привычные слова сами лились с языка, не мешая полёту мысли. Раньше он не догадывался задуматься: если есть Великославльская волость, почему сердцевина её – погост Сумежье, где же сам город Великославль? Жаль, не успела баба Параскева рассказать всё до конца.
Как прошло крещение Новгорода, Воята знал и сам, по домашним преданиям.
«В Новгороде люди, проведав, что Добрыня идёт крестить их, учинили вече, – рассказывал ему и братьям дед по отцу, Василий Воиславич, первый из священников в роду, – и поклялись все не пустить его в город и не дать идолов ниспровергнуть. И когда пришёл, они, разметав мост великий, вышли с оружием. Грозил им Добрыня карами страшными, улещал словами ласковыми, ничего они слушать не хотели. Был тогда в Новгороде воевода, именем Угоняй, так он ездил повсюду, вопил: «Лучше нам помереть, нежели богов наших дать на поругание». Тысяцкий же Владимиров Путята, муж смышлёный и храбрый, приготовив ладьи и избрав триста лучших мужей, ночью переехал выше града на ту сторону и вошёл во град, никем не замеченный. Дойдя до двора Угоняева, оного и других передних мужей взял и отослал к Добрыне за реку. Люди же стороны оной, услышав об этом, собрались до пяти тысяч, окружив Путяту, и была между ними сеча злая. На рассвете Добрыня с дружиной подоспел и повелел у берега дома зажечь: новгородцы побежали огонь тушить, и оттого прекратилась сеча. И запросили новгородцы мира. Добрыня же, собрав воев, велел идолов сокрушить: деревянных сожгли, а каменных, изломав, в реку ввергли. Послал повсюду, объявляя, чтоб шли ко крещению. Тогда начал мрак идольский от нас отходить, и заря благой веры явилась, тогда тьма служения бесам погибла, и слово евангельское нашу землю осияло…»
Вспоминая дедовы предания, Воята укреплялся духом: из родного его города давным-давно все бесы изгнаны, так неужели он здешних убоится?
Сумежье спало, и снаружи, и в избе было тихо. Воята слышал только собственный голос, привычно читающий один псалом за другим. Там, где глаз его издавна привык в конце псалма встречать «Слава», он читал «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленнаго раба Твоего Меркурия…» При этом он поглядывал на стол, где возле покойного горели две свечи, и снова вспоминались ему весёлые серые глаза. «Она красавица была, Елена Македоновна-то!..» Этот взгляд – будто ясное небо на тебя оборотилось…
– Отступите от мене все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас…
У оконца снаружи раздался лёгкий стук.
Вздрогнув, Воята поднял голову.
– …Плача моего: услыша Господь моление мое…
Стук повторился.
– …Господь молитву мою… прият…
Стук прозвучал ещё раз; в нём слышалась и настойчивость, и вкрадчивость, и бережность, будто стучавший не хотел, чтобы его услышал кто-то, кроме сидящего в избе.
– Кто там? – окликнул Воята и невольно глянул на Меркушку – хозяина дома, будто надеялся от него получить ответ о незваном полуночном госте.
А ведь и правда – полночь. Воята прислушался к тишине. Теперь, когда он замолчал, тишина навалилась, будто хотела удавить. Из углов, где сгустилась темнота, будто смотрел кто-то, не шевелясь и не показываясь. Не мигая…
От оконца донёсся тихий скребущийся звук.
– Да что там такое? – Воята встал и подошёл. – Кто там?
Кто мог явиться в такую пору – в полночь, в избу, где лежит покойник? Еликонида? Так она побоится… чего? Да и зачем она будет мешать делу, о котором сама так просила? Не принято чтецу при покойнике мешать!
Оконную заслонку кто-то царапал снаружи – тихо, но настойчиво.
– Кого принесло? – окликнул в щель Воята, но в ответ услышал слабый звук, похожий не то на писк, не то на тихий вой.
Гневаясь на шутника, кому не спится в глухую осеннюю полночь, Воята слегка отодвинул заслонку…
И увидел лицо. А вернее, харю. Половину хари – больше в щель не влезло. Красная, как спелая ягода, распухшая. С расплывчатыми, малоразличимыми чертами, харя таращилась на него неподвижным круглым глазом. Половина рта была приоткрыта, меж распухших почерневших губ трепетал такой же распухший язык, будто на ощупь искал поживы.
– Крестная сила! – От неожиданности Воята отскочил, быстро крестясь.
Тут же в щель просунулась рука – лишь несколько пальцев, распухших и гибких, так толстенные черви, с чёрными, отросшими и наполовину обломанными ногтями. Пальцы уцепились за край заслонки и стали дёргать, толкать, стараясь расширить щель. Воята ясно видел, что под ногтями у чудища – свежая земля.
– Ишь ты, нечисть!
Опомнившись, Воята кинулся назад к оконцу, вцепился в заслонку со своей стороны и стал толкать её в другую сторону, чтобы закрыть. Но дело шло туго: полночный гость был очень сильным.
Морда в щели – теперь её стало видно почти целиком – исказилась злобой. Снаружи несло вонью, как из разрытой могилы: пахло свежей холодной землёй, прелью и трупной гнилью. Кривясь, Воята изо всех сил толкал заслонку, отвоёвывая у противника зерно за зерном, перст[16] за перстом.
– Толкай, толкай! – как будто взывал где-то рядом неведомо чей голос, тонкий и звонкий. – С нами крестная сила!
Морда, ощерив обломанные зубы, тоже напрягалась, не желая сдаваться.
– Да постыдятся… и смятятся… все врази мои… – пыхтел Воята, почти безотчётно заканчивая прерванный псалом. – Да возвратятся и устыдятся… зело вскоре!
Рывком он задвинул заслонку, и морда исчезла. Снаружи долетел приглушённый вой.
– Что за ч-че… что за немытик сюда лез?
Тяжело дыша от напряжения, Воята оглянулся на тело Меркушки, но то, слава богу, лежало тихо и неподвижно.
Особого страха он не чувствовал – скорее изумление и понимание, что от этого нехорошего гостя надо избавиться.
– Это беси, – пискнул над ухом тонкий голосок. – Предупреждали тебя.
Воята резко обернулся – позади никого не было. При свете трёх свечей углы и полати разглядеть было нельзя, но казалось, что в избе никого нет, кроме него и покойника.
Только тут он осознал, что пока он боролся с немытиком, кто-то рядом кричал: толкай, толкай!
– Ты где? – напряжённо спросил Воята, понимая, что ещё не всех гостей избыл.
– Тута я… – смущённо ответил голос из воздуха прямо перед ним.
– Кто ты? – Воята шарил глазами по воздуху, но ничего способного говорить не видел.
– Марьица.
– Какая ещё к бе… Какая еще Марьица?
– Крестница твоя. Кому ты лоскута на сорочку не пожалел.
– Кре…
– В поле чистом. Помнишь?
Воята вспомнил: поле, росстань, младенческий плач из-под кучи веток. «Коли ты женского полу, то будь Марья…»
– Ты читай давай, – посоветовал голос, не давая времени на раздумья. – А то их много там, и ничем иным, кроме слова Божия, их поодаль не удержишь. Злые, хуже псов. Даже мне и то стра-аа-шно…
Подтверждая её слова, заслонка задрожала: в неё колотили снаружи. Перекрестив заслонку – она вмиг успокоилась, – Воята вернулся на своё место, к воображаемой Псалтири, и, с усилием вспомнив последние прочитанные на память строки, глубоко вдохнул.
Хорошо, когда псалмы затвержены наизусть – одна строка тянет за собой другую, та третью…
– Господи Боже мой, на тя уповах! – с досадой, относящейся к стуку в заслонку, начал Воята. – Спаси мя от всех гонящих мя и избави мя…
Слова эти очень походили к часу: «гонящие» бесы неотступно стучали в оконце. Мельком вспомнилось: отец Касьян предупреждал. И баба Параскева чего-то такого ожидала. Нечистый сгубил Меркушку и теперь прислал за ним погубленных прежде. Вот они и рвутся. А не будь здесь чтеца с Псалтирью, хоть и воображаемой, – утащили бы прямо в то озеро Поганское!
Стараясь заглушить стук, Воята читал всё громче. К царапанью в оконце прибавился стук в дверь. Осознав это, он замолчал и прислушался; немедленно раздался такой сильный удар, что дверь содрогнулась.
– Читай, читай! – тревожно воззвал за плечом тонкий голосок, назвавшийся Марьицей.
Воята стал читать дальше, стараясь не слышать стука. Но сквозь гнев и досаду в душе стал медленно просачиваться не то чтобы страх, а некое неудобство, неуверенность. Сколько ж это будет продолжаться? И что ещё за чуды ждут за дверью? Его предупреждали не зря. В Великославльской волости правят силы, о которых он и понятия не имеет, – и силы недобрые. Злобный дух гуляет здесь уже лет двести и немало народу сгубил – он, Воята, попа Тимофея сын, только сегодня о том узнал, а уже лезет побороть! Экий Егорий Храбрый выискался! Отец Касьян и тот отступил – думает, что легче отдать нечистому его новую добычу, чем с ним тягаться.
А я не уступлю! Стиснув зубы, Воята перевёл дух. Когда ему бросали вызов, его лишь крепче забирал задор, от ударов его упрямство каменело. Вспомнилось предупреждение: священнослужители в Великославльской волости долго не живут. Теперь он догадывался, что их губит. Но, хоть то были посвящённые иереи, а он всего-навсего парамонарь, мирянин, сдаваться Воята и не думал. Не для того отец его учил Божьему слову, не для того владыка его сюда послал и на него понадеялся!
От оконца веяло пронзительным холодом. Против воли душой овладевало ощущение близкой опасности, пробирала дрожь, но Воята старался её не замечать и всё твердил:
– Да скончается злоба грешных, и исправиши праведного, испытаяй сердца и утробы, Боже, праведно…
Стараясь отвлечься от стука и царапанья, Воята сидел, не поднимая глаз, уставясь в стол, где должна была лежать, возле свечи в миске с зерном, Псалтирь. Пусть бесы стучат – войти они не могут, если им не откроют.
И вдруг его будто толкнуло – он поднял глаза.
Из тёмного угла возле двери медленно выдвинулось нечто, в чём Воята не сразу признал человеческую фигуру. А разглядев, вскочил. Дверь была по-прежнему закрыта, заслонка на оконце тоже, и тем не менее ночной гость был уже здесь. Но не тот, что ломился раньше. Этот был невелик ростом, сухощав, очень бледен. На тонком теле голова с узкими плечами казалась совершенно круглой. У гостя были большие глаза навыкате, тёмные мешки под глазами, крючковатый нос и очень бледные, тонкие губы. Ни волоска на голове, ни бороды, ни усов. Оттого ещё яснее делалось – ни капли живой крови нет в жилах этого гостя. Сердце в узкой впалой груди давно своё отстучало.
– Ты кто такой? – Воята ухватился за край ларя, который остался единственной преградой между ним и гостем.
Тот в ответ слабо зашевелил губами, но не издал ни звука. Воята опомнился – мёртвые не разговаривают. Тем временем тот мелкими шажками продвигался к столу. Шевельнул тонкой, похожей на ветку без коры, рукой.
И тут, у Вояты на глазах, тело под белым покровом дрогнуло. Верхняя половина его дёрнулась – будто спящий силился проснуться и встать, но не мог сбросить оковы сна.
И Воята сообразил – вот куда нечисть подбирается.
– А ну пошёл отсюда! – Будто перед ним был козёл, забравшийся в огород, Воята подался вперёд и встал между столом и незваным гостем.
– Девяностый псалом читай! – пискнуло у него за плечом.
– Девяно…
Воята нахмурился, задержал дыхание, лихорадочно пытаясь вспомнить нужное. От волнения мысли путались.
– «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится», – заговорил над ним тонкий голосок. – Повторяй, дубина!
«Сама дубина!» – мысленно ответил Воята, но тут же стал повторять вслух:
– Речет господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него. Яко той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна…
При первых словах псалма мертвец попятился, а тело на столе, напротив, перестало дёргаться и застыло. Воята читал всё увереннее и громче, вкладывая в каждое слово свою веру и негодование на нечисть, что задумала утянуть Меркушку. Мертвяк пятился, слово Божие гнало его прочь, как того козла – хворостина. Воята наступал, пока не зажал его в угол.
– Воззовёт ко мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое!
Едва прозвучали последние слова – мертвяк пропал из вида. Воята вгляделся в угол – может, затаился среди старых кожухов? Потянул руку, пошевелил кожухи на деревянных штырьках, коснулся прохладных брёвен стены…
Кто-то вдруг сзади слегка тронул его за плечо. От неожиданности Воята сильно вздрогнул; потом подумал о тонком голоске, что назвался Марьицей, – может, у этой Марьицы и руки есть? Потом обернулся… и с невольным криком отскочил, ушибив колено о край лавки.
Позади него стоял Меркушка. В белой погребальной одежде, с закрытыми глазами, он покачивался на нетвёрдых ногах, и весь вид его свидетельствовал, что подняла его неведомая внешняя сила. Рваные раны на горле были скрыты под белой повязкой, но сквозь полотно на горле и на груди проступали грязные пятна. Голова Меркушки свесилась набок, будто у цветка с надломленным стеблем, и лежала ухом на плече – живой человек так голову наклонить не может. Видно, ей было не на чём держаться как следует. Хорошо, веки опущены – а если бы эта голова ещё и зыркала на тебя!
Замерев в двух шагах, ошарашенный, с заледеневшей кровью в жилах Воята ждал, что будет дальше. Вот сейчас вчерашний приятель протянет к его горлу длинные бледные руки…
Но Меркушка к нему не обернулся. Похоже, человек у двери был для него лишь препятствием.
Вон он снова двинулся вперёд – неуверенно ступая и ощупывая вытянутыми руками стену перед собой. Он же слеп, сообразил Воята. Мертвецы слепы в мире живых.
Руки Меркушки легли на доску двери и стали шарить по ней, отыскивая засов. С той стороны усердно стучали – на этот стук, указывающий путь, и шёл Меркушка.
В один миг Воята представил, что будет дальше. Сейчас Меркушка отодвинет засов, откроет дверь… Неведомая сила вытянет его наружу и унесёт… в озеро Поганское, в бездну преисподнюю, но точно что во власть нечистого. А может, те его товарищи, что ждут снаружи, прихватят и самого Вояту.
– Перекрести дверь! – пискнуло над ухом.
«Чего я стою, орясина!» – обрушился сам на себя Воята.
Подавшись вперёд, он размашисто перекрестил дверь.
С той стороны раздался вой, быстро стихающий, – стучавших снаружи отбросило прочь. Меркушка отлетел обратно к столу, где валялся на полу оброненный им смертный покров.
– Архангела Михаила призывай! – велел тонкий голосок.
– Св-вятый и великий Архангеле Божий Михаиле, – судорожно вдохнув, заговорил Воята, – неисповедимыя и пресущественныя Троицы первый во Ангелех предстоятелю…
Мысль о суровом крылатом юноше с мечом в руке вдохнула в него мужества: куда этим вонючим дохлякам против архангела!
– К тебе прибегаем с верою и тебе молимся с любовию: буди щит несокрушим и забрало твердо Святий Церкви и Православному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг, видимых и невидимых…
– Именем Божиим тебе повелеваю: а ну полезай назад на стол! – гневным шёпотом велел он Меркушке.
Но исполнить приказание Меркушка не мог: пока Воята читал молитву, он совсем обмяк и распластался на полу. Замерев, Воята наблюдал за ним, но Меркушка не шевелился и выглядел, как положено трупу, который бесовы пособники сбросили со стола.
В тишине ночи раздался крик первого петуха. У Вояты от этого неожиданного звука чуть сердце не оборвалось, но тут же накатило облегчение.
Петух! Он судорожно сглотнул и огляделся в поисках воды. До рассвета ещё далеко, но уже не ночь. Бесовы пособники больше не посмеют его тревожить, их время кончилось.
Только тут Воята ощутил, как же устал. На дрожащих ногах подошёл к кринке, напился, проливая второпях воду на грудь. Потом собрался с духом, поднял с пола труп – тот казался ещё тяжелее, чем был, когда Воята вчера в лесу грузил его на телегу, но зато мертвее мёртвого, – положил обратно на стол, накрыл белым полотном. Послушал возле оконца и двери – всё тихо, не считая криков петухов в дальних дворах. Вернулся к ларю, где догорала свеча в миске с зерном, и положил руки перед собой.
Пережитое давило на душу, так что Воята не мог собраться с мыслями.
– Читай… – тихо, ласково посоветовал тонкий голосок из пустоты.
Ну да. Читать положено до рассвета. Воята не мог вспомнить, до которого псалма он добрался, в голове была пустота, будто сроду ни одной буквы не видел.
– Блажен муж… – шепнул голосок.
– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… – не открывая глаз, свесив голову послушно подхватил Воята.
Первый псалом, по которому учатся читать, он мог бы повторять даже во сне…
Когда с рассветом усталый Воята загасил свечу в миске с зерном, сунул каравай за пазуху и вышел, у ворот уже стояли сумежане. Увидев, как кто-то лезет из Меркушкиной избы во двор, было отшатнулись, потом разглядели парамонаря и вернулись.
– Слава Богу! – приветствовал его Ильян.
– Слава навеки! Вы чего тут собрались, крещёные?
– Да вот, ждём, пока побольше народу подойдёт, – посмеиваясь, ответил ему другой мужик, Радша. – Пойдём косточки твои собирать. Я вон и куль приготовил. – Он тряхнул рогожным кулём.
– Себе на голову надень! – Воята сейчас был не расположен к шуткам. – Мне мои косточки самому пока сгодятся.
– Что, – дед Овсей оглядел его с головы до ног, будто искал нехватку конечностей, – страшно, поди, было?
– Да ничего. – Воята двинул плечом.
– Видел чего… – Дед даже не хотел называть это «чего» вслух.
– Ничего я не видел. – Воята не собирался пугать бесами уже напуганных жителей.
– Да люди по всему погосту слышали – стук да гром был на дворе, крик да вой! – К нему подошла Еликонида, тоже бледная, будто всю ночь не спала. – Уж мы с матерью думали, прощай, душа грешная, уволокли бесы и Меркушку моего, и поповича с ним заодно.
– Померещилось вам со страху. Бывайте здоровы, крещёные, я всю ночь не спал, умаялся.
В избе у Параскевы Воята выпил молока и завалился спать. Проснулся, когда баба Параскева его разбудила: послал, дескать, отец Касьян, зовёт к себе.
Отец Касьян ждал, расхаживая по избе. Руки у него были сложены за спиной, от этого он горбился, и Вояте, несмотря на внушительный рост священника, померещилось в нём нечто волчье.
– Бог в избу! – войдя, Воята стащил шапку, поклонился, перекрестился на икону Василия Великого в углу.
– Лезь в избу. – Отец Касьян подошёл к нему и пристально вгляделся в лицо. – И впрямь живой. Садись.
Сегодня он выглядел не таким хмурым, как обычно – скорее был озадачен.
– Не ждал, что живым тебя увижу, – медленно выговорил отец Касьян. – Видел ночью чего?
– Нечего не видел, – твёрдо ответил Воята. – Читал и читал.
– Экий ты грамотей… – Отец Касьян ещё раз прошёлся перед ним, держа руки за спиной. – Я думал, разорвут тебя бесы по косточкам… да тебя ж не удержать было – такой упрямый. Ну, думаю, пусть идёт, коли ему судьба…
– Нету никакой судьбы, – почтительно, однако уверенно возразил Воята. – Владыка Мартирий говорил: нет судьбы, а есть воля Божия, к добру направленная, и человеческое старание. Старайся – Бог устроит.
Отец Касьян прохаживался, ничего не отвечая, так пристально глядя себе под ноги, будто на истёртых половицах были начертаны таинственные спасительные письмена.
– Что теперь… с Меркушкой-то? – осмелился спросить Воята. – Если и хотели бесы его утащить, так не утащили же. Можно его по-христиански хоронить?
– Таких земля не стерпит. – Не глядя на него, отец Касьян покачал головой. – Иначе всё равно выходить будет. Для них особое место есть – буйвище.
– Это что ещё?
– Лихой лог. В лесу, за десять вёрст отсюда. Мужики покажут. Там таких мертвяков кладут и оградой из кольев окружают. Говорят – чтобы зверь не съел, а на самом деле – чтобы не вышли. Там все те лежат… что за Меркушкой приходили. Которых ты не видел, как говоришь… – Отец Касьян бросил на Вояту вопросительный взгляд, но тот не дрогнул. – Если б тебе и их ещё отчитать…
– А что – можно? – Изумлённый Воята поднял глаза. – Всех? Да они ж сколько лет уже…
– Ни земля их не принимает, ни обитель небесная, ни бездна преисподняя – так и маются, будто бесы лесные и водяные, между белым светом и тёмным. Много зла людям творят. А раз уж ты такой у нас праведник, что можешь бесов отгонять… – Отец Касьян глянул на Вояту, слегка прищурившись, и тому померещилась насмешка в его тёмно-карих глазах, полузавешанных косматыми бровями. – Да только это дело невозможное! – уверенно закончил священник и снова стал ходить от печи к оконцу. – Там ведь не только те старые мертвяки. Там сам Страхота и живёт.
– Это кто?
– Тот дух злобный, что из озера Поганского выходит. Может, прислужников его и отгонишь, «Живый в помощи» читая, а его самого-то нет…
– Не может такого быть. Не может, чтобы какой ни есть адский дух был слова Божия сильнее! – Воята поднял голову, следя за перемещениями отца Касьяна. – Какой он ни есть…
– Туда не пущу тебя. Пусть мужики Меркушку свезут в Лихой лог и там упрячут, как знают. А ты если туда пойдёшь читать, то наутро и костей не соберёшь – как я за тебя перед владыкой отвечать буду? Перед Нежатой Нездиничем? Скажут, прислали мне в подмогу грамотея молодого, а у нас его нечистым скормили!
– Эх, была бы книга! – Воята в досаде ударил себя кулаком по колену. – Хоть какая-нибудь!
– Книга… – Отец Касьян снова прошёлся, ещё сильнее нахмурившись, так что морщины на его смуглом лбу стали как борозды в поле. – Евангелие есть напрестольное…
– Евангелие только по иереям… – заикнулся Воята, но осёкся: священник сам знает.
– Там лежит иерей.
– Что? – Воята едва не подскочил. – Откуда там иерей?
– Отец Македон.
При этих словах голос отца Касьяна дрогнул, и на Вояту он не взглянул. А тот сразу понял почему: он ведь говорит о своём тесте. Вспомнилась Еленка: хмурое замкнутое лицо, а глаза – будто летнее небо.
– Отец… – Воята чуть не сказал «отец Еленки», но опомнился и вымолвил: – Отец Македон? Но как…
Как священник мог попасть на буйвище, где хоронят умерших дурной смертью?
– Ты ведь не ведаешь, как он умер? – Отец Касьян метнул на Вояту испытывающий взгляд.
– Нет, откуда мне…
Вояте не приходило в голову об этом спрашивать. Не-ужели и отца Македона…
– Нашли его на озере Поганском, прямо у воды, – глухо ответил отец Касьян, глядя в сторону. – Три дня искали, все деревни вокруг обошли. Лежал он…
– Утонул? – неуверенно предположил Воята.
– Нет. – Отец Касьян мотнул головой. – Как Меркушка… Страхота его сгубил, сердце вырвал.
– Крестная сила!
– Оттого я и говорю: бес проклятый в озере живёт! – с горячностью воскликнул отец Касьян. – Всё зло из него тянется! О, Господи Боже, низведи огонь палящий с небес, выжги до дна гнездилище бесово, пусть провалится в бездну преисподнюю навеки веков!
Он взглянул вверх и даже тряхнул кулаками, словно самому Богу грозил. Воята сидел ошалевший. Вот и ещё причина, отчего Еленка такая неразговорчивая – её отца сгубил бес озёрный!
– А таких нельзя по-христиански хоронить, пусть даже иерей, – добавил отец Касьян. – В Лихом логу и его положили.
Некоторое время оба молчали: отец Касьян предавался невесёлым воспоминаниям, а Воята прикидывал, не слишком ли много на себя берёт.
– А не пробовал ли кто… отчитывать его? – тихо спросил Воята.
– Я пробовал. Но дело сие… – Отец Касьян покачал головой. – Как полночь настанет, как полезут из оград… – Он сильно вздохнул, будто что-то давило на грудь. – А ещё он… Страхота… как покажется… выше ели стоячей, выше облака ходячего… В пасти огонь пышет… Вот страх… Нет нигде больше такого страха. С той ночи поседел я, хотя был тебя старше ненамного. А до меня отец Ерон ходил туда. Нашли его потом за две версты от Лихого лога, без памяти, избитого всего. С тех пор пить начал, да так и кончил…
Отец Касьян махнул рукой и отвернулся. Отошёл в дальний угол и там замер, спиной к Вояте, будто пытаясь уйти от воспоминаний.
– Евангелие проси! – шепнул Вояте в ухо тоненький голосок.
– А если я бы… – начал он, не успев подумать, хороший ли совет ему дают, – пошёл бы всё же… дашь мне Евангелие?
– Куда тебе идти? Говорю же – посильнее тебя люди ходили, помудрее, а и то не дал Господь… ты хоть и здоровый сам, как медведь, – отец Касьян померил Вояту взглядом, – а всё же не сильнее того страха великого… Не справишься!
– Ты и вчера говорил, что не справлюсь, – Вояту начал разбирать задор, – а я вот он, жив перед тобою!
– Ты ж говорил, ничего не видел!
– Ну… – Воята отвёл глаза, – может, видел кое-что… или слышал… Ты мне только Евангелие дай. Святой книге бесы же не сделают ничего.
Привиделось: лежит на пне раскрытая книга, а вокруг косточки валяются обглоданные… Его собственные… Пусть Радша приходит со своим кулём – собирать.
Отец Касьян долго молчал, Воята уж прикинул, не пора ли ему попрощаться.
– Ступай с мужиками, коли хочешь, – глухо сказал отец Касьян. – Увидишь Лихой лог… Сам всё поймёшь.
День выдался холодный и сухой – удачно для дороги в такую пору, когда земля раскисла от дождей. Провожать Меркушку в Лихой лог собралось человек десять мужиков под водительством Арсентия. Все взяли с собой топоры, и скоро Воята понял зачем: вёрст через пять остановились в осиннике и вырубили несколько десятков жердей в рост человека и длиннее. Жерди положили на ту же телегу, где везли гроб, и поехали дальше.
Зелёный ельник выглядел повеселее, чем прочий лес – бурый и голый. Остро пахло холодной влагой, с развесистых лап над тропой срывались капли. Дорога всё сужалась, и вот телега остановилась. Гроб сняли, четверо подняли его на плечи, остальные разобрали жерди. Воята взял целую охапку. За плечами у него висел короб, где лежало, тщательно завёрнутое в рушник, Евангелие отца Касьяна.
Теперь продвигались медленно, шаг за шагом. Первым шёл дед Овсей, выбирая дорогу. Никакой тропы под ногами не было, шли прямо по старой рыжей хвое, по мху и мелким сучкам.
– Редко, слава богу, бываем тут, – бормотал дед Овсей. – Того году из Видомли мужика задрали, ещё до того – бабу из Овинов, а мы тут были, когда у Жировита девка в петлю полезла – да это когда было, ещё при отце Македоне…
– Так сам отец Македон, – напомнил Стоян. – Восемь лет всего.
Шли, как Вояте показалось, долго – может, оттого что медленно, а может, оттого что незнакомая дорога всегда кажется длинной. Воята старался запомнить приметы, но скоро сбился – человек городской, он к лесу привычки не имел.
– Заплутаю, не выйду обратно-то, – пожаловался он деду Овсею.
– Мы завтра поутру пришлём за тобой кого ни то.
– А я с кулём приду, – пропыхтел сзади Радша, чья очередь была нести передний угол гроба. – Косточки… собирать.
– Свои собери, – посоветовал Воята.
– Теперь уж близко, – утешил его дед.
Земля пошла под уклон. Постепенно уклон делался круче, всё шествие спускалось в широкую лощину, так же заросшую лесом. Пришлось потрудиться, чтобы не соскользнуть по влажной земле и хвое с тяжёлым гробом. Достигнув дна, подниматься на другой склон не стали, а двинулись на север. Лощина постепенно сужалась; здесь тоже росли ели и кусты, и местами проход был таким узким, что едва удавалось пронести гроб.
– Вон они, – тихо сказал дед Овсей. – Опускай, сынки.
Отдуваясь, мужики поставили гроб на землю и сбросили натёршие плечи жерди. Воята прошёл чуть вперёд, пытаясь разглядеть, что это за «они».
– Вон. – Арсентий обошёл его и показал рукой. – Вон тот мужик из Видомли, а вон там полевее – старуха.
– Вон отец Македон, под елью. – Рыжий Стоян тоже подошёл ближе и вгляделся, потом перекрестился, снимая шапку: – Помилуй, Господи, мою душу грешную!
Прочие тоже стали креститься. Воята наконец разглядел, о чём они говорят. Здешние могилы были вовсе не похожи на обычные. Вместо холмиков с крестами здесь высились загородки из стоймя вкопанных жердей. На виду стояли две-три, самых новых, но если приглядеться, то можно было заметить и старые, покосившиеся, полуразрушенные.
– Самые давние обвалились уже. – Арсентий пошарил глазами по земле, укрытой бурым увядшим папоротником. – Вон, видишь?
Воята разглядел небольшой холмик – это были жерди обрушенной, сгнившей от старости загородки, укрытые папоротником, поросшие сизым лишайником, усыпанные хвоей и палыми сучьями. Ничего страшного в них не было, но стоило задуматься: под этими холмиками лежат истлевшие кости покойников, погибших дурной смертью и взятых нечистой силой, – как пробирало холодком.
– Чего стоим, крещёные? – Арсентий подкинул топор. – Берись за дело, день нынче короток.
Крестясь и оглядываясь, мужики прошли вперёд и стали выбирать место. Выбрав – так, чтобы не вплотную к старым загородкам, – стали расчищать землю и копать ров под колья. Воята подошёл помочь и с удивлением обнаружил, что почва под хвоей и мхом совершенно чёрная. Приглядевшись, понял, что это почти сплошь уголь и пепел.
– Здесь, мне дед сказывал, в поганские времена жглище было, – пояснил ему Овсей. – Был мой дед молодой – ещё возили сюда покойничков. Наложат такую краду дров огромную, на неё покойника в лучшем его платье, и всякого с ним добра, скотину резали, петухов. И сожгут. Потом косточки и прах соберут в сосуд, отнесут на сопку и там зароют или сверху рассыплют – вот и всё погребение. А здесь было то самое место – жгли тут, оттого и называли – жглище. А как у нас в волости первую церковь построили, Николину, велели всех крещёных там отпевать, и тогда жечь перестали, а на жглище стали только таких класть, кому в земле не лежать.
– А чего их теперь не жгут, а за колья кладут? – спросил Несдич, самый молодой из мужиков, с круглым веснушчатым лицом.
– Ох, парень, оттого, что их и так бездна огненная ждёт! – вздохнул Овсей и ещё раз перекрестился. – Работай давай, а то засядем здесь до ночи.
Выкопав узкий глубокий кольцевой ров такой величины, чтобы внутрь поместился гроб, принялись ставить ограду. Когда кольцо почти замкнулось, внесли внутрь Меркушкин гроб, поставили наземь, ещё раз все дружно перекрестились. Лица у мужиков были грустные – Меркушку в Сумежье любили, и жаль было оставлять его не на кладбище, с родными дедами, а тут, в чаще, со зверями и лесовыми бесами.
Воята тем временем ещё обошёл лощину, вглядываясь в старые загородки разной степени целости. Кое-где в щелях между брёвнами видны были кости – надо думать, звери пытались вытащить. Два-три раза споткнулся о старые горшки, битые и целые, может, оставшиеся ещё от поганских времён.
Прохаживаясь, Воята присмотрел местечко – две большие ели на краю лощины, под ними довольно крепкий ствол ещё одной ели, вывернутой сильным ветром. Приладив несколько жердей, он нарубил лапника и соорудил шалаш с кровлей в несколько слоёв. Натаскал при помощи Несдича целую гору сухих еловых сучьев, а Ильян научил его, как сделать из длинных брёвен костёр, чтобы горел всю ночь. Им, ловцам, проводившим осенью и зимой в лесу по несколько дней, это было привычно, но Воята этим хитростям не обучался.
– Эх, пережить бы тебе эту ночь, я бы тебя на лов зимой брал, – вздохнул Ильян. – На медведя бы сходили. Ты парень здоровый да храбрый. С Меркушкой мы, бывало…
Он вздохнул и замолчал.
– И как тебе не страшно! – Несдич оглянулся на покосившиеся загородки, стоявшие от шалаша в десяти шагах. – А ну как полезут…
– У меня на них есть кое-что. – Воята кивнул на короб, где лежало Евангелие. – «Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия…»[17]
– Ну, ты человек книжный, – уважительно сказал Ильян. – Может, оно и так. А только я не стал бы, даже разумей грамоте…
– Не в грамоте тут дело, – тихо сказал Воята. – Хотя молитвы надо знать. Дело-то в вере. Если знаешь: есть Бог на небе, и сила его всякую нечистую силу превосходит многократно. И чего бояться, если Бог со мной? Апостол Павел писал римлянам: аще Бог по нас, кто на ны?
– Ну а всё-таки… – с сомнением сказал Несдич. – Вдруг он не доглядит? У него дел-то…
– Увидишь! – Воята улыбнулся.
Божью силу он чувствовал за собою, будто каменную стену. Кому же её знать, как не ему? Не зря его с раннего отрочества учили книгам и молитвам. Отец его Богу служит, и дед Василий служил. Вспоминалась новгородская София, то чувство, будто от тёплой земли под самый купол поднимается мощный поток невидимого ласкового ветра, поднимая за собою и дух человеческий – через купол прямо в руки к Богу. Строки Священного Писания – даже самые простые, они открывали двери в огромный мир, где жил дух и разум бесчисленного множества хороших людей.
Здесь, в лесу, казалось бы, далеко было до тёплого духа Святой Софии, блеска её свечей, облаков ароматных курений, напевного голоса иереев и хора. Но, думая о ней, Воята ощущал её внутри себя.
Но вот мужики вколотили последние колья, и гроб с телом Меркушки оказался за сплошной стеной – без окон, без дверей.
– Может, передумаешь? – собираясь уходить, обратился к Вояте Арсентий. – Чего тебе-то пропадать, ты ж парень вон какой молодой…
– Сам упырём станешь, – буркнул Хотила.
– Бог не выдаст. Ступайте, крещёные!
Мужики ушли, Воята остался один в логу. Пока не стемнело, он ещё пособирал хвороста на долгую ночь, потом пожевал хлеба, прихваченного из дому. Прилёг на груду лапника, издали разглядывая загородки, старые и новые. Ничего в них не было страшного. Ну, подумаешь, кучи полугнилых кольев, позеленевших от лишайника, засыпанных палым листом, хвоей, прочим лесным мусором. Неужели во мраке ночи они зашевелятся и полезет оттуда всякая зубастая дрянь?
«Старушка там есть одна, – рассказывала ему вчера баба Параскева. – По виду ничего так, бабка как бабка. В лесу людям встречается, в белое одета. Улыбается ласково. Манит за собой, подмигивает. И не хочешь, а пойдёшь за нею. В самую топь заведёт да и сгинет. Мало кто домой потом целым добрался, а сколько сгинуло, что и рассказать не могут, один Бог весть».
Неужели что-то такое…
Воята поднял глаза и чуть не подпрыгнул – в трёх шагах от его шалаша стояла старушка. Низенькая, как дитя, согнутая в плечах, так что голова её торчала вперёд и ей приходилось выгибать шею, чтобы смотреть прямо. Её маленькое, морщинистое личико улыбалось Вояте беззубым ртом, маленькие глазки приветливо светились… синевато-зелёным огоньком. Тощая, угловатая, словно сплетённая из корней, старушка напоминала не столько человека, сколько нечто выросшее из почвы.
В лесу было тихо – ветер улёгся, птицы в эту пору не поют. Где-то далеко глухо шумели вершины, а в логу стояла тишина неподвижного воздуха. Старушка появилась без малейшего звука, и от этого ещё труднее было поверить своим глазам.
Резко выпрямившись, Воята сел и схватился за короб, где лежало Евангелие. Пробило холодом. Ещё даже не ночь. И не вечер. Стоит хмурый день поздней осени, солнца не видно, но пока светло. Мужики ушли совсем недавно. Если закричать – могут ещё услышать. И вот нечисть уже здесь – он и не заметил, откуда взялась. Самая нетерпеливая вылезла первой. Права была баба Параскева – не слишком ли он на себя полагается? И посильнее его люди не совладали…
Приветливо кивая, старушка поманила его рукой. Возник порыв – встать и пойти к ней. Казалось – так надо.
– Чур меня! – невольно вырвалось у Вояты.
– Не чурайся, а молитву твори! – сказал над ухом тонкий девичий голосок. – «Господи Боже, великий царь безначальный, пошли рабу твоему Гавриилу архистратига Михаила, хранителя от врагов видимых и невидимых…»
– Господи Боже… – безотчётно начал Воята, встав на ноги и сжимая в руке нож.
Пока он читал молитву, старушка пятилась. Улыбка сошла с морщинистого личика, в глазах загорелся злобный огонёк. Каждое слово отодвигало её на шаг; вот она коснулась одной из новых оград из кольев, что ещё стояла прямо, и спряталась.
Воята перевёл дух. Опомнился и огляделся.
– Ты где? М-марьица?
– Я здесь, – отозвался голос.
– Ты теперь всегда за мной ходить будешь?
– Так мне велено. Я теперь хранитель твой. Давай, не жди, а сотвори круг обережный, потом будешь думать.
– Ладно, учить-то! – огрызнулся Воята. – Вчера родилась, а уже учить…
– И не стыдно тебе! – обиженно отозвался голос. – И так мне Бог судил всего ничего пожить, на белый свет не дал поглядеть, ноженьками резвыми по земле походить…
Воята отмерил три шага и стал чертить по земле веретеном, которое ему для этой цели вручила баба Параскева, обводя кругом свой шалаш.
– А ты следи, не вылезет ли ещё кто! – велел он, прервав жалобы Марьицы.
Очертив круг, Воята вынул Евангелие, положил короб у выхода из шалаша, расстелил на нём рушник, на рушник положил книгу. Видел он его каждый день – у Власия на трапезе[18] в алтаре, – но только теперь смог рассмотреть как следует. Книга была обычного вида – в потемневшем кожаном переплёте, с бронзовыми застёжками. Ни золота, ни самоцветов, хотя видно, что весьма старая.
Перекрестившись, Воята осторожно поднял верхнюю крышку. Пергамент почти побурел, на нём темнели пятна, особенно у краёв листа. Было хорошо видно, что книга служила многим поколениям иереев: края каждой страницы были обтрёпаны и оборваны, так что поля почти исчезли, будто растаяли под десятками пальцев. Так и виделись бесчисленные руки, что листали эту книгу зимой и летом, утром и вечером многие-многие годы. Бурые и красные чернила выцвели, золото заглавных букв потускнело, везде виднелись пятна от счищенных капель воска, но древний вид ветхой книги только усиливал исходящее от неё чувство святости и силы. Потемневшие листы, где ни один не сохранил ровной стороны, дышали духовными усилиями постичь Господню истину, надеждой и упованием. Этой книгой владел старец Панфирий, её он читал у себя в пещере, а два медведя сидели перед ним на земле и слушали… так рассказывает баба Параскева. Пещера Панфириева была где-то в склоне близ Дивного озера, а медведи охраняли старца и служили ему.
В конце был приплетён Месяцеслов, написанный другой рукой, и, судя по всему, уже где-то на Руси и явно позже самого Евангелия. Воята перелистал и его. Невольно улыбался, вспоминая слеповатого отца Ерона. «Свв. мучч. Феодоры девицы и Дидима воина» – глянь отец Ерон на эту строку, нарёк бы какую девицу Дидимой. А что, имечко было бы не хуже других. День св. мученика Астия, что при Трояне обмазан мёдом был и распят… День св. священномуч. Маркелла, папы римского, и с ним Сисиния и Кириака диаконов, Апрониана комментарисия, Папия и Мавра воинов, Смарагда, Ларгия, Сатурнина и Крискентиана, св. жен Прискиллы и Лукины, и св. мученицы Артемии царевны…» Святого Сисиния Воята помнил по «Сисиниевой молитве», которой бабка в детстве лечила их с братом от любого недуга: «Святой Сисиний и Сихаил сидяше на горах Синайских, смотряше на море, и бе шум с небес велика и страшна, и види ангела летяща с небес, наруци[19] имуще ледяные, а в руке держаща оружье пламене. Абие возмутися море, изиидоша семь жен простовласых, окаяннии видением…» Воята попытался припомнить, кто такой комментарисий, но не смог. В этот день и не только слеповатый отец Ерон запутался бы в святых мучениках мужеска и женска пола, правда, дальше имени Крискентиана прошёл бы только очень зоркий…
Воята пролистал месяц иунь до самого конца, до дня «Свв. славных и всехвальных и верховных Апостол Петра и Павла», и тут глаз притянула некая надпись на полях, явно внесённая в книгу позже её создания. На высоту всего листа по полям шёл столбец букв, более мелких, сделанных чёрными чернилами, плотно стиснутых на узкой свободной полосе. С одного взгляда было видно, что надпись целиком не прочесть: часть букв исчезла вместе с оторванными кусочками на краю листа.
Да можно ли это прочесть? Воята вгляделся, с трудом разбирая буквы одну за другой. В иных местах он не мог различить, «веди» перед ним или «глаголь», «иже» или «наш»: рука писавшего была нетвёрда и порой ошибалась, буквы теснились, налезая одна на другую.
вне
прииде
ульян
велика
нафпятни
малу
изыде
свет
прев
лик
сниде
вели
звезд
светл
ибу
стоя
вверх
озера
Некоторое время Воята разглядывал загадочный столбец. Уверен он был только в словах «Ульян» – или «Ульяна» – и «лик». Чьё-то имя могло означать поминание. Какой-то неведомый ему Ульян или Ульяна умерли близ дня апостолов Петра и Павла, и кто-то, имевший доступ к Евангелию, записал эту дату? Это объясняет загадочное слово «нафпятни» – титла над буквой «фита» не было, а может, стёрся, но Воята привык к таким сочетаниям и догадался, что здесь «фита» обозначает цифру 9. Девятого иуня, в пятницу, умерла та Ульяния? Скорее иуля, раз уж запись помещена ближе к началу этого месяца. Видно, сделавший запись был её отцом или мужем и очень её любил – раз именует лик её подобным звезде светлой… что-то вроде того. Что-то дописать в Месяцеслов мог разве что какой-то из прежних иереев, больше никто к нему не смеет касаться. Грамоте разумел! Можно спросить у бабы Параскевы, у кого из прежних власьевских попов была жена или дочь по имени Ульяна, она-то всех помнит…
Где-то он недавно слышал имя Ульян… А, так звали деда Еленки, на чьем дворе она теперь живёт. Тогда всё просто: или отец Македон, или отец Касьян могли записать сюда поминание по родичу. Когда он умер, тот Ульян – раньше Македона или позже?
Воята разогнулся и потёр пальцами утомлённые глаза. А ведь у Панфирия были и другие книги, где они? Может, оттого и нечисть в Великославльской волости так разгулялась, что святые книги все запропали куда-то. Если бы их вернуть… Но озеро! Целое озеро, полное бесов! Сердце обрывалось, внутри проходил холодок. Кому под силу с таким справиться? Разве что самому архиепископу Мартирию. Вояте представилось, как архиепископ стоит в лодке посреди озера и читает молитвы, изгоняя бесов… Нет, не в лодке, а то озеро провалится вместе с ним… Или тогда лодка с владыкой останется, вися на воздухе, и без воды доплывёт до берега?
– Что, боязно? – спросил тонкий голосок, и в нём слышалось отстранённое любопытство: Марьица знала, что ей-то бояться уже нечего. – Говорили тебе люди: посмотрел бы да и домой.
«Вот страх… – сказал вчера отец Касьян. – Нет нигде больше такого страха…»
– Н-нет, – задумчиво, прислушиваясь к себе, ответил Воята. – Не боязно мне.
Даже понимая, во что ввязался, Воята скорее осознавал опасность, чем чувствовал. Страха не было, был вызов и боевой раж, как, случалось, на волховском мосту, когда Софийская сторона выходила биться против Торговой стороны. Да и унылый, но мирный вид лощины не особенно-то пугал.
Не задорный ли бес его сюда приволок? Но он ведь не из тщеславия явился в Лихой лог – заглядывая себе в душу, Воята мог сказать это с чистой совестью. Душа возмущается от мысли, что столько лет бесы губят крещёных людей и ничего с этим нельзя поделать. Он бы себя счёл малодушным отступником, если бы не попытался, как пытался сам отец Касьян и другие. Остальное в руке Господа – он поддержит на бурных волнах…
- О душа моя!
- Почему лежишь?
- Почему не встаёшь?
- Почему не молишься
- Господу своему день и ночь?
- Зло видючи,
- А добра не видючи,
- Чужому добру завидуючи,
- А сама добра не творячи?
– вспоминал Воята стихи, которые будто рука самого Господа начертала на стене Софии Новгородской, обращая призыв ко всякой душе, не лишённой зрения.
Пока есть вера – страха нет.
В лесу стояла тишина, неподвижная и прозрачная, как вода в лесной яме. Лишь начинало темнеть, остро пахло влажной осенней прелью, ели стояли спокойно, замшелые загородки погребений по виду не таили в себе ничего особенного. Тишина не угнетала и не пугала – она растворяла в себе. Казалось, посиди так ещё немного – и вовсе не сможешь больше шевельнуть языком, станешь безгласен, как эти пни. И нигде, на многие вёрсты вокруг, не ощущалось присутствия ничего живого.
– Марьица! – окликнул Воята. – Ты здесь?
– Тута я, – ответил тонкий голосок, в котором невыразимым образом смешался намёк на недавнюю обиду и истинно ангельское смирение и незлобивость.
– Расскажи, как тебе там поживается? Какой у вас, у ангелов, уклад? Кто среди вас старший будет?
– Ангелов нас – превеликое множество, – с важностью начала рассказывать Марьица, гордая, что попала в столь могучее воинство, хоть сама, в представлении Вояты, среди прочих ангелов была что букашечка малая, глазом едва различимая. – У всего на свете, у большого и у малого, свой ангел есть. Есть свой ангел у грома небесного, у инея, у града, у зимы и лета, у весны и осени, у вечера, дня и ночи. Ко всему, что видит глаз и что не видит, свои ангелы Господом приставлены.
– А солнце? – с живым любопытством спрашивал Воята, радуясь возможности заглянуть на небо хотя бы чужими глазами. – Ты его видела? У него тоже свой ангел есть?
– Видела я и солнце… – не без мечтательности ответила Марьица.
Воята мельком вспомнил тот бугорок холодной земли, забросанный вянущими ветками, под которым он её нашёл; ничего не успев повидать в своей краткой земной жизни, Марьица из младенца сразу сделалась ангелом и теперь свободно наблюдает такое, чего не видели на земле самые древние старцы.
– Видела я колесницу из огня, а влекут её кони крылаты, и сорок ангелов им помогают, – восторженно рассказывала Марьица. – На той колеснице едет муж – он и есть солнце, а на нём венец светлый. Как ангелы тот венец с него снимут – свет угаснет под небом, на земле ночь наступит.
– А Луна?
– И Луну я видела – жена в одеждах белых, сияющих, сидит на своей колеснице, а влекут её два белых вола, и тоже ангелы по бокам…
«А с неё, что ли, ангелы те одежды снимают, когда утро наступает?» – хотел спросить Воята, но не стал высказывать вслух такие вольные мысли. Однако образ обнажённой лунной жены, приятно полной, всё же успел мелькнуть в его воображении, и Марьица умолкла. Подсмотрела, надо думать.
– Ну, ты где? – окликнул её Воята. – Марьица? Ещё что-то видела любопытное?
– И та Луна, – не без ехидства начала снова Марьица, – прежде всегда была полна и прекрасна. Когда согрешил Адам, зарыдал весь мир – небо и земля, деревья и травы, и только Луна одна веселилась. Тогда разгневался Господь и повелел ей то расти, то убывать, то молодеть, то стариться, и только три ночи в месяц быть в полной красе.
«Жаль», – подумал Воята, уже не в силах отделаться от образа Луны – прекрасной белой женщины с серебряными волосами.
Слушая Марьицу и раздумывая обо всех этих чудесах, Воята не замечал, как темнеет, и вдруг обнаружил, что свет костра окружён плотной стеной тьмы. Стряхнув мечтания о небесных красотах, Воята сел прямо и внимательно огляделся. Пора было возвращаться в явь. Взошла луна, повисла над верхушками елей – почти полная, чуть подтаявшая с одного боку, будто какой-то хитрый волчок откусил кусочек. Отсюда, из лога, она казалась ещё более далёкой.
Поблизости раздался стон. Воята резко оглянулся, но поначалу ничего не увидел. Потом заметил, как в темноте, в нескольких шагах от него, что-то шевелится у самой земли. Он подошёл ближе, вгляделся, держа перед собой горящий сук из костра.
На земле обнаружился кусок белой ткани, вроде рваного полотенца, усеянный тёмными пятнами. Полотенце дёргалось, напоминая змею с повреждённым хребтом, которая хочет, но не может ползти.
В изумлении Воята сделал ещё полшага к странному полотенцу… и тут оно бросилось на него. Исчезли судорожные бесполезные движения – рваное полотно метнулось в лицо, ударило мокрым, холодным, липким краем, окутало мерзкой вонью застоявшейся крови, обвилось вокруг шеи и принялось душить.
Отшатнувшись назад, Воята обеими руками вцепился в мерзкую тварь, силясь оторвать от себя. Затрещали нитки, но ладони скользили по влажному, полугнилому полотну, в котором откуда-то была силища живого – то есть совсем неживого – существа.
«Отче наш!» – как призыв о помощи, мелькнуло в мыслях, но всё дальнейшее из памяти выскочило. Пыхтя – дышать под воняющим старой кровью полотном было почти невозможно, – напрягая все силы, Воята дёргал его, борясь за каждый глоток воздуха.
Испуганный, взволнованный девичий голос принялся читать «Отче наш» – один раз, другой, третий. По мере чтения силы мерзкого полотна ослабевали; наконец Воята сорвал его с шеи и с размаху швырнул в костёр.
Раздался истошный вопль – ни одно живое существо, даже брошенное в огонь, так кричать не может. Вопль был глухой и притом пронзительный, утробный, рокочущий, булькающий, будто кто-то захлёбывался в болоте, а над ним лопались пузыри. Зажав руками уши, Воята наклонился и на миг будто потерял сознание.
Очнулся, когда всё стихло. В костре догорало полотно – по нему бегало сине-зелёное пламя, прожигая новые дыры.
Когда синий огонь угас, Воята выпрямился, стараясь отдышаться. Несмотря на холод осенней ночи, он был весь в поту. Руки, лицо, шея, одежда – всё воняло протухшей кровью. Воята потёр ладони о влажный мох. Взял кусок мха, перемешанного с хвоей, старательно вытер лицо и шею. Стало полегче.
– Зачем же ты из круга вышел! – упрекнул его дрожащий от испуга девичий голос. – Пока ты в кругу – они тебя не достанут. А как вышел – едва не пропал!
– Спасибо тебе, Марьица. – Воята перевёл дух и опомнился. – Что помогла.
– Я-то помогла. А ты сам-то думай, – обиженно ответила Марьица. – Я девчоночка маленькая, куда мне такую жуть видеть!
Отдышавшись, Воята подложил сучьев в костёр. Охватила дрожь: очень хорошо помнилось прикосновение к коже холодного, липкого, вонючего полотна. Вот он дурак-то – сам из круга вышел! Если бы не Марьица, мог бы сгинуть, и Евангелие не помогло бы. Пришёл бы завтра поутру Радша со своим кулем – а вот и косточки…
Охватив сухие еловые сучья, пламя вскинулось, круг света стал шире. И Воята вздрогнул от неожиданности: он снова был не один. В пяти шагах от него стоял тот самый упырь, что лез в оконце Меркушкиной избы. Приближался маленькими, еле различимыми шажками – огромный, не уступающий матёрому медведю, вставшему на дыбы. В душе Вояты толкнулся страх – упырь был выше и крупнее его, а между ними лишь невидимая черта и сила слова Божьего.
На всякий случай Воята попятился внутрь круга, подальше под хвойную кровлю шалаша. Нет уж, больше он такой глупости не сделает, из-за черты не выйдет.
Упырь не сводил с него взгляда. На распухшем, болезненно-красном лице отражалось предвкушение, он облизывался длинным языком, доставая чуть ли не до глаз, словно пёс.
– Читай! – шепнула Марьица.
– М-м-м… Отче наш… – начал Воята несколько заплетающимся языком.
– «Живый в помощи Вышняго» читай!
Воята послушно начал, но застрял на первых трёх словах, и Марьице пришлось ему подсказывать. В свете огня морда упыря казалась ещё более мерзкой. Под этим жадным взглядом Воята себя самого ощущал каким-то легковесным, как тень, прозрачным. Вот-вот эти длинные руки с узловатыми пальцами, из которых каждый жил своей жизнью, будто красный толстый червь, протянутся к нему, удлиняясь на глазах, вопьются в горло… Воята не мог отогнать это мысленное зрелище, и слова псалма ускользали из памяти.
– «На аспида и василиска наступиша, и попереши льва и змия…» – подсказывала Марьица дрожащим, явно испуганным голосом, и голос Вояты повторявший за нею, звучал ненамного твёрже.
«Аспид и василиск» не остался глух к словам псалма. По мере того как Воята и Марьица читали, упырь всё больше проявлял беспокойство и нетерпение; он оперся в невидимую стену и теперь бился об неё всем раздутым телом, царапал незримую преграду. Трудно было верить, что она выдержит; Воята всем существом ощущал, что только произносимые им слова укрепляют эту стену. Замолчи он – она рухнет.
– Давай, Марьица, подсказывай! – воскликнул он, а сам принялся снова за «Отче наш», лишь бы не молчать. – Другой псалом давай!
– Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся?[20] – снова начала Марьица. – Господь защититель живота моего, от кого устрашуся?
При этих словах упырь сморщился, красная морда его наполнилась яростью. Он отошёл на несколько шагов, а потом резко бросил тушу вперёд, надеясь пробить стену с разгона. Воята дрогнул и отшатнулся, чуть не упал, на миг потерял упыря из вида. Его пронзил, как ледяное копье, ужас: а вдруг у того получилось? Вдруг он возникнет сейчас вот тут, вплотную?
Мигом Воята ощутил, как беспредельна ночная тьма, как огромен и безмолвен лес, как далеко отсюда до человеческого жилья. Да и жильё не очень-то помогло бы: сам видел, как этот гад ломился в избу прямо в самом Сумежье.
– Читай! – в ужасе взвизгнула Марьица.
Воята снова шагнул вперёд, торопясь увидеть, насколько упырь далеко. Тот оставался за чертой, но припал к ней всей тушей и яростно щёлкал зубами. Воята слышал это щёлканье и с трудом отгонял ощущение, как эти зубы впиваются в горло.
Эх, какое бы оружие! Копье-рогатину, с какой ходят на охоту. Попадись ему сейчас в руки, так бы и пырнул толстое брюхо упыря, полное крови!
– Читай, дубина! – опять закричала Марьица.
Но Воята не мог собраться с мыслями. Мельком вспомнился рассказ отца Касьяна: и он ходил сюда отчитывать упырей, и его предшественник, отец Ерон. Они тоже видели всё это. Они так же от страха забывали давно затверженные молитвы, и страх толкал их бежать отсюда – куда угодно, лишь бы подальше, лишь бы на несколько мгновений увеличить расстояние между собой и упырём…
Бежать нельзя, надо что-то делать. Но растерянность была словно пропасть, куда Воята неудержимо соскальзывал по крутому обрыву, и не мог зацепиться ни за одну стоящую мысль.
– Услыши, Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй мя и услыши мя, – заговорил рядом чей-то новый голос.
Воята, даже не думая, что это, ухватился за подсказку, как утопающий за верёвку, и горячо заговорил:
– Помилуй мя и услыши мя…
– Тебе рече сердце мое, Господа взыщу…
– Тебе рече сердце мое, Господа взыщу…
– Тебе рече сердце мое, Господа взыщу… – оживившись, радостно подхватила Марьица.
Втроем – Воята и два бесплотных голоса у него над головой, – они дочли псалом до конца.
– Потерпи Господа, мужайся и да крепися сердце твое, и потерпи Господа![21]
Даже красиво, успел мысленно отметить Воята – его молодой голос, другой мужской – потише и поглуше, и звонкий голос девчонки, полный ликования.
Едва прозвучали последние слова, как с упырём случилось нечто. Он присел, выпучил глаза, разинул пасть, раскинул руки. Глаза его погасли, морда почернела. Он вдруг разом стал вдвое толще… а затем лопнул. Волна чёрной крови ударила в невидимую стену и сползла по ней наземь.
Вскипела вонь, будто рядом вылили бочку протухшей крови – да так оно и было. И осталось только чёрное, влажно блестящее огромное пятно в трёх шагах перед костром.
– Вот так комар, пёс его в душу… – почти беззвучно прошептал Воята, не веря, что гада избыли.
Но тут же глаз уловил в стороне новое движение. Он повернул голову – к нему приближался второй упырь, тот, кого он застал уже в избе Меркушки. Он шёл крадучись, по-прежнему маленького роста, но выглядел ещё хуже. Тёмные мешки под огромными глазами навыкате стали ещё больше, вместо носа теперь зиял чёрный провал, брови исчезли, зато рот, огромный, красный и влажный, был открыт, и из него стекала кровь. Казалось, упырь переполнен ею, она не вмещается в его тщедушное тельце и вытекает, как из налитого через край кувшина. Кровь лилась изо рта на горло и грудь упыря, прокладывала красно-чёрную дорожку по его белой погребальной одежде – рубахе и портам.
– М-Марьица! – окликнул Воята.
Надо читать, но все затверженные с детства псалмы из памяти как ветром сдуло.
– Благословлю Господа на всякое время, выну хвала его во устех моих[22]… – послушно начала Марьица.
В её звонком голоске слышались и страх, и торжество, и гордость – она почувствовала себя могучим воином, первым из строя вступающим в бой.
– Благословлю Господа… – громче начал Воята повторять за нею.
А повторяя, думал: видно, то же опустошение памяти случалось и с другими; страх съел из головы всю науку, оставил бегство как единственное средство. И никто не подсказал… Как же подсобил ему Господь, послав Марьицу!
Маленький упырь был уже у круга, когда его настигли эти словесные стрелы. Остановившись, он замялся, потом сел наземь, опять вскочил. И вдруг… снял с себя голову, размахнулся и швырнул её в Вояту, будто шапку!
Воята отскочил, едва не упав и не обрушив свой довольно хлипкий навес. Марьица завизжала. Упыриная голова ударилась о невидимую стену и упала наземь. Глаза её по-прежнему смотрели на Вояту, зубы щёлкали. И только глухой, печальный мужской голос продолжал читать:
– Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь…
– Многи скорби… праведным… – подхватил Воята, стоя на четвереньках и самому себе напоминая какую-то очень благочестивую овцу, если такие бывают. Он задыхался и никак не мог унять бешеное биение сердца. – Хранит Господь вся кости их, ни едина от них… сокрушится…
Ещё немного такого, подумалось ему, и своих костей не соберёшь. Воята с трудом встал на ноги, опираясь на кучу сушняка. Торопливо подбросил в огонь: угасающий свет прятал он него даже то, что находилось в трёх-четырёх шагах, а, как ни жутки были зрелища упыриных натисков, не видеть ничего было бы ещё хуже.
Безголовое упыриное тело лежало ничком, вытянув руки вперёд, и его тонкие пальцы касались невидимой стены. Воята отвернулся… и увидел ещё одного гостя.
Прямо на свет огня медленно шёл мужик средних лет, с круглой коротко стриженной головой, в белой одежде, как все прочие, с лицом грубым и свирепым. Курносый нос, клочковатая борода, дикие злые глаза придавали ему вид разбойника. Раскинув руки, он пошевеливал пальцами, будто хотел кого-то схватить.
Воята встал с кучи хвороста, на которой сидел, отдыхая, и шагнул к черте.
– Читай! – напомнила Марьица.
– Не ревнуй лукавнующим, ниже завиди творящим беззаконие, – начал Воята первое, что пришло в голову[23]. – Зане яко трава скоро изсшут, и яко зелие злака скоро отпадут…
Лихой упырь подобрался к самой черте. Стал двигать плечами, размахивать руками, приседать – словом, разминаться. В этих движениях Воята увидел немало знакомого – и сам он, и его противники делали так перед началом стеношного боя. Едва удержался, чтобы не начать то же самое – ясно же, что вот-вот будет драка!
– Читай, не балуй! – строго напомнила Марьица; суровость не вязалась с тонким голоском небольшой девчонки и казалась смешной.
Однако Воята уже привык повиноваться этому голосу и, отчасти опомнившись, продолжил читать.
А лихой упырь не унимался: теперь он то размахивался, то потрясал кулаками, корчил рожи, явно давая понять Вояте: вот сейчас я тебя угощу! Сейчас наваляю! Мокрое место оставлю! Кулаки Вояты сжимались сами собой: он видел очень привычное зрелище, тело и дух его отвечали на вызов, как привыкли.
Упырь вдруг бросился на него, занесши кулак для удара; Воята рванул навстречу… зацепился ногой за сучок и рухнул наземь.
– Ах ты…
Чуть не до крови прикусив губу, чтобы не мешать матерную брань с Божьим словом, Воята принудил себя молчать. Овчинный кожух отчасти смягчил падение, но всё тело гудело от удара о землю, в голове мутилось, перед глазами плыли огненные пятна. Шапка слетела. И упал он слишком близко от огня – того гляди, волосы вспыхнут!
Кряхтя, Воята сел. Лихой упырь прыгал возле самой черты, кривляясь и всячески выражая презрение, будто сам, своей рукой поверг Вояту на землю и теперь ждёт, поднимется ли соперник – лежачего-то не бьют.
Вояте и раньше приходилось падать, но он всегда вставал, если только хватало сил. Упираясь о землю руками, он встал на колени, шатаясь и стараясь поймать равновесие. Ощущения были такие, будто его дубиной по голове оглушили. А тут еще Марьица: читай, читай! «Да пошла ты…» – мелькнуло в мыслях. Чувства бойца призывали забыть обо всём, когда в двух шагах выделывается наглый соперник, воображающий себя победителем. Дескать, не встанешь, слабак! А встанешь, я тебя ещё не так отделаю!
Цепляясь за кучу хвороста, Воята с трудом поднялся. Его тянуло навстречу упырю, который делал выпады в его сторону, но сердце бухало в груди, как молот по наковальне, дыхание вырывалось со свистом, в голове стоял гул, будто какой-то мелкий бес колотил там в железное било. Сквозь это всё с трудом пробивались слова псалма, читаемые тонким девичьим и глухим мужским голосом.
– Не ходи к нему! – между словами псалма выкрикивала Марьица. – Он тебя нарочно манит!
– На задор берёт! – подтвердил мужской голос.
Услышав это, Воята отчасти опомнился. Каждый миг его жёг стыд, что он не принимает вызова, но пробилось осознание: упырь выманивает его из круга. Воята снова сел, не глядя на упыря и стараясь повторять за Марьицей:
– Видех нечестиваго превозносящася и высящася яко кедры Ливанския…[24]
Воята всё же глянул на упыря, который, хоть и недотягивал до ливанского кедра, но явно превозносился над ним.
– И мимо идох! – С нажимом выговорив эти слова, Воята с выразительным презрением отвернулся. – И се, не бе, и взысках его, и не обретеся место его…
Некоторое время они читали втроём. Воята даже отчасти отдышался и успел понять, что с ним что-то не в порядке. Парень молодой и сильный, от обычной драки он уже пришёл бы в себя, а теперь не мог: в ушах шумело, сердце бухало, а стоило прикрыть глаза – вспыхивали пламенные выплески.
Будет ли конец этой ночи! Рассвет никогда не настанет, никто из живых не придёт, даже Радша с его кулём. А в логу мрак, только светятся здесь и там сизые огни…
Приглядевшись, Воята понял, что это мерцают загородки: новые – стоя во весь рост, и старые – лежащие кучей кольев. В темноте стало лучше видно, как их много – десятка два. При свете дня иные, давно упавшие, рассыпавшиеся в труху, заросшие папоротником, были и незаметны, а теперь сизое свечение выдавало гнездилище ещё одного упыря. И ещё, и ещё… Сколько же их тут набралось за двести лет!
Зря он стал приглядываться… Едва осознав, что в логу десятка два нечистых погребений, Воята вдруг увидел и всех их обитателей. Неясные фигуры – побольше и поменьше, – подтягивались на свет костра. Одни шли во весь рост, иные пробирались пригнувшись, будто стараясь остаться незамеченными, а третьи ковыляли и ползли, волоча конечности. Тот первый упырь, что лопнул, мог перед ними считаться красавцем. Эти, лежавшие под грудой кольев давно, не получавшие пищи, кою не хватало сил достать, пришли в самое жалкое состояние. Некоторые были тощие, сухие, обтянутые бурой кожей; другие на ходу рассыпа́лись, теряя кости, которым было не на чем держаться, но упорно продолжали двигаться на свет костра.
– Ма-атерь Пресвятая Богородица… – с оторопью пробормотала Марьица.
Воята вгляделся – и дыхание перехватило. Его не слишком – после уже увиденного – пугали старые упыри, похожие на человечков, связанных детьми из прутиков. Но меж них к нему приближался… Упырь сильно схожий с живым человеком. Мужчина лет шестидесяти, рослый, горделивого вида, с длинной седой бородой и седыми, длинными, густыми волосами. На нём было облачение священника – кое-где висящее клочьями, но достаточно целое, чтобы его узнать: фелонь, далматика, стихарь, камизион… Руками новый гость совершал такие движения, будто держал кадило. Но кое-что заметно отличало его от обычного священника – глаза его были закрыты, а лицо тёмное, налито синей кровью.
И тут Воята догадался, кто это. Отец Македон.
Страх исчез, вытесненный важной мыслью.
– Отче Македоне! – Воята встал на ноги и сделал шаг к черте. – Слышишь ли меня? Раз уж ты пришёл, открой: где книги? Где книги старца Панфирия? Они были у тебя, ты знаешь! Апостол, Псалтирь…
К его изумлению, отец Македон кивнул. Глаза его были по-прежнему закрыты, но руки замерли… и в них появились две книги – огромные и тяжёлые, так что он с трудом их удерживал. Переплёты были покрыты золочёными узорными пластинами с разными самоцветами; при свете огня они сверкали так, что резало воспалённые глаза Вояты, и тот невольно прикрылся рукой, как от слишком яркого солнца. Казалось, не решишься и притронуться к такой книге, а если всё же сумеешь открыть – благодать вырвется оттуда и разольётся в воздухе, как солнечный свет.
От сияния этих книг в мрачном логу стало светло как днём. Невозможно было смотреть ни на что, кроме двух золотых солнц в руках отца Македона. Самоцветы переливались звёздами – красные, синие, белые, зелёные, лиловые, – играли радугой небесной. Не в силах отвести от них глаз, Воята позабыл, где находится и чему только что был свидетелем.
Не открывая глаз, синеликий священник кивал ему, подзывая к себе. Воята колебался: это же книги! Те самые! Сколько он думал о них – и вот видит воочию! Где-то на краю разума сидела мысль об опасности, но также он понимал, что другого случая добыть их может не представиться.
– Читай! – пискнула над ухом Марьица. – Евангелие читай!
Евангелие читай… Над иереями читают Евангелие… Ведь отец Македон давно мертв… Для этого Воята сюда пришёл, для этого отец Касьян доверил ему своё Евангелие… Вот оно лежит, на коробе возле костра… на верхнюю крышку переплёта уже налетело немного пепла…
Будто учуяв его мысли, отец Македон попятился. Сияние книг в его руках приугасло. Воята невольно подался ближе к черте, боясь, что тьма поглотит книги и он больше их не увидит. Отец Македон приглашающе кивал ему. Воята колебался.
Отец Македон сел на землю, положил одну книгу на колени, раскрыл её и начал читать – по-прежнему не открывая глаз. Воята видел, как шевелятся его чёрные губы в седой бороде, но не слышал ни слова.
Прочие упыри вдруг пришли в движение. Старушонка подсеменила поближе, всё с тем же выражением хитрой, хищной радости на мелком личике; поднялся безголовый и прямо так, без головы, встал на ноги; драчун-задира перестал прыгать и махать кулаками и повернулся к отцу Македону.
Сквозь гул в ушах до Вояты начали доходить какие-то звуки. Красивый, умеренно-низкий мужской голос читал что-то, но, хотя Воята довольно ясно различал слова, понять не мог ни одного. Читали будто не на русском языке… и не на греческом, греческого Воята не понимал, но на слух узнал бы. Однако выражение этой речи было ему знакомо: ровное, напевное, учительное… так иереи читают Евангелие…
Упыри уже все собрались к отцу Македону – все до одного, даже те, кто сохранил лишь несколько костей. Встав вокруг него толпой, они стали кланяться, кто как мог, раскачиваться, иные, имеющие ноги, взялись подрыгивать, будто в пляске. Морды кривились – чтение радовало их. Голос отца Македона звучал всё громче, всё торжественнее. По-прежнему Воята не понимал ни слова, но каждое из них падало на грудь, будто камень.
– Читай, дубина! – отчаянно пищала Марьица. – Евангелие читай! Он наоборот читает, а ты правильно читай!
Священная книга затрепетала, будто её силился открыть кто-то, чьим рукам тяжёлая верхняя крышка не давалась.
Отец Македон всё читал, и теперь голос его отдавался шумом и воем в вершинах елей. Сияние вокруг него всё темнело, книга в его руках обернулась чёрным солнцем. Упыри подняли вой; этот вой забирался в самую душу. Не в силах стоять, Воята упал на колени, закрыл лицо руками. Неведомая сила тянула его вперёд, к отцу Македону и его книгам. Что-то кричала Марьица, но её голосок тонул в этом гуле, будто комариный писк в рёве бури.
В поисках опоры Воята ухватился за что-то и ощутил под рукой твёрдую старую кожу. Это Евангелие. Он передвинулся ближе, дрожащими руками поднял крышку. Костёр почти угас, но буквы на старом пергаменте слегка светились, и он видел их довольно ясно.
– Сыне, да не прельстят тебе мужи нечестивии, ниже да восхощеши, аще помолят тя, глаголающе: иди с нами, приобщися крове, скрыем же в землю мужа праведна неправедно: пожрем же его якожде ад жива, и возмем память его от земли…[25]
Именно так всё и происходило; при первых же прочитанных словах в мыслях Вояты прояснилось. Его прельщали бесы, норовя отнять разум и память, утащить живым в ад. Он читал, голос его креп, заглушая вопли упырей и чтение отца Македона.
Всё больше приходя в себя, изредка Воята бросал взгляд вперёд. Сияние книг в руках мертвеца всё меркло, а сам он всё удалялся. Вместе с ним пятились прочие упыри. Иные, самые слабые, лежали грудой костей.
– Аще бо премудрость призовеши и разуму даси гласъ твой, чувство же взыщеши великимъ гласомъ, и аще взыщеши ея яко сребра, и якоже сокровища испытаеши ю: тогда уразумееши страхъ Господень и познание Божие обрящеши…[26]
Бросив ещё один взгляд, Воята увидел, что отец Македон стоит возле загородки из кольев – видимо, это было его обиталище. Вот он протянул Вояте книгу и так замер.
У Вояты перехватило дыхание. Мертвец в последний раз предлагал ему свой дар… казалось, сделай несколько шагов, протяни руки, возьми…
Навалилось такое оцепенение, что Воята не мог ни двинуться, ни шевельнуть языком, ни даже вздохнуть…
Показалось, что он уже умер – душа отделяется от тела и больше не способна им управлять…
Давящую тишину вспорол крик петуха.
Резкий, пронзительный, он потряс Вояту, как удар. Покачнувшись, он закрыл глаза и без сил повалился лицом на раскрытую книгу.
…Очнулся оттого, что кто-то осторожно теребил его за плечо. В ужасе от этого касания, Воята подпрыгнул и открыл глаза, одновременно отшатываясь. Он хорошо помнил всё, что было совсем недавно. Пока он спал, кто-то из этих пролез за черту? Его пробуют на зуб?
Костёр догорал, но света было довольно, чтобы разглядеть рядом человека… или кого-то навроде человека.
– Эй, милок! – раздавался опасливый голос. – Ты живой? Живой, слава Богу!
– Т-ты кто? – Воята с трудом встал на ноги и попятился.
– Я-то Куприян, из Барсуков. А ты-то кто?
– Я… – Воята сглотнул, с трудом вспоминая, кто он.
Однако упыри не разговаривают. Не дана им речь людская, только и могут, что выть да стонать. Если этот говорит внятно, своё имя знает – выходит, не упырь?
Он оглядел собеседника: обычный мужик, средних, довольно зрелых лет, с обычным лицом, толстым носом, густой бородой… На упыря не похож.
– Перекрестись!
Назвавшийся Куприяном охотно перекрестился.
– Ты как сюда попал? – спросил Воята.
– Петуха тебе принёс.
– Чево? – Воята вытаращил глаза.
– Петуха слышал?
– Слышал…
– Вот, я принёс. Устинья, покажи петуха!
Кто-то ещё зашевелился за спиной у Куприяна, и Воята с новым изумлением увидел, что там стоит молодая девка с испуганным лицом и с рыжим петухом под мышкой.
– Племянница моя, Устинья. Это она всё. Пойдём, говорит, дядька, снесём в лес петуха, там ведь их нет. Так пристала – пришлось идти. Петуха разбудили…
– З-зачем?
– Ну как – зачем? – Куприян в удивлении развёл руки. – А как бы ты без петуха отбился-то? Гляди, что теперь.
Он посторонился, открывая Вояте вид на лог. И стало ясно, отчего так светло.
В логу пылали три десятка костров. Все загородки, новые и старые, были в огне; иные бросали пламя чуть ли не к вершинам сосен, иные тлели над самой землёй синеватым пламенем. Сгорая, колья рушились, пуская в тёмный воздух снопы синих искр.
– Вот как их петуший крик-то поразил, – с удовлетворением сказал Куприян. – Его же тут отродяся не слышали.
Вспоминая, что было перед этим, Воята охнул. Обойдя Куприяна и Устинью, таращившую на него испуганные глаза, приблизился к дальней загородке. Она уже обрушилась, превратившись в груду пылающих головней. Вот здесь сидел отец Македон, и вот там, под этими головнями, остался он со своими книгами…
– Вот куда они делись… – горько сказал Воята, обернувшись к Куприяну. – Вот почему про эти книги не знал никто – он их с собой в могилу утащил. А теперь всё – сгорели книги, сгинули с ним заодно…
– Не кручинься – не горят эти книги. – Куприян похлопал его по плечу. – Ну что, пойдём с нами, до утра тебя определим поспать, а там и восвояси…
– Не могу. – Поколебавшись, Воята качнул головой. – Поутру мужики придут, Радша со своим кулём – кости мои собирать, а тут и костей не будет. Дождусь уж их.
– Не боишься? – чуть слышно спросила девка Устинья; в первый раз Воята услышал её голос.
Он лишь покачал головой. Страха больше не было; все его чувства будто сгорели в этом синеватом огне старых нечистых погребений. Зато навалилась такая усталость, что шагу он не смог бы сделать – не то что идти до Барсуков.
– Ну, бывай здоров! – Куприян поклонился.
Девка, прижимая к себе петуха, тоже поклонилась.
– И вы живите здорово… – Воята опустился на кучу лапника.
Куприян с племянницей ушли. Загородки догорели, с земли во тьме сияли синеватые угли, но Воята смотрел на них совершенно равнодушно. Подбросил ещё сушняка в свой костёр, натянул оброненную шапку, прилёг на лапник… и провалился в глухую и немую тьму.
…Очнулся оттого, что его снова теребили за плечо. Вздрогнув, с трудом открыл глаза. Над ним склонялся озабоченный Арсентий. Было светло, легонечко накрапывал унылый осенний дождь, с кровли из лапника кое-где капало.
С трудом Воята сел. Все кости и мышцы болели, голова гудела. Арсентий что-то говорил, но до Вояты не сразу дошёл смысл слов. Ещё несколько знакомых мужиков ходили по логу и осматривали горелые пятна на месте старых загородок.
– А мы… того… – Радша показал рогожный куль. – Пойдём, говорю, хоть косточки соберём раба Божьего…
Воята поглядел на куль, который должен был стать ему саваном и гробом. Хрипло рассмеялся.
Потом встал, постанывая, как старый дед, потёр лицо руками. Он помнил, что было ночью, но всё смешалось, он сейчас не мог бы отделить истину от видений. Упыри… Священник с синим лицом и двумя золотыми книгами в руках… Куприян с племянницей и петухом… Эти уж точно приснились – не может такого быть, чтобы какой-то мужик из Барсуков среди ночи потащился с племянницей-девкой в лес, чтобы принести петуха! Откуда им было знать, что здесь живого человека упыриная рать одолевает?
Пошатываясь, Воята подошёл к одному из кострищ. Вот здесь сидел отец Македон. Сейчас от его могилы осталось широкое пятно серо-белой золы, даже несколько углублённое, будто сама земля под загородкой прогорела и осела. По краям – несколько головешек. Не горят такие книги, сказал странный мужик Куприян. Здесь их уж точно не было. Если отец Македон и скрывал у себя в могиле две священные книги старца Панфирия, то искать их под этой россыпью золы бесполезно…
Хотя большую часть обратного пути Воята ехал на телеге и даже опять заснул, до Параскевиной избы он добрался, едва волоча ноги. Однако, прежде чем лечь спать, сходил в баню – заснул сидя, пока топилась, – чтобы смыть с себя всю память об этой ночи: липкий пот, страх, омерзение, лесной и мертвяцкий дух. И только потом улёгся, чувствуя блаженство от чистой рубахи, чуть дымного тепла бабкиной избы, тишины и безопасности.
Когда проснулся, уже темнело, зато Воята чувствовал себя вполне отдохнувшим. Вставать не хотелось, но надо было идти к отцу Касьяну, возвращать Евангелие – а то ещё подумает, что парамонарь святую книгу со страху в лесу позабыл.
Видя, что парень проснулся, баба Параскева взялась печь блины. За едой Воята рассказал ей кое о чём из увиденного – останавливаясь и раздумывая, было это на самом деле или померещилось.
– А как заснул я, приснилось мне, будто пришёл ко мне мужик, назвался Куприяном, да не один, а с девкой молодой – сказал, племянница его, Устинья. И будто бы принесли они в лес петуха…
Воята запнулся – и Куприяна с его густой бородой и широким носом на добродушном лице, и испуганные, огромные глаза Устиньи, и недовольного рыжего петуха у неё под мышкой он помнил совершенно отчётливо, не так, как помнятся кисельные образы из снов. Но как это было бы возможно наяву?
– А ты разве знаешь Куприяна с Устиньей? – удивилась баба Параскева. – С тех пор как ты здесь, они вроде не бывали к нам… Да и чего Куприяну тут делать – я сама пока не хворая…
Воята воззрился на бабку, держа в руке блин. Возникло чувство, будто и она ему снится.
Так этот сон не кончился? Он всё лежит на охапке лапника в Лихом логу… да жив ли он ещё?
– Куприян… он взабыль… ты знаешь его? – вымолвил Воята, наконец собравшись с мыслями.
– А чего ж не знать? Из Барсуков он, как родился там, так и живёт.
– Я-то думал… Но откуда же ему знать… с чего бы мужику посреди ночи в лес идти с петухом? Да ещё и с девкой? Он что – того? – Воята постучал себе по лбу.
– Знахарь он! – пояснила баба Параскева. – Толковый, знающий человек. Как-то вот проведал, что одолевают тебя вражины, петух нужен – разогнать… А девка, племянница, видать, увязалась за ним. Она сирота, никого из родни у них больше нет. Так и живут вдвоём, травничают, знахарничают.
– Он сказал, это девка его подбивала в лес с петухом идти.
– Может, и она. Устинья, как ума с годами наберётся, ещё потолковее дядьки будет.
Воята только головой покачал.
Пока ел блины, в дверь не раз стучали: всем хотелось увидеть парня, что провёл ночь в Лихом логу и вернулся живым. Однако баба Параскева никого не допускала, пока не прихромала старая Ираида: дескать, отец Касьян кличет. Воята, как раз доевши, оделся, провёл гребнем по кудрям и завернул Евангелие в мешок – снаружи опять накрапывал унылый дождик.
Войдя, Воята вновь застал отца Касьяна расхаживающим по избе. Поклонившись, не сразу дождался, чтобы тот обратил на него внимание. Но вот отец Касьян остановился, постоял спиной к Вояте, потом повернулся и медленно поднял на него глаза.
– Экий ты живучий… – с недоверием пробормотал он, кивнув в ответ на ещё один поклон. – Я уж думал, в куле твои косточки привезут… А ты прямо сам бессмертный… Ну, рассказывай, что видел.
Воята стал рассказывать – про упырей, про отца Македона и две его книги. Про книги отец Касьян слушал особенно внимательно, стоя перед Воятой и прямо глядя на него.
– Не знаю, может, надо было выйти и взять у него… – с сомнением закончил Воята. – А так утащил он их обратно в могилу свою, а потом всё и сгорело…
«Не горят святые книги!» – прозвучал в мыслях голос Куприяна, который, оказывается, был на самом деле, – добродушный и снисходительный.
– Выходит, знал отец Македон, где книги Панфириевы… – пробормотал отец Касьян. – Да не сказал никому…
– Может, дочь его… – заикнулся Воята, но прикусил язык: если Еленка что и знала, то с мужем делиться не пожелала, это ясно.
На его счастье, отец Касьян будто не услышал упоминания о жене, продолжая расхаживать от печи к оконцу. Потом остановился и спросил, не глядя на Вояту:
– Стало быть… Страхоту самого… не видел ты?
Вояте вспомнился отец Македон – синее лицо с опущенными веками, длинные седые волосы, такая же борода… Страшнее этого ничего не было.
– А каков он собою?
– Обликом Страхота велик и ужасен… – не сразу заговорил отец Касьян, глядя мимо Вояты.
Воята же глядел ему в лицо, с трепетом улавливая на нём отражение страшных воспоминаний, будто пытался, с робким почтительным любопытством, заглянуть в них.
– Ровно сам бес лесовой… Может быть ростом с ель вековую… часто звериный облик принимает – будто волк рыскающий… Глаза угольями горят, в пасти зубы острые… чёрные… железные… Кому покажется – тот без памяти упадёт, а то и замертво… Уж сколько лет рыщет он по лесам, сколько душ загубил… И над всей этой нежитью он первый воевода.
– Откуда же он тут взялся? – вырвалось у Вояты.
Даже после всего увиденного трудно было поверить, что дух или зверь, жуткий, будто сам Сатана, рыщет в окрестностях Сумежья лет через двести после утверждения в Новгороде Христовой веры!
Отец Касьян ещё помолчал.
– Слышал ты про… про город Великославль, по которому волость наша названа?
– Слыхал кое-что. – Воята вспомнил рассказ бабы Параскевы, хотя казалось, что было это очень давно. – Что жил там князь Великослав, Гостомыслов сын, он из Новгорода пришёл и град сей основал. А после него жили там сыновья его да внуки. И было так до того ещё, как князь Владимир Русь крестил и всем людям заповедовал веру христианскую…
– Так и было. – Отец Касьян кивнул. – Сперва в Новгороде Добрыня да Путята народ крестили, а идолов сокрушили. Далее пошёл Путята по земле Новгородской, и везде капища разрушались, и церкви ставились, иконы святых являлись, бесы убегали, крестом грады освящались. И пришёл он на Ниву-реку, к городу Великославлю. А в городе том, на самой вершине горы, стояло капище идольское, и жил в нём поганый змий Смок. Как пришёл Путята, в городе праздник идольский справляли: песни завели, пляски соблазнительные. Повелел Путята людям волю княжескую, да не захотели люди закон Божий принять. Всё пляшут и пляшут, а смотрит Путята и видит: у людей головы стали медвежьи, ноги лошадиные, хвосты волчьи – так сильно дьявол завладел ими. Тогда разверзлась вдруг земля и поглотила город и с ним людей двадцать или тридцать тысяч. А на месте города стало озеро глубокое. Возрыдал тогда Путята, видя такую беду. Отпустил он войско своё к князю Владимиру назад, а сам возле озера остался жить, чтобы Бога молить о прощении для Великославля. Принял он чин монашеский, стал зваться старец Панфирий. Срубил часовню на берегу, а сам в пещере жил, и два медведя ему служили. Много лет так прожил и немало чудес сотворил…
Отец Касьян примолк, будто заглядывая в то озеро глубокое, отыскивая город на дне.
– Вот так сказание… – Воята сидел ошарашенный. – Слыхал я про воеводу Путяту, но у нас и не знал никто, что он старцем Панфирием жизнь покончил… А что же тот… Страхота?
– А как провалился город, змий Смок вместе с ним ещё глубже оказался и под озером ныне живёт. По молитве Путятиной не велел ему Господь в телесном облике из города выходить, а дух его дьявол иной раз выпускает в белый свет. Завладеет тот дух иным человеком и заставляет его зло творить: зверем оборачиваться, стада резать, посевы губить, тучи грозовые приносить, недуги и моры нагонять. За двести лет немало у него слуг таких набралось. Одного загубит насмерть, тут же и другого найдёт. Все, кого ты в логу видел, – слуги его, Смока. А бывало и такое, что иной человек, бесами побуждаемый, сам змею в слуги просится. Желая душу продать, а за то силу чародейную великую обрести. Лет двадцать назад…
Отец Касьян запнулся и тяжело сглотнул, будто у него пересохло в горле. Помолчал, но с усилием заставил себя продолжать:
– Лет двадцать назад сыскался один такой… Страхотой звали его. Был он как есть язычник – бесам поклонялся, а Бога и святых не почитал. Полюбилась ему девка одна, а отец её не отдаёт за парня поганской веры. Откажись, говорит, от бесов, тогда сватайся. А тот, нет чтобы послушать мудрого слова, напротив того, пошёл к озеру Поганскому силы просить, чтобы девку ту заполучить. И дал ему Смок силы могучей – научил зверем перекидываться. Стал Страхота по ночам волком лютым гулять и врага своего подстерегать. Раз вышел отец той девки к озеру – тут и набросился на него Страхота, да и загрыз… С тех пор так и бродит зверем. Уж сколько удалых молодцов пыталось извести его – ни один живым не вернулся.
Воята слушал, вытаращив глаза, чувствуя в душе холодок. Повесть была вроде бы простая: полюбил девку, да её не отдали. Но чтобы волком перекинуться и отца девкиного загрызть… Хотелось обернуться к оконцу – не бродит ли там злющий оборотень?
– И далеко это озеро? – только сейчас сообразил спросить Воята.
– Вёрст пять от нас будет. В середине волости оно, все погосты да деревни вокруг него располагались. Много раз пытались глубину его измерить, но сколько ни собирали вожжей и верёвок, дна не достали. Сказывают, в самую бездну преисподнюю выходит оно. И каждое лето, в пяток перед Петровым днём, выходят бесы на берег и пляски свои учиняют. Посмотришь на них – у одного голова коровья, у другого ноги волчьи или хвост свиной…
– Но отчего же не попробовать… – воскликнул Воята, осенённый некой мыслью, осёкся с испугу, но всё же продолжил: – Если они выходят – может, попробовать их крестом святым… окрестить? Тогда они бы из бесов стали… душами Божьими, – закончил он, подумав, что настоящими людьми бесов сделать уже нельзя.
– Окрестить? – Отец Касьян повернулся к нему. – Бесов?
Казалось, он только сейчас по-настоящему вышел из своих мыслей и заметил, что перед ним сидит молодой парамонарь.
Вслед за тем послышались глухие звуки – Воята было подумал, что отец Касьян закашлялся, но потом понял: это смех. Смеялся тот гулко и отрывисто, будто филин ухал в дупле: ух, ух, ух! Почему-то дрожь пробрала от этих низких, бархатистых звуков, будто клок паутины прошёлся по лицу.
– Да где же такое видано? – проговорил отец Касьян, отсмеявшись. – Бесов… крестить… ты святой, что ли?
– Разве же я! – Воята не столько словами, не столько телом изобразил, что предназначает сей подвиг самому отцу Касьяну. – Там же в городе люди жили? Они и сейчас, видать, на дне живут. Если бы их окрестить, как всех язычников крестили, и повывелась бы нечисть, и сам этот… Страхота или тот змий никакого зла бы уже сделать не мог.
– Сыне! – Отец Касьян подошёл вплотную и прикоснулся к плечу вскочившего Вояты. – Сам Панфирий, старец святой, сто лет ровно молился, чтобы град Великославль со дна озера вернуть и веру святую в нём утвердить. Да не было на то Божьей воли. Ты что же, святее Панфирия хочешь быть?
– Да куда ж мне… – Воята опустил глаза.
– Такого чуда нам не увидеть. Может, ещё двести лет Панфирий будет Бога молить, прежде чем восстанет град Великославль.
Воята молчал, чувствуя сильное сожаление. Он так ясно видел этот город перед собой, во всей славе его, с жителями и богатствами – неужели его никто никогда больше не увидит наяву? Ну или только лет через триста.
– А Страхоты опасайся, – предостерёг отец Касьян, и по его тону Воята понял, что пора уходить. – Чует моё сердце, ты о нём ещё услышишь…
Когда выпал снег, в Сумежье ещё толковали о событиях в Лихом логу. На всех посиделках волостного погоста и окрест только о том и было разговору, что об упырях. Выяснилось, что о Дивном озере тут ходит немало преданий, но говорить о нём опасаются: как бы не накликать беды.
На осенние Кузьминки отец Касьян с рассвета обходил все дворы в Сумежье и кропил святой водой домашнюю птицу. Зажигая перед обедней лампады в алтаре и на иконостасе, Воята с изумлением обнаружил, что собравшиеся к службе бабы держат под мышкой по курице. Баба Параскева, тоже с лучшей своей несушкой в лукошке, пояснила, что здесь такой обычай: нынче курица – именинница, и ей положено святым Кузьме и Демьяну помолиться. Изумленный Воята всё поглядывал на них, пока читал «Благослови, душе моя, Господа», прислушивался, ожидая услышать куриный клекот.
Но этим дело не кончилось. Прибравшись в церкви и придя домой, Воята обнаружил в избе целый табун девок: оказалось, что в этот день у них принято собираться у бабы Параскевы, и весь день они то прибегали, то убегали, приносили кур, пшено, прочие припасы, готовили лапшу, варили кашу, жарили кур. Обычай пировать здесь в Кузьминки завёлся во времена девичества Параскевиных дочерей, и, хотя с каждым годом девок в доме оставалось всё меньше, все уже привыкли, что девичьи беседы собираются именно здесь. Спасаясь от суеты, Воята ушёл посидеть к соседу Павше, но, когда стемнело, за ним явилось целое посольство – с приглашением обратно. Посреди избы сидел некто в вышитой рубахе… и без лица. Вздрогнув, Воята отшатнулся – вспомнился тот лысый упырь, что явился к мёртвому телу Меркушки. Но оказалось, что это всего лишь соломенное чучело, наряженное в одежду парня; чучело звали Кузькой, и сегодня справлялась его «свадьба» с Юлиткой – самой бойкой из девок-невест. Сумежские парни, толпясь у дверей, хохотали, глядя, как под пение прочих девушек Юлитку усаживают рядом с чучелом и заставляют целовать «Кузьку»; в смехе их слышалась зависть. Но продолжались Кузькины радости недолго: положив на старую дверь от бани, его вынесли в ближнее поле, уже под светом звёзд, разложили на замёрзших пустых бороздах костёр и сожгли «жениха», а пепел разбросали по полю.
– Мы как прошлый год ходили Кузьку хоронить, самого Страхоту видели! – будто хвастаясь, на обратном пути к Сумежью сообщила Вояте какая-то из девок – Воята их ещё не научился различать по именам.
– Да ну что ты! – Воята повернулся к ней, надеясь узнать о вражине побольше. – И каков он был собой?
– Он был… – девка округлила глаза, – ровно облако ходячее!
– Он был как волк огромный, с быка ростом! – возразила другая девка. – Глазищи угольями горят, из ноздрей пламя пышет!
– Офроська, да ты всё врёшь! Увидали бы мы такое чудовисчо, все замертво попадали бы! Ты её не слушай. Он был… вроде как облако, только по самой земле идёт. Серое такое. И так страшно! Мы только увидали, все бегом бежать. Кузьку так и бросили… летели, будто боярыня Каллиника, себя не помня…
– А нынче нету его, – сказала третья девка и всё же оглянулась через плечо. – Сохраните нас, орёл-батюшка Владимир, Илья Муромец и Пресвятая Богородица! Это оттого, что в Лихом логу все мертвяки сгорели. Больше нету у него воинства, вот он и не ходит.
– Да ты, Хрита, не храбрись! – возразила первая девка. – Чего ему те мертвяки? Сам-то он и не показался. В Дивном озере пересидел. С силами соберётся – и вый-дет. Там ему змий новое воинство даст, сильнее прежнего.
– А что это за боярыня Каллиника? – спросил Воята.
– Ты лучше у бабы Параскевы спроси, – посоветовала дева, которую звали Хритания: круглолицая, степенная, с толстой русой косой. – Она сию повесть хорошо сказывает.
Вернулись в избу, взбудораженные и замёрзшие, усталые от песен, криков и хохота. Расселись, отдуваясь, в ожидании, пока баба Параскева приготовит медовый перевар с мятой, зверобоем и шалфеем.
– Баба Параскева, а расскажи пока про боярыню Каллинику, – попросила Хритания, оглянувшись на Вояту.
– Да вы же знаете! Сколько раз слушали!
– А вот Воята Тимофеевич не слышал. – Хритания снова покосилась на парня, и он хмыкнул про себя: по отчеству уже зовут.
– Жил-был у нас в Сумежье некогда боярин-воевода, звали его Каллиник, а жену его – Каллиника, – начала баба Параскева.
– Нет, ты с самого начала расскажи – как змий Смок из озера Дивного вышел! – торопливо вставила Офро-сенья.
– Как стоял Великославль-град, и правил в нём змий Смок, – снова начала баба Параскева, – и был он великий могучий волхв и чародей. Со всей волости сходились к нему люди, несли дары, просили исцелить от недугов, будущее открыть, счастьем-долей наделить. Умел он предрекать людям и здоровье, и болезни, и жизнь долгую, и смерть безвременную, и богатство, и бедность. Иной же раз бывало, что выползал он из пещер глубоких и лежал в Ниве-реке; тогда всякий, кто по реке плывёт, должен был ему в жертву серебро и золото бросать, а кто пренебрегал, того змий в реке топил. Всякую весну требовал он себе в жертву по девке молодой, и у себя в палатах подводных их собирал.
Когда пришёл воевода Путята с ратью великой к Великославлю, собрал Смок всех волхвов и чародеев своих и велел им гадать: он ли одолеет или Путята. Три дня и три ночи гадали чародеи, в воду глядели, баранов кололи, полет птичий следили. А потом и говорят: «Приходит сюда Христос со славою, хочет в сих краях воцариться, а нам остаётся уходить в края неведомые и далекие, за высокие горы, за быстрые реки». И вот видит Путята: взвивается над городом вдруг дым и пламень, и в пламени сём летит змий чёрный, могучий, на крыльях огненных, и гром по всему небу раскатывается. И встал он над озером, будто звезда, и был от звезды в небе пламень, а по земле дым, и все люди от того знамения змиева в ужас великий впали. А Великославль под землю ушёл, и стало на том месте озеро глубокое.
Стал Путята жить близ озера, а в Сумежье велел быть воеводой боярину Каллинику. А была у того жена, именем Каллиника, красавица невиданная. Часто Каллиник из дома уезжал – то на охоту, то дань собирать, то с чудью воевать – в те времена много с чудью разной воевали. И вот, только уедет Каллиник из дома, как является ночью к жене его молодец – обликом точь-в-точь как воевода. Она увидит его, обрадуется, думает, муж из похода воротился, а наутро глядь – нет никакого мужа. Раз так было, другой и третий. Стала Каллиника сохнуть и вянуть, уж и от красоты её мало что осталось. Решила она тогда посоветоваться с одной мудрой старушкой. Та ей и говорит: как придёт к тебе снова этот бес, ты изловчись и крест ему накинь на шею – увидишь, что будет. Она так и сделала. Как явился бес, начал к ней ластиться, а она ему на шею крест и накинула. Сразу он зашипел по-змеиному, смотрит она – где был добрый молодец, стал лютый змий. Она бегом оттуда. Бежит по дороге, змий за нею летит, гром гремит, туча молниями пламенными палит. Глядит Каллиника – у росстани кузница стоит. А работали в той кузнице два брата, звали их Кузьма да Демьян. Она забежала и дверь захлопнула. Прилетел змий, стал в кузню ломиться. Кузнецы ему и говорят: пролижешь дверь насквозь, твоя будет боярыня. Стал змий дверь железную лизать. Лизал, лизал, утомился. Только пролизал дыру – кузнецы его хвать клещами железными за язык, да как начали его в два молота охаживать! Еле вырвался от них змий да убежал назад в озеро. А они Каллинике говорят: нынче тебя спасла Божья воля, да только не отстанет от тебя змий, если будешь в миру жить. Она и решила в монастырь уйти. Постриглась в монахини в Новгороде, у Святой Варвары, пожила там, и за добродетельную её жизнь стали её просить сёстры игуменьей стать. Да она не захотела, взяла двух сестёр, с кем был дружна, и ушла в леса дремучие на Хвойне-реке. Здесь для неё Мирогостичи монастырь поставили, стала она там жить. И слух о ее добродетельной жизни и силе чудотворной по земле пошёл, и стали к ней со всей Великославльской волости сходиться девицы и жены. Там она и умерла, и с тех пор в Усть-Хвойском монастыре всегда игуменьей кто-то из Мирогостичей состоит.
– И сейчас? – спросил Воята, припомнив, что Нежата Нездинич упоминал при нём об Усть-Хвойском монастыре.
– И сейчас, вестимо. Игуменья Агния – Нежате Нездиничу племянница родная, ты разве не знал?
– Но к ним-то уж змий не летает? – вполголоса пошутил Воята.
– В монастырь силе бесовской его ходу нет. А мать Агния – великой мудрости женщина, и всякого человека будто насквозь видит. У нас многие к ней за советом ездят, если дело важное.
Тем временем поспел перевар, девки стали угощать жареной и варёной курятиной, веселье пошло своим чередом. Воята то и дело невольно возвращался мыслями к услышанному. О матери Агнии он слышал ещё в Новгороде – от Нежаты Нездинича. Тот ему говорил – если что, обращаться к ней за советом. Может, она и впрямь что посоветует в его поисках Панфириевых книг? На всякой обедне, как приходила пора читать соборные послания, Воята сожалел, что Апостола у него нет, да и Псалтирь бы пригодилась. Может, ей что-то известно, раз уж она такая мудрая и людей насквозь видит? Но при всей своей храбрости Воята не решался докучать своим делом высокородной женщине, да ещё монахине, да ещё игуменье.
Да и откуда ей что-то знать о книгах? Может, она что-то знает о том змие… который Смок… Но змий уж верно о святых книгах ничего не ведает.
Но почему тогда отец Македон ему показал их? Не означает ли это, что как раз во власти змия Смока они и находятся? Да нет, не может быть! Где ему, бесу летучему, на святые книги лапу наложить?
Одолеваемый этими мыслями, Воята был задумчив весь вечер и не замечал, какие призывные взгляды на него бросают и бойкая Юлитка, и рассудительная Хритания, и разговорчивая Офросинья, и прочие сумежские девки. И вспоминалось ему:
- О душа моя!
- Почему лежишь?
- Почему не встаёшь?
- Почему не молишься
- Господу своему день и ночь?
- Зло видючи,
- А добра не видючи,
- Чужому добру завидуючи,
- А сама добра не творячи?
Лежать – оно легче всего…
Незадолго до дня Михаила Архангела Воята с самого утра заметил особую суету в избе. Едва успел умыться, как явились все три жившие в Сумежье Параскевины дочки: Неделька, Анна, Пелагея. С собой они привели трёх-четырёх девчонок из числа своих старших дочерей – а может, те сами увязались, поскольку, судя по их нытью, ожидалось что-то такое, на что они не будут допущены. Явившись, гостьи сразу принялись за уборку. У бабы Параскевы всегда была чистота, но нынче требовалось навести особую красоту.
– Что за праздник-то? – спросил Воята, одеваясь у двери, чтобы идти к Власию.
– Десятая пятница нынче, – сообщила ему Неделька со снисходительным видом, будто это знает и малое дитя.
– Что ещё за десятая пятница?
– Пятница Параскева! – пояснила Анна.
– Так именины матери вашей были уже. Разве снова?
– Матушка! – окликнула Анна Параскеву. – Ты не рассказывала парамонарю нашему про двенадцать пятниц?
– Так он разве не знает? – Баба Параскева вынырнула из своего большого ларя, в котором рылась вместе с Пелагеей.
– Не знает. Думает, у тебя нынче сызнова именины.
– Нынче – Десятая пятница, Параскева! – Хозяйка подсеменила к Вояте с каким-то рушником в руках. – Из двенадцати пятниц старшая, будем нынче её чествовать, и супредки[27] зачинать.
– Супредки начинаются?
Воята начал соображать: нынче какой-то бабий праздник. Выпал снег, и в Новгороде, пожалуй, мать и невестка, Маринушка, уже ходят к боярыне Манефе по вечерам прясть.
– Пятница Параскева супредки начинает, а прочие её чествуют, – добавила Анна, не слишком прояснив для Вояты суть дела.
– Не понимаю я ваших бабьих дел!
– Ужо вечером сам увидишь, – обнадёжила баба Параскева.
– Позволишь ему быть? – удивилась Неделька. – Мы нынче парней-то не зовём.
– Пусть поиграет нам, вот и не будет лишним. Поиграешь, сыне?
– Отчего же, поиграю. Пойду, бабоньки, а то отец Касьян хватится.
Весь день в избе что-то варили, жарили и пекли. Воротясь от вечерни, Воята застал такое пышное собрание, что побоялся войти во двор. С улицы было слышно пение женских голосов, и он было удивился: осенью и в начале зимы пора для песен не подходящая. Прислушавшись, разобрал: пели не весёлое, а скорее что-то страшное.
- Молодица-жена рукодельна была,
- Рукодельна была, рук не покладала.
- Всё бы прясть, всё бы шить,
- Всё бы белье золить.
- Да не чтила она святу пятницу,
- Она пряжу пряла в святу пятницу,
- Она кросна ткала в святу пятницу,
- Она белье золила в святу пятницу.
- Да явилась ей жена страховидная,
- Худо платье на ней, всё изодранное,
- Худы косы у ней, все растрёпанные,
- Бело личико у ней всё исколотое,
- Всё исколотое, окровавленное,
- А по личушку её горьки слёзыньки текут.
- Говорит она жене, горько плачется:
- Недомыка[28] ты така, непочетница!
- Ты колола меня да острым веретеном,
- Порошила ты мне очи ясные,
- Растрепала ты мне косы русые,
- Изорвала ты мне платье шёлковое,
- Не уваживала ты святу пятницу!
- Уж я спицу возьму – всю тебя исколю.
- Веретенце возьму – всю тебя изобью…
Двор был полон нарядно одетыми женщинами всех возрастов. Воята не знал, как между ними протолкаться и вообще стоит ли, пока его не увидела какая-то из бабиных внучек и за ним не пришла Пелагея. В избе было не просторнее: собралось три десятка женщин – от старух до молоденьких невест. Все сидели по своим стаям: девушки-невесты, молодки, бабы, старухи, возглавляемые хозяйкой, бабой Параскевой. Все семь её дочерей были здесь, даже те четыре, что жили в других деревнях и погостах. «Они б на пение в таком числе собирались!» – мысленно отметил Воята, знавший, что церковь в будний день посещало куда меньше народу.
Стол был накрыт, уставлен угощениями, что готовились весь день; тут и пироги, и печёные куры, и яйца, и каши, а в середине стояла резная деревянная икона Параскевы, снятая ради такого случая из красного угла, вокруг неё горели свечи. В Новгороде Воята слышал о таких бабьих праздниках, но устраивала их Нежатина боярыня Манефа, а Вояте, как прочим мужчинам, там делать было нечего. Здесь он тоже был единственным парнем и чувствовал себя весьма неловко, пожалел даже, что пришёл. Хотел уйти – лучше у Павши или Сбыни пересидеть. Но тут его заметила баба Параскева, замахала рукой, послала какую-то девчонку проводить, и Вояту усадили на ларь в углу, где рядом на стене висели его гусли. Бабы и девки провожали Вояту любопытными взглядами, и он был ряд спрятаться за спины.
На лавке перед столом сидела баба Параскева в окружении своих дочек по старшинству: справа Неделька, Анна, Пелагея, слева Средонежка, Марья, Маремьяна, Мирофа. Младшая вышла замуж только минувшей осенью, перед приездом Вояты, и носила ещё пышный убор молодухи; наряды остальных тоже свидетельствовали об их умении и усердии в прядении, тканье и шитье. Крашенные в красный цвет вершники обшиты тканой тесьмой, полосками цветного шелка, белёные сорочки с вышивкой у ворота. На шёлковых очельях блестели серебряные кольца, на груди – бусы из яркого стекла.
Старая Ираида встала из середины старушечьей скамьи и поклонилась Параскеве:
– Благослови, матушка, начинать, святую пятницу чествовать!
– Благослови Боже, и Пресвятая Богородица, и дочь её, пресвятая Параскева, непорочно рождённая! Господу Богу помолюся, святой Пречистой поклонюся, и святому Николе, Троице, и Покрове-Богородице, и ясному месяцу, праведному солнышку и частым звёздочкам, и всей святой силушке небесной!
Все перекрестились, кланяясь резной иконе Параскевы на столе. От движения воздуха свечи мигали, и казалось, святая кивком отвечает на приветствия.
– Жены-красавицы, а вы кто такие? – вслед за тем обратилась баба Параскева к собственным дочерям.
И не успел Воята удивиться, как одна из молодых баб, сидевших на краю продольной лавки близ младших Параскевиных дочерей, встала и поклонилась:
– Я – Федора, первая пятница, рекомая Безумица.
– Что же ты принесла?
– Прихожу я на первой неделе Великого поста, и который человек в мой день постится, тот внезапною наглою смертью не умрёт. Дом и домочадцев от хворей-недугов оберегаю, жёнам здоровых младенчиков посылаю.
Она снова поклонилась и села, взамен встала другая молодая женщина рядом с ней.
– А ты кто?
– Я – Марья, вторая пятница, Благовещенская. В мой день Каин Авеля убил, и который человек в мой день постится, тот от напрасного убийства, от меча, от стрелы, от копья убережён будет. В дому достаток сберегаю, от вдовства раннего, от вора лихого охраняю.
– Я – Анна, рекомая Светлая, и Красная, и Страшная, третья пятница! – заявила Мирофа, и Воята удивился в своём углу: с чего это младшая Параскевина дочь назвалась именем своей старшей сестры, второй по возрасту. – Прихожу я на Страстной неделе Великого поста. Кто в мой день постится, тот человек от мучения вечного, от разбойника и от духа нечистого спасён будет!
– Я – Макрида, – вслед за нею встала её сестра Маремьяна, – четвёртая пятница, Вознесенская. Кто в мой день постится, тот человек без Тайн Христовых не умрёт, в воде не утонет. Жёнам искусство рукодельное приношу, мужьям в трудах прилежание и всякие прибытки.
– Я – Варвара, зовомая Зелёной, пятая пятница, – сказала её сестра Марья. – Кто в мой день постится, тот от смертных грехов сохра́нён будет, проживёт до седой бороды, телом будет крепок и здоров.
От младших к старшим, дочери бабы Параскевы называли себя другими именами: Средонежка – Катериной, Пелагея – Ульянией, Анна – Соломией, Неделька – Анастасией, и вот она единственная сказала правду, потому что по-крещёному имя Недельки было Анастасия. Вслед за нею баба Параскева тоже назвала собственное имя (её спросила о нём Неделька), но объявила себя десятой пятницей, и при этом все прочие ей поклонились. Потом ещё одна женщина преклонных лет, сидевшая со стороны хозяйки на продольной лавке, назвала себя Маланьей-Колядой, одиннадцатой пятницей, а другая старуха – Марфой, двенадцатой пятницей. Все они требовали поста и обещали взамен духовные блага, здоровье, лад и достаток в доме.
Где-то на середине, услышав голос Варвары по прозвищу Зелёная, Воята стал припоминать, что нечто похожее уже встречал. Несколько раз он краем уха слышал, как девочки, играя во дворе, называют себя разными именами, прибавляя «пятница такая-то» – от первой до двенадцатой, а когда одна объявляет себя «десятой пятницей», ей все прочие кланяются. Постепенно яснели смутные давние воспоминания: ещё отроком читывал он в архиепископских книгах старинное сказание греческое, как некий христианин спорил с жидовином, чья вера праведнее, и тот жидовин думал христианина посрамить вопросом, знает ли он что-нибудь о двенадцати священных пятницах. Из этого сказания Вояте лучше всего запомнился сын того жидовина, выдавший тайну, а отец его потом зарезал. Дескать, жидовины тайну двенадцати пятниц узнали из свитка, который отняли у некоего апостола, самого апостола умертвили, свиток сожгли, и дали клятву крепкую от христиан сию тайну хранить… А бабы почитают двенадцать пятниц как святых жён. Даже имена им дали, а Параскеву Иконийскую, мученицу, поставили над ними старшей!
Пока Воята вспоминал – каменный подклет владычьих палат, тяжёлые старинные книги, дьякон Климята, обучавших их с братом Кириком толкованию разных премудростей, – бабы пригласили двенадцать пятниц угощаться. Потом попросили благословения зачинать пряжу. До этого дня Воята не видел, чтобы баба Параскева пряла, и теперь она первой начала. Воята снял со стены гусли и поиграл ей, повторяя услышанную во дворе песню про явление некой непочтительной бабе разозлённой Святой Пятницы. Спряв немного, баба Параскева передала веретено Недельке-Анастасии, та – Анне. Воята играл, пока все, кто тут был, не спряли понемногу. Как всегда, ему казалось, что звуки бронзовых струн наполняют воздух неприметным золотистым сиянием. Струнный перебор, движение веретена – всё сливалось в единый лад, сплетая золотые нити бытия в праздник старшей пятницы, и казалось, из этих нитей, будто тянет их сама Пресвятая Богородица, будет соткана доля всего мира земного.
По-настоящему работать в пятницу нельзя – Святая Пятница огневается и веретеном истыкает, но в священный день надо положить начало долгим зимним работам. Веретено убрали в красный угол, женщины поклонились хозяйке и стали расходиться.
– Как же его звали-то? – сказал Воята, сидя на прежнем месте и неспешно перебирая струны. – Того христианина… Ельверий… Елеферий… что с жидовином о мудрости и вере спорил. От них пошла молва о двенадцати пятницах.
– Может, от жидовинов, а только у нас на Руси издавна двенадцать пятниц почитались. – Баба Параскева присела, пока её дочери и внучки прибирались в избе и собирали остатки угощения, чтобы снести завтра на жальник. – Всякий месяц, как приходило полнолуние, чествовали пятницу, и назывались эти праздники – Бабы. А перед ними в четверг – Деды. Эти двенадцать пятниц зовутся годовыми, а ещё великими. А есть ещё пятницы малые, их у кого девять, у кого десять, их считают после Пасхи. Самые главные из них – девятая и десятая.
– Их тоже по именам зовут? – Воята улыбнулся, не переставая тихонько наигрывать.
– Да кто как. В иной деревне по именам кличут, в иной по прозвищам. Восьмая малая пятница зовётся Русальей, а девятая – Девятуха. Седьмая малая зовётся Злой…
Ох вы девки наши, пятницы,
– задумчиво запел Воята, наигрывая плясовую,
- Вас не пахано, не сеяно,
- Да вас много уродилося,
- Да вас много уродилося,
- По всем лавочкам насажено…
- В красно платьице наряжено…
Мирофа подхватила:
- А кто будет непочётлив мне,
- Того спицею истыкаю,
- Кудри русые повыдергаю!
Устрашившись, Воята ещё раз провёл по струнам и повесил гусли на стену.
После именин десятой пятницы вечера пошли весёлые: теперь сумежские девки что ни день собирались к бабе Параскеве прясть, а за пряжей болтали, рассказывали всякое, пели, играли. В Сумежье был обычай: когда приступала жатва, каждая семья, где имелась девка, сжинала один рядок ржи в пользу хозяйки той избы, что зимой служила «беседой», и этим хлебом баба Параскева жила потом всю зиму. Молотили эту рожь тоже девки и парни, и работа превращалась в веселье с песнями и даже плясками. Заметив, что Воята привёз из Новгорода гусли, девки, осмелев, всякий раз просили его поиграть, и вскоре он уже совершенно среди них освоился и всех узнал по именам.
За девками потянулись парни. До того Воята знал всего двоих-троих, сошёлся только со Сбыней и Русилой, чьи старшие братья были Параскевиными зятьями, из-за чего они Вояту считали кем-то вроде свояка. Когда сгущались влажные осенние сумерки, начинали собираться девки; каждая приносила с собой прялку. Они рассаживались по скамьям, но горела только одна лучина в переднем углу. Позже появлялись парни; входя, каждый кланялся, говорил: «Здравствуйте, красные девушки!» – сначала вглядевшись, а есть ли здесь кто, поскольку при единственной лучине ничего почти не видел. К облегчению, из полумрака раздавалось: «Здравствуй, добрый молодец». Бывало, что парень вынимал из-за пазухи свечку, зажигал от лучины и ставил перед той девушкой, которая ему нравилась – чтобы светлее было прясть. Перед Юлиткой обычно горело по две-три свечи. Разговоры, а то и всякие игры затягивались до полуночи, и Воята уже не боялся, что заскучает зимой.
К тому времени санный путь установился уже прочно, и через два дня после «пятницы Параскевы» у отца Касьяна для Вояты нашлось ещё одно дело: привезти десятину с погоста под названием Иномель. Лежал он, с его тремя деревнями, в низовьях реки Вельи, и для поездки отец Касьян давал Вояте сани и лошадь, благо реки встали уже надёжно. Сам он в это время собирался съездить в другой погост, и пения у Власия всё равно не будет.
До Иномеля ехать было вёрст тридцать.
– Если засветло не доберёшься, просись ночевать в Турицы или Мураши, – наставлял отец Касьян. – Лошадь зря не томи, да и сам… опасайся.
Кого опасаться, отец Касьян не сказал, но и так было ясно. Того, что обликом словно облако ходячее, а то и зверь лютый. У Вояты был с собой топор, а ещё Павша одолжил ему рогатину. Как знать, поможет ли она против злого духа, владыки всех упырей и оборотней, а Воята в душе больше полагался на Божье слово. «Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока: в крове крил твоею покрыеши мя», – повторял Воята слова псалма, веря, что сила Господня защитит его лучше, чем острое железо.
День ранней зимы выдался ясный, лошадь шла хорошо, заснеженный лес тянулся назад по берегам Нивы. Через пять вёрст Воята проехал Лепёшки на левом берегу, ещё вёрст через семь – Мокредь. Тут его заметили, остановили, зазвали в избу – время было обеденное. Пока ели, набилось ещё человек пять соседей – все слышали о побоище в Лихом логу, и всем хотелось от главного лица узнать, где правда, а где слухи. Но задерживаться Воята не мог и, покончив со щами и поблагодарив хозяев, тронулся дальше.
Деревню Мураши, на правом берегу, Воята проехал, ещё пока не село солнце. Ночевать там ему не очень хотелось – из Мурашей он пока ни с кем познакомиться не успел, и решил, понадеясь на Бога, ехать дальше, чтобы до ночи успеть в Иномель.
Солнце скоро спряталось, облака потемнели. Воята погонял лошадь, разглядывая звериные следы на свежем снегу. Раз или два попались волчьи, невольно приводя на память нехорошее – скрюченное тело Меркушки в кустах, такие же волчьи следы возле него, на пятачках влажной глины… На ходу вглядываясь в лес – не видно ли какого опасного движения? – Воята приметил широкую отмель на правом же берегу, а на ней высился огромный крест из потемневшего дуба.
От удивления Воята придержал лошадь. Крест на вид был весьма стар и слегка покосился, хоть и был внизу укреплён срубом, набитым крупными камнями. В нижней части креста имелась надпись. Одолеваемый любопытством, Воята сошёл с саней, приблизился к кресту и счистил варежкой снег. Но, как ни старался, не смог разобрать ничего, кроме слова «Господь» под титлом и вроде как «чудеса твоя».
И тут его осенило: да это же Усть-Хвойский Благовещенский монастырь! Крест обозначает начало тропы от реки, а к тому же защищает место, где монахини берут воду и стирают.
А что, если… Искушение набросилось, как зверь из кустов. Совсем рядом же… Он, конечно, не говорил отцу Касьяну, что хочет повидаться с матерью Агнией, но разве это что-то запретное? Чего худого в том, чтобы завернуть в монастырь? Отец Касьян допускал, что засветло он до Иномеля не доедет…
Мать Агния может что-то знать о книгах – эта мысль вытеснила сомнения. А если и не знает, так посоветует что-нибудь толковое. Взяв лошадь под уздцы, Воята повёл её со льда реки мимо креста. Во льду виднелась прорубь у мостков, а близ неё отпечатки небольших ног, явно женских, и следы от полозьев санок. Вдоль этих следов Воята и поехал.
Лес начинался прямо от реки, тропа терялась за стволами. Из-за деревьев долетел гул железного била. Воята глянул на небо: судя по всему, в монастыре начиналась вечерня. В мыслях сам собой зазвучал пятидесятый псалом – «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей», – что Воята привык читать про себя ещё в Новгороде, когда подростком начал помогать отцу и звонить в било перед вечерней. Кто-то сейчас читал эти строки в монастырской церкви, – тамошний парамонарь, а скорее, монахиня, исполняющая его обязанности. Сейчас, пожалуй, ни с кем поговорить не удастся. Понимая это, Воята всё же ехал вперёд – разбирало любопытство хотя бы взглянуть на монастырь.
До того он знал только новгородские обители – с белокаменными храмами, за такими же стенами. По привычке высматривал нечто подобное, но явь обманула его ожидания. Тропа привела к бревенчатому тыну с воротами, над воротами виднелась вырезанная из дерева «боженька» – Богоматерь с младенцем на руках, причём не с Иисусом, а с девочкой – Параскевой. Через тын Воята разглядел на широкой росчисти, прямо посередине, бревенчатую церковь – тоже из двух срубов, как Власий сумежский, и только шлемовидная главка с крестом, венчавшая крышу из дранки, выдавала, что же это такое. Справа и слева от неё виднелись ещё какие-то заснеженные крыши.
Возле ворот тоже висело било – нарочно для приходящих. Поколебавшись, Воята всё же взял привязанную рядом колотушку и стукнул – для того же и повешено. Он не очень-то рассчитывал, что сейчас, когда гудит било, созывающее монахинь на вечерню, его кто-то услышит и пойдёт отворять, но и уходить, посмотрев лишь на ворота, тоже не хотелось.
Тем временем начало темнеть. Небо посинело, облака стали густо-серыми, в близком лесу уплотнялась между стволами тьма. Полная луна повисла над вершинами – ясная, холодная, равнодушно-любопытная. Стало неуютно – Воята был один посреди леса, перед запертыми молчаливыми воротами. В женский монастырь его, мирянина, да ещё и мужчину, ночевать не примут, это Воята знал, но тишина, нарушаемая лишь холодным гулом била у церкви, молчаливый зимний лес, тёмное небо вдруг заключили его в объятия иномирности. Зря он задержался, лучше бы ему погонять лошадь, поспешая к ночи в Иномель… Иномель?[29] Уколола мысль: да тут и есть тот свет, куда ни поверни. От Сумежье такая даль… да и само Сумежье… Воята прожил в Великославльской волости уже несколько месяцев, но именно в этот миг ощутил, как далеко отсюда до белокаменного, солнечного Новгорода, лежащего на открытом просторе, на двух берегах широкой синей реки. Отсюда казалось, между Новгородом и этим пятачком перед глухо запертыми воротами не просто даль – их разделяет грань яви и нави.
И в этот самый миг, когда отчаяние толкнулось в сердце, раздался скрип – Воята аж подпрыгнул от неожиданности – и в воротах открылось оконце. Показалось лицо – безбородое, бледное, настороженное. Явно, что женское, мужчине тут и неоткуда взяться, и лишённое возраста, со строгим пристальным взглядом, оно снова навело Вояту на мысль о навях.
– Сохрани и спаси, Пресвятая Богородица! – Лицо в оконце испугалось встречи куда сильнее, чем сам Воята. – Ты кто таков?
– Я… – Он догадался стянуть шапку и поклониться. – Прости, мати! Воята я, из Сумежья, парамонарь у Святого Власия.
– Парамонарь Власия? – Лицо прищурилось. – От отца Касьяна?
– Да… то есть нет…
– Привёз чего?
– Мне бы мать Агнию повидать!
Лицо помолчало. Гул била за тыном смолк.
– Нынче не примет тебя мать игуменья, – уже мягче сказало лицо. – Вечерня, повечерие, исповеди у неё – до самой ночи занята. Завтра приходи, после утрени.
– Постой, мать! – крикнул Воята, видя, что она готова закрыть оконце. – Куда мне деваться нынче? Успею ли до Иномеля засветло – я в сих местах в первый раз! Где бы мне на ночь приютиться?
– К Миколке ступай. Бортник тут живёт поблизости, у него переночуешь.
– Где его сыскать?
– На заход обойди тын, там тропку увидишь. Версты две до него. Ступай с Богом!
Оконце затворилось. Не теряя время, Воята поворотил кобылу и поехал вдоль тына направо, огибая обитель с запада. Две версты – недалеко, он успеет, пока не наступит полная тьма.
Обогнув тын, Воята ещё проехал вперёд и увидел то, что следовало принять за тропу – щель, рассекавшую стену леса и уводившую на север. Сама тропа уже скрылась под снегом, но ширина её позволяла видеть направление. Не зная дороги, Воята осторожно правил между кустами, опасаясь наехать на корягу или яму. Ширина тропы была скромной – голые ветки кустов скребли по саням. Иногда сани потряхивало на скрытых под снегом сосновых корневищах. Лес по сторонам совсем почернел, так что глаз различал только ближайшие стволы, но полная луна висела точно над тропой, будто указывая путь, и это подбадривало. Хоть какой, а спутник! Скройся луна, без света в этой тьме и шагу не сделать! Казалось, пока небесная боярыня за ним присматривает, ничего худого не случится.
Лошадь вдруг сама, без понуканий, ускорила шаг. Воята было обрадовался, подумав, что ясный свет взбодрил и её, но потом заметил: кобыла фыркала, поводила ушами, будто отыскивая источник опасности, – что-то её тревожило. Воята пробовал заговорить с ней, успокоить, но Соловейка лишь набавляла ход, вскидывала голову и прижимала хвост. От этих признаков страха бессловесного существа, не знающего пустых выдумок, Вояту пробрало холодком. Не говоря уж об опасности мчаться очертя голову по незнакомой тропе, да ещё в сумерках.
Воята пытался сдержать лошадь, но она не слушалась. На повороте тропы он оглянулся – и увидел мелькнувшие за кустами жёлтые огоньки. Продрало морозом – глаза зверя были выше обычного, и ещё не увидев его целиком, Воята понял, кто его преследует.
Вот и дождался! Ужас всей Великославльской волости настиг и его – в такой дали от Сумежья, знакомых мест и надёжных пристанищ. Воята погонял лошадь, но та и сама мчалась изо всех сил. На неглубоком снегу сани мотало из стороны в сторону, то бросало на кусты, то толкало на стволы, и Воята едва уберегал лицо от хлёстких ударов. Налетишь так глазом на сучок!
То и дело он оглядывался, оценивая, близко ли враг, но разглядеть зверя ему не удавалось – тот будто нёс на себе тьму, за санями летело облако мрака, чуть темнее, чем окружающий мрак, и лишь жёлтые злые искры глаз горели в нём. Казалось, это у тебя в глазах темно, но протирать их было недосуг. В тишине лишь скрипели сани, фыркала на бегу лошадь, трещали ветки, ломаемые на ходу, и с каждым мгновением до Вояты всё прочнее доходило: он тут в лесу один, помощи ждать неоткуда. Не было и надежды, что это обыкновенный волк, привлечённый запахом лошади. В такую пору волки живут и охотятся стаей, но, сколько Воята ни бросал взглядов по сторонам, никаких признаков других зверей не находил. Радоваться было нечему – этот волк и в одиночку утащит в бездну. Мелькали мысли о Меркушке, об отце Македоне и многих других, ставших жертвами озёрного беса. Бес не показался Вояте в Лихом логу, но уж сам-то знал, кто отнял у него три десятка верных слуг. И пришёл – отомстить и найти нового слугу в бойком чужаке.
– Читай «Живый в помощи»! – взвизгнул над ухом тонкий девичий голос.
Но Воята не обратил внимания: все его силы были направлены на то, чтобы удержаться в бешено несущихся санях. Некогда псалмы вспоминать.
Топор! На дне розвальней в сене должен быть топор. Если его не выбросило в кусты на повороте…
От рогатины в таком положении не было толку – ею нужно орудовать двумя руками, но так Воята не удержался бы в санях. Стоя на коленях, одной рукой сжимая вожжи, Воята пошарил вокруг себя и с облегчением нащупал гладкую деревянную рукоять – от тряски топор унесло под самый борт. Он снова оглянулся – тёмное облако скачками неслось уже шагах в трёх позади саней. От него в лицо веяло колючим холодом.
И не успел Воята вновь повернуть голову и глянуть вперёд, как его вдруг подкинуло – лошадь, мчась почти вслепую, налетела на куст, дёрнулась, сани качнуло, так что Воята едва не вылетел. Одной рукой цепляясь за вожжи, другой он ухватил топор – и в этот миг зверь из тьмы прыгнул. На Вояту пахнуло жаром и холодом одновременно; громадный, как говорится, с телёнка ростом зверь метил в него, но от толчка саней промахнулся и упал брюхом на задок санного короба. Зубы щёлкнули возле самой ноги, и тут же Воята ударил топором поперёк морды.
Полулёжа, он не мог как следует замахнуться, но всё же удар достиг цели. Лошадь, восстановив равновесие, рванула вперёд в смутный просвет между деревьями. Сани пошли легко – зверь скатился с короба и сгинул во тьме. Воята, подложив топор под себя, чтобы его не выбросило, ухватил вожжи обеими руками. Они мчались, задевая кусты и стволы, подскакивая на сучьях и выступающих сквозь снег корневищах.
Постепенно усталая лошадь замедлила ход. Опасности она больше не чуяла, и это убедило Вояту, что Страхота и впрямь отстал.
Или убит? Когда появилась возможность, Воята осмотрел лезвие топора, но то ли все следы удара стёрлись о сено, то ли в призрачном звере не было настоящей крови – ничего не увидел.
Опомнившись немного, Воята стал придерживать лошадь.
– Я же тебе говорила: «Живый в помощи» читай, а ты не слушаешь! – плаксиво запричитал над ним тонкий голос Марьицы. – Едва поспевала я за тобой!
– Не до псалмов мне было! – выдохнул Воята. – Как меня самого зовут-то, не вспомнил бы – такой страх! Ну и куда нас беси занесли?
Он стал придерживать лошадь, оглядываясь. И до погони он с трудом различал узкую тропу, угадывая её больше благодаря просвету между деревьями. Теперь же сани шли по редколесью, меж мелких сосенок, по нетронутому снегу, и ничего похожего на тропу Воята при лунном свете разглядеть не мог.
За время погони его бросило в пот, а теперь пробрал озноб под кожухом. Хорошо, шапку не потерял – Воята вытер шапкой взмокший лоб и шею и вновь её надел. Ещё раз огляделся.
Где теперь искать тропу, избу Миколки-бортника? Вокруг темнота, редкие берёзы, а за ними угадывается густой лес. А тьма уже такая, что и в знакомой местности заплутаешь. Оставаться же здесь на ночь – верная смерть: если волки не съедят, так успеешь до утра замёрзнуть.
И едва Воята об этом подумал, как при свете луны впереди заблестел снег на крыше какой-то избы. От изумления Воята потянул поводья. Неужели нашёл? Неужели Бог вынес его прямо к Миколке?
Изба стояла посреди поляны, ни ограды, ни ещё каких-то строений Воята рядом не приметил, но, стой они чуть поодаль, он бы их во тьме и не разглядел. Придержав лошадь, Воята остановил сани у низкой двери, привязал вожжи у столба под крыльцом, постучал.
Изнутри никто не отозвался. Воята прислушался возле двери: было тихо. Постучал ещё раз, крикнул:
– Отворите, люди добрые! Микола! Меня из монастыря к тебе послали! Отвори Христа ради!
Никто не ответил, но по дрожанию двери Воята заподозрил, что она не заперта.
Осторожно надавил – раздался тихий скрип, дверь подалась внутрь. Из щели пролился тёплый свет огня, повеяло чуть дымным теплом.
После мрака и ужаса искушение оказалось неодолимым – Воята сильнее нажал на дверь и просунулся внутрь.
– Здоровья в избу! – крикнул он.
Никто не отозвался.
– Помогай Бог! – ещё раз попробовал Воята, переступая порог и оглядываясь, но никакого «Бывай здоров!» в ответ не прозвучало.
Воята прикрыл за собой дверь, чтобы не упускать тепло, ещё раз огляделся. И застыл. Изба была ярко освещена – на столе, на ларе, на оконце, даже на полках с горшками горели свечи. Стол в середине был уставлен посудой – горшки, миски, сковородки, туеса. Накрыто было очень богато – а уж какие угощения, что только в боярском доме в Васильев вечер увидишь. В середине, будто царь греческий на престоле, разместился крупный жареный поросёнок с мочёным яблоком во рту, по сторонам от него, как охранники, возлежали два гуся с коричневой корочкой. В большой миске – студень, стопа блинов на блюде источала пар, вокруг него водили хоровод горшочки со сметаной, мёдом разных цветов, ягодными вареньями, киселём. Из-под шитого полотенца застенчиво выглядывал уголок румяного пирога. В большой миске навалены были кучей жареные караси. Впереди всех – каравай хлеба и серебряная солонка, будто хозяин с хозяюшкой. Кринка кваса, а в начищенном медном кувшине явно что-то покрепче.
Оторопев, Воята разглядывал всё это богатство и не верил глазам. Даже прознай бортник Миколка заранее о госте, никак он не смог бы приготовить такой пир. Ждали тут, как видно, вовсе не Вояту. Но кто ждал?
– Эй… господа хозяева? – Воята снова огляделся, внимательно рассматривая каждый угол, печь, лавки, даже полати. – Покажитесь! Я не злодей, не разбойник, я парамонарь новый Власьевский, из Сумежья, а сюда послала меня… из монастыря послали на ночь приюта поискать. Тут же не… не Миколка живёт?
Утварь отвечала безмолвием. Запахи горячей жирной еды – запечённого мяса с чесноком и подливами, свежего хлеба и пирогов – били в ноздри и сводили с ума. Воята весь день, с раннего утра, не ел по-настоящему, только перекусил по пути хлебом и салом. Стол тянул к себе. Для кого же это приготовлено, как не для него – других гостей тут нет!
– Ничего не трогай! – предостерёг встревоженный голос Марьицы.
Воята сделал несколько осторожных шагов мимо стола. Чем больше он приглядывался к избе, тем ярче проявлялось богатство убранства: шитые шелком и мелким жемчугом покрышки на ларях и лавках, рушники на стенах, будто здесь ждали невесту либо покойного. На стенах висели кафтаны разноцветного шёлка, издали похожие на людей, хозяев дома, но безголовых и безмолвных. Горшки на полках выпятили покрытые цветной поливой круглые животы, среди них блестели медные и даже серебряные кувшины и чаши. Всякую деревянную мелочь, вплоть до ложек на столе, украшала искусная резьба.
Один ларец оказался открытым, и, бросив в него взгляд, Воята невольно присвистнул. В ларце горкой лежало всякое узорочье: жемчужные снизки, серьги с длинными подвесками из самоцветов, кованые узорные обручья. Перстни с красными, синими, жёлтыми камнями лежали россыпью, будто ягоды. Всё это переливалось блеском, перемигивалось острыми искрами.
Это было уж чересчур. Воята потряс головой и ещё раз огляделся.
И вздрогнул. В противоположном углу от него появился некто… Было подумал – ещё один кафтан, только белый, но нет… Моргнул, и в глазах прояснилось. Некто выступил из мрака и стал виден совершенно отчётливо.
