Нескучная наука. Из истории античной философии
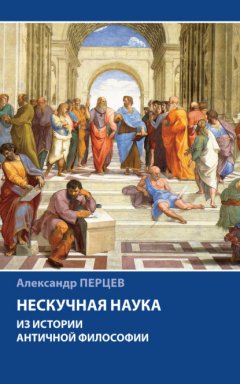
Вместо предисловия
Философия как веселая наука
«Странное дело, но в наш век философия, даже для людей мыслящих, всего лишь пустое слово, которое, в сущности, ничего не означает; она не находит себе применения и не имеет никакой ценности ни в чьих-либо глазах, ни на деле. Полагаю, что причина этого – бесконечные словопрения, в которых она погрязла»[1]. Как ни удивительно, но это сказал не наш современник. Это сказал в XVI веке выдающийся французский мыслитель Мишель Монтень (1533–1592). Сей веселый аристократ мог позволить себе не заниматься научным трудом. Наука для него была любимым развлечением, а потому писал он не в соответствии со стандартами, а легко и непринужденно. Родившись в своем фамильном замке, он подрос и некоторое время побыл юристом, потом продал юридическую должность (в то далекое время юридические должности продавались!) и принялся писать книгу «Опыты».
Мишель Монтень (1533–1592)
Слова, с которых мы начали, взяты из этой его книги, и, несомненно, они наполняют нашу душу надеждой. Кому-то может сегодня казаться, что для философии наступили последние времена, что она никогда еще не казалась столь бесполезной. Однако такие времена на протяжении двадцати шести веков ее существования уже были. И сегодня, спустя более четырех столетий со дня смерти Монтеня, философия снова расцвела пышным цветом.
Философия будет цвести и в будущем. Но это произойдет лишь в том случае, если она сумеет проделать то же самое, что уже было проделано ею в аналогичной ситуации, в XVI веке – если она сможет вспомнить, что она – как говорил Ницше, веселая наука, и отделит себя от науки унылой. Тогда, в XVI веке, философии это удалось, и три последующих столетия – семнадцатое, восемнадцатое и девятнадцатое – стали столетиями величайшего расцвета философии. Философы превратились во властителей дум. Труды их читались не только в хижинах, но и во дворцах, изучались гуманитариями и технарями-естествоиспытателями.
«Глубоко ошибаются те, кто изображает ее недоступной для детей, с нахмуренным челом, с большими косматыми бровями, внушающей страх. Кто напялил на нее эту обманчивую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего другого столь милого, бодрого, радостного, чуть было не сказал – шаловливого. Философия призывает только к празднествам и веселью. Если пред вами нечто печальное и унылое – значит, философии тут нет и в помине … Но так как тем мнимым философам, о которых я говорю, не удалось познакомиться с этой высшею добродетелью, прекрасной, торжествующей, любвеобильной, кроткой, но, вместе с тем, и мужественной, питающей непримиримую ненависть к злобе, неудовольствию, страху и гнету, имеющей своим путеводителем природу, а спутниками – счастье и наслаждение, то, по своей слабости, они придумали этот глупый и ни на что не похожий образ: унылую, сварливую, привередливую, угрожающую, злобную добродетель, и водрузили ее на уединенной скале, среди терниев, превратив ее в пугало, устрашающее род человеческий»[2]. Так писал великий Монтень, призывая различать философию веселую и философию унылую. Попробуем научиться этому и мы – время давно подоспело. Что правда, то правда: пугало на скале-постаменте еще никогда в истории не было таким жутким и таким смешным.
Итак, философия как нескучная, веселая наука есть прямая противоположность философии как науки унылой. Унылая наука не внемлет предостережению другого великого француза, Вольтера: «Хочешь быть скучным – расскажи все, что знаешь!» и без устали дает ответы на все возможные вопросы, даже на те, которые ей никто не задает, так что приходится заниматься самообслуживанием. Она во что бы то ни стало стремится выдать себя за окончательную и всепобедительную «общую теорию всего» (С. Лем). Но похвальба собственной мощью всегда считалась верным признаком слабости. По этой, а также по ряду других причин, о которых мы скажем позже, философия как унылая наука не пользуется популярностью в народе. Ей приходится навязывать себя ему, полагаясь не на собственную силу, которая отсутствует, а на силу государства, с которым она заключает альянс.
Веселая наука, напротив, не стесняется сомневаться и задавать вопросы. Причем сомневается она именно в том, что кажется предельно самоочевидным. Ее сомнение, однако, есть сомнение особого рода: оно не повергает человека в уныние и не заставляет его опускать руки. Это сомнение сообщает человеку жизненный задор как уверенность в собственных силах, совершенно необходимую для всякого успешного дела. Философия как веселая наука служит жизни, выступая в роли санитара идеологического леса.
Тот же Монтень однажды сказал, что «философия начинает с удивления, продолжает исследованием и заканчивает незнанием». Он был большой оригинал, этот мсье Мишель Монтень.
Итак, уясним вслед за Монтенем, что всегда существуют не одна, а две философии: одна – нудная и скучная, а другая – веселая и жизнерадостная.
От тоскливой, стандартизированной философии воротит всех без исключения – кроме интеллектуальных мазохистов, с наслаждением изучающих ее, и интеллектуальных садистов, ее преподающих.
Веселая философия, наоборот, завоевывает всеобщую любовь, поскольку поддерживает каждого человека в жизни.
В общем, эта книга и есть попытка поговорить о философии как о науке веселой и совсем нескучной. Блестящий пример такой науки – античная философия, а потому она – главный герой книги.
А начнем мы, пожалуй, с того, что попробуем понять, что же это вообще за наука такая – философия?
Глава 1
Что это такое – философия?
Скажем сразу: нет и не может быть какого-то одного определения философии, которое устроило бы всех философов и охватило бы все философские учения, созданные за двадцать шесть веков.
Тем не менее преподаватели на экзаменах такое определение философии спрашивают.
Что они хотят услышать в ответ?
По всей видимости, привычное для них определение из учебников, по которым они учились в молодости:
«Философия – это наука о наиболее общих законах природы, мышления и общества».
Но тут надо учесть, что в ту пору, когда они учились, в СССР существовала только одна философия – диалектический и исторический материализм (в сокращенном виде – диамат и истмат).
Все остальные философии признавались неправильными.
Мыслители прошлого еще не дозрели до диамата и истмата. Их можно извинить: больно уж в ограниченных обществах они жили.
Не заслуживали извинения те современные узколобые типы, которые жили на Западе и знали о существовании диамата и истмата, но упорно не желали признавать его высшей истиной. Понятное дело, такая их позиция определялась злобным упорством и защитой интересов буржуазии.
Одним словом, до диамата и истмата настоящей философии еще не было. А с созданием диамата и истмата весь остальной мир должен был бросить свои философские глупости и усвоить эту передовую советскую философию.
Именно она, единственно верная и общеобязательная философия диалектического и исторического материализма, и описывалась приведенным выше определением:
Философия – это наука о наиболее общих законах природы, мышления и общества.
Это определение, подходящее только к диалектическому и историческому материализму, ни к одной другой философии не подходит.
Во-первых, приблизительно половина всех философов в мире ни в коем случае не согласится, что их философия – это наука. Наука подгоняет все под общие законы: для нее один электрон в любом месте Вселенной идентичен другому электрону в любом другом месте. Попробуйте рассматривать точно так же людей, приравнивая их друг к другу, – и вы станете чудовищем антигуманизма, а также наживете массу проблем. Словом, половина философов – а в особенности русских дореволюционных – решительно отказалась бы считать философию наукой.
Во-вторых, философию ни в коем случае не стали бы считать наукой и представители так называемых «точных дисциплин». Они тут же прицепились бы к выражению «наиболее общие законы». Значит ли это, что физика, химия и тому подобные, вплоть до паразитологии, изучают менее общие законы, чем философия? Что, интересно, это за законы такие? Все это – лишь фантазии философа, ни разу не бывавшего в лаборатории. В своих фантазиях он, видимо, поднимается на вершину самой высокой горы и смотрит, как далеко внизу, сидя на холмиках, окидывают открывающиеся им пейзажи представители «частных» или «точных» наук. Экие пустые грезы! Смеясь над ними, Станислав Лем и придумал «общую теорию всего», которой занимался один из его героев. Писатель явно намекал на философию!
В-третьих, практически невозможно найти философа, который одинаково бы интересовался природой, мышлением и обществом.
Тот, кто посвятил себя изучению природы, сознает, что человек – лишь микроскопическая часть этой природы. Если все время существования мира принять за сутки, то человек как биологический вид появляется только на последней секунде этих суток. Изучать его мышление наряду с природой – все равно, что интересоваться мышлением какой-нибудь бабочки-однодневки.
Истинные исследователи природы, которые не мелочились и интересовались всем космосом сразу, не видели особых различий между человеком и букашкой или, к примеру, лопухом. Именно так поступал великий русский космист В.И. Вернадский. Он полагал, что космос поставил перед всеми живыми существами Земли задачу добывать энергию из глубины планеты и поднимать ее на поверхность, так что лопух и шахтер решают одну и ту же задачу – а корнями или отбойными молотками, уж и не так важно. Какие там при этом возникают мысли у шахтера и у лопуха, дело десятое.
Те философы, которые посвятили себя изучению мышления, абсолютно ни во что не ставят ни природу, ни общество, ведь это, как они полагают, всего лишь мыслительные конструкции, созданные людьми. «На самом деле», «в действительности» ни того, ни другого не существует. Все зависит от того, как мы сложим у себя в голове отдельные вещи и отдельных людей. Каждый делает это наособицу – и потому у каждого человека своя природа и свое общество.
Наконец, философы, которые посвятили себя изучению общества, не придают особого значения представлениям о природе и о мышлении. Они говорят, что такие представления в каждом социуме различны и меняются с изменением общества. Природа и мышление в представлении японцев – иные, чем природа и мышление в представлении русских. Русские не склонны стоять часами, уставившись на цветущую сакуру. Они больше любят сирень – если судить по песням. Любят, а потому ломают в самом цвету и преподносят девушкам. Но и мышление русских XVII века сильно отличается от мышления русских XX века. И природу они тоже представляют по-разному.
Таким образом, нет и не было ни одного философа, который в равной степени интересовался бы устройством природы, мышления и общества.
Так что определение философии как науки о наиболее общих законах природы, мышления и общества пора забыть – вместе с диалектическим и историческим материализмом, придуманным советской «красной профессурой».
И похоже, дело идет к тому.
Даже в Большом энциклопедическом словаре 1991 года – года переломного, последнего года существования СССР, КПСС, диамата и истмата в вузах и школах – этого определения уже нет. Вместо него – какая-то неразбериха и винегрет: «Философия… форма общественного сознания, мировоззрение, система идей, взглядов на мир и на место в нем человека…»[3]
Мировоззрение? Так ведь и религия – это тоже мировоззрение. И даже старушка из глухого села, никогда ничему не учившаяся, – она тоже обладает достаточно целостным мировоззрением. Но философия ли это?
Система идей, взглядов? Ни С. Кьеркегор, ни Ф. Ницше уже не создавали систем. А философы Античности их еще не создавали.
Системная философия существовала весьма недолго, в основном – в XIX веке и главным образом в Германии.
Так что же, отлучить по этой причине всех остальных философов от философии – как не создавших системы?
Авторы самых современных учебников уже и вовсе не дают никаких исходных определений философии. Они сразу же говорят, что в разные эпохи философия понималась по-разному. У древних китайцев – так, у древних индусов – этак, у греков – иначе. И – вплоть до современности.
Тут, правда, уже не разберешься, что такое философия вообще – можно знать только индийскую, китайскую, греческую, французскую, русскую и т. п. А вот что такое философия вообще – знать нельзя.
Как мы уже поняли, определить философию через ее предмет нельзя. Невозможно очертить круг тем, которыми должна заниматься философия, и сказать, что все остальное – не философия.
Потому что философия может заниматься всем, чем угодно.
В этом легко убедиться, изучая ее историю.
Философы рассуждали об устройстве космоса и о выборе жены, о познании истины и о кормлении детей, об устройстве животных и достоинствах живописи, о языке, о пиве, о правильном распорядке дня, о королях, о капусте и всякой всячине, какая только есть на свете.
Однажды французский философ, политолог, социолог и публицист Раймон Арон, беседуя с другом своим писателем и тоже философом Жан-Полем Сартром в парижском кафе о новом философском учении, феноменологии, указал на бокал с вином, который стоял перед ним, и сказал: «Феноменолог может говорить об этом бокале – и это будет философия».
На место бокала в этой фразе можно поставить, в принципе, любую вещь. И если беседовать о ней определенным образом, получится философия.
Глава 2
Как начиналась философия
Первые философы появились в Древней Греции – в середине VI века до нашей эры.
Это вовсе не означает, что древние греки были самыми умными и учеными. Некоторые народы к тому же времени накопили знаний ничуть не меньше, а то и больше.
Но представители всех остальных народов не пытались обосновать накопленные знания с помощью разума.
Одни из них говорили: «Эти знания верны, потому что их дали нам боги».
Другие ссылались на авторитет предков или особо почитаемых учителей: раз уж эти знания дали нам такие уважаемые люди, то проверять их разумом и дополнительно доказывать что-то было бы просто невежливо по отношению к ним.
Третьи – в особенности, древние египтяне – излагали свои знания примерно так же, как сегодняшние американцы пишут инструкции к соковыжималкам или утюгам: «Сделайте то-то, то-то, а потом – то-то». И никому даже в голову не приходило объяснить, почему надо делать именно так, а не иначе. Это была бы уже лишняя информация. Вилку шнура утюга надо воткнуть в розетку и поставить регулятор на цифру 2 – вот и все, что следует знать. А о природе электрического тока и прочей физике в инструкции сообщать вовсе не обязательно.
И только древние греки впервые стали рационально обосновывать свои знания и разумно объяснять, почему надо делать именно так, а не иначе. Сегодня им следуют все мало-мальски культурные люди, уважающие своих собратьев, и в этом – бесспорная заслуга эллинов.
Почему же именно древние греки впервые пустились в разумные объяснения, не ограничиваясь ссылками на авторитет богов, земных начальников и составителей инструкций?
К сожалению, мы никогда не узнаем этого точно. Некоторые прямо говорят о «греческом чуде», которое породило удивительную культуру, основанную на философии.
Но мы можем строить предположения.
Возможно, греки первыми стали размышлять и доказывать потому, что им больше других приходилось странствовать по разным землям, смотреть по сторонам и сравнивать различные мировоззрения, обычаи и менталитеты. А странствовать по свету грекам пришлось потому, что земля в местах их обитания не могла прокормить большое количество народа.
Греки, придя к южным морям, поселились на побережье или на островах. Море было рядом, и воды в нем было безмерно много. Но для полива полей соленая вода не годится. А речки в тех местах довольно маленькие и меленькие. Больших плодородных долин такие речки – в отличие от египетского Нила – создать не могут. Наоборот, они могут взбеситься во время сильных дождей – и смыть все скудные наносы в море, чтобы уже через несколько часов утихнуть и превратиться в безобидные с виду ручейки.
Иными словами, обширных земель у древних греков не было, и они не могли распространяться вширь, распахивая все новые и новые пространства, как это делали, например, славяне. Земледелием греки могли заниматься только в долинах рек, которые были невелики.
Поэтому греческие полисы были очень маленькими. Знакомый со школы перевод слова «полис» – город-государство – невольно вводит нас в заблуждение. Говоря «город», читатель-горожанин неосознанно представляет себе поселение таких масштабов, в которых он живет сам. Ну, не Москву, конечно, и не Санкт-Петербург, но – все-таки! А по нынешним российским понятиям, город – это, минимум, тысяч двадцать-тридцать жителей.
По таким меркам древнегреческие «города» – полисы не тянули даже на поселки городского типа. В некоторых из них проживало всего 40 человек. В идеальном государстве Платона должно было жить пять тысяч сорок человек[4].
То есть это было идеальное село-государство.
В нем жили земледельцы, которых могла прокормить скудная земля, орошаемая скудной водой. Всем остальным приходилось зарабатывать себе пропитание в иных краях: становиться воинами-наемниками в других странах (особенно в Египте) или заниматься морской торговлей.
Плавая на своих прекрасных кораблях, древние греки бывали в разных странах. Они сопоставляли и сравнивали, а, вернувшись в родной полис, делились наблюдениями. Выходило, что разные люди в разных местах делали все по-разному, и каждый народ утверждал, что именно так ему велели действовать боги. Иноземцы, которых греки называли варварами (передразнивая их неразборчивую речь – «бар-бар-бар-бар»), не размышляли, почему они действуют именно так. Они уверенно полагались на традицию: отцы, мол, делали так, деды так делали, и мы будем, потому что именно так велели действовать нашим предкам боги.
Но путешествующие греки не могли не заметить, что советы разных богов различались. Одни из таких советов были получше, другие – похуже, одни – поумнее, другие – так себе… Греки научились сравнивать рекомендации чужих богов и выбирать то, что получше. При этом, конечно, надо было разумно объяснять вначале себе, а затем и другим, почему следует выбрать именно это, а не другое.
Объяснения эти и легли в основу философии.
Греки решили: действовать надо именно так, а не иначе, потому что мы живем в мире, в котором правят незримые сущности. Эти сущности устроили мир именно таким, каков он есть, потому что вступили в связи между собой. А связь между двумя сущностями можно называть законом – существенной связью.
Лишь постигнув эти законы с помощью ума, можно действовать успешно.
Конечно, и сами древние греки тоже поначалу объясняли все в мире вмешательством богов. Но в середине VI века до нашей эры они перестали ссылаться на этих антропоморфных существ и принялись выяснять, какие же сущности лежат в основании мира.
А первыми это сделали мудрецы из города Милета – Фалес, Анаксимандр и Анаксимен.
Здесь надо сделать еще одну важную оговорку. Не стоит представлять себе древнегреческих философов в виде современных академических ученых, которые непрерывно умствуют и что-то обсуждают исключительно в своем высокоученом кругу, да еще на своем птичьем языке, не понятном простому народу.
В Древней Греции все обстояло совсем не так. Речи философов были понятны всем – если, конечно, этого хотели сами философы. Развлечений в Древней Греции было значительно меньше, чем сегодня, и новостей – тоже. Еще не существовало ни газет, ни радио, ни телевидения, ни Интернета. Поэтому два малознакомых древних грека при встрече, затрудняясь с выбором темы для разговора, вначале заводили речь о погоде и о видах на урожай, а затем уверенно переходили к обсуждению того, что на днях сказанул их поселковый философ.
Надо же! Он сказал, что детей своих лучше не заводить, потому что успех в деле воспитания редок, зато неудач и связанных с ними родительских страданий – масса; и если уж вам кого-то очень хочется повоспитывать, то лучше было бы взять на воспитание ребенка у друзей – тут хотя бы можно выбрать воспитанника себе по вкусу, а так придется воспитывать того, кто родится. Вдоволь посмеявшись по этому поводу, греки расходились, довольные друг другом.
Если же два философа сходились и начинали спорить, древние греки немедленно собирались вокруг них и слушали, испытывая истинное наслаждение. Они очень любили всякие состязания – любую борьбу, в которой определялся победитель (греки называли ее агон). Древние греки были очень азартным народом, а потому на древних олимпийских играх выявлялись победители не только в «спортивных» соревнованиях, но и в музыкальном искусстве, а также в искусстве ораторском. В каждом полисе тоже регулярно проходили состязания ораторов и мудрецов. Древние греки всегда знали, кто у них городской философ номер 1. А как же они могли бы это определить, если бы не понимали, о чем говорят и о чем спорят философы? Не понимали древние греки только одного мыслителя – Гераклита из Эфеса, за что и прозвали его Темным. Но такое исключение лишь подтверждает правило: всех остальных философов своих древние греки понимали вполне и с удовольствием внимали прекрасным речам.
У древних греков было странное представление: гражданином не может считаться тот, кто не способен произнести внятную речь в собрании с изложением своего мнения. Это они, положим, хватили через край. Прими мы такой взгляд на вещи, нам пришлось бы признать, что гражданином не является тот, кто не может выступить по радио и телевидению – не говоря уже о каких-нибудь дискуссионных трибунах. А таких людей, испытывающих страх перед публикой, в мире очень много.
Древние греки не пустили бы ораторов черномырдинской плеяды в свой мини-парламент, который назывался агора. Вернее, пустили бы – поскольку место там занимал тот, кто первым пришел с утра, – но быстро засмеяли бы и выгнали.
Греки уважали себя как граждан и ценили ораторское искусство, потому что умели хорошо говорить сами. (Даже рабов они называли – «говорящее орудие», а вовсе не «бессловесное орудие».) Ведь только тот, кто умеет прилично мыслить и говорить, сможет оценить искусство философа, который прекрасно мыслит и прекрасно излагает.
Итак, древнегреческий философ был известен всем. Его слова обсуждали в самой неформальной обстановке. Остроумные и мудрые изречения моментально разносились по полису. Но, несмотря на такую любовь к философии, произведения первых древнегреческих философов, живших и творивших до Платона, до нас не дошли. А, может, не дошли именно поэтому: греки, вероятно, думали – зачем же записывать и хранить то, что известно всем и каждому?
Платон был первым из древнегреческих мыслителей, от которого до нас дошло целое собрание сочинений. А от предшественников Платона и его учителя Сократа (их принято называть досократиками) сохранились только цитаты: более поздние мыслители, книги которых сохранились, приводили отдельные высказывания досократиков. Историк философии Диоген Лаэртский собрал, вдобавок, все жизнеописания древнегреческих мудрецов, где подлинные сведения были перемешаны с выдумками.
Теперь, наконец, уже пришла пора сказать о трех самых первых древнегреческих философах, которые жили в первой половине VI века до нашей эры в полисе Милет – Фалесе, Анаксимандре и Анаксимене. Фалес был учителем Анаксимандра, Анаксимандр был учителем Анаксимена, а поэтому всех троих принято называть представителями милетской школы.
Именно эти люди и стали искать ту сущность, которая порождает весь мир. Ту сущность, которая создает все отдельные вещи, ту сущность, откуда они исходят и куда потом возвращаются, когда гибнут. Эту сущность представители милетской школы считали первоначалом.
Аристотель писал о Фалесе и его последователях так:
Из первых философов большинство полагало в виде материи единое начало всего: то, из чего все сущее состоит, из чего как первого оно рождается и в чем как последнем оно гибнет: то, сущность чего сохраняется, а состояния изменяются: говорят, что оно и есть основа и начало сущего и что поэтому ничто не рождается и не уничтожается, так как такая природа сохраняется вечно… При этом о числе и виде такого начала не все говорят одно и то же. Фалес – родоначальник этой философии – говорит, что это вода (поэтому и земля из воды появилась); сделал он это предположение, вероятно, наблюдая, что все питается влагой и что сама теплота из ее рождается и ею живет… а еще потому, что семена всего (сущего) имеют влажную природу.
Итак, по мнению Фалеса, все сущее произошло из воды. Вода – это первоначало всего. Из нее родился мир, и в нее же он вернется, когда закончит существовать. Вода – вечна. Сама земля наша держится на поверхности воды, словно доска. И так далее. И тому подобное.
Фалес Милетский (624–546 гг. до н. э.)
Физики недоумевают, зачем сегодня надо изучать такие глупости.
Мало ли что думали физики прошлого. Они, например, полагали, что вокруг Земли и атмосферы ее есть слой эфира. И что же!
Забыть, забыть, забыть всякий эфир и прочие физические глупости! Этак еще придется учить, что Земля стоит на трех слонах, а они, в свою очередь, на черепахе. Совсем недавно физики, заседающие в Академии наук, попытались отменить научную специализацию «история философии». Рассуждали они, видимо, так: ни к чему изучать историю философии, надо изучать философию современную; ведь не изучаем же мы историю физики – там сплошные глупости, которые сегодня значения не имеют.
Итак, физикам ничуть не интересно знать, что Фалес считал первоначалом всего воду.
Или что Анаксимандр считал первоначалом всего не воду, а некое неопределенное первовещество, которое называл апейрон. А ученик Анаксимандра Анаксимен полагал, что первоначалом является воздух.
Какая чушь, думает физик.
Всякому ведь известно сегодня, что все состоит из кварков.
Правда, «кварк» в переводе с немецкого означает «чепуха» или «творог».
Можно выбирать, из чего состоит мир – из чепуховин или из пахучих творогов (физики различают кварки по ароматам)[5].
Тоже чушь невообразимая, конечно, зато современная, инновационная – а, значит, передовая.
И что толку знать, что кто-то из древних две с половиной тысячи лет тому назад думал, будто все на свете состоит из воды… Это – пустая эрудиция, годная разве что для клуба телезнатоков.
На самом деле философия никогда не была и никогда не станет такой наукой, как физика. Представления физиков прошлого и в самом деле годны только для музея. (Точно так же, как через пару веков только для музея будут годны представления физиков современных.) Зато Шекспира ставят в современных театрах. И Баха с Моцартом слушают сегодня, испытывая при этом сильные чувства, а вовсе не вежливое музейное любопытство. Понятие «прогресс» на искусство не распространяется: здесь то, что создано позже, вовсе не заменяет того, что было сделано раньше, и далеко не всегда лучше его.
С философией дело обстоит почти так же.
На самом деле она никогда не стремилась заменить собой физику.
Когда физик изучал движение планет или частиц, он хотел разобраться именно в планетах или частицах. Когда о планетах (частицах, воде, воздухе, огне и т. п.) начинал рассуждать философ, он хотел разобраться прежде всего в человеке. А человек мало изменился за две с половиной тысячи лет…
Чем же нам сегодня интересны Фалес, Анаксимандр и Анаксимен, занимавшиеся поиском первоначала?
Физик Аристотель не разглядел у них того, что мы сегодня могли бы назвать различием менталитетов. Греческое чудо в данном случае заключалось в том, что три мыслителя, жившие в одном городе и учившие друг друга, на самом деле обладали тремя совершенно различными стилями мышления. Впрочем, разглядеть такое различие древним грекам было трудно, потому что три разных стиля мышления существовали у представителей милетской школы только в зачатке. Полностью развились и расцвели они два тысячелетия спустя.
А.И. Герцен написал про Фалеса так: его вода вовсе не была водой как химическим веществом. Она отнюдь не представляла собой нечто, имеющую химическую формулу Н20, и когда Фалес говорил, что все произошло из воды и в воду вернется, он говорил это вовсе не в химическом смысле.
А.И. Герцен полагал, что вода представляла собой у Фалеса художественный образ, аллегорию.
Представим себе, что кто-то из наших читателей, только что разрешивши какую-нибудь жизненную коллизию, утер лоб рукавом и сказал: «Жизнь прожить – не поле перейти». Допустим, далее, что кто-то записал за ним это выражение. И вот через две с половиной тысячи лет оно дошло до отдаленного потомка. А он, потомок, вдруг заявляет с университетской кафедры: «Мыслитель имярек противопоставлял жизнь человека пересечению площадей, отведенных под выращивание зерновых».
Согласимся, что такая интерпретация образного высказывания была бы неверной. Читатель был бы возмущен ею: он вовсе не имел в виду какое-то конкретное поле ржи или пшеницы. Он говорил о поле вообще. Как о чем-то не особенно широком, хотя и не узком. В общем, образно говорил.
Точно так же и Фалес говорил о воде как о первоначале всего вовсе не в том смысле, что все на свете состоит из воды химической, описываемой формулой Н20. Древние греки химии не знали. Но, сидя на берегу моря, они наблюдали за водой – и многое их поражало. Вода прозрачна. Но – только до тех пор, пока она неглубока. А вот уже на глубине метра два и более сквозь самую что ни на есть прозрачную воду уже ничего не разглядеть. Мир похож на воду. Если смотреть на то, что лежит неглубоко, то вполне можно познать все это. Но знание наше всегда остается поверхностным. В глубины мира нам заглянуть не дано.
Вот по морю катятся волны – штормит. Можно было бы прикинуть скорость движения волн, умножить ее на время – и получить то расстояние, на которое море уйдет с того места, на котором находится сейчас. Но волны катятся, бушуют, а море остается на том же месте. Точно так же и мир – как вода. Он бурлит, бушует, непрерывно движется – и остается на том же самом месте.
(И библейский царь Соломон тоже поражался воде: «Текут реки в море, а море не переполняется. И на круги свои возвращается ветер».) Вода кружит и кружит в мире, вечно возвращаясь – подобно ветру. Так же и мир, подобный воде – нет в нем ничего нового, все уже было, а теперь только повторяется.
Именно художественный образ воды – вот что имел в виду Фалес, говоря о первоначале. Не особенно, конечно, богатый и оригинальный образ – но тогда, две с половиной тысячи лет назад, еще не затертый. Весь мир – вода, и человек в нем – вода. Из воды все восстает, рождаясь, и в воду все погрузится, погибая. Воды поглотят все.
Фалес, похоже, не имел связного учения – он предпочитал изрекать мудрые мысли, приходящие ему в голову, и ничуть не заботился о том, согласуются ли эти мысли друг с другом.
Так, однажды он сказал: «Ум есть божество мироздания, все одушевлено и полно демонов». Зря, выходит, Аристотель записал его в материалисты. Да и философ он был, как видим, непоследовательный. Иногда говорил о воде как сущности, порождающей мир, а иногда опять сбивался на мифы – как Гомер с Гесиодом. Вообще-то все порождает вода как сущность, но еще есть бог, управляющий мирозданием, а, вдобавок, все полно демонов. Полная каша в голове. Смесь материализма, монотеизма и политеизма. Еще Фалес якобы сказал слова, ныне известные каждому: «Познай самого себя».
Мир, дескать, устроен сложно, но еще сложнее устроен человек. Даже и ты сам, знакомый с собою всю жизнь, от рождения, не можешь познать себя. А что уж говорить о других!
Как Фалес, так и его ученики не были философами в «чистом» виде – точно так же, как не были они и «чистыми» физиками. В те далекие времена науки еще не разделились, и каждый мудрец занимался ими всеми – сразу. Такое было возможно, потому что все науки еще были в зародыше. И при этом они странно переплетались друг с другом.
Однако при всем зачаточном состоянии наук уже в Древней Греции сразу же встали два острых вопроса, сохраняющие свою актуальность по сей день.
Первый из них – это вопрос о практичности науки, о ее применимости в повседневной жизни. И первый анекдот о непрактичности ученых связан с именем Фалеса. Однажды он отправился наблюдать звезды – в сопровождении служанки, которая несла его приборы (а, надо сказать, Фалес был знаменитым астрономом – именно он определил, что год состоит из 365 дней и предсказал солнечное затмение, состоявшееся в 585 году до нашей эры).
На юге темнеет рано и быстро. В сумерках мыслитель загляделся на небо – и упал в яму (по другой версии, и вовсе в колодец). На что служанка ехидно заметила: «Как же человек может разглядеть что-то в небесах, если не видит того, что у него под ногами».
Последующее развитие событий показало неправоту этой недоброй женщины. Только тогда, когда не видишь того, что у тебя под ногами, и можно разглядеть что-то на небесах. К гению, как заметил М. Жванецкий, обязательно надо прикреплять еще одного человека, а лучше – двух, чтобы они занимались решением всех практических вопросов.
Второй вопрос близок первому: какова экономическая отдача от научных знаний? Современные американцы формулируют этот вопрос к ученым так: «Если вы такие умные, то почему вы такие бедные?» Фалесу тоже задавали этот вопрос двадцать шесть веков тому назад. Когда назойливые дураки окончательно надоели ученому он преподал им урок. По наблюдениям за небесными светилами он определил погоду на будущий год, а значит, и виды на урожай маслин – главной греческой сельскохозяйственной культуры. После этого он заранее – еще зимой, за бесценок! – арендовал на год все маслодавильни в Милете и в соседнем Хиосе. Урожай, как он и ожидал, выдался сказочно богатым, возник огромный спрос на маслодавильни. Фалес установил монопольно высокие цены и сразу же разбогател. Но, продемонстрировав таким образом возможности науки, он прекратил дальнейшие занятия бизнесом. Потому что настоящая наука не должна быть служанкой ни у кого – ни у государства, ни у торговца, ни у народа.
Точно так же, как и поэзия. Именно об этом две с половиной тысячи лет спустя прекрасно сказал А.С. Пушкин – в стихотворении «Из Пиндемонти»:
- Никому
- Отчета не давать, себе лишь самому
- Служить и угождать; для власти, для ливреи
- Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…
Настоящие философы думают именно так.
Итак, Фалес полагал, что первоначало всего – вода, эта вода у него больше походила на художественный образ. (Кстати, по древнегреческим мифам, прародителем всего был бог Океан; даже боги клялись водой Стикса, которую считали священной. И древние египтяне, у которых Фалес учился астрономии, тоже считали, что все произошло из первобытной водяной бездны.)
Однако его ученик Анаксимандр был иного мнения.
Он не считал, что вода – первооснова всего.
Больше того: он мыслил совершенно иначе – не образно, а логически.
Так, как впоследствии будут мыслить все великие логики, включая Шерлока Холмса.
Чтобы логически решить вопрос о первоначале, надо учесть главное: древние греки воспитывали своих детей в почтении к родителям.
Анаксимандр, который только-только совершил переход от мифа к логосу, то есть от веры в богов к философскому разуму еще сохранил склонность сравнивать природные стихии с людьми. Поэтому он рассуждал так:
Первооснова всего – это отец всего. Отцу беспрекословно повинуются все дети. В мире есть четыре стихии: огонь, вода, земля, воздух[6].
Анаксимандр (610–547(540) гг. до н. э.)
Огонь, вода, земля и воздух равноправны. Ни одна из этих стихий не может победить и подчинить себе все остальные.
Значит, ни одна из них не может выступать в роли отца.
Следовательно, все четыре стихии – дети[7].
Поэтому нельзя признать воду первоначалом.
Она – всего лишь дитя, но не отец.
Может быть, отец где-то близко?
Если бы он был близко, он постоянно командовал бы своими детьми – огнем, водой, землей и воздухом.
Но такого управления незаметно. Стихии буйствуют и враждуют.
Значит, отца поблизости нет.
Вывод можно сделать только один: огонь, вода, земля и воздух создали мир, который отделился от первоначала как своего отца и ушел скитаться вдаль от него.
Понятное дело, что этот детский мир скучает в разлуке, хочет вернуться к отцу и когда-нибудь вернется.
Так. С этим выяснили.
Теперь надо логически рассудить, как выглядел отец, покинутый детьми – огнем, водой, землей и воздухом.
Всякий умный человек решил бы, что ребенок, наиболее похожий на отца, захватил бы власть в его отсутствие и стал бы главенствовать над остальными детьми. Но ни одна из стихий-детей не может восторжествовать над другими.
