Амур. Между Россией и Китаем
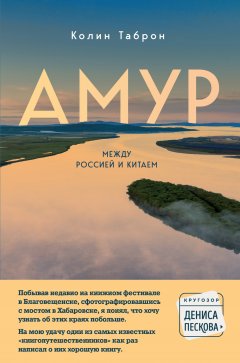
The Amur River: Between Russia and China by Colin Thubron
© Colin Thubron, 2021
This edition is published by arrangement with Aitken Alexander Associates Ltd. and The Van Lear Agency LLC
© Поникаров Е.В., перевод на русский язык, 2023
© ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Глава 1
Исток
В самом сердце Азии, на древнем слиянии степи и леса серо-зеленым морем в сторону Сибири простираются луга Монголии.
Почти ничто не нарушает тишину этой земли. Люди встречаются здесь редко. На самом дальнем ее краю, рядом с российской границей для путешественников недоступны почти тринадцать тысяч квадратных километров. Эти горы, некогда родина Чингисхана, сегодня являются почти священной глушью. Одинокая дорога, достигающая их, заканчивается у заграждения и домика егерей. И здесь ждем мы – проводник, два сопровождающих охотника и я; ждем, чтобы попасть на территорию, которую никто из нас практически не знает.
Где-то в этой глухомани берет начало одна из самых грандиозных рек на планете. Ее бассейн вдвое превышает по площади Пакистан; в нее впадает более двухсот притоков, некоторые из которых колоссальны. На протяжении полутора тысяч с лишним километров она образует границу между Россией и Китаем: барьер, окутанный столетиями недоверия.
Амур туманен. Неясно даже происхождение самого названия[1]. Для Запада река кажется недостижимо далекой, и мало кто о ней даже слышал. Оценки длины сильно различаются – Амур оказывается то десятой, а то даже восьмой рекой мира. На его китайском берегу путешественники практически не бывают, в то время как его российский берег из конца в конец отмечают вышки и колючая проволока – самая укрепленная граница на Земле.
Проходит день, затем ночь, а мы все ждем возможность попасть в эти запрещенные горы. Егеря этого места, именуемого Хан-Хэнтэйским заповедником, не стремятся нас выпускать, хотя у меня есть разрешения от доверенного агента, который нашел мне проводника и конных спутников. Ощущаю первый укол беспокойства. Три палатки посреди луговых трав теперь выглядят жалкими, а душевный подъем от начала путешествия – внутреннее возбуждение, трепет предвкушения – сменяется опасением, что мы можем вообще его не начать. Ночью меня будят звуки лошадей, щиплющих траву у моей палатки. В такой час разум омрачается; внезапно идея проплыть 4548 километров (преобладающая оценка[2]) по реке, которая течет через юго-восточную Сибирь, затем встречается с Китаем, а потом впадает в Тихий океан, кажется всего лишь фантазией.
Открываю полог палатки, смотрю в холодную темноту и перевожу дух. Моя черная тень ложится на траву. Ночь надо мной наполнена сияющими звездами, и по бескрайнему монгольскому небу ледяным потоком света тянется Млечный Путь.
Слабым сиянием разливается рассвет. Мир выглядит по-прежнему неокрашенным. Далеко вокруг нас солнце поднимает сверкающий туман над травами, щедро налитыми росой. Кажется, что над равнинами полыхает гигантский пожар. На какое-то время он скрывает холмы, очерчивающие линию горизонта, затем его дымка растворяется – словно она нам пригрезилась. Воздух теплеет. Крохотные дневные бабочки взлетают с травы, в которой поют невидимые птицы, а воздух полнится щёлканьем и стрекотанием кузнечиков. Идти здесь – значит пробираться сквозь море диких цветов: разноцветные астры, горечавка, лапчатка оттенка сливочного масла, аквилегия кобальтового цвета. Полосы склоняющегося под ветром эдельвейса на дальних склонах рисуют морозную бледность на многие километры.
Затем появляются наши спутники – тяжеловесные в своих национальных дэли[3], с кинжалами на поясе; они проверяют наших привязанных лошадей. Поздно утром к палаткам на мотоциклах подруливают егеря. На них огромного размера обувь и пиратского вида повязки на головах; в руках маленькие портфели. Мой проводник Батмонх, родившийся в столице Монголии, говорит, что они ощущают собственную значимость: сюда с паломничеством к Бу́рхан-Ха́лдуну, священной горе Чингисхана, прибыл премьер-министр. Однако они остаются с нами надолго – едят наше печенье и внимательно изучают документы. Егеря утверждают, что местность впереди опасна и почти непроходима. Самый длинный приток Амура, река Онон, берет начало в глухих болотах, а муссоны этим летом были весьма сильны. Сейчас, в конце августа, почва затоплена и коварна. И еще есть медведи. Попав на территорию заповедника, мы окажемся вне доступа спасателей.
Батмонх слушает их без интереса. Он говорит, что им не нравится появление чужаков на их территории. Я не понимаю ни слова из разговора и лишь молчаливо надеюсь, что нам не запретят путешествие. Иногда Батмонх пренебрежительно покидает нас, в то время как егеря приходят и уходят, а наши всадники смеются над ними, показывая презрение свободных людей к бюрократии. Наконец, егеря суют нам на подпись документ, снимающий с них всякую ответственность, и – умыв таким образом руки – уезжают, подпрыгивая над степью на своих китайских мотоциклах.
Конечно, к ним следовало бы прислушаться.
Перед нашим отъездом небо выглядит шире и беспокойнее, чем земля. Горизонт кажется уходящим за кривизну планеты, а над нами раскинулась панорама разнообразной облачности. С одной стороны – просто мазки тумана, с другой – армада катящихся в бесконечность кучевых облаков.
На миг мы останавливаемся на краю заповедника; в следующее мгновение мы уже в подлеске и движемся вдоль реки Керулен, когда она начинает свой путь с водораздела на востоке. Склоны становятся круче и покрываются лесом. Кричит запоздалая кукушка. Не вполне того осознавая, мы пересекаем границу между евразийскими лугами и сибирской тайгой, под нашими копытами затухают запахи раздавленных цветов, и все мы в восторге от свободы.
Однако вскоре почва размокает. Лошади иногда спотыкаются в болотистой жиже, которая к тому же еще и течет. Однажды земля под передовым всадником проваливается, и его жеребец – крупное чалое[4] животное – падает в грязную яму и с трудом поднимается на ноги.
К полудню мы едем вдоль холмов над рекой. Низко к болотам опускаются канюки. Многие километры мы продираемся сквозь заросли чахлых берез, в то время как лиственницы, подобно армии захватчиков, спускаются со склонов и проникают в долины. Звуки издаем только мы. Воздух становится все острее, я все сильнее ощущаю, как далеко пролегает наш путь, и чувствую старое возбуждение от попадания в другую страну.
Моя лошадь – это двенадцатилетний безымянный жеребец. Для всадников он просто Белый; любое другое имя выглядело бы сентиментальным. Он вынослив и покрыт шрамами. Мы едем беспорядочной кавалькадой; у нас девять животных – палатки и еду везут пять вьючных лошадей. Это сильные животные, лоснящиеся после летней пастьбы, а не какие-то болезненные порождения поздней зимы. Коротконогие и большеголовые, они происходят от неутомимых коней монгольских орд, способных без остановки проскакать десять километров; мы едем на них по-монгольски – с короткими стременами, ноги согнуты в коленях. Спутникам чуть за сорок; лица этих пастухов и охотников обветрены, а тела поджары. Они тоже выглядят неутомимыми.
Однако в прошлом их предки обитали не в степи, а в лесу, из которого они вышли тысячелетия назад, и наш собственный переход еще долгое время сбивчив – травяные склоны перемежаются с лесом, пока мы возвращаемся в прошлое, и удары копыт первых кочевников растворяются в лесной тишине.
К вечеру появляется первый намек на проблемы. Одна из вьючных лошадей все еще не объезжена, и ее дикая энергия заставляет нервничать остальных. Где-то впереди, в лесистой низине они начинают толкаться, затем срываются с поводьев. Три животных с выпученными от страха глазами мчатся назад, за ними гонятся конники.
Мы с Батмонхом привязываем оставшуюся пару к молодым деревцам и ждем. Кажется, что прошли часы. Когда всадники возвращаются, обнаруживается, что упрямый паломино[5] сбросил свою поклажу, и теперь она лежит где-то в окружающем лесу. Наши спутники отправляются на поиски, а мы с Батмонхом безутешно гадаем, какая из гигантских седельных сумок пропала. Осознаю, что если в ней окажется мой рюкзак с паспортом и визами, то наше путешествие закончено. Возвращаюсь по дороге, где исчезли лошади, но вокруг меня расстилается глазурь все скрывающей березовой поросли. В панике я ищу отпечатки копыт, сломанные ветки и иду по следам, которые растворяются в отметках какого-то давно прошедшего тут животного. Негромкое ржание лошадей наших спутников раздается все дальше и дальше – район поисков явно расширяется. Иногда в подлеске минутной надеждой сияет упавшая береза – яркая и гладкая, как фарфор – но вскоре я уже не могу представить, как можно хоть что-нибудь найти в этой глуши.
Когда я возвращаюсь, Батмонх осматривает поклажу на оставшихся привязанных лошадях: его тревожит, что нет еды и нам придется сразу отправляться обратно. С разными намерениями мы осторожно прощупываем один из вьюков, но жеребец вырывается – сейчас все нервничают – и тащит свое деревянное седло за собой. Нам остается только завернуть его на место и ждать.
Через час мы слышим далекий крик. «Думаю, нашли», – говорит Батмонх. Вскоре двое мужчин появляются с потерянными вьюками; они по-прежнему непроницаемы, как будто возвращение вещей было запланировано. И когда мы тем вечером распаковываем вещи на лесистом склоне над болотом, то обнаруживаем, что в вернувшейся поклаже находилась наша еда.
В сумерках мы ставим палатки на размокшей от дождя земле; наши спутники рубят ветки, чтобы построить собственное укрытие. В траве валяются вещи – коробки с едой, бутылки с водой, сбруя, топорики, даже брезентовый стул; под деревьями пасутся освобожденные от поклажи лошади. В этом безлюдном одиночестве странно сознавать, что наш костер – единственный человеческий свет и увидеть его могут только волки или разбуженные медведи.
Костер сближает нас в прохладе ночи, а его дым отпугивает вьющихся вокруг нас комаров. Батмонх варит лапшу на портативной плитке, монголы пьют соленый чай и курят. Сначала они казались мне близнецами, но сейчас я начинаю их различать. Монго выглядит старше своего возраста; он подпоясан, как разбойник, и разговорчив; Ганпурев смотрится мальчишкой, но остроглазым мальчишкой, от которого одни неприятности. Он младший сын в обедневшей семье. Оба носят фуражки и высокие сапоги; их куртки украшают известные лейблы, хотя и явно пиратского происхождения. У костра они говорят о практических вещах: о выпасе лошадей и деньгах. Нам сообщают, что по такой местности за восемь часов на лошади можно преодолеть всего километров тридцать. В темноте вспыхивают и гаснут их сигареты. Батмонх, свободно владеющий английским, иногда переводит. Однако его мир – не их мир, и он, возможно, кажется им таким же чужаком, как и я. Тишина, опустившаяся, когда мы наконец засыпаем, – это тишина изнеможения. Не шевелятся даже лошади, спящие стоя при свете звезд.
Исток крупных рек часто неясен. Они могут сочиться из недоступных болот или ледников, а могут появляться из путаницы притоков. Инд рождается из шести оспариваемых потоков. Утверждают, что Дунай вытекает из какого-то желоба в горах Шварцвальд. Что до истоков Амура, то когда собрание географов России и Китая взялось обсуждать этот вопрос, то с огорчением обнаружило, что исток, обеспечивающий максимальную длину, находится ни в той, ни в другой стране – он расположен в этих отдаленных монгольских горах. Наши сопровождающие знают эту реку как Онон, «священную мать»; но если эта мать сама где-то и рождается, то немногие люди вроде Ганпурева знают это место, а он был там всего раз, десять лет назад.
Нас направляют силуэты окружающих гор, но после восхода солнца они для меня – лишь бесснежные тени. Утренний воздух холоден и чист. Роса на крышах палаток превратилась в лед, шкуры привязанных лошадей блестят от инея, животных окутывает пар от их дыхания. Все утро мы придерживаемся возвышенностей, проезжая по лиственничным лесам вдоль следов танков, которые остались от советских военных учений несколько десятков лет назад. Граница с Россией в шестидесяти километрах к северу. Сейчас следы гусениц расплылись, превратившись в ручейки паводковых вод, и над ними смыкаются трава и кустарник. Что-то произошло и с лиственничными лесами. Они окружают нас извивами сумрачной зелени, но иногда мы двигаемся по холмам, опустошенным пожаром. После смерти деревья продолжают стоять с обваливающейся обугленной корой. Наш путь тянется между этими почерневшими виселицами; дважды на исчезающих тропах мы натыкаемся на высокие кучи сложенных веток, которые украшены полосами ткани, оставленными егерями или браконьерами; ткань уже превратилась в лоскутья. Эти обо[6] отмечают вершины горных хребтов, которые являются «угодьями» какого-нибудь местного духа. Духи непостоянны, иногда злы, и мы их сейчас не знаем. Монго и Ганпурев спешиваются, обходят обо по кругу и в качестве жертвы брызгают водкой. Они просят меня сделать то же самое, чтобы наше путешествие оказалось безопасным.
Однако к полудню мы оказываемся в совершенно другой местности. Тропа сужается до ширины лошади и почти теряется в березовых зарослях, а мы вслепую ломимся сквозь них. Целые часы нам слышны лишь хлюпающие шаги наших коней. Затем мы ныряем в ручьи с крутыми берегами – притоки неизвестных нам рек; вьючные животные следуют за нами. Иногда мы спешиваемся и ведем лошадей. Мы утопаем по щиколотку. Мои водонепроницаемые кроссовки бесполезны, а обувь остальных людей наполняется водой.
Лошади к этому не привыкли. Они – наследники конницы кочевников, выведенной для степей. Сидя на них, ты забываешь все, чему тебя учили. Я больше не тяну поводья, когда Белый тыкается носом в зад идущей впереди вьючной лошади. И ты подгоняешь их не каблуками, а шипящим чу-чух. Ты никогда не гладишь ласково коня по голове. Когда мы забираемся на возвышенность, то с облегчением начинаем двигаться быстрее. Однако Белый предпочитает перемещаться не неспешным кентером[7], а быстрой рысью. Километр за километром он настаивает на этой раздражающей тряске, при которой нереально выдерживать привычные для западного всадника подъемы и опускания в седле – слишком быстрый темп, и в результате ты просто стоишь в стременах, как это делали монгольские захватчики.
После одной такой бешеной рыси мы останавливаемся и падаем в траву. Я помню ее мягкость и тяжесть своего дыхания. Через несколько минут встаю и внезапно чувствую головокружение. Прихожу в себя у ног Белого – лодыжка подвернулась. С опаской ощущаю подкрадывающуюся боль. Затем Батмонх помогает мне сесть в седло. На миг задумываюсь, не упал ли я из-за большой высоты – но мы всего лишь в двух километрах над уровнем моря. Волевым усилием считаю, что сломать лодыжку нельзя и что утром я смогу ходить. Затем снова ощущаю, как удобно сидеть на лошади, как невесома моя нога в стремени, а перед нами открываются долины в сияющем море зелени. Вместе с тем опускается прохлада: холодное восхищение путешествием по земле, лишенной памяти и шрамов человеческой истории. Иногда сквозь лесистые вершины прорываются красноватые скалы, напоминающие рукотворные стены и крепости, но это иллюзия. Человеческие следы улетучиваются, и небо пересекают только стервятники.
Но даже такая пустота не идеальна. Браконьерство, распространившееся в хаотичные годы после распада Советского Союза, уменьшилось, но не исчезло, и российские охотники по-прежнему время от времени пересекают границу, чтобы насытить китайский рынок средствами традиционной медицины, для которых нужно убивать кабаргу и медведя. Однако мои товарищи ручаются, что природа возвращается, и единственный нарушитель, которого мы встретили в эти дни, – старик в лохмотьях, собиравший кедровые орехи.
Тени прошлого здесь старше и глубже. Ибо здесь для монголов – сердце мира. Восемьсот лет назад Чингисхан объявил долины верховьев Онона и Керулена неприкосновенной святыней, доступной только монгольской знати и предназначенной для обрядов и погребений. Это место стало духовным центром его огромной империи. Даже сейчас, по словам Батмонха, путешественников пускают сюда неохотно. Это священная земля. Где-то к востоку от нас лесистый массив поднимается к вершине Хан-Хэнтэй, которая считается той самой горой Бурхан-Халдун, на склонах которой юный Чингисхан спасался от преследований врагов своего племени. Монгольский эпос гласит, что на этих спасительных высотах он сохранил свою жизнь, уподобленную жизни кузнечика, а потом стал благодарственно поклоняться ей – вершине, которая уже была священной для его народа, близкой к Вечному Небу, которому поклонялись предки[8]. Своим потомкам он тоже наказал вечно поклоняться этой горе, а сам возвращался к ней в трудные времена, чтобы снова вдохнуть ее первобытную силу.
Точное местонахождение Бурхан-Халдуна неизвестно, но позади нас его долины в бассейне Онона полнятся невзгодами будущего завоевателя. Здесь он родился около 1162 года в семье Есугея – одного из вождей монголов. На его берегах оставленная людьми Есугея мать выкапывала корни, чтобы спасти детей, а мальчики добывали рыбу[9]. Здесь, удирая из плена, Чингис скрывался в водах Онона с деревянной колодкой на шее.
Мы разбиваем лагерь на участке с твердой почвой. Вокруг костра воздух холоден и неподвижен, лес абсолютно тих. Небо наполняется звездами, мы едим тушеную баранину и разговариваем. Иногда лица монголов озаряются кривой улыбкой, и они смеются. У них есть какое-то старое родство. В темноте черты лица и возраст кажутся близкими, оба родились в год Лошади (хотя, по их словам, это ничего не значит). Батмонх переводит гортанные и фрикативные звуки их бессистемного разговора. Они рассказывают истории о национальном страдании: о русском бароне-разбойнике, который много лет назад украл монгольское золото, увезя его по дороге, проложенной китайскими рабами[10]. «Об этом нам рассказывали предки».
Батмонх загадочно улыбается. Под сияющим небом он вдруг начинает рассказывать о чудесах природы, словно заменяя легенду наших спутников чем-то посторонним и реальным. Он говорит, что на Титане, спутнике Сатурна, обнаружены признаки жизни – впервые в Солнечной системе.
Наши сопровождающие молча кивают. Невозможно сказать, поражает их это или кажется не более чем далекой сказкой, как и многое другое. В конце концов, это не поможет прокормить их семьи или лошадей, бродящих ночью вокруг нас.
Однако Батмонх другой. У него есть жена и ребенок в Улан-Баторе, но его ум полон размышлений и мечтаний. Он не похож ни на одного виденного мною монгола. Он темнокож, статен, с большими глазами. Из-за более худощавого по сравнению с охотниками телосложения он кажется гибче и уязвимее.
– Люди думают, что я индеец. – Он говорит тихо, хотя наши спутники не могут его понять. – Знаешь, мой отец из Анголы, это юг Африки. Моя мать встретила его в Москве, когда они приехали в СССР в качестве студентов из третьего мира.
Он улыбается этому термину.
– Я – результат.
Я помню, были годы, когда Московский университет имени Патриса Лумумбы принимал студентов из менее развитых стран, часто из Африки, и давал им бесплатное образование, пропитанное советскими идеалами. Я спрашиваю:
– А где твои родители сейчас?
– Мать вернулась в Монголию, а отец не смог с ней поехать. Правительство такое не разрешило бы, бедная африканская страна…
Он рассказывает, что мать вышла замуж повторно, родила еще детей, а он поступил в Харбинский университет и получил высшее географическое образование.
– Но когда я вернулся, найти хорошую работу было невозможно. Нужен крючок, а у меня его не было…
– Связи? – догадываюсь я.
– Да, – в его голосе слышен проблеск возмущения. – Своего рода коррупция.
Я прямо спрашиваю о господствующих в Улан-Баторе предрассудках и о том, не мешало ли ему происхождение. Он долго молчит, потом отвечает:
– Не думаю. Дело не в цвете кожи. Дело в неизвестности моей семьи. Мы не знаем людей. У нас нет силы.
Время от времени в этом первом проявлении доверия он кажется обеспокоенным и замолкает; затем улыбка возвращается в качестве мягкого извинения.
– Место отца занял дед, это он меня воспитал, – говорит он, и я чувствую, что уже знал это. Старик умер за несколько дней до нашего отъезда; Батмонх делился со мной мясом с погребальной трапезы. Теперь он подкидывает в костер ветки и смотрит на пламя.
– Я любил его, – говорит он.
Это происходит внезапно. Мы спускаемся в тень леса, плюхая по ручейкам, бегущим после недавнего дождя. Из наносных почв выпирают розовые камни, промытые талыми водами в другой эпохе. Почти полдень. На юго-востоке мы видим неясный неправильный контур: двуглавая вершина Хэнтэй, где, возможно, покоится Чингисхан. Не могу определить, насколько это далеко. Затем местность выравнивается, и мы пробираемся через хлещущие заросли – вслепую, наклоняя головы. Дважды мой шлем для верховой езды отражает удары низких ветвей лиственниц.
Затем кустарник исчезает, уступая место ковылю. И тут без предупреждения мы натыкаемся на поток воды метровой ширины. Передние лошади уже пересекли его и скрылись из виду. Я кричу Батмонху:
– Что это?
– Онон, – отвечает он.
Осаживаю коня. Вот Амур-ребенок. Конечно, он мало чем отличается от прочих пересеченных нами речушек: разве что поуже и почище. У него легкий торфяной оттенок. Выше он не вырывается из земли, а возникает в сверкающем слиянии болотных вод, окаймленных овсяницей и ивами. Хочу глотнуть из него, но при попытке слезть лодыжка дергается, и я не могу наклониться. Внезапно ощущаю себя стариком рядом с младенчеством этой реки. Воображаю дурацкую нежность к ней, словно к ребенку, который не знает, что произойдет. Со временем он станет сибирской Шилкой, сменив пол для русских, а затем на границе с Китаем, наконец, превратится в гигантский Амур.
Остаток дня мы идем на восток вдоль сияющего потока, то глядя на него, то теряя его из виду.
Тихо. По ночам нет звуков природы, не слышно стрекотание цикад. Мы приближаемся к лесному спокойствию России. В кромешной тьме палатки я благодарю усталость тела, из-за которой ему все равно, на чем спать (на тонком поролоновом коврике), и наслаждаюсь нашим мимолетным триумфом. Пока спускается это мечтательное счастье, Онон извивается снаружи сквозь ночь, а я лежу, не обращая внимания на наполненный комарами воздух, и погружаюсь в сон.
На рассвете начинается мелкий дождь – словно кто-то бросает песок на крышку палатки. Появляется озноб дурного предчувствия. Все утро земля под нами сыреет, словно вся суша постепенно превращается в воду. Рядом с нами невидимый Онон тонет в своих болотах, и желтоватые травы прослеживают его медленный ход. Проходит час за часом, и моя радость от встречи рассеивается вместе с плюханьем копыт Белого по трясине, которая становится все глубже. Там, где мы едем, дождя нет, но по обеим сторонам небо янтарного и серого цвета закрыто полуосвещенными облаками. Лишь один раз они расступились, и пролившийся луч желтого золота упал на реку подобно благословению.
Ближе к вечеру мы натыкаемся на первое жилье за шесть дней: домик лесника и грубый навес из бревен над термальными источниками у реки. Лесник немногословен, словно мы нарушили его покой, он выделяет нам грубо построенную хижину рядом со своим жилищем. Монго и Ганпурев слышали об этих родниках. Их привычное молчание превращается в бормочущее предвкушение, а затем и в мальчишеское ликование, когда они спускаются, чтобы искупаться. Река здесь быстрее и темнее, а деревья отступили от берега, дав место луговым травам. Сами источники – это четыре или пять ям, обшитых досками с бревенчатыми перекрытиями сверху. Они выглядят заброшенными. В сумерках, когда я спустился, Монго и Ганпурев уже выходят из них. У них не такие подтянутые тела, как я ожидал увидеть, хотя они мускулисты и безволосы. У Ганпурева уже заметен живот. Вскоре они возвращаются в хижину, оставляя меня одного.
Раздеваюсь и опускаюсь в тепло, надеясь, что это принесет облегчение лодыжке, которая стала уже янтарной и черной, как небо. Несколько минут, погрузившись наполовину в воду, я чувствую, как болезненно расслабляется тело, и изумляюсь странностям такого излияния теплых вод в холодную реку. Ее струи кажутся мне уже использованными и мутными. В щелях бревенчатой крыши надо мной сияют несколько звезд. На мгновение выпрямляюсь в темноте над загадочным водоемом. Затем боль в лодыжке простреливает вверх, и я падаю. Я недооценил сложности верховой езды, коварную слабость, и моя грудная клетка расплющивается о массивную бревенчатую скамью позади. Минуту я лежу, гадая, что произойдет, если я двинусь. Что сломано или проткнуто? Шевелюсь с опаской и начинаю одеваться, безнадежно стараясь избежать боли, и наконец карабкаюсь обратно к хижине, цепляясь за поручни из сплетенной травы.
Наша хижина срублена из необработанных бревен, для сна имеются нары. Ржавая печь проталкивает свою трубу сквозь крышу. Все усыпано мусором, оставшимся от последних ночёвщиков: выкинутые пачки из-под сигарет, пепел, пустые бутылки. В ту ночь я пытаюсь уснуть на верхних нарах (Батмонх и монголы улеглись внизу) и смотрю на свое горькое вознаграждение – бледный в лунном свете Онон, поворачивающий под одинокой лиственницей. Вставленная в грубо вытесанное окно река застыла подобно гравюре – обнаженные берега, остановившиеся на полпути воды – затерянная река, извивающаяся из ниоткуда.
Я беру у Батмонха спутниковый телефон, наш единственный контакт с внешним миром, который не может нам помочь, и звоню жене в Лондон, чтобы сказать: все хорошо, кроме тяжелых болот. В ее голосе ощущаются нотки тревоги. Почему у меня странный голос? Что-то случилось? Да, упал пару раз, но, к счастью, не разбил очки. Она смеется. Это такая плохая телефонная связь? Расстояние кажется огромным. Что-то связанное с орбитой спутника… Должно быть, мой голос печален, потому что она настаивает: «Не думай обо мне, пока не вернешься домой». К ее голосу добавляется низкое запоздалое эхо. «Думай о своем путешествии». Она говорит, что в нашем саду цветут розы и что они продержатся до зимы.
Мы въезжали на территорию, неизвестную даже нашим сопровождающим. Четыре дня они вели нас по горам, которые теперь окружали нас. К югу поднимались массивы хребта Хэнтэй и вершина Асралт-Хайрхан – не альпийские пики, а пепельные силуэты высотой в две с половиной тысячи метров. Перед нами по долине, заросшей травой по колено, струился Онон – ровным медленным ходом. Ели и сосны иногда спускались к болотам, а иногда отступали перед травянистыми холмами. С расстояния земля выглядела невинной, почти облагороженной и благоустроенной. Однако притоки по обеим сторонами реки просачивались через всё расширяющуюся полосу сырой почвы, где торфяные мхи и заглушающие землю травы – овсяница, ковыль – тысячелетиями перегнивали, образуя бездонные торфяные болота. Мы перебрались на южный берег реки, затем вернулись обратно. Теперь она стала выше, текла быстрее, а ее берега поросли ивами. Кони погрузились в нее неохотно. Русло под копытами оказалось мягким. Вскоре я потерял счет притокам, которые мы переходили вброд. Часто они казались мне такими же глубокими и полноводными, как сам Онон. Батмонх жестом отправлял меня подальше от опасных бродов, но Монго и Ганпурев двигались, как кентавры: вода струилась уже по их коленям, а сигареты по-прежнему свешивались изо рта. Однажды, спустившись по берегу Онона, вьючные лошади запаниковали и отказались идти в воду; их пришлось завернуть, а монголы в наказание ударили их по бокам. Мой Белый стар, и я ощущаю страх каждый раз, когда он спускается, однако ни разу посреди реки он не замедлился и не споткнулся.
Перед нами не было дороги. Земля под травой являла собой хлюпающую трясину, которая, похоже, только углублялась по мере нашего продвижения. Каждый день за восемь часов мы едва ли преодолевали тридцать километров – как и предсказывали наши сопровождающие. Часто почву укрывал полог из низкого кустарника, так что ни всадник, ни лошадь не видели, куда ступает животное. Иногда эта зыбкая почва, испещренная топкими местами, раскрывалась под нами, как люк. Лошади внезапно падали, и торфяная вода заливала им спины. Затем они с побелевшими выпученными глазами начинали дергаться, пытаясь нащупать опору передними ногами и лягаясь задними; нас же в это время бросало в седле во все стороны.
Именно в таком месте Белый провалился в яму и потерял равновесие. Наклонившись и рухнув на гнилую землю, он уронил меня. На мгновение я оказался в ловушке под его вздымающимся боком: ноги оставались в стременах, а грудная клетка издавала звуки. Потом он в страхе вскочил и бросился вперед. Одну ногу я освободил, но вторая оставалась в стремени, и конь тащил меня. Но моя обувь была свободной, так что я выдернул ногу из кроссовки, когда он набрал скорость. Какое-то время я лежал в болоте в странном умиротворении, пока моя кроссовка сбежала сама по себе. Однако это было не смешно: у меня имелась всего одна пара.
Батмонх на дальней стороне болота увидел появившегося Белого – без седока, с забитой грязью обувью в стремени. Пока монголы пытались заворотить лошадь, он крикнул в пустоту: «Где ты? Можешь встать?»
Через болото его голос показался мне жалобным и слабым. Я встал и побрел к нему. В этом было что-то немного комичное, подумал я (правда, позже). Меня спасли мои дешевые кроссовки – свободно державшиеся на ноге. В то время, как остальные носили сапоги до колен, наполненные болотной водой, моя обувь превратилась в хлюпающие мешочки тепла. Мы давно перестали беспокоиться о грязи и болотной воде, которая разбрызгивалась вокруг. Только ночью у костра со снятой обуви и конских попон поднимался пар.
Эти часы становились временем вялого общения. На каком-нибудь покрытом деревьями хребте или бугре Монго или Ганпурев под растущей луной рассказывали о своих экспедициях, когда они сопровождали богатых российских охотников, искавших дичь. По их словам, там всегда был налет опасности. Когда медведи весной выходят из спячки, они голодные и несколько злые. Если они разрушают муравейник, то на морду им попадает муравьиная кислота, и они сходят с ума. Приходилось также следить за дикими кабанами, которые после ранения становятся бешеными и изворотливыми. В доказательство Монго продемонстрировал глубокую рану на бедре. «Ты думаешь, что это ты охотишься на них, но после ранения уже они охотятся на тебя».
Нет, они ничего не имели против русских. Русские – это не китайцы. Монго восхищался Путиным и даже Трампом. Он чтил правителей, которые выглядят сильными. Ганпурев промолчал, а Батмонх покачал головой. Монголы спросили, кто управляет Британией. Разве не королевская семья? Странно, что в этой монгольской стабильности люди слышали о британском принце, женившемся на американке смешанного происхождения. Да еще и из семьи, где родители развелись…
Внезапно Батмонх сказал:
– Это же самое было и у моей матери, и у меня. Ее отец злился. «Ты знаешь, что скажут люди, – сказал он ей. – Все скажут. Выйти замуж за мужчину смешанной расы. Африка третьего мира. И ваши дети, – это он обо мне, – тоже скажут. Но если ты хочешь так поступить, что ж, поступай». И она сделала это, хотя им и пришлось расстаться, но мой дед поддерживал ее до конца.
Несколькими скупыми фразами он изложил это охотникам.
Ганпурев нерешительно заметил:
– Думаю, что смешанные браки – это хорошо. Мы в Монголии слишком закрыты.
Внезапно из сгущающейся тьмы донесся волчий вой. Сначала это был всего лишь тонкий звук, похожий на далекий крик. Монго поднялся, приложил ладони ко рту и ответил. Вой приблизился, раздаваясь из зарослей в сотне метров от нас: бестелесный вопль, высокий и свистящий, а затем затихающий безутешным плачем. Когда Монго снова ответил, его крик звучал в точности так же, и теперь уже к нам – или к другим волкам – эхом приходили отклики все еще невидимых животных. Наши лошади забеспокоились. «Ночью они подойдут ближе к палаткам», – сказал Монго. Волки в нерешительности кружили вокруг нас. Что-то было не так. Мы все еще не видели их, но, по словам Монго, они могли уже нас заметить, и сейчас наш костер беспокоил их.
Какое-то время мы продолжали сидеть в темноте, а завывания потихоньку стихли. Мы все устали. Охотники сказали, что за двадцать лет путешествий не встречали местности хуже. Когда луна зашла, а костер прогорел, огонек сигарет с обманчивой мягкостью осветил их лица; затем они отправились в свою палатку.
Батмонх остался, как нередко бывало, пялясь на угли костра рядом со мной. Обычно он любил говорить о том, что прочитал. Давно в прошлом остались такие популярные в СССР книги, как «Белый Клык» и «Последний из могикан»; сейчас он поглощал книги по всемирной истории, астрономии, происхождению человечества, современным войнам, истории гуннов. Однако сегодня он сказал:
– Мне есть о чем грустить.
Он вспоминал своего деда – могучего старика, заменившего ему отца. Он уехал с похорон, чтобы сопровождать меня в поездке.
– Он всегда подбадривал меня. Когда я сопровождал историков и палеонтологов в пустыне Гоби, он сказал, что это здорово, что это мой вклад в мир.
Затем Батмонх промолвил извечное сожаление осиротевших:
– Я никогда не говорил ему, как сильно я его люблю.
– Он должен был это понимать, – ответил я.
– Он знал, что конец близок. Кровь попала в мозг. Он пошел умирать к реке. Его нашли через четыре дня, с практически нетронутой бутылкой водки. Опознали только по часам.
Рассвет проливает на землю мягкий свет, словно ночь отмыла ее. Все еще слабое солнце поднимает ниже нашего лагеря длинную простыню тумана над долиной, где река извивается среди кустарника, горящего осенними цветами. После бессонной ночи ноет тело. Однако отсутствие людей и мертвая тишина этой земли вызывают прилив удивления – словно мир снова стал молодым. Острые глаза охотников чуть ли не в паре километров от нас замечают нескольких маралов. Батмонх подносит к моим глазам бинокль. Животные вышли из-под защиты деревьев и стоят на открытом лугу. Расстояние и бледный розовый свет делают их похожими на привидения. Кажется, что они пасутся в каком-то другом воздухе, купаются в каком-то другом солнечном свете.
Наступает день. Лошади лоснятся и обгрызают деревья, к которым привязаны. Монго и Ганпурев тихо напевают под нос немелодичные песни, взваливая поклажу на деревянные седла и упираясь ногами в конские бока, чтобы подтянуть подпругу потуже. Мы пускаемся в путь, не зная, чем все закончится. Почти сразу мы снова оказываемся в болоте. За нами следуют тучи мошек и комаров. Мы поднимаемся на возвышенность, однако необъезженная вьючная лошадь дергается в сторону, распространяя свой страх на остальных животных, которые разбегаются по склону холма. Мы теряем еще несколько часов, пытаясь найти сброшенный груз, и останавливаемся на отдых в рощице, где Монго пытается усмирить бунтарку. Когда та встает на дыбы, двое мужчин берут тяжелые прутья и лупят лошадь по шее и плечам. Их крики и удары только ожесточают ее, и она снова вырывается. Этих крепких терпеливых животных, похоже, ломают насилием – непосредственной стычкой двух воль – и теперь я понимаю, откуда следы и шрамы на шее моего Белого. Батмонх протестует, но мужчины отвечают, что всегда так делали. Когда же лошади стареют, говорят они, то «вполне годятся в еду».
Возможно, это низшая точка нашего путешествия, думал я. Я больше не узнавал себя. Я знал, что ослабел. Иногда кто-то из спутников подсаживал меня в седло, а спешивался я, перекидывая ногу через шею лошади, чтобы поберечь ребра. Тяжелым испытанием оказывались мелкие дела – бритье, чистка зубов. Я перестал искать на себе клещей и хлопать комаров, завывавших в палатке. Аппетит пропал. Как-то вечером Батмонх грустно спросил: «Тебе не нравится моя готовка?» Но меня мучила только жажда. Иногда я ловил на себе взгляды наших сопровождающих, и мне казалось, что я могу прочитать их мысли: сколько он еще протянет? К этому моменту ослабли даже они. Вьючные лошади бунтовали в болотах уже непрерывно. Этим вечером мою палатку поставил не я, а Батмонх, а охотники не разговаривали у костра, а без сил отправились спать, не сняв сапог. Что до меня, то я лежал полностью одетым на тонком дне своей палатки, радуясь усталости, которая одолела всю боль.
Батмонх в одиночку сидел у костра и думал. Похоже, в итоге он оказался самым выносливым из нас. Он соглашался, что возвращаться поздно, даже если нам захочется. Он держался на лошади лучше, чем я, но тем утром лошадь его сбросила; охотники смеялись над ним, но он остался невредим. Он по-мальчишески гордился нашим предприятием. «Это самое трудное путешествие в моей жизни, – сказал он. – Даже через десять лет я буду рассказывать другим людям о нем». И тем не менее мы проехали верхом немногим больше недели, одолев всего триста километров. Нас ослабили торфяные болота – сырой подземный мир, который заставлял нас двигаться в обход, топил и вгонял в панику наших лошадей.
Но однажды наступило утро, когда мы поняли: что-то изменилось. Холмы стали более лысыми и более каменистыми. Белесые болота стали сходить на нет. Внезапно мы пошли рысью по тропинкам из мелкого песчаника, а вокруг нас снова развернулись степные травы. Вскоре холмы превратились в склоны, где одиноко вспыхивали оранжевые и серые обрывы, а в небе кружили канюки с растрепанными крыльями. Степная флора плескалась теперь вокруг нас во всем своем великолепии. Астры, копеечник, горечавки, пурпурный и красный клевер изобиловали осами и мухами, а над ними летали крохотные крапчатые бабочки. Вскоре появились красные адмиралы, репейницы и крапивницы, а также множество других бабочек, которых я не знал; у реки пронзительно орали трясогузки. Потрепанный непогодой информационный щит известил нас, что мы покидаем территорию заповедника. Появились признаки поселений: сломанные загоны, брошенные участки, бродячий скот. Одинокий крестьянин, занимающийся сеном, едва повернулся, чтобы посмотреть на нас. А к концу дня нас встретил джип, который доставил нас на край этой местности – УАЗ с невозмутимым водителем; он прошел кружным путем пятьсот километров.
Глава 2
Степи
Земля выглядит пустой. Реки, спускающиеся сюда с гор, медленно текут средь колеблющихся трав. Человеческая жизнь здесь – группки полукочевых скотоводов, юрты которых – гэр – сливаются с небом. На этих ярких равнинах воспоминания о безлюдных болотах возвращаются только при взгляде на торфянистый поток вод Онона и на профиль гор за спиной, да, возможно, при боли в теле.
Но в глазах местных жителей, чей шаманизм приспособился к буддизму и пережил коммунистические взгляды, вся местность одушевлена. Людям нужно пользоваться ею деликатно, потому что она принадлежит им не в полной мере. Невидимые духи-хозяева властвуют над нею с вершин своих холмов, увенчанных обо или абсолютно голых, но всегда живых по представлениям живущих тут людей. Через них эта земля дышит. Горы таят в себе непредсказуемую мощь, уступающую только всеобъемлющей эгиде Вечного Неба, а водные потоки – это воплощенная жизненная сила земли. Особняком тут стоит исходящий из сердца монгольских земель Онон – «Священная Мать» или «Мать-правительница». Даже души предков остаются в мире смертных, бродя за каким-нибудь холмом или излучиной реки, или задержавшись за невидимой дверью на горном склоне.
Наш УАЗ трясется, направляясь с рассветом на восток по колее из твердой грязи; местность становится все шире и ярче. Монго и Ганпурев попрощались и ушли, подгоняя своих лошадей и радуясь полученной премии. Онон резко свернул на север к российской границе, а мы следуем вдоль его притока Эгийн к деревне Батширээт. Наш шофер Тохтор – горожанин с накаченной грудью и добродушными глазами на неизменно спокойном лице. Он ведет машину по каким-то ориентирам, которых я никак не замечаю.
Даже степные деревеньки, на которые мы наталкиваемся, едва выдают присутствие человека на этой древней земле. У домов с оградами металлические крыши карнавальных цветов – алого, оранжевого, кобальтово-синего – словно в траву выбросили кучу игрушек. Иногда на чьем-нибудь дворе видна грибовидная макушка гэр, словно семья все еще мечтает о прежней свободе и может в один прекрасный день сорваться с места. Чаще на дворах нет ничего, кроме будок-туалетов, какого-нибудь китайского мотороллера или сломанного грузовичка. Хлипкая ограда, окружающая каждый дом и при этом неровно гуляющая вдоль широких грязных улиц, усиливает ощущение, что поселение может легко снести следующая буря.
Батширээт, куда мы попадаем к полудню – первое из таких кажущихся временными мест. Вокруг почти никого. Есть выцветшая реклама G-Mobile и караоке, но большинство магазинов заперты или разрушены. Группа женщин в цветастых юбках и платьях торгуется в магазине на главной улице за какие-то бытовые товары. Их щеки обожжены зимними ветрами, а волосы собраны в прическу «конский хвост». Они весело смеются.
Долины мельчают и открываются на восток в чистую степь. Холмы усохлись до усыпанных камнями складок; по пастбищам бродят гигантские многоцветные стада коров – иногда по две сотни. К северу от нас за равнинами, усыпанными сезонными озерами, бледнеет горизонт. Дороги извиваются и сходятся, и кажется, что Тохтор выбирает путь наугад. Неровная поверхность колеи сотрясает шасси, а я сижу, обложив свои ребра поклажей в качестве подушек и мечтая, что там только синяки, а лодыжка всего лишь вывихнута (однако спустя несколько месяцев рентгеновское исследование покажет два сломанных ребра и перелом малоберцовой кости).
Через эти северо-восточные пустоши мы направляемся к далекой российской границе. Онон светлой дугой течет к северу от нас, и мы пересекаем местность, незнакомую даже Батмонху. Для ночевки мы находим простые лагеря для туристов, но людей там нет. В гостевых гэр стены сделаны из плотно сбитого войлока, толстого и теплого, а на завтрак, если повезет, имеются жареные манты и домашний йогурт. Однажды ночью какие-то обветренные пастухи предоставили нам семейную юрту; ее стены укреплены бревнами – против ветра. Внутри она устроена по-старому. От круглого дымового отверстия расходится ивовый каркас, а стоящая на полу печь устремляет ввысь ржавую трубу. На домашнем алтаре больше нет фотографий партийных лидеров; произошел возврат к старым святыням. К жестянке с надписью «Имперское печенье наилучшего качества» прислонены грубые изображения тибетских буддистских божеств и защитников – милостивой Белой Тары и устрашающего Черного Махакалы[11]. Под ними, рядом с миниатюрным молитвенным барабаном[12], горят семена можжевельника, а позади висят комочки сухого курта[13] в качестве жертвоприношения местному горному духу. Семья угощает нас блюдом из холодных бараньих костей и оставляет спать: я на единственной кровати, а Батмонх и Тохтор устраиваются на одеялах на полу.
Эти передвижные жилища и состоящие из них эфемерные поселения кажутся вполне естественными для бурят (этнической группы монголов), которые живут в этом регионе. Их недавнее прошлое омрачено бегством и преследованиями. В начале прошлого столетия, когда их родину в России охватила революция и Гражданская война, они бежали на юг, в более спокойную Монголию. Однако на эту страну уже начала надвигаться тень России, и вскоре на них опустился сталинский бич; здесь он оказался в руках Хорлогийна Чойбалсана – монгольского деспота, столь же безжалостного, как и его советский наставник. В течение 1930-х годов ночные аресты забирали тысячи бурят – на казнь или в трудовые лагеря. Их обвиняли в панмонгольских заговорах или в шпионаже в пользу новой агрессивной Японии. В эпоху страха судебные разбирательства шли совершенно иначе. Между 1937 и 1938 годами – в пик массовых расправ – репрессировали половину монгольской интеллигенции, а также 17 000 монахов.
И все же буряты продолжают жить широкой полосой к югу от границы с Россией. Их всего 42 тысячи, то есть меньше 2 процентов населения Монголии, однако их таланты обеспечили им непропорциональное влияние и недовольство. Именно они занимают бассейн священной реки Онон от источника в горах Хэнтэй до устья за границей Сибири к востоку от нас.
Те темные годы почти исчезли из памяти живущих, но их тень может пасть даже на тех, кто слишком молод, чтобы помнить: осиротевшая женщина, лишенная собственной истории и живущая в городе, все еще носящем название Чойбалсан, или прихлебывающий чай в холле отеля мужчина, которого я встречаю однажды днем в Улан-Баторе. Он уже в возрасте, но его волосы по-прежнему черны, а морщин на лице почти нет. Он доверяет мне – думаю, потому, что мы познакомились через общего друга – и бегло говорит по-английски: бурятский государственный служащий, работающий в молодой и уязвимой демократии. Он говорит, что сто лет назад его дед и бабушка бежали от большевистской революции из российской Бурятии, которая до сих пор является родиной его народа, и осели в Монголии, где река Онон заходит на территорию Сибири.
Он говорит:
– Я до сих пор возвращаюсь туда, где родился. Не могу объяснить, но иногда я ложусь на землю в этом месте и мну почву в руках. Потом я ощущаю, как земля, ее горы входят в мое тело.
Он разводит руки, пытаясь выразить это, признавая какие-то глубокие унаследованные идеи или заблуждения; мне кажется, что он не уверен. Он говорит о своей «плацентарной родине» – как я понимаю, о древнем обычае закапывать плаценту ребенка в месте его рождения. Я хочу спросить его об этом, но медлю, а он только сообщает: «Это такое побуждение к возвращению», и я слышал, что такое место рождения может навсегда привязать человека и даже тянуть его назад при смерти.
В советские времена этот ритуал возвращения домой спокойно продолжали выполнять: такой спасательный канат был сильнее, чем простая принадлежность к государству. Затем террор 1930-х годов принес ошеломительные беды, когда преступлением была сама принадлежность к бурятскому этносу, и люди сжигали или прятали свои генеалогии, стирая свое прошлое и создавая разрыв, который не зажил даже сейчас.
– Мы утратили свое наследие, – мрачно и монотонно говорит мой собеседник. Для него подлинность собственного народа связана со степями. – Дети наших кочевников ходят в школы, где учатся по русской или китайской программе. Вскоре они уже не помнят, как им нравилось кататься на лошади или доить корову. Да они уже, наверное, даже не знают, что такое корова.
Я гляжу на него, на его строгий костюм и галстук, и удивляюсь тому, сколько горожан считают своей родиной дальние стоянки, где под ними бьется и пульсирует земля. Однако, по его словам, его дед был не пастухом, а талантливым журналистом. Он с самого начала принадлежал не к тому классу.
– Однажды вечером в 1941 году, считая, что находится среди друзей, он сказал, что надеется на победу Гитлера в войне и что красные перестанут угнетать Монголию. Той же ночью его забрал КГБ, и он исчез в ГУЛАГе. В то время с одной стороны приближалась Германия, с другой – Япония. Никто не чувствовал себя в безопасности. Дед вернулся домой только после смерти Сталина в 1953 году. Он умер через три месяца, спокойно, дома, словно именно этого и ждал.
– Твой отец помнит его?
– Отец никогда не говорил об этом. Я вырос в неведении. Потом произошло падение Берлинской стены, горбачевская перестройка, но все это казалось далеким, не как у вас. Но у нас была собственная революция, и в 1991 году архивы открылись. Я смог прочитать допросы деда. И внезапно осознал все происходившее. Нас сильно советизировали, понимаете? Нам хорошо промывали мозги. А когда я прочитал, то не выдержал и заплакал.
В тот момент возрождающегося национального самосознания народный гнев нашел свою цель не в Чойбалсане, которого долгое время превозносили как героя-патриота, а в далеком, почти абстрактном Сталине.
– Да, некоторые из нас ненавидят Сталина. Но мы ничего не имеем против русских. Нам они вполне нравятся. – Он внезапно хмурится. – Я это тоже не совсем понимаю после того, что они сделали. Возможно, из-за того, что они принесли нам культуру, европейскую культуру. Они дали нам медицину и образование. Мы начали сильно снизу, понимаете, начали почти с нуля. Век назад мы были во власти китайцев, и они нас грабили…
Это по-прежнему удивляет меня. Русские разрушили национальную культуру монголов, разорили их монастыри и почти уничтожили их элиту. Однако глубокую ненависть и подозрения вызывают китайцы, господствовавшие в стране три века до 1921 года[14]. Богатый набор их орудий пыток выставлен в государственном музее рядом с конторскими книгами их жадных торговцев. В памяти людей осталось их беспощадное ростовщичество. Говорят, что в долгу находилась половина страны. Даже сейчас существуют монголы, которые верят, что их преследуют давно умершие китайцы, не давая им приближаться к зарытым сокровищам. От этого не сумели избавить ни ламы, ни шаманы.
Возможно, советская пропаганда продлила эту антипатию, но именно лавина китайской иммиграции в начале прошлого века бросила страну в пучину насилия и толкнула ее в объятия России.
– Китайцы бы убили нас всех, – говорит мужчина.
В качестве иллюстрации он двигает по столу китайскую чашку и русскую бутылку, располагая их по разные стороны листа мятой бумаги, которые он назвал Монголией.
– Китайцы только брали, а русские отдавали. Когда мы что-нибудь покупаем, всегда приобретаем русское, хотя оно вдесятеро дороже, и его мало. – Он с сожалением придвигает к бумажной Монголии чашку и отодвигает бутылку с водкой. – Мы ненавидим китайцев, но вынуждены вести с ними дела. Они повсюду. Боюсь, в конце концов они захватят нас. – Его голос падает до шепота. – Говорят, что они даже пасут наши стада.
Его руки продвигают чашку, и я слышу, как бумага под ней сминается.
Мы едем на юг от Батширээта. Степи взмывают к горизонту волнами трав и камней; в небе видны пятнышки нескольких воздушных змеев. То здесь, то там двигается стадо или поднимает белый купол над травой какая-нибудь юрта. Где-то здесь в 1206 году курултай – собрание монгольской знати – провозгласил Чингисхана великим ханом над всеми племенами. Мы приближаемся к этому месту по побелевшим камням и подходим к шестиугольной ограде, окружающей кучу серых камней и помост, украшенный вотивными[15] полосами ткани. Объявления, что на этом месте состоялось то судьбоносное собрание, нет; однако люди оставляют подношения – сласти, светильники, измельченный чай; откуда-то из пустоты выныривает велосипедист, объезжает трижды курган, бросает камешек и исчезает в синеве.
В советское время почитание Чингисхана, как и прочие признаки монгольского национализма, придушили, но с обретением независимости возникла большая тяга к любым его следам. Появилась масса посвященных ему колонн и обо, а ландшафт к востоку от Улан-Батора разрушен монструозной стальной статуей – самой крупной конной статуей в мире. Однако почти все такие места – фальшивки или не имеют должного подтверждения. Местонахождение первого курултая неизвестно, и предостаточно мест, конкурирующих за звание места рождения и захоронения Чингиса. В деревушке Биндэр, которая паутиной оград и яркими крышами напоминает Батширээт, бывший премьер страны устроил альтернативное место курултая: неприглядный столб с врезанными изображениями хана; рядом в нетронутом виде лежат маленькие кучки денег от приверженцев. По словам Батмонха, причина в том, что в этой деревне экс-премьер родился.
К вечеру мы подъезжаем к месту, где степь превращается в лесистую долину. Крутой склон, усеянный валунами и лиственницами, обрывается на вершине голыми лезвиями оранжевой скалы. Они выпирают из подлеска и превращают линию горизонта в ряд сломанных зубов. У подножия холма проходит длинная стена сухой кладки; необработанные камни не дают намеков на время постройки. На голой местности, где практически нет массивных построек, такая защитная конструкция выглядит интригующе. Стена в некоторых местах разрушена, она уходит в обе стороны по склону холма, пробегая примерно три километра – словно когда-то на холме стоял целый укрепленный город, а потом, стертый непогодой, ушел в землю и скалы.
В 2002 году это загадочное место, получившее название Стена Подаяния, превратилось в арену страстных археологических раскопок. Их финансировал брокер из Чикаго (и археолог-любитель) Мори Кравиц, убежденный, что именно тут расположена могила Чингисхана, набитая сокровищами его походов. Раскопки шли в атмосфере бурного оптимизма. Батмонх, работавший тут в молодости, до сих пор помнит, в каком активном темпе они проходили. Обломки гладких валунов, оставшихся на холме после ледника, создают иллюзию человеческой деятельности. Выявлено более сорока предполагаемых могил. Обнаруженный труп в ламеллярном доспехе[16]
