Жирандоль
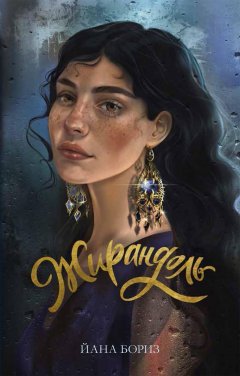
© Йана Бориз, 2023
© ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2024
Светлой памяти моего научного руководителя,
доктора филологических наук,
профессора КазГУ
Людмилы Николаевны Сорокиной
Часть первая. Россия
Глава 1
– Вот кабы старуха его зарубила топором, я бы ей порукоплескал. – Курский купец второй гильдии Иван Никитич Пискунов смешно вытянул губы паровозной трубой, подул поверх витого серебряного подстаканника, шумно отхлебнул и, обжегшись, кхекнул. – Частная собственность, Платоша, – это святыня просвещенного общества.
Приказчик убрал под прилавок очередную коробку, мельком скосил глаза на маленький топорик, которым вскрывали ящики. Остро наточенное лезвие весело блестело, отполированное ладонями топорище, доверчиво прислонясь к нутру конторки, желтело безопасно и приветливо.
– Я сочинениям Федора Михайловича не больно доверяю. Там такая акробатика… Ну посмотрите сами, Иван Никитич: молодой господин топором рубит старух. Ладно бы за мильен, а то за три сотни с приварком. Тут корысти грош.
Пискунов притормозил у витрины, поправил сигары в открытой коробке, взял одну в руку, понюхал. Он походил на коляску-эгоистку, скорую и угловатую, с паучьей грацией худых рук-оглоблей и ног-спиц. Длинный касторовый сюртук с четырьмя пуговицами, обшитый по вороту и обшлагам тонкой шелковой тесьмой, болтался на костлявом туловище откидным верхом, наградной поводок черного шнурка вместо галстука – опущенными безлошадными поводьями. Яичная макушка и заостренные завитки ушных раковин демонстрировали несоразмерную солидным летам и положению порывистость, готовность к скорым и авантюрным решениям.
– Ты, Платоша, «Дюшесы»[1] больше не заказывай, не берут их. Вели, чтоб «Пушкинских» доставили. – Он недовольно поцвиркал. – А ведь какой отменный табачок!.. М-да, печально, что господин Достоевский пытается оправдать лоботряса, который, бедствуя, не ищет заработка, а хватается за топор. Ведь в нашем просвещенном обществе столько способов прокормиться честно и сытно. Надо только работать.
– Убить человека много надо сил. Не в теле, а в душе. Я бы точно не смог. Тем более за мизерный куш.
– Ты добрый человек, Платоша, но, знаешь ли, когда встречаешь зло, силы сами берутся невесть откуда.
– Так ведь господин Раскольников не встречался со злом, он сам зло.
– А Алена Ивановна не зло? – Пискунов хитро уставился немигающими блеклыми глазами.
– Нет. У нее коммерция такая – деньги в рост давать.
Старший приказчик Платон Сенцов больше походил на беспородную симпатягу-бричку, уже послужившую, проверенную на буераках и бездорожье, но не утратившую кондовой грации. Рыжий, рослый, с добродушно торчащими вихрами, как ни старался он их утихомирить и выдрессировать льняным маслом, с любопытным длинным носом, крупными травоядными зубами, с крепкими сутулыми плечами любителя мирных занятий. Шевиотовый пиджак мешал ему дотягиваться до верхних полок, поэтому остался отдыхать на стуле, и штучный шелковый жилет цвета наваристого борща продолжал трудиться один, покрывался пылью и солеными пятнами под мышками. Из табачных недр вылезла большая картонная коробка, медленно поплыла на середину комнаты.
– Асмоловские почти закончились. И «Пушка»… – Платон наклонился над прилавком, раскрыл малахитовый переплет приходно-расходной книги, что-то пометил. – Меня больше занимают сочинения господина Островского. Там про наше… купеческое сословие. С уважением.
– Тоже любит насмехаться твой господин Островский. Эта литература – все заодно: бедным надо сочувствовать, а трудящегося человека мордой в грязь. – Пискунов поставил пустой стакан на чайный столик, отодвинул блюдце с колотым сахаром. – Ну, ты здесь заканчивай с ревизией, а я пойду к своим дамам. Завтра ждем тебя к обеду, не обидь. Тонюша хочет похвастать новым рукоделием. И конфектов никаких не надобно: теперь сами ими торговать будем. Приходи запросто, Тоня рада будет, – повторил он с нажимом и строго зыркнул на приказчика.
Сенцов вытянулся как на смотре:
– Непременно, Иван Никитич. Нижайший поклон Екатерине Васильне и Антонине Иванне. – Он покраснел, приближаясь цветом сначала к усам, а потом и к жилету.
– Тютюн[2] заканчивается, надобно принести, и самосаду еще пару мешков. Дорогой товар не берут, лентяи, все на дешевизну падки.
– Принесу, Иван Никитич, закончу здесь и схожу.
Пискунов снял с вешалки долгополую барсучью шубу, кряхтя, влез в рукава, надел круглую бобровую шапку с бархатным донышком.
– Вы, никак, без валенок сегодня? Зря такую акробатику затеяли, Иван Никитич, на улице мороз.
– Да неужто мне далеко топать? Эх, брось! – Пискунов махнул рукой, но голубые глаза одобрительно потеплели: забота приятно плюхнулась под ноги, согрела вместо валенок.
В лавке, обшитой добротными дубовыми полками, пощелкивала голландка, пахло табаком и кожами. Платон вытаскивал из закромов полупустые праздные мешки, смешивал доморощенную махорку с турецкими ароматическими сортами, пересыпал, упаковывал, украшал сухим листиком или веточкой и отправлял на передовую. Потом ковырялся в коробках, перебирал сигары, укладывал в готовые к бою шеренги, призывно открывал коробочные рты навстречу покупателям. Дорогой товар – в партер, дешевый – на галерку. Ревизия планировалась давно, но рождественские празднества связали руки бечевой нескончаемых хлопот. Наконец освободилось времечко и для упорядочивания торгового плацдарма.
Сам Платон табаку не курил, не нюхал и не жевал, что, несомненно, выглядело странновато, учитывая род его занятий. Он не клал под язык горьковатые комочки с запахом солнца и спелой вишни, не добавлял их в пряную бражку и не заваривал, чтобы потом вдыхать через трубочку душистый дым, как делали на картинках сказочные восточные богатеи в цветастых тюрбанах. Он табаком торговал, притом весьма успешно, складывал денюжку в тяжелый чугунный ларчик, запирал на ключ и дома, лежа под пуховым одеялом, нещадно потея от чая со смородиновым листом, с медом и баранками, он мечтал, как женится на дочке своего хозяина – купца второй гильдии Пискунова, как получит за ней в приданое эту табачную лавку, а может, и какую другую в довесок. Для нескромных надежд имелись веские основания: восьмой год при торговле, зарекомендовал себя аккуратным, вежливым, одет в любое время с иголочки, любезен, собой пригож – чем не зять, не продолжатель дела? Ныне же Сенцов числился в приказчиках, но это только на словах. На деле Иван Никитич ему доверял как сыну, коим не разжился, или, на худой конец, как племяннику, кои водились в изобилии. Конечно, по Антонине Ивановне и другие воздыхатели слюнки пускали. Как не пускать, когда она собой раскрасавица и папаша при деньгах? Но глубокие, полускрытые веками, как будто сонные глаза Тонечки так смотрели на рослого прилежного приказчика, что он лелеял мечту перещеголять прочих соискателей в погоне за купеческим благословением. Приглашение на завтрашний обед – лишнее тому подтверждение.
Наконец с курительными развлечениями было покончено, лаковые голенища модных гамбургских передов[3] припылились табачной трухой, а матовые головки совсем поседели. Платон смел сор к невысокой двустворчатой двери и нырнул в ароматы нюхательного угла. Здесь стояли нарядные шкатулочки, футляры и бонбоньерки для любителей почихать в удовольствие. Приятная вишневая отдушина пощекотала ноздри. Большие умелые руки, слегка красноватые, но с чистыми круглыми ногтями, выскребленными до желтизны, как речные камушки, аккуратно и уверенно наряжали полки для покупателей. Патрон сам следил за руками не хуже салонной красавицы и работникам велел: а как же, пятерня коммерсанта – его афиша, покупатель из этих рук товар берет, эти пальцы всегда на виду. Приказчик вдыхал в товар новую партию живительного воздуха, разминал слежалости и удалял спекшиеся комья неудач. Руки покрылись коричневыми пятнышками. Только закончив, он тщательно вымыл их в ведре, вытер чистой ветошью и наконец пометил нужное в приходно-расходной книге. Привычные подсчеты не отвлекали от мечтаний. Ах, Антонина Ивановна, тоненький силуэт в голубом муслине, запах шоколада и духов, царевна Несмеяна с пепельными кудрями, иногда заплетенными в простую косу, иногда уложенными в кулич на затылке. Платон не уставал таскать тюки, начищать медные ручки, восхищенно закатывать глаза, лишь в двери показывался привередливый покупатель, – все это для нее. Он старался бы еще больше, лишь бы Тонечка благосклонно смотрела своими сонными синими озерами, кивала круглым, немного выпяченным вперед подбородком и в конце концов сказала судьбоносное «да».
Натрудившись до ряби в глазах, он лежал под одеялом, представлял нежные губки, бледно-розовые, как помадка, недоверчивые, скуповатые на улыбку, и аккуратный, как будто нарисованный носик, который нечасто задорно смотрел вверх, а предпочитал опускаться печальным клювиком разочарованной птички-невелички, что ждала оттепель, а оказалась припорошенной снегом. Да, Тоне к лицу меланхолия, это и заводило: растормошить, развеселить, разбудить, заставить забыть про томную моду и благонравные привычки. Пусть бы побежали они вместе по лугу босиком, или зашли в ручей по колено, или поехали в простой крестьянской телеге рядышком, чтобы ее незагорелая кисейная ручка доверчиво лежала на его проверенной, пропахшей табаком.
Сенцов решил посвататься весной, а свадьбу, если будет на то воля господа бога и Ивана Никитича, сыграть осенью. Ждать оставалось недолго, износившаяся зима уже скрипела по Курску последними сугробами, аукала запоздалыми метелями. Уже темнело позже, петухи орали громче и окаянней. Завтра у него выходной, отоспится, наведет лоск и пойдет к Антонине Ивановне на чай, будет смотреть на нее, голубушку, скромно шутить и помогать распутывать нитки для рукоделия.
Иван Никитич его привечает не задарма, наверняка с прицелом на скорый брак. Значит, не возражает, видит сноровку и прилежание. Провинциальное купечество по земле ходит, не парит в облаках, дальновидному купцу лучше приказчика зятя не сыскать. Все эти сумасбродства по поводу слияния капиталов к добру не приводят, о чем и пишет Островский. А тут маленький человек, зато надежный.
Курская табачная лавка купца Пискунова, как и все соседские, готовилась к известной на всю Россию шумной и щедрой Знаменской ярмарке, норовя удивить и обрадовать гостей. Платон не впервые задержался до первых петухов, вернее уже пересидел их, расставляя на полках торговые войска со знанием стратегии и тактики хитрой коммерции. Работал один, без младшего приказчика: пусть Иван Никитич знает, как он всей душой болел за прибыль. Да так и вернее, когда под руку никто не дышал, не путал.
Он допил чай, вытер набежавший на лоб пот и стал собираться. Холодно. Ой как кстати тяжелый овчинный тулуп, прослуживший немало лет покойному родителю и перешедший по наследству к единственному сыну. Проверив длинным носом, крепко ли пуржит в уличных потемках, Платон вдел сапоги в короткие валенки, за голенище засунул топорик, чтобы половчее вскрывать ящики, в карман положил спички, в руку взял керосиновую лампу. Туда и обратно всех делов-то на полчасика. Он накинул тулуп, взвалил на плечо баул с ненужным хламом, который собрал по углам и которому не место в нарядной лавке, запер тяжелую дубовую дверь и вышел в морозную ночь.
На улице давно уже стихли шаги прохожих, коротенький Знаменский спуск спал, посапывая печными трубами, укрытый свежим снежком. С одной стороны его караулил Знаменский собор, с другой – взяла на привязь Красная площадь. Уличный фонарь протянул вдоль фасадов желтую руку, Сенцов шел, держась за нее. Лучше бы утра дождаться, не тащиться в лабаз в темноте, как тать, но больно хотелось похвалы строгого Ивана Никитича. И непрошеный хлам чтобы не громоздился по углам, как у нерадивых соседей-ярославцев, с которыми лавка Пискунова пребывала в постоянном яростном соперничестве.
Платон прошел мимо наглухо закрытых соседских ставен. Красные – сладости, желто-оранжевые – специи; дух от них стелился на пол-улицы даже ночью при запечатанных окнах и дверях. Их собственные ставни, коричневые, казались самыми благородными, солидными, как и положено табачникам. Под валенками задорно похрустывало, как будто великан грыз ядреное яблочко. Приказчик завернул за угол, ускорил шаг. Вглубь квартала тянулись лабазы, не такие помпезные, как торговый фасад, но тоже каменные, на высоких цоколях, с крепкими воротами на кованых запорах. Кое-где к стенам жались пустые телеги и тележечки, заваленные снегом где по ось, а где доверху, превратившиеся в сугробы. Непорядок. Иван Никитич такого разгильдяйства не дозволял, у них в хозяйстве завсегда порядок и чинный учет.
Приказчик подошел к воротам табачного лабаза, вгляделся и огорченно охнул: засов на двери висел безмолвным укором, покачивался на приоткрытой створке. Вот тебе и порядок. Хорошо, что ночью наведался, а то с утра купец непременно заметил бы, и тогда уж никакого званого обеда с пирогами и рукоделием. Платон не думая швырнул наземь ношу и дернул на себя воротину.
– Здрасьте! – В лабазе копошились двое: один держал свечку, прикрывая широкой почерневшей ладонью, второй набивал карманы купеческим добром. Что не влезло, кидал второпях в чувал[4] как попало, не разбирая цены и безбожно портя упаковки. – И чаво тебе не спится об эту пору?
Приказчик растерялся. Он стоял в воротах, расставив руки, и не знал, как ловить, чем вязать воров, кого звать на помощь. От неожиданности сам собой открылся рот, какие-то неважные, лишние слова собрались на языке, готовые выйти, но в самый последний миг одумавшиеся, решив, что все они ни о чем и никак не повлияют на ход драмы.
Тот из грабителей, что держал свечку, затушил ее двумя пальцами и кинулся на Платона. То есть это так показалось, что на него, – на самом деле мимо, в призывно мерцавшую звездами щель в воротах. Приказчик, сторонясь, отпрыгнул вбок и, только почувствовав спиной опорный столб, понял, что просчитался, проворонил преступника. Второй оказался не так скор, его притормаживал чувал с награбленным. Немного помявшись, вор с сожалением опустил добычу на пол и двинулся к выходу.
– Стой, никуда не пойдешь. Я городового позову! – Сенцов нащупал в правом валенке топорик, какое-никакое орудие. – Сюда, скорее, грабят! – Крик получился громким, но неубедительным, каким-то испуганным.
– Ишь ты, прыткий какой да горластый. – В руке татя блеснул ножик. – Подь с дороги, кому сказал.
Платон пробовал разглядеть его в темноте, но видел только мохнатую бороду от самых глаз и съехавший набок овчинный малахай.
– Стой! – Он представил, как держит отчет перед купцом, как рассказывает, что видел преступников перед собой на расстоянии вытянутой руки и не смог задержать; как Иван Никитич скептически хмурит белесую бровь, цокает, мол, слабачок попался, не ратник за вверенное дело. Ноги сами собой встали перед единственным выходом, не выпуская злыдня на желанную свободу: – Не пущу, сдавайся, упырь!
– Ах, не пустишь, чистоплюй, ну тогда берегись! – Ножик начал рисовать в воздухе быстрые-быстрые штрихи, неуклонно приближался к Платонову лицу.
Кажется, лучше бы его отпустить с богом. Ну много ли он унесет в карманах? Можно и вообще прибраться здесь, недостачу закрыть своими сбережениями, а купцу и знать ничего не надо. При коротенькой мысли о сбережениях под тулупом запульсировало негодование. С чего это скрывать чужое преступление, как будто сам в чем-то виноват? Разве за такого труса отдаст Пискунов единственную любимую дочку? Тем, кто прячется и замазывает чужие грешки, нет ни доверия, ни уважения. Он, Платон, не таков.
Ножик все плясал перед лицом. Бородач решил оттеснить противника и пробраться к заветной щели, растолкать дубовые створки, может быть, даже оставить заплатку от пропахшего тяжелым овчинным духом тулупа. И это ему удавалось. Голова Сенцова, уворачиваясь от поблескивавшего лезвия, сама собой отклонялась вбок, плечи тянулись за ней, ноги отступали, переминаясь и пританцовывая. Нет, так не пойдет. Так завтра Иван Никитич застанет разоренный лабаз и пристыженного собственной трусостью приказчика. Куда такому слабаку метить в зятья? Он изловчился и толкнул грабителя в грудь, ножик полоснул по рукаву, не причинив вреда, но напугав. Вор упал навзничь, ловко, по-животному отполз на две сажени, поднялся на карачки и, согнувшись, со звериным рыком бросился на Сенцова. Удар пришелся в живот, но руку с ножом удалось отвести в сторону. Нападавший потерял шапку, темный контур его головы увеличился вдвое: это брызнули в стороны патлы. «Вшей, наверное, наплодил», – подумал Платон. И тут же увидел перед собой невнятный провал щербатого рта, в нос ударил гнилой тошнотворный запах, слева холодно блеснула, готовясь укусить, стремительная сталь. Рука с зажатым в ней топором сама собой замахнулась и обрушила звенящее, тщательно заточенное острие в темень волосяных зарослей чуть повыше светлой ушной дужки. Грабитель обмяк, упал на брюхо, ткнулся темечком в валенок, как нашкодивший пес. Из одного кармана вывалился кисет с забористым американским табаком первого сорта, из другого – полотняный мешочек с махоркой, набитый сверх меры, так что нутро лезло наружу, мешалось с пылью и чем-то липким, противным. Пальцы разжались, топорик выпал и обиженно звякнул о махотку[5] с золой.
Платон наклонился, чтобы подобрать его, но не смог нашарить в темноте. Он поспешил отопнуть подальше нож, который тать так и не выпустил из руки. Снова звякнуло железо, теперь о промерзшую воротную петлю.
– Эй, браток, тут кричали, не слыхал? – В беспечно раздыренные ворота заглядывал городовой.
Остаток ночи и следующий день запомнились плохо. Его отвезли в сыскную часть, долго водили по комнатам. В одной сухопарый околоточный допытывался, как давно он водил знакомство с Лукой Сомовым, какая черная кошка между ними пробежала. В другой пышноусый пристав понимающе хлопал по плечу, бисерным почерком строчил в формуляре и хмурил пшеничную бровь. Одышливый господин в богатой шубе и черном котелке представлялся адвокатом, обещал, что все образуется. Иногда его оставляли в покое, тогда глаза сами закрывались и подступала тяжелая дрема щекой к холодной стенке. В голове мутилось, как в замшелом пруду, неудобные, нечистые мысли всплывали сомами-трупоедами и тут же растворялись в темном мороке. Надобно сообщить матушке, чтобы не ждала на выходных. А сегодня обед у Пискуновых, хозяйка небось пирогов напекла, студень заготовила, селедочку. Нехорошо-то как вышло. Про Тоню он не разрешал себе думать, лучше про торговлю. Как теперь Иван Никитич станет справляться? Легко ли перед Знаменской остаться без старшего приказчика? Набитый махоркой мешок снова и снова вываливался из кармана покойника, содержимое мешалось с черной кровью. Вот, оказывается, что означает «пропасть ни за понюшку табаку».
Бессонная ночь стучала в висок, язык путался, есть совершенно не хотелось. Околоточный совал под нос ржаной хлеб, уговаривал подкрепиться, Платон только лениво мотал головой: ему на сегодня пироги обещаны, не резон на черствую горбушку размениваться. За окошком слышалось громыхание уличного трамвая, бегали и суетились городовые, квартальные, просто жалобщики. Сыскное отделение то наполнялось людьми, как гусь гречей, то пустело объеденным столом. Его никто не караулил, казалось, можно просто встать, надеть шапку и выйти в благополучный вчерашний день, в свою прошлую жизнь. Рука несколько раз сама тянулась к шапке, но тюканье в висках предупредительно усиливалось, и пальцы разжимались, опускались на колено.
За окном сгустилась сиреневая хмарь. Бегунков стало меньше, можно сосредоточиться, подумать. Первая снежинка медленно покружилась перед окном и послушно легла на ящик с выбитым зубом. Платон любил снегопад, когда тихо и празднично опускалась на землю чистота, спадала хлопьями, очищая и душу тоже. В его присутствии верилось в чудо и хорошо мечталось о Тоне.
Что с ним теперь будет? Каторга? Казнь? Вырванные ноздри? Навсегда запертые двери Гостиного двора? «Я ведь убил человека, согрешил. В заповеди сказано "не убий", а я ослушался, убил». Насмешливым эхом откликнулось в голове: «Вот кабы старуха его топором зарубила, я бы ей порукоплескал». Снежинки зачастили, ринулись на землю толпами, не забывая при этом вывязывать в воздухе кружева.
– Чаю будешь? – Квартальный принес стакан в простом оловянном подстаканнике со слабеньким варом – не чай, а моча. – Извиняй, браток, сахарком не разжился.
На ночь его поместили в камеру для арестантов при сыскной части. На свежевыбеленной стене, еще сохранившей запах извести, болталось распятие – грубое, пустоглазое, покрытое дешевым желтым лаком. Обидная дырка в углу лупилась немигающим грязным зрачком. Платон отвернулся от нее, засомневался, помолиться или сразу заснуть, но тут в железную дверь затарабанил конвойный. Все, пора гасить лампу и спать, завтра будет суетный день.
Сразу заснуть не получилось. Под жидким казенным одеялом продолжался диалог с совестью: «Я ведь не нарочно убил, а защищая частную собственность. Это ведь преступник был, злодей. Он первым вытащил ножичек. Как я мог попустить? Попустить – значит струсить». Он заснул, так и не договорившись, не решив, виноватить себя или обождать. Ночь пролетела неслышно, спустилась на покрывале из танцующих снежинок и растворилась в белесых сумерках. Снова постучали в дверь: завтрак. Пришел полицейский доктор, заставил раздеться, долго разглядывал, качая головой.
– Со мной что-то не в порядке? – спросил Платон.
– Напротив, все в совершеннейшей норме. Редко к нам попадают такие отменные… чистенькие образцы. – Доктор ушел, записав коротенькое заключение в своем блокноте.
«Может быть, следовало притвориться душевнобольным? – запоздало подумал Сенцов. – Пусть бы я в припадке зарубил, не ведая. Сроку наверняка меньше дадут, но как потом с пятном в мир выходить?» Додумать не дал нанятый Иваном Никитичем адвокат.
– Ну вот, все хорошо или по меньшей мере неплохо. – Голос одышливого адвоката дребезжал приятной хрипотцой, розовые щеки блестели как отполированные, в глазах зависло дежурное доброжелательное выражение. – Ваши действия, уважаемый Платон Николаич, вполне подпадают под пунктик «самооборона», вам не о чем переживать. Единственная закавыка – ножик валялся поодаль. Скажите, это убитый сам отбросил или вы отопнули?
– Это я. Побоялся, что он вскочит и заново начнет махать.
– Верно рассудили, верно. А не могло так статься, что он, этот Лука, вас огрел чем-нибудь? Бревном, например?
– Нет. У нас в лабазе полный порядок, никаких бревен не валяется.
– А горшок с золой у двери зачем стоял? Кто его разбил?
– Не знаю. Я подобного шума не слышал.
– Может быть, он кинул в вас горшком и разбил?
– Нет, не было такого.
– А может, было? По меньшей мере осколком зашибло? – Адвокат говорил с нажимом.
– Нет, я хорошо помню. Да и как бы он попал горшком по голове, неужто такой акробат?
– А шишки у вас на голове нет, случайно? По меньшей мере синяка?
– Нет.
– Ну да ладно… – Адвокат недовольно поморщился. – Во всяком разе вас должны отпустить на поруки, я уже отправил прошение, и Иван Никитич ходатайствует. Я сейчас собираю данные по этому Луке Сомову, он наверняка отъявленный негодяй. Лучше бы, конечно, окажись он уголовником или по меньшей мере беглым каторжанином, но и так сойдет. Защита частной собственности, уважаемый Платон Николаич, государством поощряется и всячески приветствуется. Когда Лука повадился по чужим лабазам шастать, он сам выписал себе билет на погост. Кабы вы его не прикончили, то в скором времени он все одно оказался бы на виселице. Так что печалиться не о ком, по меньшей мере не о чем.
Потом они долгие два часа беседовали о неинтересном: детство как у всех, учился похвально, отец не пил, не бил. Как батюшки не стало, гильдия подставила плечо, отцовы цеховые братья пристроили к Ивану Никитичу рассыльным. Тот заметил старательность и поднял до приказчика. Не за что зацепиться. Адвокат кивал массивной темнокудрой головой, потирал пухлые ладошки и не выпускал доброжелательное выражение из глаз. На прощание взял за плечо, хотел пожать, но мягкая рука просто погладила, поделилась теплом:
– Иван Никитич хлопочет об вас, так что не сурьмитесь… Кстати, кормят-то сносно? Не велите ли чего принести в следующий раз?
До вечера Платон просидел один в своей камере, которую предпочел про себя называть каморой, от этого словечка не так несло катастрофой и дыркой в углу. Слова одышливого адвоката поселили надежду. И в самом деле, он просто рассчитался с ворьем вместо законной власти. В ушах еще звенел печальным колокольчиком стук топорика о мерзлый горшок, грустно тренькал ножичек, но в сердце уже кружились первые снежинки, запущенные, чтобы покрыть неудобицу чистым покрывалом невиновности, свободной, честной жизни. Если бы ему снова стоять в темноте перед отворенной створкой и смотреть на пляску ножа, на невнятные очертания лохматой башки и нюхать вонь старого тулупа, он снова ударил бы. Ну в самом деле, не попускать же? Частную собственность велено защищать и от естественных убылей, как усушка и порча, и от противоестественных, как проклятый Лука Сомов. Если бы старуха его топором зарубила, то любой вменяемый купчина ей порукоплескал бы.
Крохотное оконное очко выходило во двор сыскной части: ни трамваев, ни фонарей. Снег перестал, на вахту заступила заметь[6]. Оборвавшая чужую судьбу рука горела как обожженная: нет, не он давал жизнь этому лохматому Луке, не ему и забирать. Вот награбленное отнять – это законно, а право дышать, ходить, смотреть на снегопад – нет. Как же следовало тогда поступить?
К сумеркам Платон отыскал запоздалое правильное решение: ему надлежало, завидев бездельно висевший засов, затворить его снаружи и позвать городового. Преступники – да не один, а оба! – оказались бы запертыми, а руки приказчика чистыми. М-да, жаль, что часики не умеют шагать в противоположном направлении.
В тот день больше не беспокоили, сон спустился крепкий и мирный, несмотря на жидкое одеяло и нахально уставившуюся в окно луну. Утром он плотно позавтракал арестантской кашей и приготовился к занудным разговорам. Ждать пришлось до полудня, потом его повели к участковому приставу.
– Ты знаешь, я ведь сам из купцов, – начал тот, вытирая пышные пшеничные усы – наверное, едва из-за стола. – Я все прекрасно понимаю. Это жулье как крысы, душил бы их, расстреливал, давил крысоловками.
– Ну да. – Арестант не поднимал головы.
– Тебя к тому же отменно характеризуют по службе. – Пристав оценивающе зыркнул, одобрительно опустил щетинистый подбородок на тугой крахмальный воротничок.
– Весьма польщен, – с притворной кислинкой отозвался Платон. Неудивительно, что про него говорили только хорошее, он ведь и в самом деле не творил зла – не воровал, не хитрил, не ленился.
– Но на поруки мы отпустить тебя не можем, не положено.
– Отчего же?
– Говорю же, не положено. Сейчас оформим перевод, а там судейский следователь быстро закруглит и печать поставит. У тебя все дельце как на ладони, нечего дознавать.
Допрос закончился, арестанта не отвели в прежнюю каталажку за пазухой сыскного отделения, а повезли в настоящую тюрьму. По дороге Сенцов смотрел в зарешеченное окно кареты, не мог наглядеться на знакомые заснеженные улицы, выстроившиеся парадом особняки в снежных шапках, с поблескивавшей оторочкой карнизов и перил. Встречные извозчики заглядывали в его окошко, сочувственно кивали: «Эх, браток, не повезло. Кто ж на Руси не знает, что нельзя зарекаться от сумы и от тюрьмы».
Ехали долго, лошадь спотыкалась о снежные комья, карета вязла, буксовала. Над городом закосматились сумерки, превратили кучерявившийся вдали лес в грозовую сизую тучу, под парадными козырьками зажглись первые лантерны[7]. Тюремный двор показался махусеньким, с двух сторон давили крылья ширококостного двухэтажного здания с прищуренными злыми окнами в клеточку, с двух других нависал подбитый снежной опушкой мрачный каменный забор. В тюрьме его долго осматривали, заставили раздеться и снова одеться, что-то записывали. Наконец повели по почти чистому и почти светлому изогнутому коридору, как в гости или на прием к высокому чину.
В вытянутую языком камеру дневного света проникало гораздо меньше. Платон пригляделся и понял: с этой стороны окна махонькие, а с коридорной – обычные, как в жилье. Вдобавок оконная стена превышала шириной коридорную, образуя трапецию. Перед дверью висели постирушки: штопаное исподнее, отжившие свое портянки, рушник с незамытым клюквенным поцелуем – вся немудреная арестантская жизнь болталась, распятая необходимостью. В полусумраке трое играли в карты, нар выходило вдвое больше, чем постояльцев. С Сенцовым поздоровались, он вежливо ответил, занял место, на которое квадратным подбородком показал молчаливый конвоир. Оказалось, что весть об убийстве в лабазе купца Пискунова облетела не только весь Курск, но и просочилась за тюремные стены, его встречали как знакомого.
– Ну давай к нам кубыть, – пробасил седой, заросший бакенбардами.
Сенцов подошел к колченогому столу, игроки подвинулись, освобождая место: кто-то хлопнул по плечу, кто-то пододвинул кружку с водой. Начался трудный разговор, не такой, как с адвокатом или приставом, не по верхам, а за жизнь, по-настоящему.
– У нас туточки самое разбитное адвокатье, – хвастался обросший, его звали Сергей. – Вот я залетел по уголовному делу, кубыть за порчу имущества. А всамделишно совсем иное, всамделишно у нас ячейка, мабыть мятеж. Но тамочки бунта на пятачок, а порчи имущества – на пятиалтынный. Вот меня и упекають, пыжутся, кабыть. Адвокатишко – дрянь, продажная душонка. Да мне товарищи все разъяснили. Не выгорит у господарей – фигу выкусите. По закону за мной вины нет. Тутошние знатоки любого судью за пояс заткнут и по матушке обложат. Так что ты уши не развешивай, греби под себя.
Платон вежливо кивал, разглядывая черные мозолистые руки Сергея. На правом среднем пальце вздулся шишак, большой ноготь заломился, полез внутрь, забурился в мясо.
– Ты, наверное, заводской?
– Не-е, машинист я. Паровоза. Мабуть, кличут Паровозом ще.
– Давай меняться? Мне, чур, нижняя. – В разговор вклинился самый молодой, его никто не называл по имени, только по прозвищу – Огурка. Он сдернул со шконки вещи Сенцова, шустро разложил свои, оставив тому неприбранное, пахнувшее кислым теплом место.
– А кто здесь прежде спал? – На самом деле Платона не интересовал ответ. Без разницы кто – главное, что вышел отсюда. Значит, можно. Эта камера и эти лица не навсегда.
– Скопытился Варфоломеич, земля ему пухом, – доложил Огурка, сплевывая матерщину. – Так местечко-то и ослобонилося.
Бывалые арестанты первым делом выложили азы выживания в тюрьме и на каторге, обучили козырным словечкам, шепнули, как вести себя с конвоирами, чтобы не заработать штраф. Платон слушал и не понимал зачем. Он ведь совсем ненадолго здесь, адвокат обещал, что скоро все прояснится и закончится.
– Ты всю правду-матку не выкладывай, – грозил кривым пальцем Колосок, больше походивший на Колосище. – Наши знатоки помудрее всяких адвокатишек.
– Це правда, – поддержал его Паровоз, – нашим знатокам все хитрости по зубам. Потому новеньких сюда не гонють, берегуть для чистосердечных признаний.
– Да? – растерялся Сенцов.
– А як же? Да ты не гужуйся, вару бахни. Или сразу самогона? – Он приятно давил на курскую «ғ», как будто ғыкал самоваром.
Платон ничего не понимал. Он думал вчера чаевничать дома у Ивана Никитича, слушать длинные истории Екатерины Васильны и распутывать Тонечкины нитки для рукоделий, а не заковыристые тюремные выражения. А сегодня он торговал бы, как всегда, дотемна, а потом улегся бы спать в обнимку с мечтами. Почему же не отпускают на поруки? Кому это надо?
Из-под нар вылезла пузатая бутыль, в кружку плеснула ядреная жидкость.
– Ну, с Богом!
Выпили. Обиженно заныло обожженное горло, зато внутри приятно потеплело.
– Теперь вали как на духу, что там на самом деле сталося, – велел Огурка.
Платон начал рассказывать подробно, с отступлениями на адвоката и пристава. Чем больше он говорил, тем смурнее становились лица сокамерников. Вторая порция отрыгнулась головокружением. Колосок насупил брови, Паровоз уставился в темный зев окна. Почему-то представилось, что выхода отсюда нет и не будет. И Тони никакой нет, и лавки, только хмурые, разочарованные в жизни лица и чужой горький самогон. Сердце сжалось, стало маленьким, тело на нем болталось неродной одежкой.
– Ты зачем признался, паря? – перебил его Огурка. – Пусть бы доказывали, что енто ты зарубил.
– Да как же не признаться, если городовой на шум прибежал, а у меня топор?
– Ну и что? Надыть балакать, что его подельник пришиб, а ты помочь хотел, подобрал топор, вытащил из башки. А он товось, окочурился.
– Ого… – Платон растерялся.
– Да-а-а, – протянул Паровоз, – кореш дело гутарит. Ты мимо йшов. Ничего не маю, никого не вбивав.
– Дык он зеленый совсем, вот и не скумекал.
– А таперича кандец. Готовь нары, – беспечально подытожил Огурка. Кажется, такой поворот ему представлялся вполне закономерным и не служил поводом для огорчения.
В камеру впихнули еще двух бородачей. Они уселись в дальнем углу, косясь на новенького. Конвойный зажег лампу и принес пайку. Паровоз, Колосок и Огурка заскребли оловянными ложками по жестянкам, двое новоприбывших к еде не притронулись.
– Эй, ты, что ль, мово братку зарубил, паскуда? – Один из них, большеротый и писклявый, встал, направился к ящику, за которым Сенцов сидел перед нетронутой баландой. – Мы же с Лукой с одной грядки, вместе острожную лямку тянули! А ты его насмерть! Шаврик! Окаем!
Все отставили еду, уставились на визгливого, а он все приближался, не выпуская хлебалки из правой руки, только держал ее в кулаке, как нож. Платон вгляделся: в руке арестанта и в самом деле был нож.
Глава 2
Судебный следователь при Курском окружном суде Игнат Александрович Шнайдер принадлежал к редкому в Российской империи разряду просвещенных и бескорыстных поборников верховенства закона. Он взращивал карьеру со студенческой скамьи, послужил в Твери и Харькове, помотался по уездам мировым судьей, не побрезговал даже секретарской должностью, хотя к судебным лицам предъявлялся высокий имущественный и образовательный ценз и коллежский асессор полностью ему соответствовал. Самого Игната Александровича питали служебные амбиции и рвение, а его супругу и двух очаровательных дочерей – немалое приданое, выданное за Эльзой Адольфовной. Немецкая пунктуальность и дисциплина не позволяли лениться на службе, поэтому его хорошо знали в сановном Санкт-Петербурге, а здесь, в Курске, не брезговали с ним советоваться и окружной прокурор надворный советник Николай Николаевич Ульрих, и судьи, и господин полицмейстер, и глава жандармского управления.
Игнат Александрович при свойственной немцам бесцветности умудрился отрастить чернющие брови, усы и бороду. Прозрачные глаза совершенно терялись на затушеванном растительностью лице, а растерявшиеся от дерзкого соседства губы превратились в прелестную алую тесемку по ободку говорливого рта. Даже нос – вполне породистый нос древней баварской фамилии – смотрелся розовым обмылком. Разбойничья борода Шнайдера породила немало анекдотов среди недоброжелателей, кто-то выдумал, что он специально начал красить волосы на лице ради картинных поз в присутственных местах, другие говорили, что, наоборот, он голову выбеливал до цвета овсяной каши, а на самом деле волосы у него черны не меньше, чем душа. На самом деле судебный следователь краской не пользовался, а имел в родословной веселого итальянского корсара – прадеда, но как истинный представитель германской нации предпочитал об этом не распространяться.
Дело Сенцова, зарубившего топором мелкого жулика, болезненно откликнулось в законопослушной душе следователя. Если бы у него самого украли карету, или дубовый буфет, или любимый фарфоровый сервиз, Игнат Александрович непременно опустился бы до рукоприкладства (вот она – корсарова кровь!), но на служебном посту он поклялся чтить законность и категорически отметал мусор снисхождения. Убийства, то есть душегубства, не должно спускать, хоть умерщвленный Лука Сомов вызывал больше неприязни, чем его убийца. И притом закон не терпел многотрактовок, так что мотки отягчающих обстоятельств все туже и туже накручивались на шее несчастного пискуновского приказчика.
Платона повезли к следователю только через неделю, аккурат в канун банного дня. Тело чесалось от долгого неблюдения и дешевого мыла, борода отросла больше положенного и скомкалась, зато порез на боку закрылся черной шляпкой спекшейся крови и не донимал. Чистыми и ухоженными оставались только руки. Подельник Сомова Шинора, по всей видимости, не планировал усугублять незавидное положение убийством в каземате, он хотел просто показать, кто в доме хозяин. Шустрый Огурка первым заметил непорядок и умело подставил подножку; Шинора сбился с курса, но не упал, даже не замедлил броска. Он мазнул ножом по боку, вместо того чтобы вбить его гвоздем под дых, – непонятно, из-за подножки или изначально намеревался только попугать. Паровоз загудел, призывая к порядку, и одновременно навалился сверху, удерживая руку Шиноры от нового выпада. Платон лежал, собирая кровь в кулак, его мутило, перед глазами проваливался щербатой чернотой вонючий рот Луки Сомова.
Что ж, и на этот раз Сенцову повезло – удалось отделаться одним шрамом на боку. Наверное, ему на роду написано не умереть от ножа. Иначе все, кандец: у него за голенищем не оказалось топорика, а внутри – сил биться за никчемную жизнь.
Сенцов надел свежую рубаху, прошел во двор к тюремной карете. Улицы Курска накануне Масленицы отозвались печальным звоном родных колоколен, шипением сковородок на уличных лотках и оглушительными цветастыми платками на румяных бабах. Под прищуром солнышка наледь уже мякла, обминалась, но мороз сердился на нее, призывал к порядку.
Шнайдера на месте не оказалось, Платона завели в просторную провонявшую дешевым бакуном[8] комнату для ожидания. Она закрывалась на железную решетку, слева висел коричневый шнурок от нательного креста, толстенький, витой, скорее всего шелковый. Чья-то скучавшая рука завязала его многомудрым узлом. Внутри по лавкам расселись невезучие, мусорили семечками, травили скабрезные байки, хамили следственным чинам и требовали чаю с баранками. По ту сторону зевал и крестил рот конвойный, хлопала дверьми другая, чистая, приемная для приглашенных на дознание. В ней маялись три жандарма и один полицейский с пухлой кипой бумаг. Одна дверь хлопнула и выпустила наружу писца с самоваром. С ним вместе в приемную выпал крик:
– Откель ты энти прокламации поганые добыл? Отвечай, нехристь! Тебя батька отправил в город учиться, а не мозги пудрить никчемной пропагандой. Поразвелось тут анархистов, тудыть его, ни проехать ни пройтить!
Внутри бурлило что-то мятежное, непослушное. Через час-полтора оттуда один за другим с хохотом вывалились молодые люди, все в коротеньких тужурках, картузах, с наглыми глазами любителей правды. Из раскрытого дверного рта снова донеслось прищучиванье, как будто хмельной папаша ругал сына за обедом. Все ясно. Революционэры. Хотят равенства и братства. После русско-японской и 1905-го такие бублики не в диковинку. Почему бы им не пойти работать, как всем прочим, не завести дом, детишек? Платона удивляла их непоследовательная саморазрушительная тяга к бунту. Чего не хватало? Какие такие свободы манили, чтобы в конце концов привести на каторгу или на плаху?
Место бунтарей занял жандарм, через четверть часа высунул бородавчатый нос и кивком позвал второго. Писец занес обратно самовар, на этот раз с завитками вкусного пара над макушкой. Шнайдер все еще не появился. Конвойные перед решеткой сменились, потянуло чесноком и салом, ясно: пришло время обеда. Теперь господин коллежский асессор нескоро соизволит прибыть, ему ведь тоже положено потрапезничать за крахмальной скатертью с фарфоровой супницей и хрустальным фужером. Платон приготовился к длительной осаде. Ему не надоело пялиться в приемную, там менялись люди, куда-то убежал полицейский и прибежал со вторым, начальственным, ожидавших допроса уводили и приводили на их место новых. Он посторонился, давая дорогу бородачу в легком армячишке, а когда снова прилип к облюбованной решетке, снаружи что-то поменялось, будто посветлело. Сенцов наклонился вбок получше разглядеть: по проходу шла невысокая темноволосая барышня, тщательно подобрав пышную лимонную юбку, чтобы не задеть чужих сапог, не шоркнуть чистеньким цыплячьим по грязным половицам. Поверх прически она лихо взгромоздила черную шляпку с кокетливым перышком. Та еле-еле держалась, грозя свалиться, но канарейка не печалилась, вышагивала по коридору, подпрыгивая, чуть не приплясывая. Непрочно пришпиленная шляпка дерзко потянулась к двери, но конвойный ее осадил, указав на лавку у стены. Лицо незнакомки оказалось тонким, аристократичным, с небольшим правильным носом и огромными темными глазищами, разившими наповал встречных-поперечных. Матовая кожа отливала перламутром, справа на подбородке чернел поцелуйчик родинки. Незнакомка показалась Платону редкой красавицей, с такой только обертки для дамских папиросок рисовать. Возможно, первое впечатление обманывало его, потому что прочих барышень вокруг не наблюдалось, а, как известно, на бесптичье и курица покажется павлином.
Солнце поторговалось с колокольней и уступило ей место, встало в арьергард, в углах приемной собрались тени, а посередине желтая юбка светила не хуже лампы. Платон вежливо отводил глаза, но они сами липли к помеченному родинкой подбородку. Губы барышни едва заметно двигались: изящные, капризные, изогнутая прихотливой дугой нижняя и царственная верхняя. Красавица что-то бормотала, иногда опуская ресницы, рука ее в черной перчатке перебирала складки юбки, мяла и терла бахрому суконной пелерины. Изредка рассеянный взгляд останавливался на решетке, на коричневом шнурке и на прилипшем к порогу арестанте. Она неожиданно ему улыбнулась и стала еще красивее, теперь светилась не только парадная юбка, но и лицо, особенно волшебные, горевшие углями глаза. Сенцов с готовностью выдал ответную улыбку, а на сдачу еще выставил вперед ладонь, поперебирал пальцами в воздухе, как будто помахал. Она фыркнула и отвернулась. Но теперь, после короткой пантомимы, ему представлялось позволительным ловить взгляд и выцыганивать улыбку. Господин Шнайдер все еще отсутствовал, зато из бунтарской двери выкатились с довольными лоснящимися мордахами оба жандарма, увидели красотку, дружно отвернулись и едва не наперегонки бросились на улицу.
Девица же, не спрашивая, засунула свой прекрасный нос в открытую дверь и громко заявила:
– Ну, я пришла.
– Ты чего без спросу, Белозерова? Сиди там, пока не позову, – донеслось из комнаты.
– Некогда мне рассиживаться, у меня репетиция. Если есть что сказать, говорите скорей.
Сопровождавший ее жандарм вскочил, взял на караул, но не осмелился схватить за руку или насильно усадить. Невидимый грубиян-следователь прогромыхал каблуками где-то совсем рядышком и с силой захлопнул дверь перед замечательным подбородком.
– Ну и ладно. Я тогда здесь репетировать стану. – Белозерова встала в позу оперной певицы, задрала голову, рискуя все-таки уронить шляпку, и завела сильным сопрано:
- Allons enfants de la Patrie,
- Le jour de gloire est arrivé!
- Contre nous de la tyrannie
- L'étendard sanglant est levé[9].
– Белозерова! Чего творишь! Ну-ка зайди, я тебе мозги-то вправлю. – Дверь ожидаемо распахнулась после первых звонких тактов, присутствие оживилось, затопали сапоги, служилый люд высовывал любопытные клювики из бумажных гнезд, чтобы посмотреть на диковинную канарейку.
Певунья недолго гостила у следователя. Через четверть часа она выпорхнула и протанцевала по коридору к выходу под обалдевшие взгляды.
– И не вздумай голосить, – донеслось вслед из-за не затворенной вовремя двери.
Проходя мимо решетки, она еще раз улыбнулась. Платон жадно проследил за желтым пятном, пока оно не скрылось за перилами ведущей наружу трехступенчатой лестницы. Бывают же такие девицы! Нет, его Тоня другая, она глаз-то лишний раз не поднимет, не то что песни запрещенные орать посреди мужланов. Он вызвал в памяти бледный, как будто подернутый нежной глазурью абрис любимого лица, но оно почему-то казалось не таким прекрасным, не таким одухотворенным, как то, незнакомое, с горящими темным огнем колдовскими глазами под шляпкой с пером.
В тот день он так и не познакомился с Игнатом Александровичем, тот не доехал до службы, повязанный поручениями окружного начальства. Сенцова отвезли обратно в тюрьму, он весь вечер молчал, перебирая богатый событиями день, желтую юбку и поцелованный родинкой подбородок.
Первая встреча со следователем случилась через три дня, прежний шнурок с решетки исчез, его место заняла дешевая, пожеванная на концах розовая лента. Снова пришлось долго ждать, успелось сосчитать пуговицы на жандармских мундирах и поболтать с околоточным о ценах на хлеб и овес. Дам в присутствии не встретилось. Когда Шнайдер наконец пригласил к себе, солнышко уже утомилось нести караул в зените и перевалило на закатную сторону, спряталось за глыбой храма. Арестант проголодался, измучился ожиданием, ему хотелось только одного: вернуться в свою камеру и улечься, уставиться в окно. Пусть бы там снова начался снегопад.
– Вы раньше были знакомы с убитым? С покой ным Лукой Сомовым?
– Нет.
– И не видели?
– Нет, не видал. Я же рассказывал, что он сам на меня напал, ножом размахивал. Мне не оставалось выбора.
– Выбор есть всегда, – припечатал Игнат Александрович, – ладно, пишите.
– Что писать?
– Что во всем признаетесь. Что убили по неосторожности, обороняясь. – Он выложил на стол чистый лист бумаги и перо.
– А что со мной будет?
– Это не я решаю. – Следователь поскучнел. – Лично я вас прекрасно понимаю, но убивать все равно не положено. За душегубство следует наказание.
– Какое? – Придержать язык не получилось, хоть в камере его и учили не задавать вопросов законникам. Да и пусть! Такой интересный светловолосый и чернобородый господин с умным проницательным взглядом и книжными словами не мог с кондачка надурить, он точно поможет.
– У вас отличный адвокат, один из самых дорогих. Только… только улики неопровержимые и вы сами признались во всем.
– Да, признался. А как было скрывать, если городовой прибежал?
– Скрывать не надо. Сокрытие только усугубляет преступление и, соответственно, наказание. – Чернющие усы Игната Александровича брезгливо дернулись, как от горького табаку.
– Я не мог уйти и притвориться, что ничего не видел. Иван Никитич имел бы полное право заподозрить в подличании, то есть записать опосля к ним в подельники. – Так научили отвечать бывалые арестанты, по их мнению, этот аргумент мог упасть весомой гирькой на весы защиты. Они насовали много полезностей. Например, сказать, что нож показался ему огромным тесаком, что топор не вытащил из-за голенища, а схватил в темноте первое, что под руку попалось. Эти припасы ждали своей очереди.
– Вероятно, но малозначимо… – Шнайдер помахал перед носом испачканной чернилами рукой, словно отгонял мух. – А правда, что в лавке купца Пискунова отовариваются ямские разночинцы, те, кто раздает прокламации?
Вопрос оказался неожиданным.
– Может, и да, может, и нет. Тут такая акробатика, господин прокурор, я не спрашиваю гостей, чем они промышляют. – Конечно, хороший приказчик знал всех постоянных покупателей и мог с уверенностью перечислить среди них благонадежных и не очень, но сокамерники увещевали не выкладывать все как на духу.
– Я не прокурор.
Само собой, Сенцов знал, что Шнайдер никакой не прокурор, но братухи наущали подмасливать судейских, жаловать еще не выслуженные чины.
– У меня зрение не ахти, – пожаловался он, краснея, – все не дойду до доктора. Вот и не разгляжу толком, кто заходит, как одет, что раздает.
– Зрение, говорите? А как же с товаром разбираетесь?.. Кстати, вы как к рэволюционэрам относитесь? Сочувствуете? Ходите на собрания, сходки?
– Нет. – Платон растерялся. – Ни разу не был и не слыхал даже. Я беспорядков не люблю.
Он послушно записал признание под диктовку следователя, запоздало подумал, что опять опростоволосился.
– Так. Хорошо… Хорошо… – Игнат Александрович поклевал пером в чернильнице, покорябал внизу листа, отложил в сторону. – Ступайте.
Еще неделю пришлось проваляться в полупустой камере, почесывая заживавший бок. Шинору с приятелем после приключения с ножом перевели в другое помещение, иначе бы Сенцову не спать, все чудился бы шнурок на шее или занесенное над шконкой лезвие в лунном свете. С Паровозом они сдружились, болтали о чепухе, Огурка и Колосок не выпускали из рук карт.
Когда его повезли на следующий допрос, весна уже вовсю торговалась с сугробами, отдавала на откуп подворотни, а себе забирала мокрые булыжники мостовой и расквашенные колеи немощеных улиц. Озорной луч попробовал залезть и в зарешеченное окно арестантской кареты, но его быстро выпроводили, свернув на тракт.
В этот раз Шнайдер оказался на месте и ждать не пришлось.
– Так у вас, оказывается, заварушка в камере случилась? Не знал. Недавно доложили. – Следователь, казалось, принял историю близко к сердцу.
– Да чепуховая акробатика.
– Ну как же? Нападение на заключенного Его Императорского Величества. За вас ведь казна ответственность несет, дорожит, можно сказать.
– Не надо мне, лучше домой отпустите. Я все равно не сбегу.
– А вот это, господин Сенцов, от вас зависит.
Шнайдер задал с десяток никчемных вопросов про рабочий день приказчика, отчего он задержался в ночи, чем занимался, не специально ли потащился в лабаз, не имел ли там сокрытой корысти или сговора. Сенцов отвечал подробно и доброжелательно, так, будто хотел пристроить следователя младшим приказчиком. Под конец разговор, сделав петлю, снова вернулся к Шиноре.
– А могло статься, что вторым татем и был этот Шинора?
– Н-не знаю. Я совсем не разглядел его.
– Как же? Подумайте хорошенько. Вдруг он испугался разоблачения, потому и решил вас приструнить. Или другой замысел имел, чтобы его перевели от вас подальше. Вдруг бы вы его назавтра признали?
– Не могу судить, господин прокурор. Я же простой приказчик, до вашей уголовной науки еще не дорос.
– Жаль, жа-а-аль, – огорчился Шнайдер. – А скажите мне, господин простой приказчик, сокамерники с вами бунтарскими настроениями не делятся?
– Что? Какими? Нет, не делится никто.
– А вот это плохо. Вы скрытничаете… Этого как раз не надобно.
– Я… – Платон хотел сказать, что глуховат, но в довесок к слеповатости это выглядело бы совсем комично. – Я буду прислушиваться. Признаться, не люблю болтовни и… сильно расстроен, не участвую в беседах.
– Так вы поучаствуйте, любезный. У вас отличный послужной список, за вас ходатайствует купеческая гильдия. Надо приложить все усилия, чтобы выбраться чистеньким из этой непутевой истории.
Сенцов многообещающе покивал и едва не подпрыгнул от радости, когда допрос закончился. В приемную он вышел отдуваясь и не глядя по сторонам. Безмятежно сплетничавший в углу конвойный небрежно кинул, чтобы ждал, мол, по нужде надо сбегать, но сам с места не двинулся. Это хорошо: можно подойти к окну и поглазеть на свободный мир. По мостовой гарцевала лошадь под франтоватым поручиком, пацанва с санками топала гурьбой к речке: малые седоками, большенькие – в упряжи. У самых везучих поперек груди блестела железная амуниция коньков. Сзади хлопнула дверь, следом скрипнула половица.
– Эй, товарищ, ты политический? – Сбоку незаметно подкралась строгая фигурка в черном – невысокая худышка с родинкой на подбородке. От глаз можно было прикуривать. – Политический, спрашиваю? – Она напала без объявления войны, как будто они знакомы сто лет.
– Нет, я… я по убийству.
– А, ты тот, кто воришку топором зарубил? – Две жемчужные полоски осветили тонкое лицо. Она стояла рядом, родинкой к окну, спиной к присутствию. – Правильно, счастье нужно отвоевывать с оружием в руках. Это сначала жулье, потом посерьезнее противники сыщутся. Пойдем к нам. – Она оглянулась на конвоиров, убедилась, что им нет дела до того, что творилось за спиной, и сунула Платону плотный брусок из тонких, аккуратно спрессованных бумажек.
Он испугался, но не смог увернуться или отказаться. Прокламации перекочевали к нему за пазуху, приятно согрели чужим сладковатым теплом.
– Меня Платоном Николаичем зовут, а вас? – Он приосанился, как перед богатыми покупателями.
– Ольга. Просто товарищ Ольга. Или товарищ Белозерова. – Она говорила тихо, но внятно, приятным высоким голосом.
– Что вы тут шепчетесь? – гаркнул конвойный с квадратной челюстью, тот, кто в самый первый день сопровождал Сенцова.
– А я товарищу стихи читаю. Хотите послушать?
Ольга выпрямилась, приподняла подбородок к серому потолку и начала декламировать:
– «Всадница в желтом ведет за собой, голосом мертвым напутствует в бой…»
– Тьфу, че попало, – вяло отмахнулся конвоир, кивнул Платону и повел к выходу, даже не посмотрев на припухший под рубахой живот.
В этот раз он не запомнил обратную дорогу к тюремному замку, то ли бесшабашное солнце по-весеннему било в глаза, то ли в них стоял отсвет Ольгиных углей. За пазухой жгло ненужное и запрещенное, но пахнувшее ее руками и телом.
Вернувшись в камеру, Платон первым делом вынул Ольгин сверток. Может, там признание? Или любовные стихи? Какая романтическая ис то – рия – страсть в заточении! Но листки оказались политическими призывами против царя и за свободу, набором напыщенностей на бросовой бумаге. Он невнимательно прочитал, покачал головой и принялся многословно живописать камерному собранию все перипетии насыщенного дня: и про допрос у следователя, и про знакомство с Ольгой.
– Да они все как помешанные на бунтарях. – Паровоз развернул прокламацию. – Им до другого ажна дела нет.
– Лопухи они, а не жандармы, – засмеялся Огурка, стреляя рыбьими глазами то в дверь, то в угол. – У них под носом агитацию раздают, а они косят по-за лугом.
– Пущай такими и бувают, не окорачивают люд. – Сергей понюхал бумагу, и Сенцов едва не протянул руку, чтобы забрать ее, не растрачивать Ольгин запах на чужаков.
– А я ее знаю, твою желтую юбку. – Огурка неожиданно развеселился. – Она ж, прости господи, то с барином любилась, то с солдатней, теперь вот с бунтарями.
– А и точно. – Колосок спустился с верхних нар, подошел к параше, облегчился, приговаривая: – Олюшка-полюшка-касатушка-мохнатушка. Прости господи, она, точно. Я тоже про нее подумал. Родинка у ей тута. – Он ткнул грязным пальцем себе в подбородок.
– И сидела она туточки как миленка, а потом выпустили. А кого отсель выпущают? Ага, тех, кто подмахивает кумовьям. Пошла по рукам наша Оленька, да, видать, не по вкусу пришлась, раз опять поприжали.
Платон резко встал с ящика и отошел к окну, уткнулся носом в израненный прутьями решетки откос. Он знал, что лицо полыхало борщом.
– Ты чаво? – Паровоз что-то почуял.
– Что-то голова болит. – Жалоба получилась ненатуральной, лучше смолчать, не лезть, но тут он с удивлением услышал собственный голос: – Нет, она не такая, окоротись!
Трое удивленно замолчали.
– Да ты, Табак, никак втюхался! Ой, держи меня, мамонька, втюханный Табачок!
В Сенцова полетели тычки, смешки, скабрезности. Он сто раз пожалел, что не прикусил себе злосчастный язык.
…А еще через неделю довольный Огурка принес известие:
– Слышь, Табак, готовься к свадьбе! – Он отвесил шутливый подзатыльник и зашелся смехом. – Твою кралю посадили, скоро по этапу вместе покандылябаете.
Игнат Александрович не причислял себя ни к беркутам, ни к стервятникам. Он не велся на жалость, но и не пер напролом. Виноватых и невиновных долг велел четко разделять вне зависимости от чинов и сословий, и немецкая честность не позволяла лукавить с законом. На допросах он легко выбраковывал из хитрованской речи реплики с камерных нар, отшелушивал правду от придумок. Испытуемый представал перед судебным следователем как перед господом богом – прозрачный до последней мысли, развинченный до меленькой шестеренки в мозгу. Так работать легко и приятно. Платон Сенцов ему понравился: простой, открытый и неглупый. Преступление его виделось серьезным, однако в случае покладистости можно и надавить на смягчающие детали. В общем, неплохо бы его вытащить отсюда, но исход дела зависел только от самого обвиняемого, всегда от него одного.
В дверь, дважды легонько стукнув костяшками пальцев, вошел становой пристав Парфен.
– Здражелавашблагродь.
– Ну что?
– Отдала ему.
– А он? – Шнайдер поднял черную бровь.
– Схватил как миленький.
– Та-а-ак. Сочувствует, значит.
– Выходит, так. – Парфен пошевелил седыми усами, будто извиняясь за чужие прегрешения.
– А она что?
– Да эта сучка с любым снюхается. Ей же ж хоть кол на голове теши!
– М-да… Жаль.
– А то.
– Ладно. На нее готовь прошение о заключении в острог. Хватит баламутить.
– И то верно. – Парфен попрощался и вышел.
Игнат Александрович без удовольствия сел переписывать уже готовый черновик по делу Сенцова.
Дни в тюрьме походили один на другой, как папироски в одной пачке: ни кушанья, ни разговоры, ни лица не менялись. Иногда приходил одышливый адвокат, дважды наведался Иван Никитич, жал руку, обещал, что будет помогать, передавал записки от прочих приказчиков, от Екатерины Васильевны и Тонечки. Дамы стеснительно надеялись, что все образуется, между строк проскальзывало искреннее сочувствие. К письмам прилагались печенье и табак, очень нужная вещь в тюрьме, хоть Платон так и не выучился его курить, нюхать или жевать. Еще два раза его возили к Игнату Александровичу, и один раз набился на свидание участковый пристав, тот, что оформлял признание в самый первый день.
– Ну как ты? Нос не повесил? – спросил с доброй улыбкой пристав, протягивая какие-то недостающие для суда бумаги.
– Еще чего! – с заученной бодростью ответил Платон. – Может, еще что другое повесить? Не дождетесь! – стандартный ответ арестанта, чтоб уважали.
– Вот и правильно, вот и хорошо, а на остальное – милость правосудия и Его Императорского Величества.
– А при чем здесь Его Величество?
– А как же? Адвокат-то прошение писать будет о помиловании.
Значит, его уже осудили, уже готовят прошение о помиловании. Прощайте, Антонина Ивановна и сладкая жизнь под боком у доброго Ивана Никитича. Ладно сформулированная мысль про Тонечку мелькнула в голове привычной прирученной курочкой, но на самом деле он денно и нощно думал об Ольге. Тюремная молва донесла, что ее отправили под домашний арест за участие в петербургских тайных сходках. И никакой прости господи она не была, просто норовистая, не смирная. Здесь, в Курске, тоже не сидела молчком: жандармы приписывали ей то листовки, то самодельные гранаты, то контрафактный шоколад. Какие гранаты? Никто этих гранат в глаза не видел. Глупости!.. При чем тут шоколад, если речь шла о мятежах? Наверняка добавили, чтобы обвинение выглядело поувесистее. Вот ее ведут по коридору во двор, вероятно, к следователю. Наверное, тот будет склонять ее к непотребствам. Неужели согласится? Он жадно цеплялся взглядом за удлиненное, сияющее роковыми алмазами лицо, будь она хоть в неприметном коричневом зипуне, хоть в замызганных калошах. Вот она гуляет с товарками, задирает сторожевых. Вот от нее передали записку. Не ему лично, а для всех – очередная пропаганда и бунтарские призывы. Просто слова ни о чем, а сердце закудахтало, заметалось пойманным в силки тетеревом. С чего бы это? Ведь его мечты посвящены одной Тонечке, нежной и скромной царевне купеческой лавки. А тут эти огненные глаза, эта неженская хватка.
При всей шелухе скандальных сплетен Ольга не боялась ни исправника, ни черта, ни быть осмеянной, продолжала весело распевать запрещенные песни, дразнить жандармских чинов и все тщилась передать невольникам прокламации. Сокамерники их читали, называя пустобрехом, смаковали анекдоты про царя и про Столыпина, хвалили смелость отпетой мятежницы Белозеровой и ложились спать, несколько раз перекрестившись и пожелав друг другу сладких, а лучше сладострастных снов.
Белозерова, казалось, вовсе не замечала Сенцова, и он тоже в конце концов успокоился, сумел все-таки перебороть себя: снова начал думать о Тонечке, вишневых присадках, маменькином огороде и ажурных локонах кружевной салфетки на буфете Екатерины Васильевны Пискуновой.
– Слышь, Табак, Ольгу-то твою сегодня на каторгу осудили. – Довольный Огурка щерился и протягивал руку, чтобы похлопать по плечу. – Ну все, готовься к свадьбе.
То есть они для себя постановили, что ему тоже дорога на каторгу. Говорить об этом по тюремному уставу не полагалось. Он покраснел и возмущенно фыркнул:
– При чем тут свадьба? Зачем вы меня конфузите?!
– Да брось, а то мы не видим, как ты ее глазенками-то кушаешь! Ладная девка, нечего сказать.
Ну любуется он, ну и что? Разве запрещено смотреть на красивое?
Перед судом его сводили в баню, подстригли, побрили, выдали чистую одежду. Подготовили как надо, отчего в душе упрочилась надежда на добрый исход. Как будто тюремные власти тоже хотели, чтобы Платоша не ударил в грязь лицом, чтобы судейские увидели воспитанного и законопослушного молодого человека, поняли, что на каторгу ему никак нельзя. В зарешеченное окно заглядывала равнодушная апрельская луна, желтая, как юбка Белозеровой. А ведь в эти самые деньки, в апреле, Сенцов планировал посвататься к Антонине Ивановне, витал в прибыльных грезах, смея и не смея надеяться, что сможет называть ее волшебным словом «невеста», произносить по слогам «об-ру-че-ны», как в стихотворении, как в песне. Из темноты выплывал милый профиль с опущенными долу сонными глазами, синими, как озерная вода, пепельные локоны струились по плечам, она открывала губки, чтобы произнести заветное «да», отворачивалась, но волосы внезапно темнели, лицо удлинялось – и вот уже перед ним не Тонечка, а опасная девица Ольга Белозерова декламировала непонятные стихи: «Всадница в желтом ведет за собой…» Платон вздрогнул и проснулся.
– Пора. С Богом. – Паровоз поднес кружку кипятка и чистое полотенце.
…Ему присудили каторжных работ на четыре года. Могли перевести на поселение, но Курск он увидит не раньше 1916-го. Игнат Александрович составил зубодробительное обвинение, упирая на святость человеческой жизни и непопустительство смертоубийству. Иван Никитич выпросил право выступить перед судом, горячился, адвокат кровоточил красноречием не хуже матерого конферансье, но не помогло. Или помогло? Могли ведь присудить и больше.
После процесса он долго сидел с Пискуновым наедине в какой-то судебной комнатушке, оба по большей части молчали. Прибежал запыхавшийся адвокат, пригрозил, что будет писать прошение на высочайшее имя, и убежал.
– Платоша, со всяким бывает… случаются камуфлеты[10], Христос терпел и нам велел. – Иван Никитич похлопал его по плечу. – Во всяком случае ты знай, что после всей этой… скрипучести ты снова можешь приехать и работать под моим патронажем.
– Благодарю, Иван Никитич, передавайте благопожелания Екатерине Васильевне и Антонине Ивановне, – только и сумел выдавить камуфлетчик.
Когда забрызганная грязью тюремная карета привезла его назад, к высокому каменному забору с коваными воротами, навстречу выехала другая, поменьше. Из окна выглядывал прямой без единой лишней черточки нос и неравнодушные горячие глаза.
– Эй, товарищ, как у тебя дела? – крикнула Ольга, на нее зашикали.
Платон невесело помахал рукой.
– Вот так жандармы расправляются с нашим братом, товарищ! – Звонкий голос растворился в цокоте копыт.
В камере его встретили сдержанными вздохами и крепким чаем. Паровоза к тому времени тоже осудили, он ждал этапа, Огурка крутился перед околоточным, как вошь на гребешке, уже третьего сменил, никто пока не мог подобрать к нему ключик, конопатый Колосок играл в молчанку, надеялся, что отпустят.
Сенцов улегся на свою шконку еще засветло, отвернулся, уставился в окно. Вот и все. Не будет ни торговли, ни собственной лавки, ни навощенного паркета в гостиной, ни нежной Тонечки за накрахмаленной скатертью. На деревьях собирались серыми каплями ранние почки, кое-где наружу уже высовывались нежно-зеленые перышки, из форточки призывно пахло весенней землей, расквашенной талыми водами и щедро сдобренной навозом. Это был тревожный запах несбывшегося счастья.
Еще три недели продлилось ожидание. Вдруг еще передумают, переиграют? Вдруг покойный Лука Сомов окажется чудовищным упырем, за избавление от которого полагался не каторжный срок, а почетная грамота? Пришло грустное письмо от Антонины Ивановны. Между вежливых строк Платон прочитал, что она ему предана и собирается ждать из неволи. Он поначалу воспрял духом, забегал по камере, по-петушиному выпятив грудь, но под насмешливыми взглядами сокамерников сдулся, осел, как перестоявшее тесто.
– Все марухи пишут одинаково, паря, не бери на голову, бери метром ниже, – усмехнулся Сергей.
Он прав. Что значит «буду все так же коротать вечера с альбомами» или «вашу честную душу не сломят такие грозные испытания»? Это ведь ничего не стоившие слова, просто заверения в дружбе, без сердечного междустрочья.
– Не робей, братуха. – Колосок, которому он тоже показал письмо, ободряюще ткнул кулаком в плечо: – Гарно пишет, знать, не серчает, люб ты ей.
Платон поверил. В его положении очень важно уповать на хорошее, все жизнелюбивое внутри – а его в человеке ой как много, с излишком, плещет через край! – все это заставляло надеяться на лучший исход. Через три недели сформировался этап в Сибирь. Тюремщики вывели арестантов во двор, разделили на три кучки: политические, уголовники и женщины. За высоким забором хозяйничал май, дразнил птичьим щебетанием, пускал в глаза цветочную пыль. Среди женщин Платон с удивлением увидел Ольгу Белозерову.
– С политическими быстро расчухониваются: раз-два и готово. – Стоявший рядом Паровоз заметил его удивленный взгляд.
– В месте поедем, выходит? – Глупейший вопрос вырвался сам собой.
В ответ прилетел только презрительный цвирк.
Этапированных погрузили в телеги и повезли на вокзал, не старый, не в Ямской слободе, что открыли для специального поезда Александра Второго, когда тот возвращался из Крыма, а новый, в центре города – многоярусный теремок с каскадом маленьких зеленых крыш, похожий на разлапистую елку. Всю дорогу Платон не сводил глаз с прямой свечечки Ольгиной спины. На самом деле он хотел полюбоваться напоследок милым Курском, запомнить буйство цветущих садов по берегам непослушной Тускари[11], чванливые фасады Гостиного двора и густой, пробиравший до кишок звон Сергиево-Казанского собора. Но смотрел на изящную скрипочку белозеровской спины и ничего не мог с собой поделать.
На вокзале их долго продержали перед вагонами, он слышал, как Ольга читала стихи своим товаркам в теплых платках и чунях, но с одухотворенными, некрестьянскими лицами:
– «Тайны Атланты героев манят, гибнут таланты, горны звенят!»
Наконец поехали. В вагоне пахло пылью и кислой овчиной, из щелей сочилась паровозная гарь. Платон пробрался ближе к тамбуру, залез с ногами на приступочек и смотрел в маленькое зарешеченное окошко. Мимо поплыли леса и заливные луга, слюдянисто поблескивавшие на задорном майском солнце. Сквозь чертополох веков на него смотрела земля прадедов, сытое Черноземье, удобренное костями и потом не одного поколения Сенцовых. Он не сомневался, что выдюжит, крепкая крестьянская кость еще не размягчилась на купеческих перинках, и годы впереди еще сочные, успеется и копейкой разжиться, и деток нарожать. Про Тоню лучше забыть. Или нет? Остаться в Сибири навсегда – это не для него. Лучше попробовать написать ей, вложить записку в письмо для Ивана Никитича, мол, скучаю без ваших уютных вечеров за рукоделиями, передаю привет, если не имеете намерения знаться с каторжанином, лучше скажите напрямик, и я не стану докучать. От ее ответа будет зависеть, по какой колее покатится его жизнь.
Колеса натужно подвывали, жалуясь на них, постанывал вагон. Кто-то сиплый рассказывал, как готовить гашиш, из каких листьев. Гашиш – это ведь тоже табак, только непростой, с ним нужна мера и опасливость. От села к дороге брела баба, продолжавшаяся приклеенными к юбке малышами. Ей наперерез утка-мать вела выводок к глянцевой луже. Кто быстрее? Вдалеке мужик рубил сухую осину, на солнце поблескивало острие топора. «Кабы старуха его топором зарубила, я бы…» Вот, пожалуйста, Иван Никитич, извольте порукоплескать… Поезд резко остановился, скрежет выламывал уши. Потом снаружи послышались топот, ржание. Через минуту по откосу прогрохотали выстрелы.
– Открывай вагоны, товарищ, – прокричал снаружи веселый молодой голос.
– Уйди, стрелять буду, – неуверенно пообещал конвойный.
– Ты что, в брата стрелять будешь? В своего товарища? В рабочего? В пролетария? – наседали у двери. Судя по голосам, их собралось не меньше десятка.
– Ш альной, поди прочь. Ажно стрелять буду! – истерично завизжал конвоир.
Раз шугнулся, стрелять точно не станет.
– Братухи, подналяг! – послышалось бородатое гудение из середины вагона. Толпа хлынула к дверям.
– Мы противники насилия, никого не станем увечить, – заверил кричавший снаружи. – Просто откройте дверь и выпустите политических.
– Эй, инда шо политических? Всех замай! – Бородатый гундеж настаивал на своем.
Кажется, пропаганда добилась желаемого результата, конвой стрелять не начал, вместо этого отодвинул засов одного из вагонов. Праздничный лязг послужил сигналом остальным.
– Выходите, голубушки, – манерно, как на прогулку, пригласил басок с поволжским оканьем.
Из женского вагона послышались смешки и возня. Кто-то спрыгнул на насыпь. Завошкался засов и на втором вагоне, и на третьем. Окно, к которому прилип Сенцов, выходило на другую сторону, к уткам и луже. Он пожалел о неудачной диспозиции, но поменять уже ничего не мог, толпа грозила раздавить, смять и съесть. Их вагон, последний, не на шутку взволновался, мощные кулаки стучали по дощатым стенам, поскуливание превратилось в грозный храп.
– Братки, встречайте! – Из второго с глухим всплеском свалился грузный куль, наверное, мешок с харчами скинули. Следом мягко стукнули по траве подошвы.
– Уголовников как, тоже забираем? – поинтересовался молодой.
– Эй, братва, открывай скорее, мы ж свои, пролетарии, – загоношились уголовники.
– Открывай! Всех сюда! В борьбе за правое дело каждый кулак пригодится! – Платон узнал голос Ольги.
Створка поползла вправо, затылки и воротники посыпались в просвет. Он тоже подошел поближе к приветливому желто-зеленому квадрату. Внизу толпились заключенные, принимали своих, конвойные стояли поодаль, курили, их пас усач в матросском бушлате, рядом валялись винтовки.
– А может, и вы с нами, солдатушки? – чубатый парень в кожаной тужурке и фуражке набекрень обратился к солдатне.
– А можно! Нам-то неча терять, – прошамкал беззубый в распахнутой шинели.
– Цыц! – одернул его старший, рослый седой служака, которому до отставки оставалось всего-ничего. С ним все понятно: не имело смысла бегать наперегонки.
Уголовники продолжали сыпаться на землю.
– Эй, Табак! Айда, – грубо дернул за рукав Сергей.
В двери показался тонкий профиль Белозеровой, звонкий голос с предвещавшими грозу нотками предостерег:
– Только не буянить. Мы в одну сторону, вы в другую. Ясно? – Она разглядела в вагонном сумраке Платона. – А ты что застыл? Пошли же! – Ольга протягивала ему руку и улыбалась злой дерзкой улыбкой. Глаза горели под темными, выбившимися из платка прядками, жгли колдовским сиянием.
– Скорей, братва, жандармы скочут! – завопил кто-то дурным голосом.
– Ну? – Она нетерпеливо повела плечом и отошла от двери.
Глава 3
Антонина Ивановна, единственная дочка купца Ивана Никитича, росла послушной и некапризной, старательно учила французские глаголы и по праву гордилась успехами в чистописании. Когда-то у четы Пискуновых был еще и сын, старше Тони, но его забрала в могилу хворь, и маменька страшно боялась, когда дочка, ее драгоценный цветочек, расцветала ячменем на глазу или, не дай бог, застужала ножки. Екатерина Васильевна кутала дитя в тридцать три одежки, натирала барсучьим жиром, следила, чтобы не оставалось открытым на ночь окно в спаленке. Так и выросла Тонечка тепличной мимозой, не привыкшей к ветрам, опасливо глядевшей на улицу и не улетавшей в мечтах слишком далеко, не дальше курского Гостиного двора.
Двоюродная тетка по маменьке Василиса Павловна куковала старой девой и часто навещала Екатерину Васильевну: помочь с вареньем или гусем, посмаковать проступки родни. Она жаловалась громким скрипучим голосом на жизнь и на цены, огульно ненавидела всех мужчин вообще, а счастливых в семейном кругу особенно. Для Тонечки у нее всегда имелся гостинец, а для батюшки – обидная шутка. Не в глаза, конечно, за спиной. Мать знала, что дочке не по нутру эти насмешливые прибаутки, и огорчалась, но одернуть старшую не смела, наоборот, предательски подхихикивала. Вместо этого по вечерам, оставшись наедине, она подмасливала Тоню пряничком и слащаво уговаривала:
– Ты батюшке не передавай, что слышала, хорошо? И вообще… к тетушке Василисе не больно прислушивайся, она безмужняя, обиженная. Не о ком печься, вот и злится.
– А почему с ней никто не поженился?
– Так вышло. Ты мала еще про это думать. Просто поверь, что она сердечная и любит нас, добра желает.
Худое лицо Василисы Павловны собиралось к острому вздернутому носу, подтягивалось, как ткань к узлу. Пышная, черная с проседью прическа казалась слишком тяжелой для маленькой головы, и невзрачные губы поминутно на это жаловались, вытягиваясь куриной гузкой.
– Василиса здорова ли? Что-то она совсем высохла, – спрашивал Иван Никитич за ужином.
– От безмужья и бездетности сохнет, – отвечала Екатерина Васильевна и испуганно смотрела на Тоню, поняла та или нет.
Вступив в гимназическую пору любопытства, Антонина расшифровала, что скрывалось за маменькиными непонятностями. Она начала поглядывать на тетку свысока, жалея и немножко осуждая. Ну как та могла уродиться настолько непроворной, чтобы не заполучить хоть какого-то жениха? Любого! Приданое у ней имелось, собой не уродица, а дурной характер отрос уже в постылом одиночестве. Нет, с Тоней такого точно не могло произойти, ни при каком повороте.
Василиса Павловна изредка приводила с собой крестника, Алешу Липатьева, он рано осиротел и мыкался на казенных харчах. Алексей был таким же занозистым, как сама Василиса, колет без спросу, язык как змея. Видя, как прикипела к крестнику бездетная тетка, Тоня еще больше ее жалела и еще сильнее задирала нос. Алеша казался ей безнадежно взрослым и скучным, но маменька почему-то его привечала, закармливала, а когда они уходили, бормотала про себя: «Пусть… Может, и сгодится». Дочь догадывалась, что эти невнятности имели какое-то отношение к ее судьбе, но не примеряла на себя ни Василису, ни Алешу. Зачем дочке купца Пискунова рядиться в одежды неудачников? Она домашняя, при своей спаленке, маменьке и папеньке, вся мягкая, закругленная, неколючая. У нее все сложится.
Екатерина Васильевна не всерьез привечала Липатьева, она не скрывала мечту выдать Антонину за какого-нибудь карманного приказчика, пусть не слишком богатого, зато не строптивого, откупить для него в кредит лавочку по соседству с мужниной, чтобы под присмотром. Они в свое время так же сошлись с Иваном Никитичем: он служил приказчиком в доме ее деда – большого и многодетного зерноторговца, отличался предприимчивостью и худобой, с коими не расстался и по сей день. Катенька с первого дня стала ценным подспорьем молодому купцу: не столько приданым помогала, сколько подслушанными у дедушки советами. Так и прирастала торговля, множились барыши, прикармливались заказчики. Даст бог, и у Тонюши сложится.
Дочка послушно подглядела маменькины фантазии и поверила, что это ее собственные: зажить в квартирке над лавкой, в два яруса, только гостиную обить желтым шелком, чтобы потеплее. Она бы сама жарила курицу на воскресный обед так, как бабушка учила по еврейскому рецепту, и вышивала бы на праздничных салфетках красногрудых снегирей, каких видела в гостях, запомнила и влюбилась. Книжки Тоня не очень жаловала, там попадались какие-то страшные истории, непременно заканчивавшиеся смертью влюбленных. По этой же причине осторожничала с театральными представлениями: там легко расплакаться, и все будут смотреть как на юродивую. Лучше заняться рукоделием: и на душе спокойно, и в доме попригляднее. А если уж совсем некуда время девать, можно погулять по набережной под ручку с маменькой или подружкой, полюбоваться пышными осенними палитрами или пасторальными зелеными лугами, а зимой вообще чародейская сказка с хрустальным перезвоном сосулек на замерзших ветках. По воскресеньям обязательная служба с приторным духом ладана и ангельским хором, от которого начинало часто-часто стучать сердце и опять наворачивались на глаза непослушные слезы.
Такими безобидными занятиями заполнялись ее дни один за другим незаметно, как шкатулочка, куда складывались монетки, и вдруг оказывалось, что она полным-полна, что уже надо обменивать мелочь на хрустящие бумажные деньги и идти в лавку что-то покупать. А что – непонятно. Выбирать страшно, вдруг ошибется, а накопленных монеток не вернуть.
Василиса Павловна скончалась от сухотки, едва Тоне исполнилось семнадцать. Екатерина Васильевна сильно горевала и винила во всем бессемейность. Они вместе много вишни очистили от косточек и даже придумали вскладчину настоящий фирменный рецепт соленых груздей. Теперь, когда тетки не стало, а Тоня подросла, у матушки развязался язык. Потихоньку разматывая ленту чужой биографии, барышня узнавала, что тетушка когда-то числилась в невестах, что ее жених сгинул с народовольцами, а от прочих она сама отворачивалась, ожидая своего суженого. Но он не вернулся: или смерть заграбастала, или смазливая сибирячка. К тому времени как-то незаметно истончился и облетел возраст для сватовства, охотники разбрелись по чужим гостиным. Выходило, что Василиса не проворонившая мужа клуша, а просто несчастная, чьей судьбой удача поиграла и бросила за ненадобностью. Такие истории Тоня не любила, они пахли непредсказуемостью и коварством, от таких ей снова и снова хотелось плакать. Лучше уж держаться чего-то понятного и безопасного, как маменька желала.
В общем, Антонина Ивановна не мечтала о сказочном рыцаре на белом скакуне, ее вполне устраивал папенькин приказчик Платон Сенцов. В восемнадцать лет будущее казалось беспечно-розовым, а обязательные трудности – нестрашными и преодолимыми в полпрыжка. Главное, чтобы неподалеку от батюшки с его мудрыми советами и матушки с ее пирогами. Платоша с его робостью за вечерними чаепитиями как нельзя лучше подходил на роль заботливого мужа и отца, а от его нечаянного касания по спине бежали мурашки и некстати краснели щеки. Иван Никитич одобрительно кивал, когда жена заводила за семейным столом разговор про достоинства приказчика, и тут Тоня примерно опускала сонные глаза. Екатерине Васильевне нравились уважительность к старшим, некрикливая верность купеческому уставу, Пискунов называл его ловким на язык и сметливым, а главное – преуспевающим в коммерции. Самой же купеческой дочке Сенцов казался симпатичным, особенно серые в крапинку глаза. Нос, конечно, длинноват, зато зубы ровненькие, не хищные, хоть и желтоватые. Она представляла себя рядом с рослым Платоном и приосанивалась, расправляла плечи. Батюшкина коммерция далеко пойдет на поводу у ее расторопного и рачительного избранника, лишь бы поскорее посватался. В том, что и он души в ней не чаял, Тонечка не сомневалась.
Известие о смертоубийстве в лабазе разбудило семейство Пискуновых среди ночи. За окном пуржило, желтый блин фонаря истлевал, не успевая упасть на землю. Тоня не сразу поняла, что страшная история – это всерьез. Ей поначалу казалось, что можно обойтись деньгами. Ну что могли украсть? Пустяки! Вот если бы пожар или порча – тогда да, тогда серьезный убыток или даже банкротство, а кража – фи, чепуха. Папенька с приказчиками живо разберутся, тем более там умница Платон.
Городовой забрал с собой Ивана Никитича, оставив в прихожей только морозный запах. Екатерина Васильевна сделала плаксивое несчастное лицо и сразу постарела, обабилась. Она молча поцеловала дочь и ушла к себе, упала на колени перед иконами, зачастила молитвой. Старая служанка, разбуженная неурочной возней в хозяйских покоях, зевая выслушала сбивчивый рассказ и посмурнела:
– Что ж, барышня, выходит, ухажера нашего в острог упекут? Надобно нового искать.
Тоня вспыхнула и разозлилась, но сермяжная правда старой карги больно аукнулась под ребрами.
Весь следующий день Иван Никитич пробегал как мальчишка, уговаривая полицейских чинов, но вышло, что попусту толок воду в ступе. Как можно выпустить на поруки душегубца, кто зарубил человека самым настоящим топором, как тать какой-то? И кого пришиб? Мелкого воришку с безобидным перочинным ножичком, каким только чинить карандашики или вырезать вензель возлюбленной на уличной скамейке.
– Вот ведь Платоша учудил. Такой матерый анахронизм… в наше просвещенное время… в этом приличном просвещенном обществе, – жаловался Пискунов домашним, присаживаясь в столовой за круглый стол перед огромной чашкой в голубенький цветочек, откуда ароматно пахло свежезаваренной мятой.
– Скоро кушать будем, не напивайся пустого чаю, – предупредила Екатерина Васильевна, нервно поглаживая мужа по суконному плечу. Проведет по рукаву и задержится, потреплет ободряюще, мол, не бери близко к сердцу, всякое случается.
– Папенька, это правда? Что Платона Николаича арестовали? – В столовую тихо просочилась заплаканная Тоня.
Иван Никитич раздраженно фыркнул, как будто отгонял назойливую муху, Екатерина Васильевна поджала красивые пухлые губы, укоризненно поглядела на дочь, мол, ясно ведь, таким никто шутить не станет, что она тут цирк устраивает, ей-богу, отцу и так несладко.
– Ты, Антонина, ни с кем не разговаривай про… про Платона. Не хвали его чужим людям. Такой поворот может получить история, что потом… потом расхлебывать придется, – предупредил отец. Он привык к своему ответственному и чистенькому приказчику, умному, сноровкому, честному, по-отечески полюбил его, тем более и дочке тот по душе. Жизнь – такая скверная штука, что подстраивала каверзы в самых неожиданных подворотнях. Не думал и не гадал, а на каторгу попал.
– Может быть, нам уехать на время, Ванюша? – Екатерина Васильевна подошла к стене, оклеенной модными шелковыми обоями в полоску, и поправила натюрморт, хотя он и так ровно висел.
На картине кто-то опрокинул корзинку, раскидал по темно-зеленому сукну яблоки вперемешку с маленькими бордовыми ягодками, кажется брусникой, сверху уронил пучок соломы, как будто все это богатство только что вытащили из кладовой и сразу на стол, не уложив в хрустальную вазу, не натерев до блеска. Хозяйке не нравилось это полотно. Вот на другой стене аккуратный серебряный молочник чинно беседовал с чашками – не в пример лучше.
– Нет, Катюша, убегать нам резону не наблюдается. – Пискунов разгладил горчичный в серую полосочку жилет, поправил узел. – Вели подавать.
За трапезой семейство сидело в подавленном молчании. Антонина Ивановна вздыхала и терла виски, Екатерина Васильевна заботливо подкладывала мужу в тарелку то кусок пирога с капустой, то молочного поросенка, то соленых грибочков, призывно блестевших масляными шляпками.
– А много ли… много ли могли унести те грабители, Ванюша? – Купчиха отважилась задать мучивший с ночи вопрос, с той минуты, как прибежал городовой с выпученными огуречными глазами.
– Да брось, Катя, чепуху, дикий примитивизм. – Иван Никитич нахмурился, проступавшая сквозь лессировку белесых прядей лысина собралась в гармошку. – Грядущая ярмарка все бы возместила с лихвой. А теперь я и не знаю, чего ждать… Будут ходить и пальцем показывать: вот, мол, анахронист, что приказчиков науськивает топорами отбиваться.
– А что теперь будет с… с Платоном Николаичем? – Антонина набрала полную грудь воздуха и не решалась выдохнуть.
– Это в воле господина полицмейстера. – Отец нетерпеливо постучал маленькой ложечкой по блюдцу, стряхивая яблочные кожурки. – …И господ судей. Я нанял адвоката… Может, выкроится возможность как-то облегчить его судьбу. Но, увы, душегубство оно и есть душегубство. Так что негоже сочинять всяких… всяких романтизмов.
– Но ведь он оборонялся! На него ж нападали с ножом. – В голосе дочери появились опасные плаксивые нотки.
– Да, с ножичком. И нападавший был настолько неуклюж, что не смог увернуться от топора. Все! Хватит слезоточизмов. Мне и без того нервозно, от нас все заказчики разбегаются.
Екатерина Васильевна недобро зыркнула на дочь, та уткнулась в тарелку, слезы закапали на пирог, добавляя соли. Молва подмечала, что влюбленные всегда пересаливали блюда, вот, оказывается, как это случалось в действительности. Доедали в молчании. Первой убежала к себе Тоня, так и оставив свой кусок на тарелке и не присев в книксене, как подобало благовоспитанной девице. Комната в мелкий цветочек пустила ее в середину букета, занавески вздохнули в такт растревоженным мыслям. Она раскрыла альбомчик и принялась быстро-быстро рисовать. Карандашик накручивал кудри принцессам, вешал на их длинные шеи причудливые украшения.
Итак, папенька иносказательно намекал, чтобы она забыла Платона, ее смешливого рыцаря с веселыми рыжими усиками, ее верноподданного, в любой час готового предъявить влюбленные серо-крапчатые глаза, распахнутое сердце и крепкую ладонь. Ну уж нетушки. Тоня сама знала, кого помнить, а о ком и запамятовать. Вот вредного Липатьева, например, можно вообще выбросить из головы или соседского приживалу длинного Козловского с его козлиной бородой. А Сенцова она из сердца не выселит, думать про него уютно, как будто печеньку теплую грызть под молочко или смотреть книжку с рождественскими картинками, где непременно случалось чудо. У них ведь даже имена созвучно перекликались: Тоня – Платон, Тоша – Платоша.
Всю ночь Антонина Ивановна проплакала, к утреннему кофею вышла опухшая, за что получила нагоняй от маменьки. От мешков под глазами помогли примочки из сырой барабули[12], а когда к обеду принесли записку от Липатьева, мол, вечером он будет иметь честь поцеловать ей ручку, так пришлось еще и локоны в порядок приводить, уговаривать раскаленными щипцами и подмасливать сахарной водой. А куда деваться? Жизнь полна сарказма, но красоту никто не отменял.
Для встречи Алексея Кондратьича Липатьева – студента в отпуске без срока давности – она надела серое жаккардовое платье с высоким воротником, строгое и притом кокетливое. В ее представлении в таких платьях щеголяли столичные барышни дворянского сословия, те, что кичились просвещенностью и избегали легкомысленных шелков и рюшей. Она долго любовалась собой в высоком зеркале, примеряла так и эдак новую шляпку, завязывала ленты то справа, то слева, то ровнехонько под подбородком. Красиво. Наконец шляпка отправилась в свою коробку, а Антонина Ивановна спустилась в бельэтаж, где в доме Пискуновых обустроилась обитая полосатым репсом гостиная – одна полоска бронзовая, другая темно-зеленая, а между ними ручейки из шоколадных завитушек. К ней примыкали столовая и кухня. На верхнем этаже опочивальни, будуары, гардеробные, все махонькие, так что комоды стояли едва не один на другом, софы залезали на кровати, коврам на полу не хватало места. Маленький домик получился в итоге, тесно в нем купеческому достатку.
Алексей Кондратьич явился в неизменном черном сюртуке с коротковатыми, лоснившимися на локтях рукавами и помятыми лацканами. Вместо пирожных или конфет он принес широкую улыбку.
– Я слышал, что у вас приключеньице, Антонина Иванна.
– Вы о папенькином приказчике? Да. Мир полон несовершенства. – Она опустила синие очи, разглядывая свои туфельки. Зачем надела розовые? Никак не подходили к серому платью.
– Я просто хотел выразить сочувствие. Все-таки служилый человек вашего батюшки, может, надо чего? Как-то помочь?
– Благодарю. Все, что нужно Платон Николаичу, папенька и так делает.
– А то у меня знакомцы имеются, – гнул свою линию Липатьев, – вы скажите, если надумаете. – Он присел на краешек зеленой софы, осторожно облокотился на деревянную ручку, подергал ее, проверяя, прочно ли приделана. – А вообще-то правильно он сделал, что убил. Молодчина!
Антонина испуганно вскинула глаза:
– Вы что это говорите?
– Правильно, говорю, приказчик ваш поступил. Так и надо. Я бы тоже убил. Защищаться надо мечом и топором, негоже стоять в стороне тухлым наблюдателем. Я и из университета ушел, потому что не желаю в стороне оставаться. – Он заговорщически нагнулся к Тоне, как будто хотел открыть что-то важное, секретное: – У нас есть такие люди, которые очень сочувствуют… ну, всем, кто противится власти.
– Господь с вами, – замахала она на него, – Платон Николаич вовсе не противится, он ни при чем. Это просто воры залезли, просто воры.
– Хорошо, хорошо. Я вас понял. – Алексей Кондратьич поднял руку, сдаваясь; длинная челка воронова крыла закрыла любопытный глаз. – Я просто хотел сказать, что такие волевые, смелые люди нам нужны.
– Вам… кому это вам? – Тонечка отнюдь не принадлежала к породе несушек, глухих и слепых, не умевших разобрать тревожные интонации в уличном гомоне.
В эту минуту в комнату вошла Екатерина Васильевна, беседа потекла в другом, безопасном направлении, но Антонине Ивановне льстило, что вредный Липатьев заступился за ее Платошу, назвал его храбрецом. Она опять разрумянилась, благосклонно выслушала комплимент и несколько раз улыбнулась. Мило ворковала голландка под снегопад за окном, рубиново переливалось варенье в пузатой фарфоровой розетке, и ночью, укладываясь в постель, Тоня мешала среди переживаний сегодняшнего суматошного дня упавшую на платье вишневую капельку и оказавшегося в остроге душку Платона.
Она привычно проспала остаток зимы и полвесны вплоть до плачевного известия о суде и предстоящей Сенцову каторге. До этого казалось, что все еще образуется, господин следователь разберется и выпустит его назад, к ней. Или судья окажется милосердным, разрешит отбывать наказание дома. Но так не вышло. Антонина быстренько прикинула, что через четыре года ей исполнится только двадцать два – еще не старость, вполне можно подождать. Посидеть в очаровательном девичестве на попечении папеньки с маменькой – совсем неплохо, даже хорошо, по крайней мере покойно. Она решила никому не говорить о своих планах, но и не пускаться на охоту за женихами, как обеспамятовшая. Несколько раз заходил Алексей, такой же злой, колючий и безденежный, как раньше.
– Все-таки этот недоучившийся Алексей Кондратьич – умный и толковый человек, умеет поддержать разговор и разбирается в людях, – постановила Екатерина Васильевна после одного его визита.
– Да, маменька. Только одевается нехорошо.
– А это потому, что бессемейный. Эх, доченька, знала бы ты, как твой батюшка наряжался, когда свататься пожаловал. – Мать добродушно рассмеялась. – Это я его приучила себя блюсти, галстуки подбирать и запонки менять. А то ж был сапог сапогом. Да еще и нечищенным! – Она оглянулась в сторону лестницы, не слышит ли бывший «сапог».
Тоня тоже развеселилась, представила элегантного, с иголочки одетого отца в липатьевском грязном сюртуке и мятых панталонах.
Первый год прошел, как и предполагалось, во сне, но на второй Екатерина Васильевна объявила мобилизацию: годы топали, девичий век короток, надобно зазывать сватов. Тоня безуспешно пыталась дезертировать с фронта брачных афер, однако мать и ее многочисленная родня вышли на большую охоту за женихами. Первым притащили деревенщину Луку, от одного его имени прошиб пот: вспомнился тот бедолага, что отдал концы в лабазе, он потянул ниточку воспоминаний дальше, к Платону, девица скисла, и сватовство свернулось. Вторым привели вполне сносного Данилу. Тоня уже смирилась, приготовилась нарядиться в белое и пойти под венец с нелюбимым, пока однажды, проснувшись, не представила, как Платон стоит в дверях и спрашивает ее, протягивает руку. Нет, к такому она не приготовилась. Откровенный разговор с Данилой расставил все по местам: она не любила его, а он ее. На том и разошлись. Если по-честному, Тонечке приглянулся один крикливый гусар, но тот экспромтом женился на дочке купца Митрофанова, а второй, что подбивал клинья к самой Тоне, был толстым и кривоногим, поэтому в женихи никак не годился. Козловский предпринял несколько демаршей, но от него воняло чесноком, она не представляла, чтобы с ним поцеловаться, не то что другое, стыдное.
Если совсем не кривляться, не изображать ученую мамзель или экзальтированную дурочку, то всякой барышне придется признать, что цель у всех одна – выйти замуж. Но не абы за кого, не на мусорку. Королевичей, конечно, на всех не хватало, но умелая Золушка могла вырастить из сапожника вполне съедобного придворного или, на худой конец, преуспевающего купца. Антонине исполнилось двадцать, некоторые из подружек уже отстояли положенные молебны на венчании, а у кое-кого даже завелась малышня.
Маменька от случая к случаю красноречиво вздыхала и требовательно упиралась взглядом в спину то одного, то другого перспективного холостяка. Девичья кроватка в мансардном ярусе стала Тоне неожиданно мала, как севшее после стирки старенькое платье. И ждать Платона стало как-то боязно. Да и вернется ли он вообще и каким вернется? Вдруг уже не захочет тихо-мирно торговать под папенькиным крылышком, не станет делить прежних радостей от гуляний на Знаменской ярмарке, от крестного хода, когда разрумянившаяся Тонечка совала ему в карман замерзшую на ветру ручку, не станет смотреть ей преданно в глаза и стараться рассмешить – неуклюже, но так мило. Она решила одуматься, прислушаться к маменькиным наставлениям и присмотреть кого-нибудь другого, но на улице уже загромыхали подводы большой войны, гусары ускакали на фронт, в гостиных зачехлили диваны. В женихах внезапно обнаружился большой дефицит. Ушел в ополчение Козловский, даже младший папенькин приказчик Матвей неизвестно зачем женился на своей деревенской зазнобе. Екатерина Васильевна хмурила брови уже всерьез, а в зеркале Тоне стала мерещиться покойная Василиса Павловна, стоявшая за ее плечом со скорбно вытянутыми куриной гузкой губами. Это что же, выходило, ей уготовано прокуковать старой девой? Точно так же притаскиваться в гости к родне с каким-нибудь сопливым невоспитанным крестником?
– К нам на обед пожаловал Алеша. – Екатерина Васильевна вбежала к дочери со счастливой улыбкой. – Спускайся. И… не молчи, не дуйся на него. Он-то ни в чем не виноват, хоть и больно заумный.
– Этот вредный Липатьев!.. – Тоня нарочито громко произнесла положенную в таких случаях реплику и захлопнула альбомчик, ее щечки порозовели.
Едва мать закрыла дверь, она бросилась к зеркалу, схватила пуховку, помахала перед лицом, потом пощипала себя за скулы для румянца. На ней ловко сидело домашнее светлое платье в бежевую клетку, к синим глазам не больно-то подходило, лучше бы голубое в цветочек или стальное. Переодеваться она не стала, а то Липатьев мог загордиться, что Тоня для него прихорашивалась.
– Ваша маменька сказала, что я ни в чем не виноват, – оказывается, он подслушивал. – А почему я вредный? – Он нарочито сатанински рассмеялся, растянув большой красный рот, как опереточный злодей на афишах.
Антонина густо покраснела и не нашла, что ответить на явную провокацию. Будучи частым визитером в доме Пискуновых, Алексей Кондратьич привык к ее немногословности, больше того – это и заводило. Салоны Курска кишели новомодными феминистками с бойкими взглядами и языками, он любил с ними ехидничать и препираться. Но Тоня Пискунова с ее сонными глазами привлекала именно патриархальной стеснительностью, несамостоятельностью, ее хотелось защитить и вместе с тем расшевелить, рядом с ней гнездились тепло и уют.
– Вы, Антонина Иванна, конечно, про войну ничего не слышали? – Липатьев состроил хитренькую рожицу всезнающего егозы и смешно пошевелил усами.
– Вы тоже про войну… – Тоня со скучающим видом отвернулась. В последние месяцы это грозное слово стало обыденным.
– Да-да, я ухожу на фронт.
– О, нет! – Розовая ладошка выпрыгнула из широкого рукава и прилипла к разочарованному ротику.
– Будете скучать?
– Д-да… н-нет, вы лучше не ходите, Алексей Кондратьич. И никому не надо…
– Ладно, так и быть, подожду, если вы выйдете за меня замуж. – Он снова рассмеялся и тут же добавил: – Но потом все равно уйду.
– Да вы все шутите! – Тоня разозлилась, даже притопнула ножкой, побледнела и тут же покраснела.
В комнату вплыла Екатерина Васильевна с плотоядной улыбочкой тещи, почти заполучившей в свое пользование женишка. (Все-таки комнатные перегородки в доме Пискуновых оставляли желать лучшего!) Беседа резво повернула вбок и понеслась по растущим ценам на чай и муку, по биржевым прогнозам, по предстоящим гастролям. Официального предложения Липатьев так и не сделал ввиду подступавшей к порогу войны. Матушка огорчилась, а Иван Никитич отнесся к потере потенциального зятя с прозорливой хладнокровностью:
– Знаешь, Катюша, этот Липатьев представляется мне непоседливым бунтарем. Он же революционер по взглядам, по настроениям. Такому я лавку не доверю, а своих капиталов у него нет. Зачем Тонечке такой беспокойный супруг?
Антонина Ивановна уже приготовилась объявить о помолвке и порукодельничать для приданого, поэтому вместе с радостью ощутила что-то сродни разочарованию. Вот Алешка собирался на войну, как многие другие. А вдруг его убьют, возьмут в плен или покалечат? Что тогда? Она будет сидеть соломенной вдовой? Или просто вдовой? Или ходить за немощным? Что ждало тех жен, что завтра провожали на фронт своих благоверных? Пусть уж лучше навоюется и тогда сватает, если Платоша до того не вернется. Вертлявый Липатьев никуда из ее сетей не ускользнет – он уже давно прикормлен, еще с прыщавых времен, с рук покойной Василисы Павловны. Тогда он представлялся скучным, а теперь чересчур интересным, полным запретных идей в обросшей черными патлами голове, бурлившим опасными словами в красном плотоядном рту. Конечно, участь старой девы – это самое распоследнее дело, но все же пусть сначала отвоюется, а потом уж сватает.
Кроме таких рассудительных мыслей мелькали и иные, романтичные. Пусть Липатьев еще потянет, чтобы не приходилось говорить бесповоротных «да» или «нет», а тем временем мог посвататься Платон, ведь еще не все потеряно. Он, конечно, не такой языкастый, как Алексей Кондратьич, не имел привычки так сверкать глазищами и вовсе не шевелил усами, зато с ним безопасно, как дома. Да, Платон напоминал Тоне папеньку, такой же рыжеватый, миролюбивый, сосредоточенный. Таким и должен быть купец, мужчина, муж. Однозначно, он больше подходил на роль спутника жизни, чем неугомонный Липатьев; вот только неизвестно, стоило ли его ждать.
Купец Пискунов тоже готовился к войне, но по-своему – закупал товар. Для фронта требовались немалые поставки табаку и сахару, следовало подсуетиться, перехватить заказы, заручиться поддержкой городских и военных властей. Посреди лета его огорошило известие, что любимый приказчик Сенцов благополучно получил высочайшее помилование и возвращался домой. Иван Никитич обрадовался, как будто это он сам отбыл досрочно каторгу и прибыл по месту приписки, под теплый бочок Екатерины Васильевны. Тоня приплясывала и даже распотрошила шкатулку с медяками на новые чепчики с лазоревыми лентами и кружевные перчатки, хоть батюшка ее и учил, чтобы ничего сама не выбирала, доверяла ему, что ее обманут, а он сумеет выторговать за полцены. Екатерина Васильевна запасалась мукой и окороками, готовилась хлебосольничать.
Платон появился в конце августа, в разгар жатвы. Он похудел, щеки загорели и ввалились, очертив скулы, под глазами легли романтические тени, нос теперь не казался длинным, в самый раз, худым аристократичным лицам именно такие и выдавались. Как у малышей с возрастом вырастали новые зубы, так у мужчин с испытаниями менялся скелет – с молочного, непрочного, на коренной. Истинный скелет Платона выглядел привлекательно: легкий на подъем, но уважительный к старшим, умный, но не крикун, повидавший жизнь, но не опустивший руки. Таким он еще больше нравился семейству Пискуновых.
– Как кстати, Платоша, сейчас ох как нужны толковые приказчики, в таком антагонизме… – Купец сидел за широким рабочим столом в своем кабинете, заваленный бумагами по лысеющую макушку. – Цены начинают расти, германские толстосумы теперь отойдут в сторону, наши выйдут на передовую авансцену. Надо поспевать, Платон Николаич, ковать капиталец, пока кузня горяча, ах, как горяча.
По дороге к знакомому дому Платон все гадал, сразу ли посвататься или обождать до лучших, мирных времен. Решил погодить. А вдруг с ним что случится? Как тогда невеста? Зачем привязывать ее нежную судьбу к своей потрепанной и загрубевшей? Даст бог, будет он в почете и с деньгами, тогда все сладится у них. Почему-то, рисуя себе ее закругленный подбородок, синеву сонных, полуприкрытых глаз, воспитанный платок на стыдливых плечах, он верил, что именно так все и будет.
Сейчас Тоня с Екатериной Васильевной ждали в гостиной, пока мужчины наговорятся о делах. Впереди тот самый званый обед, что он пропустил два с половиной года назад. Тополь за окном заметно вытянулся в его отсутствие, в комнатах стало темнее и прохладнее. В прихожей появился новый сундук, а на лбу Пискунова – незнакомая морщинка. Платон выдохнул и ответил на многословную тираду:
– Да пустое, Иван Никитич, я на фронт ухожу, от меня подмоги пока не предвидится… Вот такая акробатика.
Глава 4
Дымная и бранчливая колесница большой войны, не разбирая дороги, катила по большой и плохо организованной империи, давила всходы и человеческие судьбы, пачкала бальные робы и парадные мундиры. Сенцов оказался на фронте только в разгар слякотной зимы, под влажным севастопольским ветром, обещавшим море и беззаботность, а на деле угощавшим бесконечными простудами. Пока добирались, было весело, шутили, мол, приморскую жизнь поглядим, лихих русских витязей турецким барышням покажем. Когда прибыли под обстрел линкоров и крейсеров, веселье куда-то подевалось. Десятки верст окопов, блиндажей, насыпей, рвов, траншей и прочей хитрой фортификации выкопал Платон своими руками, по колено в грязи, под дождем и под прицелом.
– А лопатным войскам медали дают? – спрашивал бойкий на язык Тарасов.
– Ага, дают ядрышком от пушечки, потом штыком догоняют и снова дают, – в тон ему хихикал пожилой матерый Сачков.
Мечта о Тоне и лавочке отодвигалась все дальше. Сенцов думал, что крайняя точка их разлуки – отбывший с курского вокзала поезд с каторжанами в почти забытом 1912-м. Оказалось, то была шутейная акробатика. Тогда не мокли ноги, обещая лихорадку, не гремело за каждой кочкой, не шибал в нос смрад разлагавшихся лошадиных трупов. Он прекрасно помнил, какая пышная поздняя весна бушевала за окном, как она подкрадывалась к самым рельсам заливными лугами. А потом сотворился бум-перебум, тарарам, кавардак и скандал. И Ольга Белозерова смотрела огромными глазами и протягивала руку. А он не пошел. За ней не пошел. Хоть и неимоверно хотелось. Сбежать – это свобода на один раз, а как бегать всю жизнь? От одной сыскной части до другой, от тюрьмы до пересылки? Не лучше ли отмучиться положенное и вернуться чистым, затолкнуть соскочившее колесо жизни обратно на ось телеги? Иван Никитич пообещал, что место ему сыщется, и Антонина… Нет, податься в бега, в преступники – это не для него. Он не революционер какой-нибудь, кому лишь бы крушить, песен он не пел, с красной тряпкой не маршировал. Ему бы лавочку да Тонечку с пирожками. Не по пути им с Ольгой и товарищами. Так и остался в полупустом вагоне дожидаться, когда выйдут наружу запертые в соседнем конвойные, пересчитают негустой остаток арестантов и повезут дальше.
Все, кто не последовал за беглецами, получили разного масштаба милости: от полной амнистии до замены сурового наказания на более мягкое, например поселение вместо каторги. Платон тоже причастился от щедрот российской Фемиды и провел два года на поселении вместо четырех на каторге, помогал бабе Симе лепить бессчетные пельмени, которыми можно бы, казалось, пол-Курска накормить от пуза. Пельмени заговорщически закругляли ушки, прятали сытенькие пузики за аккуратную складку краев и отправлялись зимовать в сарай на долгие зимние месяцы. Сибиряки предпочитали делать масштабные запасы, чтобы не мусолить каждый день кровяные ошметки размороженного мяса, не брызгать мукой, а р-р-раз сразу в горшочек – и готово угощенье.
Тогда, в самом начале, два года казались вечностью, а четыре – вообще пропастью, где проще сгинуть насовсем, чем выползти назад к краю Гостиного двора. Теперь же, когда холодные зимы и короткие лета остались позади, Платону казалось, что и недолго вовсе, что нестрашно, он даже скучал по хлопотливой бабе Симе с ее несушками, по долгим разговорам с вежливыми политическими, все ищущими небывалой правды и теряющими самое дорогое – жизнь, молодость, силы и семьи – в этих бестолковых поисках.
На обратном пути он сидел в набитом под завязку вагоне, в правый локоть упирался принципиальный клюв жирного гуся, в левый – аппетитный бок молодухи в синей юбке. Под ногами детишки играли в кости, вагон немилосердно качало, кости ни в какую не желали стоять на грязном полу, норовили укатиться под полки, затеряться среди сапог, ботинок и лаптей, но пацанята упорно их находили и снова пускали в игру. «Как судьбы людские, – подумал Платон, – собираются встать на один бок, чтобы поудобнее, повыгоднее, а их трясет и толкает, куда придется, в мешанину, в птичий помет, в подсолнуховую шелуху».
Жалелось ли, что не побежал без оглядки за Ольгой, за ее бунтарской красотой? Если честно, то немножко было. Так мотыльки тянутся к огню, хоть и чуют в нем погибель, так сурки завороженно смотрят на змей, обещающих шипением скорую смерть и покой. Нет, человеку так не положено.
Игравшие в кости мальчишки высадились на каком-то безликом перроне вместе со своими мамками, дядьками, гусями и шляпными коробками. Кости попрятали в недырявые карманы, если таковые нашлись, а то и вовсе растеряли в вагонной толкотне. Так и судьбы катились не пойми куда и зачем, вместо того чтобы уютно греться под мышкой, впитывая запах детского пота и ворованных с прилавка дешевых леденцов.
Военные будни не шли в пример дисциплинированным пельменям бабы Симы. Здесь быстро привыкали, что вожжи судьбы далеко не в собственных руках, что ими правил злой фатум и за любым поворотом могло поджидать увечье или смерть, навсегда отрезав от дома, от лавки, от Тони. Может, все-таки и стоило уйти тогда с Ольгой? Если уж жизнь выдастся короткой, пусть будет хотя бы яркой. Это долгую хочется смаковать, как чай с вареньем, а короткую можно и просто спалить в очаге. Но часики по-прежнему не умели шагать в противоположную сторону, поэтому он кряхтел и воевал дальше: наступления, отступления, засады, окопы, сиденье без дела.
Среди солдатни встречалось немало недовольных, тех, кто вечно бухтел закипавшим самоваром, но так ни разу и не пролился кипятком. Им и дома не жилось всласть, и войнушку они ненавидели. Но были и заядлые социалисты, которым хоть пушки, хоть офицерские розги – лишь бы «Интернационал» петь. Таких Сенцов сторонился, но не они его.
– В от ты, товарищ, крепкий, цельный, а почему не вступаешь в борьбу за права угнетенного класса? – По вечерам его уголок в блиндаже облюбовал пылкий молодой рабочий из Петрограда, Леонтий или Леонид, в общем Ленька, с подергивающимся уголком красноречивого рта и зелеными, как будто пьяными глазами.
– Потому что я из приказчиков, купеческие мы, куряне, – объяснял Платон не в первый раз, новых аргументов у него не находилось, поэтому повторял заученное.
– А разве купечество – не те же угнетатели? Разве вы не наживаетесь на нуждах простого народа? Не жиреет твой купец на горькой рабочей копейке?
– Нет, мы табаком торгуем. Куда работяга за махоркой потопает, как не к купцу? Да мы и сами из крестьян.
– Тем более тебе близки народные чаяния. Разве мужику не хочется побаловаться заморским табачком, а? Скажи мне.
– Думаю, не хочется. Табак – такое дело: к чему привык, то и по вкусу. Тут привычка важнее.
– То есть ты не поддерживаешь идею равенства?
– Я сам себе, ты иди к пермским, они тебя послушают, а у меня своя… акробатика. – Сенцов замыкался, отворачивался; не пересказывать же всю эпопею с прелестной Антониной и некстати убиенным Лукой Сомовым.
Зеленоглазый агитатор вроде бы оставлял его в покое, но через пару дней снова подсаживался и начинал привычный куплет:
– А тебе бы хотелось жить в своем доме?
– А я и так в своем доме, отец оставил в пригороде хозяйство, мать при нем, а я при лавке живу на всем готовеньком.
– А когда женишься, тоже будешь при лавке жить?
– Нет, тогда я надеюсь свою лавку открыть и жить уже над ней. – Платон мечтательно улыбался.
– Вот какой ты человек, – злился Ленька, – все тебя устраивает в жизни, дальше собственной лавки не видишь. Приземленный.
– Ну такой я… Мне бы эту лавку увидеть при жизни, а то мотает меня…
– Вот! – Ленька наконец нащупал болевую точку. – Империалистическая война! Ты здесь… мы все здесь не по своей воле!
– Не по своей… Вот только завтра рано вставать, а мне выспаться охота. – Сенцов поплотнее укутывался в шинель, укладывался на слежавшемся сене, закрывал глаза.
«Не отстают от меня эти социалисты, – удивлялся он про себя, – не дают покою. Мне бы свою жизнь наладить, куда уж к чужим лезть, ненужное это». И тут некстати всплывала незабываемая Ольга Белозерова в желтой юбке с такими же, как у Леньки, горящими глазами, только не зелеными, а карими – безбожно красивая. Отчего бы ей не найти подходящего жениха побогаче, познатнее, да не выскочить замуж? Зачем мараться по тюрьмам, по этапам, распевать запрещенные песни? Кто ж ее такую теперь посватает?
Весь 1916 год русское оружие побеждало на Кавказе, турки бухтели пушками, пшикали гранатами и отступали. В войсках царил дух авантюры и шапкозакидательства, кое-кто уже подумывал перебраться на побережье после непременной победы, перевезти семейство, купить рыбацкий баркас и беззаботно слоняться по морю. Да, вестей с Восточного фронта на Кавказском не читали и политическим новостям уделяли мало внимания. Море, оно такое, умело забивать голову романтической чепухой.
Лето под сказочной сенью Кавказских гор совсем не располагало к войне, больше к стихам. Череда успешных баталий обещала скорый исход, тишину, отдых и награды. Платон по случаю разжился турецкой винтовкой маузер, как и все в роте, в придачу к ней германским трофейным пистолетиком, маленьким, больше подходящим для дамочек. Тоже козырно: можно подарить Антонине Ивановне, пусть испугается. Он представил себе, как синие колодцы постепенно раскрываются, глядя на опасный сувенир, как Тонечка смотрит в немом ужасе на покорябанную рукоятку, которая пахнет порохом и войной, как обиженно кривится ее ротик. Смешно. Обязательно надо привезти ей с фронта этакий неожиданный подарочек.
Он сидел в выпростанной рубахе, разморенный зноем и приятными мечтами. Толстая подстилка из рыжей хвои укрыла холм верблюжьим одеялом. Длинные иголки незнакомых по виду сосен начинались высоко, в два или даже три человеческих роста, а до них от земли только гладкие стволы, ни травинки, ни кустика. Запах нагретой на солнце смолы приятно щекотал ноздри, чем-то отдаленно напоминая дорогой сорт заморского табака.
– Дур![13] – промелькнуло между стволами: то ли окрик, то ли эхо.
Сенцов вскочил на ноги.
– Дур, кёпек! Дур, душман![14]
Вопил не свой, значит, надо спешить на выручку тому, кто в опасности.
Платон покрутил головой вправо-влево и тут же присел, потому что из-за холма на него несся, страшно вращая глазами, черный басурманин в распахнутом свирепым бегом военном кителе поверх вполне заурядной крестьянской одежды – полосатых штанов и рубахи с потертым кушаком. На голове у вражины развевались два широких полотнища – концы разбойничьей повязки ярко-алого цвета. Так наряжались курдские кавалеристы. Курд тоже увидел выросшего из корней могучей сосны русского, но инерция неумолимо влекла его вниз, затормозить никак не удавалось. Так он и бежал долгие две-три секунды, рот медленно открывался, глаза наливались смертельным страхом, поверх которого отражался удивленный рыжий солдат в белой рубахе поверх серых штанов, с маленьким пистолетиком в руке.
Позже, вспоминая, Сенцов удивлялся, как медленно текли те секунды. Он вроде бы помнил каждую: вот курд вытаскивает из-за пояса длинный нож, но обоим понятно, что замахнуться уже не успеет, скорость больше, чем надо, застопорить не хватит сил. Сзади снова закричали, на раздумья не оставалось времени. Платон медленно, как во сне, поднял руку с пистолетиком и выстрелил в упор. Басурманин дернулся на бегу и упал, покатился по склону. Сверху раздались выстрелы посерьезнее, из винтовок. От соседней сосны отскочила щепка, больно ткнула в шею. Тогда он опомнился и упал на хвою, отполз за ствол. Сзади, снизу, кто-то побежал, выстрелил.
Не сразу, через заливавший глаза пот, но все-таки удалось различить на вершине холма убегавшие красные фески. Получалось, это у них своя резня шла: турки на курдов. Так бывало. Платон посмотрел на жертву без особой опаски: что мог сделать крохотный пистолетик здоровому мужику? На него смотрели, не мигая, остекленевшие глаза, хвоя густо покраснела, пропитываясь кровью. Оказалось, мог, если попасть аккурат в шею. Так специально целиться – не попадешь. А с испуга, от неожиданности – пожалуйста. Знойный день превратился в невыносимый, дышать стало нечем. Получалось, он убил человека, который даже ничем не грозил, перебежчика, может быть, тайного агента самого Юденича.
Убийца стоял и смотрел на молодое лицо под густой черной порослью, энергичное, с красивым слегка выгнутым носом, большими глазами с длинными ресницами. Этот курд совсем ни при чем, он не собирался нападать, у него была своя история, в которую русский приказчик из табачной лавки влез с ненужным пистолетом и неуместной меткостью. Может быть, у него уже родились дети. Или случилась любовь, такая же темноглазая и смуглая. По вечерам они вместе смотрели на бархатное приморское небо и мечтали, про Сенцова не думали, не желали ему зла. А он вдруг убил. Насовсем. Как Луку Сомова. А еще хотел пистолетик этот проклятущий Тонечке подарить. Несостоявшийся подарок полетел вдаль, стукнулся о ствол, обиженно дзынькнул. Курд лежал, раскинув руки, и глядел в небо, которое ему больше ничего не подарит.
Следующие недели каждую ночь приходил убитый курд, выглядывал из-за придорожных кустов, даже улыбался из свежевырытого окопа, весь в земле, как будто его похоронили, а безжалостный Платон раскопал могилу, потревожил, снова убил. За обедом он садился рядом и стучал ложкой по дощатому столу, вечером проносился невесомой тенью перед костром. Успокоение, да и то относительное, пришло, лишь когда их роту перебросили из поселения на сосновом склоне с непроизносимым названием вглубь страны. К тому времени наступила осень, в садах созрели бесчисленные фрукты, виноград, слаще которого солдатня не встречала, в России такой не водился, мохнатые персики, каковых многие и не пробовали в своей жизни. Интересно жить рядом с морем, где тепло и плывут корабли из дальних стран, где женщины закрывают лица, а сады пахнут сбывшимися желаниями. Под звуки непрекращавшихся боев Платон начал забывать негромкий хлопок злосчастного пистолетика, даже пожалел, что выкинул его, хорошая попалась штучка.
Солнечным октябрьским утром они с Ленькой и еще несколькими сослуживцами отправились за водой к небольшой, но сварливой речушке без названия. То есть имя-то у нее имелось, но русскому языку непривычное – то ли Рэджокан, то ли Мэджован. А может, и вообще что-то иное. Полевые котлы им выдали огромные, одному никак не утащить, тем более по крутой горной тропинке, где камни сыпались из-под ног, как переспелый горох на мельнице.
Шустрый Ленька первым скатился по обрыву, каблуки проскользнули по мелким мокрым камешкам, инерция неумолимо толкнула худощавое тело на край. Он выставил вперед ладони, будто опираясь о невидимую стену, но трюк не сработал: быстряк-самоучка не удержался на прибрежном валуне, оступился и завизжал. Холодна горная водичка! Прикрытое бурливыми струями дно тоже оказалось негладким. Недотепа помахал руками, открыл в беззвучном крике рот и свалился в воду целиком, с головой. Глубины в таких реках редко достигали аршина, поэтому как таковой испуг не пожаловал. Ну искупается, кому это вредило?
Мокрая голова черным бугорком проскользила три-четыре сажени вниз по течению, и наконец купальщику удалось встать на ноги.
– Уф! – выдохнул он, борясь со строптивым течением, и снова не удержался на ногах, ушел под воду.
– Эй, хорош акробатничать, – прокричал Сенцов, но шум реки заглушил его слова.
Леньке удалось выкарабкаться из стремнины только за большим деревом, чьи корни крепко держали пласт земли, не давая уехать вниз по течению. Там образовалась махусенькая, усыпанная колючей щебенкой отмель. Цепляясь за неудобные ветки, зеленоглазый карабкался к древнему туевому стволу и матерился.
– Речка не речка, а потопнуть – раз плюнуть.
Платон, держась одной рукой за Козьму, протянул ему вторую, помогая выбраться. У бедолаги кровил разбитый висок.
– Обстрекался?
– Ни трошки! – Невезучий Ленька скинул сапоги, запрыгал босиком, прокалывая остренькими зубками отмели бурые пятки. Гимнастерка и рубаха тоже полетели на осеннюю траву, которая почему-то в этих местах не желтела, так и радовала глаз сытым изумрудом. Мокрый прыщ дрожал в одних штанах.
– Скидывай, кого стыдишься? – пробурчал кто-то из солдат.
– Да не стыжуся, мерзну, – огрызнулся дрожун.
– На! – Платон стянул гимнастерку, сам остался в рубахе, сухой и казавшейся вполне теплой для октябрьского дня. – А ты, Козьма, штанцы ему дай.
Коренастый Козьма крякнул, но штаны снял, остался в сероватых подштанниках. Смешно. Ленька поблагодарил кивком, связал в узел мокрую одежду и со злой усмешкой полез вверх, к тропинке:
– Вы уже без меня как-нибудь, братцы, я на солнышко побёгну.
– Лады, пожди нас на тепле, продрога.
Полковой повар заставлял драить утварь до блеска, в случае непослушания грозил дизентерией и даже холерой. Солдаты закатили рукава, зазвенели котлами, черпаками, зашуршали песком. Когда ледяные брызги атаковали лицо или шею, они ойкали и крякали. Вкусна горная вода, ее можно резать и есть. Такая бывала в старых колодцах, без привкуса ржавых труб и глинистого душка сырой земли. Они наполнили котлы наполовину, а ведра до краев, взяли за ручки и поскрипели наверх, опять брызгая из-под сапог мелким камьем. Склоненные к воде пышные кустарники отпускали гостей неохотно, старались зацепиться, удержать. За прибрежной линией начинались большие деревья, незнакомые, пышные, таких в России не водилось. Платон в очередной раз залюбовался буйством диковинного леса и… пропустил выстрел.
Как будто птица каркнула.
Полные ведра плюхнулись на землю, позвенели для приличия и с ехидным чавканьем покатились вниз, к реке. Снова каркнул выстрел, за ним без передышки еще два. Солдаты не могли понять, откуда стреляли, из-за какого ствола, куста, пригорка. Они упали на землю, заозирались. Прожорливая птица войны что-то прокричала на турецком или армянском, наверное пока перезаряжала ружья. Теперь стало понятно, что огонь велся с другого берега, забаррикадировавшегося крутой скалой. Прятаться за такой – лучше не придумаешь, а их безобидный спуск как на ладони. Наверху что-то проорал Ленька, выстрелил. Платон пополз к ближайшему кусту, но не дополз: свинцовый клюв оказался быстрее, тюкнул прямо в ягодицу, заставил сначала подпрыгнуть на четвереньках, как собака, получившая пенделя, а потом покатиться вниз, обдирая ладони и стукаясь головой о валуны. Вокруг кричали и стреляли, по-турецки и по-русски, топали сапоги, наверняка ребята подтянулись из палаток на пальбу.
Очнулся он в госпитале, над кушеткой колдовала белая фея с красным крестом на косынке.
– Потерпи, милок, скоро все пройдет, – пообещала она и сдернула налипшую на рану повязку. От этого стало так невыносимо больно, что Платон снова потерял сознание.
Он выныривал из забытья, недовольно оглядывался, приценивался к своим ощущениям и уходил обратно в беспамятство.
– Рана неопасная, меня беспокоит жар, – жаловался кому-то узколицый бледный доктор. Этот разговор раненому не нравился, лучше еще поспать, может быть, другой сон получится интереснее.
Наконец спасительный бред отступил, оставил несчастного на растерзание эскулапам и их свите. Ослабевший, раздавленный, Сенцов не мог сидеть, есть, говорить. Самое обидное, каждое испражнение превращалось в трагедию, вернее в трагикомедию. Лежа не получалось, стоя тоже, а присаживаясь, как установлено природой, он растягивал края раны. Терпеть оказалось труднее, чем копать окопы, страшнее, чем идти под обстрел. Платону казалось, что внутри уже вздулись и исходили газами гнилые отходы, скоро смрад поползет наружу. Твердый живот разбух, как у бабы на сносях. Обидные, унизительные клизмы приносили облегчение, но не очищали нутро до конца, после них еще сильнее хотелось согнуться и как следует выпростаться. Тогда он перестал есть. Отчаявшийся организм и не просил еды, как раньше, так что мук не прибавилось. Через пару дней пришла спасительная слабость, закружилась голова, уволакивая в приятные чертоги забытья, где Тоня протягивала ему розетку с вареньем из райских яблочек. Однако нужда испражниться никуда не делась. Как так? Есть неохота, только срать. Откуда же в человеке столько говна?
Узколицый доктор, узнав про голодовку, строго отчитал Сенцова и сестричек. Рассказывать про свою нужду не нашлось ни бесстыдства, ни слов. Он смолчал, но начал открывать рот, когда сиделка подносила ко рту ложечку с жидким и безвкусным, маменькиным голосом уговаривала проглотить. Скучно.
Почти месяц пришлось пролежать на животе в огромной, перегороженной простынями палате; соседей он не видел, окон и солнечного света тоже, только слышал нескончаемые стоны. Хоть бы лучик света, хоть бы краешек горной вершины в уголке однообразного бело-серого туннеля. Через неделю его перевели в другое помещение, поменьше, для выздоравливающих. Здесь получалось разговаривать с соседями и смотреть в окно. Там, оказывается, никакого солнца не намечалось, сплошной туман и дождь.
– Какое число сегодня, братец? – спросил Платон у соседней койки.
Ему ответил огненно-рыжий парень с перетянутой бинтами грудью и одной, правой рукой:
– Декабрь. Двенадцатое. Пора к Рождеству готовиться.
– Ох и залежался я. – Сенцов попробовал пошевелиться, встать, затянутая нижняя часть обиженно засаднила.
– Позови нянечку, она тебе подмогнет, – доброжелательно подсказал рыжик.
Что поможет, он и сам знал, не вчера очнулся. Хотелось уже шуровать самому, но замотанный таз не соглашался.
– Сестричка, а я к Рождеству домой попаду? – спросил рыжий у сиделки во время обеда.
– Дохтур сказав, что сдюжите. То бишь, можно вам.
– А я? – Платон тоже вцепился в сказочную возможность: дом, наряженные елки, Тонечка в белом ажурном платье, светлая и мирная, как весь этот снежный праздник.
– И вы. – Сиделка попалась добрая, всем обещала счастье.
Но выбрался он из госпиталя еще нескоро. Сначала узнал, что в той перестрелке погиб зеленоглазый Ленька, которого и вовсе на линии огня не планировалось. Он ведь ушел греться на солнышке, за деревья. Значит, прибежал непутевый социалист, хотел браткам помочь, а вышло вот так. И немногословный Козьма нашел последний приют в теплом ущелье немирной горной речушки. А ведь просто пошли по воду, как положено каждый день, ничего не опасаясь и даже ни от кого не таясь.
Четверых турок тоже уложили, набросились всей ротой, выбили из-за камня. На что те рассчитывали? Патроны-то у них не бесконечные. То ли отбились они от своих, то ли какие-то идейные. Теперь разницы нет: ни Леньку, ни Козьму, ни их шуточки, ни их злость назад на землю не вернуть. Как знал неуемный бунтарь Леонтий, – да, точно Леонтий, не Леонид! – что война для него обернется злом, агитировал против нее, аж слюни брызгали изо рта. И все равно сгинул. Не верил в победу, не верил в нужность этой бойни и поплатился. Такие непраздничные мысли впечатали Платона в жестокую хандру, на фоне которой затруднилось выздоровление. Узколицый бледный доктор шептал непонятные слова, а раненый даже не боялся, ему было на удивление все равно.
– А знаете, мы ведь сначала решили, что это вас убило, Платона Сенцова, потому что у Леонтия в кармане ваши документы нашли. В суматохе разбираться не стали, погрузили и увезли. Это потом уже поручик прибыл, все по местам расставил.
– Надо же, похоронили меня, выходит, – кисло скривился Платон, – значит, долго жить буду.
– Непременно будете, – обнадежил его доктор и ушел.
В Курске ему удалось оказаться лишь к февралю 1917-го, когда последние морозы подстегивали побыстрее скрипеть казенными валенками. Город не чистили, рук не хватало, грязные сугробы заполонили тротуары, на ледовых катышках подпрыгивали телеги, с праздничным звоном вываливались на мостовую ящики и кули, брызгали зерном, яблоками или патронами, ругались пассажиры и возничие. Платон постоял, вдыхая запах города и навоза, полюбовался спящим, притихшим Гостиным двором. Нечем торговать, рабочие руки на фронте, товары распроданы или припрятаны. Вспомнился Ленька с его запальчивым «кому нужна эта война?».
Он не спеша пошел вдоль засыпанных снегом знакомых карнизов, мимо окон, что подмигивали давнему знакомцу затейливыми узорами. «Вот идет убийца, – думал Платон, не принаряживая свои мысли. – Настоящий убийца, не случайный». Может ли он теперь просить нежную ручку Антонины Ивановны, взять ее в свою загрубелую, испачканную в крови, связать ее кроткую судьбу со своей собственной, потрепанной, второпях залатанной, но недолеченной? Проходя под душистыми окнами кондитерской, он думал, что да, может. Нельзя ставить крест, если вся жизнь еще впереди и есть время все поправить. А подходя к закрытым ставням родной табачной лавки уже решал, что нет, не имеет права. Ему сначала надо выбросить из головы, вытолкать все ненужные мысли, боль, потерянные лица, а потом уже на освободившемся месте восстанавливать прежнюю жизнь с ее маленькими нешумными заботами. Надо ждать. Но у Тони есть ли время и желание снова ждать?
Он мялся на крыльце Пискуновых, несколько раз брался за дверную ручку и снова отпускал ее. Нос обидно покраснел, намок. Плечи озябли под шинелью. Если проситься к Ивану Никитичу снова в приказчики, то надо решительно звать Тоню замуж, иначе никак. Пять лет уже прошло кругом-бегом с той весны, когда он придирчиво выбирал колечко на соседских прилавках. Да, с весны 1912-го минуло целых пять лет. Антонине уже двадцать три, а ему самому скоро тридцать два. Почти во столько Спаситель взошел на Голгофу и очистил мир от грехов своей кровью. А что сделал Платон? Только приговорил к смерти несколько неприкаянных душ.
Он наконец взялся за дверной молоток.
Екатерина Васильевна сама открыла дверь. Она пополнела и постарела, морщинки собрались вокруг красивых полных губ, глаза смотрели строго, словно ждали нехороших вестей, боялись, но все равно выбрали не отставать, быть в курсе.
– О боже! – Она почему-то прикрыла рот ладонью, как будто увидела привидение. – Так это неправда, выходит? – Глаза часто моргали, ощупывали гостя с ног до головы. – Ну проходи, мил человек, проходи, любезный. – Она распахнула дверь. – Мы теперь без прислуги, так что давай по-простому.
Сенцов потопал валенками и протиснулся в прихожую, которая теперь почему-то казалась ему тесной. Старенькие обои все те же, что и до войны, зелено-полосатые. Из столовой доносилось шипенье самовара. Вдруг забренчало пианино, грустно, со слезой, и быстро смолкло.
– Маменька, кто пожаловал? – нежным колокольчиком спросил голос, милее которого Платон не знал.
– А угадай-ка, милая, – крикнула Екатерина Васильевна с кривоватой улыбкой, но в голосе прозвенела не веселость, а испуг.
Навстречу Платону вышел Липатьев, почему-то в домашнем халате.
– О, рад приветствовать! – Он неуклюже прижимал к груди левую руку, она не двигалась, скрюченные пальцы выглядывали из черной перевязи.
– Ах, боже мой! Платон Николаич! – Тоня выглянула из-за липатьевского плеча в белом переднике с рюшами поверх розового платья, такие раньше носили горничные. Ее щечки светились в цвет ткани нежными яблоневыми лепестками. – Вы живы? Како… как… какая радость! – Но в голосе было мало радости, больше удивления, непонимания.
– Мы получили известие, что вы погибли, мой дорогой Платон Николаич, – пояснил Алексей Кондратьич. – Ну удивили вы, сударь, и порадовали!
Сенцов недоуменно разглядывал домашний халат Липатьева. К чему такой наряд в пискуновском доме? Вдруг Иван Никитич занемог? Небось помощь нужна, а одним дамам в доме куковать боязно.
– Да… там с документами вышла путаница, меня с сослуживцем спутали. – Он так и стоял у порога, не расстегивая шинели. Она казалась особенно грязной и прокопченной в этой уютной прихожей. – А что с Иван Никитичем? Как он?
– Все слава богу. – Екатерина Васильевна перекрестилась.
– Да, у нас все терпимо, – втесался Липатьев, не дав ей досказать. – А еще можете нас поздравить: мы с Антониной Иванной обвенчались.
Глава 5
Граф Иннокентий Карпович Шевелев отличался безмерной суеверностью, что его отнюдь не красило. Прежде чем встать утром с постели, он тщательно прицеливался правой ступней к прикроватному коврику, наступал с излишней аккуратностью, да еще подпрыгивал для надежности, чтобы легкомысленные небеса затвердили, что день начался именно с правой – с правой! – ноги. Соль рассыпать в его доме, набитом разномастной мебелью и модными штучками – кальянами, африканскими статуэтками, японскими зонтиками, – соль рассыпать приравнивалось к уголовному деянию. Слуг, позволивших себе по нерадивости такое глумление над порядком, сразу рассчитывали без выходного пособия. Никакие слезы не помогали. Если Иннокентию Карповичу доводилось оставить на комоде или трюмо нужную записку, портмоне, да хоть шляпу вместе с головой, он ни за что не возвращался, даже прибитое в прихожей зеркало не помогало. Так и шел, дразня прохожих романтическими темными кудрями и обязательно улыбаясь, радуясь, что удалось миновать очередное препятствие, хоть и не без потерь, но все же без фатальных неудач. Такое сумасбродство отлично вписывалось в портрет какой-нибудь светской кокетки или экзальтированной престарелой матроны, но никак не зрелого, просвещенного господина, отца семейства, неглупого предпринимателя и отменного острослова.
Кто-то недалекий мог бы сказать, что господин Шевелев родился под счастливой звездой, но сам Иннокентий Карпович знал, что звезды вовсе ни при чем: ему достался от бабки-грузинки заговоренный амулет – костяшка в форме сидящего льва. Вещь и на самом деле не одно столетие кочевала по нагрудным мешочкам для оберегов и сундукам с приданым. Может быть, и тысячелетие. По крайней мере бабкина бабка уже помнила, как ее родитель, сходя в могилу, со смертного одра протягивал старшему сыну этот костяной талисман. Сын отправился вслед за отцом, а бабкина бабка не сплоховала – забрала диковинную вещицу себе. С тех славных пор и поселилась удача в семействе Шевелевых. Первая в ряду замечательных бабок удачно вышла замуж за богатенького и титулованного, ее сын прославился доблестью в Отечественной войне 1812 года и вдвое расширил границы земельных владений. Это был шевелевский прадед. Дед не подкачал, приумножил капитал и вписал несколько славных страниц в семейную летопись своими хозяйственными талантами. Отец просто жил на всем готовом и в ус не дул, и сам Иннокентий Карпович надеялся не ударить в грязь лицом перед потомками. И все эти респектабельные события связывались фамильным преданием с маленькой почерневшей косточкой, в которой только художник мог распознать замыленного несчастного льва, сидевшего на задних лапах и глядевшего в никуда почти не угадывавшимися, залепленными вековой паутиной глазами.
Впервые он познакомился с реликвией, когда выпал очередной молочный зуб. По этому великолепному поводу бабка решила просветить внучка и продемонстрировала источник грядущих благ. Маленький Кеша не впечатлился, ему в тот период больше нравились сказки. Тем не менее на следующий день, собираясь с деревенскими девками по ягоды, он прокрался в бабушкины апартаменты, пока та командовала в столовой, и спер почерневшую костяшку. Чем-то она все-таки пришлась по душе, что-то в ней чувствовалось необычное, загадочное.
Вдовая бабка коротала оставшиеся годы на шевелевской вотчине, заготавливая в неимоверном количестве, хоть на весь уезд, варенья и соленья. Графское семейство наезжало в село почти каждое лето, шумно обустраивалось в пустовавшем флигеле, привозило с собой столичные сплетни, новые словечки, моды и игрушки. Петербургские няньки наводили свои порядки, местная прислуга на них дулась, начинались нешуточные войны с интригами, шантажом и хитрой дипломатией. Бабушка вникала в них с дотошностью главнокомандующего, а внуку доставалась роль армейского разведчика. Не ездили лишь в те годы, когда отправлялись за границу в европейские гостиные, но и тогда детей с собой не брали, все равно отправляли к бабке, так что Иннокентий считал себя в доме полноправным хозяином.
Ягода в тот год уродилась щедрой, девки набрали корзин и лукошек, прихватили с собой узелки с пирогами. Намечался превосходный поход. Маленький Кеша топал за толстой Матреной в зеленой юбке и мечтал, как устроит в лесу настоящее тайное логово. Лучше всего в пещере, но можно и на дереве. Сначала он сам все подготовит, а потом приведет малышей: четырехлетнюю сестренку и кузена. А матери не покажет, зря она его вчера так долго ругала за разбитую вазу, могла бы и просто в двух предложениях сказать. Разве он не понимал, что это нехорошо? Он и сам огорчился: бабушка любила вазу, ставила в нее сухой тростник, красиво. Вовсе необязательно повторять по сто раз одно и то же.
– Эй, барчук, не отставать, – командирским басом приказала Матрена, и раздосадованный Кеша обиделся еще сильнее.
Что за незадача с малолетством? Все норовят поучить, потыкать носом. Даже дворовая девка приказным тоном разговаривает. Был бы он взрослым, смог бы дать отпор. Матрена будто почувствовала его обиду, подошла, погладила по голове и сунула в рот что-то безумно сладкое, теплое и сочное.
– Кушайте, Кешенька, – ласково пробасила она, улыбаясь васильковыми глазами. – Экая ягодка толечко с кустика, надо прямо на полянку сесть и в ротик есть.
Да, здесь ее правда. Такая вкуснятина попадалась только в лесу. Иннокентий начал собирать землянику своими силами. Лукошком пренебрегал, предпочитал воспользоваться советом искушенной Матрены и собирать в рот. Он увлекся, пополз за куст, там оказалась целая кладовая. Жаль, что послушался матери и наелся оладий, теперь влезет мало ягоды.
За ближними деревьями, как оказалось, вилась едва заметная тропинка к роднику. Изумрудный мох стелился под ногами упругим ковром, хоть танцуй на нем, все равно не примнется. Хрустальные струйки выпрыгивали из-под камней, на секунду замирали стеклянными изваяниями в неглубокой выбоине и тут же убегали вниз по глинистому руслу. Чтобы напиться, надлежало набирать воду в ладошку. Кеша попробовал и промочил штаны на коленях, измазал грязью башмаки. Раз терять стало нечего, он смело пересек неглубокое русло и попал в густой ельник. Прохлада куснула за промокшие ноги, он разулся, потрогал ступнями сухой и приветливый мох. За елкой замаскировался малинник. Это он здорово придумал, Кешенька тоже не побрезговал бы таким укрытием. Резные листья едва пропускали солнечные лучи, держали оборону. Они безжалостно кололи световое войско острыми краями, отгоняли его от своих владений. Кстати прибежали думки про тайное логово. Деревенские пацаны хвастались, что все лето напролет в таком проживали. А он чем хуже? Ему тоже надо. Довольный Кеша присел под кустом и начал лакомиться, пока над головой истошно не загомонили птицы и в лесную сказку не врезался визг:
– Ой, мамоньки! Девки! Мишка! Тика-а-а-ай!
– Ой, Хосподя-я-я-я!
– Пшел! Пшел отсель!
– Бабоньки, а где барчук-то?! Ау!!!
Кеша услышал, но не двинулся с места: поздно, бурая туша по ту сторону родника отсекла его от девок. Лужайку сотряс рык. Казалось, от такого даже малина посыпалась с ветки, мягко застучала по голове, по плечам. Хотелось еще сильнее вжаться в колючую траву, чтобы макушка затерялась среди еловых шишек.
– Эй, Потапыч! Пфу!!! – Какая-то смелая девка выбежала с той стороны и замахала палкой.
Увеличенные страхом глаза видели больше положенного. Кеше показалось, что он различал лоснящуюся шерсть, вросшие в бедро репейники, крохотные злые глазки и розовую пасть с перламутровыми потеками слюны. На самом деле он лишь угадывал неуклюжую тень, остальное дорисовывало воображение, но так было еще страшнее. Лес завизжал, как до этого зарычал. Зверь темной громадой раздвигал ветки, удаляясь от родника, мощные ягодицы подпрыгивали и колыхались, вдалеке мелькали юбки. Кеша вскочил и побежал в противоположную сторону, в чащу, обдиравшую щеки и рукава, дальше – под светлые березки, потом снова в чащу. Он бежал, пока хватило сил. Не остановился, а упал, задыхаясь, непослушные ноги дрожали и заплетались. Рука зачем-то нырнула в карман, там что-то билось о бедро. Пусть маленькое и легкое, но при бешеной гонке все равно мешало, лучше выкинуть. Никакой полезной добычи он не надеялся отыскать. Сначала подумал, что так и есть: бесполезная дребедень. Потом пригляделся: на ладони лежал костяной лев, почерневший и замыленный тысячами прикосновений, но все равно четко распознаваемый, даже как будто грозно оскалившийся, поднабравшийся решимости. Вчера он казался миролюбивее. Иннокентий глубоко вздохнул. Сердце вставало на место, не жалось больше к горлу, не норовило выскочить. Что теперь делать? Сжатая в кулачке костяшка как будто добавила сил: он встал и снова понесся по лесу, взобрался на холм, спустился, перебрался еще через один родник, дальше бежать не получалось, только плестись. Мальчик оглядывал одинаковые стволы, заросли и камни, за каждым ему чудился оскалившийся медведь, и он снова пробовал тикать из последних сил. Возле сухого орешника Кеша понял, что заблудился окончательно и бесповоротно. Даже не мог сообразить, в какой стороне дом. Топать обратно значило прямо в медвежьи объятия. Он представил, как хищник доедал Матрену, как, задрав зеленую юбку, отрывал куски от ее мясистых ляжек, как утробно урчал. Через секунду Иннокентий уже всхлипывал, потом зарыдал в голос с подвываниями, как брошенный щенок на ярмарке, отчаявшийся, голодный и понимавший всем немудрым существом, что жизнь окончена. Такой однажды попался на глаза в масленичном ряду: забившийся в угол, незаметный среди пьяного смеха и частушек и несчастный настолько, что смотреть недоставало сил. Тогда графиня сжалилась, велела кучеру забрать собачонку с собой. А теперь на кого рассчитывать? И слезы полились еще рьянее.
Проревевшись, Кеша с удивлением понял, что жизнь продолжается и даже этот проклятущий день еще не подошел к концу. Следовало что-то предпринять. Сидеть под деревом и ждать, когда придет смерть – клыкастая, горластая, с полной розовых слюней пастью, – категорически не хватало терпения. Сначала он решил залезть на дерево, но тут же отмел этот план как скучный. Вряд ли его здесь кто-нибудь отыщет, кроме зверья. Значит, все равно придется идти, плутать в полном одиночестве по опасному темному лесу, надеясь только на свои короткие слабенькие ноги и зажатого в кулаке костяного льва. Помогала ли эта штука его роду? Вроде бы да, раз позволила убежать от зверюги. Но, с другой стороны, что ж не уберегла совсем, чтобы не было этого страшного приключения? Порассуждав на эту тему, сколько позволяла присмиревшая после рева паника, Иннокентий пришел к выводу, что в лихой час всякое чудо пригодится, поэтому поднес костяшку к самому лицу и жарко зашептал то ли молитву, то ли заговор. Он просил прощения за то, что нарушил покой оберега, клялся больше так не поступать, вернуть на место, на бархатную подушечку в бабкиной шкатулке, и не прикасаться без крайней нужды, умолял помочь, расписывал, как печалятся его маменька и бабинька, как тоскует по братцу малышка Ксеня.
Так, бормоча несусветные языческие привороты, мальчик побрел среди царственной тишины леса, среди его равнодушного богатства, где никому из пресмыкающихся, клыкастых или пернатых не было дела до насмерть перепуганной, израненной детской души. Он пугался шорохов, сначала лез на деревья, потом устал и просто прятался за очередной ствол потолще, едва не терял сознание от резкого вскрика птицы или шумного трепыхания ее крыльев, без перерыва что-то шептал своему оберегу. Пройдет с десяток шагов, остановится и побормочет в кулак. Минует кустарник или лужайку – очередная порция жарких и бессвязных слов. Главное – куда-нибудь выбраться до темноты. Совсем недалеко текла по своим нескончаемым делам широкая дорога, он точно это знал. Но как ее отыскать? Предательские ноги требовали отдыха. Кеша взглянул на своего льва. Тот вроде успокоился, больше не скалился.
– Ну что? Будешь выручать или нет? Если меня сожрут, то и ты ведь домой не попадешь? – в срывавшемся мальчишеском голосе слышалась угроза.
Лев печально молчал, прятал глаза за почерневшей пеленой столетий.
Когда коварное солнце подобралось к закату, окрасив листву беспечно розовым и радужно лиловым, Иннокентий понял, что это его последний день. Больше не будет пирожков с вишней и сказок на ночь, он никогда не научится верховой езде, не наденет парадный китель с блестящими пуговицами. Все бесцельно и безнадежно. Ноги отказывались шагать, в желудке поселились прожорливые червяки, ворочавшиеся тревожными клубками и больно кусавшие изнутри. Ягод им оказалось мало, не наелись.
– Ау! Кто здесь? – раздался сбоку мелодичный девичий голос.
– А-а-а-а-а… а-а-а-а… тетенька!!! Я!!! Я это!!!
Кеша от небывалой радости забыл слова, просто вопил.
– Ау!!! Иди к нам, – позвал голос.
Через минуту мальчик кого-то обнимал, целовал, плакал, размазывая сопли.
– Я погляжу, одежа-то у него непростая. Ты чьих будешь?
– Как не забоялся-то? Сердешный! Говорят, нонче мишка девок шевелевских напугал, инда поранил кого-то.
– Аще как забоялся. Ты погляди на его. Ажно дрожит.
Девки из соседнего села разглядывали найденыша, щупали, цел ли, угощали нехитрыми харчами, вкуснее которых маленький графский сынок в жизни ничего не ел.
Бабушка так напугалась, что даже не ругала, хоть Кеша и опасался ее гнева. Оказывается, не зря он прихватил амулет, спасла-таки его семейная реликвия. Для себя Иннокентий решил так: медведь явился, потому что он без спросу взял оберег, созорничал, и жути лесные стали наказанием, а потом лев опомнился, понял, что выручать надо, и вывел к людям.
С тех пор костяная статуэтка пользовалась у графа Шевелева величайшим уважением. Когда пришла пора сдавать экзамены в гимназии, он специально съездил к бабушке, ставшей к тому времени совсем старенькой, немощной, и попросил оберег для успешной аттестации. Она дала. Экзаменационная пора проскользнула, как будто по смазанной маслом сковороде, сам не заметил, как вышел отличником по всем дисциплинам. Но когда спустя пару месяцев безделья и бездумных пирушек с наконец-то дозволенным шампанским он собрался в деревню, чтобы вернуть драгоценность на место, бабушка уже умерла, так и не дождавшись внука. Лев остался у Иннокентия. Мать с отцом не больно жаловали старинные притчи, да и жили они все вместе, то есть вроде талисман обитал у сына, а с другой стороны – в семейном доме, как и положено.
Когда разгульная юность полноправно вступила в права, молодой граф Шевелев числился офицером кавалергардского полка, носил шпагу и парадный мундир и вовсю куролесил по светским салонам. Он отточил язык и перо, сочинял смешные и обидные эпиграммы, волочился за первостатейными красавицами и считал, что жизнь – это череда приятных развлечений. Девятнадцатый век закончился для него в мажорном ключе, и он не ждал подвоха от грядущего, двадцатого.
Однако в первый же год нового столетия, когда вместо приевшейся восьмерки на календаре появилась непривычная девятка, то есть в одна тысяча девятисотом, у него случилась крупная ссора. Поручик Григорий Соколовский слыл среди товарищей молчуном, умником, предпочитал дамскому обществу книжное. К нему обращались особо церемонно, потому что в невестах поручика числилась не кто-нибудь, а полковничья дочка – некрикливая и не больно красивая барышня. На весеннем смотре миловидный блондин Григорий с голубыми прохладными глазами и мягкой бородкой вдруг ни с того ни с сего покрылся сыпью. Да не просто сыпью, а вулканами, грядками, багровыми, воспаленными, блестящими сальной смазкой, под которой скопился готовый пойти в атаку гной.
– Что это с вами, Соколовский? Может, к лекарю? – дежурно спросил капитан.
– Сам удивляюсь, – пробормотал поручик, – никак, съел что-нибудь. Пойду в аптеку, куплю притирок.
Иннокентий, еще не переживший вчерашний разгул, излишне громко прошипел:
– А Грегуар, кажется, навестил известных девиц и прихватил оттуда гостинец. – Товарищи за столом в офицерском буфете дружно заржали. Тут бы и прекратить, замолчать и извиниться, но, глядя, как веселятся необузданные жеребцы, Шевелев не смог удержаться и добавил: – Как теперь подходить к полковничьей дочке?
Он сам не знал, зачем оскорбил Соколовского, ни злобы, ни соперничества между ними отродясь не водилось. Еще не смолк дружный гогот, как Иннокентий уже жалел о сказанном, а оскорбленный Григорий направлялся к обидчику.
– Сударь, вы позволили себе насмехаться над моим заболеванием и нелепыми предположениями порочить имя дорогого мне существа. – Соколовский, негодуя, покраснел, теперь он весь превратился в один воспаленный прыщ. – Извольте принести публичное извинение.
– Вам, сударь, угодно драться? – Иннокентий снова удивлялся своему языку, казалось, сегодня тот плясал сам по себе, жонглировал опасными ненужными словами.
– Вы еще спрашиваете? Конечно, угодно.
Кто-то дергал его за рукав, что-то шептал, но в ушах стремительно нарастал протяжный гул – это совесть била в набат, оглушала. Перед глазами поплыла жемчужная пелена. Зачем он это сказал? Дурачина! Сейчас бы извиниться, покаяться, обругать последними словами свой непослушный язык и пригласить на примирительный обед. Но уже невозможно, все слышали, все видели. На кону честь не только его самого – егозы Кешки, любимца покойной бабки и меньшой сестры Ксени, а всей шевелевской фамилии.
Он на деревянных ногах повернулся к соседу по застолью, рыжему Тарасевичу, и попросил быть секундантом. Вот и все.
Иннокентий Карпович никогда не отличался склонностью к военным дисциплинам. В полк его определили по традиции, пока не женился и не осел на какой-нибудь почетной и бездельной должности. Стреляться он не любил, меткостью не блистал. Но это все не главное. Главное – он вообще не испытывал неприязни к Соколовскому, не желал тому зла. Чувство вины легло на сердце, как будто это не фигура речи, а реальная гирька, некстати проглоченная за завтраком и засевшая в желудке. Ни туда, ни сюда. Хотелось побежать на квартиру к Григорию, упасть на колени и вымолить прощение. Если умирать, то хоть без вины. Чтобы не говорили, что погиб паяц ни за понюшку табаку. Но теперь извиняться поздно – засмеют.
Оставалась одна надежда на костяной оберег. Иннокентий вытащил свое сокровище из шкатулки, перекочевавшей к нему из бабушкиного будуара, долго смотрел на льва, шептал слова извинения, как будто это не почерневшая костяшка, а покрытый прыщами Григорий. На улицы прибежали ранние петербургские сумерки, но граф не зажигал свечей. В полутьме казалось, что лев смотрел на него с досадой, с осуждением. Поздно вечером пришли секунданты, обговорили условия. Осталось только помолиться и пораньше лечь спать.
Утро выдалось туманным. Иннокентий Карпович плеснул в лицо холодной воды, сделал гимнастику: сегодня очень пригодится крепкая рука. Завтрак он заказал легкий, но питательный – два яйца с холодной говядиной, чтобы в голодный обморок не упасть, а тяжести не чувствовать. От кофе вообще отказался, от него как будто головокружение: приятное, несильное, совсем чуть-чуть, но все равно неуместно. Секунданты почему-то задерживались. Граф еще раз размял кисти и взял в руки оберег. Раз есть время, то пусть лев напоследок еще послушает жалобы.
Через полчаса никто не пришел. Это начинало действовать на нервы. Теперь он уже не думал о несуразности ссоры, не винил себя, только желал, чтобы все поскорее закончилось. Наконец перед парадным простучали копыта.
– Иннокентий, друг мой, – начал князь Сергей, его рыжий секундант, – с нашим противником случилась беда: он слег в горячке. Бредит, трясется. Я сам его видел. Григорий Петрович рвался на поединок, но я считаю, что долг честного человека – дать отсрочку. Пусть придет в себя. Нельзя пользоваться выгодным положением перед лицом недуга. – Он говорил серьезно, но левый глаз умудрялся хитро подмигивать Иннокентию.
За плечом Сергея стоял на вытяжку секундант Соколовского и согласно кивал головой. Выражение его лица было скорее траурным, чем озабоченным. Он казался всерьез опечаленным, только непонятно, чему больше: несостоявшейся дуэли или болезни своего дуэлянта.
– Разумеется, господа. – Шевелев расцвел, в груди что-то щелкнуло и отпустило. – Раз мсье Грегуар болен, ни о каком поединке речи быть не может. Я сам его проведаю и заверю, что мы сможем продолжить, как только позволит его здоровье.
Секунданты откланялись, а Иннокентий Карпович побежал вприпрыжку к себе, вытащил из шкатулки статуэтку и крепко расцеловал:
– Помог ты мне, братец, крепко помог. Теперь давай дальше, чтобы Гришенька простил меня и никакой дуэли вовсе не случилось.
Лев лукаво улыбался в утренних сумерках. Что ж, он снова справился с задачей, а разве могло случиться по-другому?
Шевелев и вправду навестил Соколовского, тот лежал в лихорадке, так что беседы не вышло. Он, грешным делом, решил, что лев таким способом уберегает от опасности своего владельца, и даже попенял за это безответной костяшке.
– Ты, дружок, давай как-нибудь по-другому, нехорошо так.
Амулет снова его послушал. Через неделю стало известно, что Соколовский встал на ноги, но на улицу еще не выходил. Через несколько дней такие же огромные болючие прыщи выскочили на лице рыжего секунданта и еще двух офицеров, а через неделю слег сам Шевелев. Недуг назывался ветряной оспой. Лекари не зря пугали, что ей заражаются едва не с полувзгляда. Лихорадка причиняла страшные мучения, а прыщи на теле вовсе не беспокоили. Воспитанный Соколовский, к тому времени уже окончательно выздоровевший, но с темными пятнами на щеках, навестил больного, посидел напротив кровати, поцокал языком.
– А ведь это я вас заразил.
– Да… и не только меня… Еще полполка на вашей совести, – простонал Шевелев.
Бледный, похудевший Соколовский вздохнул:
– Я же не по своей вине. Или из-за этого тоже стреляться изволите?
Так они и помирились. Не ссориться же всерьез, если всему виной детская болезнь, но Иннокентий Карпович твердо уверовал, что костяному льву все под силу.
После этого полуволшебного происшествия Шевелев подал в отставку и надумал жениться. Когда он посватался к Анастасии Яковлевне, то прихватил талисман с собой, любовно завернул в тряпицу и положил в карман. Растроганная невеста сказала заветное «да», и жизнь покатилась сытым колобком, перепрыгивая буераки и неудобицы.
Тесть графа очень удачно унаследовал за супругой купеческого сословия пай в товариществе «Лаферм» – замечательном табачном предприятии, всего за полвека выросшем из маленькой лавки на арендованных площадях в Пассаже до поставщика Двора Его Императорского Величества и пафосного особняка на 9-й линии Васильевского острова, нарощенного на дежурный домик по проекту академика архитектуры Ю. Ю. Бенуа. Перед русско-японской войной, когда граф предложил свою нервную, но крепкую руку Анастасии Яковлевне, завод имел один специализированный магазин в Москве и четыре в Санкт-Петербурге. Везде требовался наметанный глаз и трезвый расчет, поэтому скучать графу Шевелеву не приходилось. Молодой Иннокентий Карпович с головой нырнул в неведомый мир машин для сушки и резки, экспорта-импорта, новых сортов зелья с непривычными волшебными названиями. Ему нравилось выбирать картинки для упаковок, ходить по цехам, считать, пробовать. Он и курил больше для i, настоящей тяги не испытывал, поэтому и любимых сигар никак не мог выбрать.
Иннокентию действительно везло, и главной удачей стал не прибыльный пай в процветающей компании с громким именем, а кудрявая прелестница Анастасия Яковлевна. Ее воспитали в духе старых гостиных, где барышни вышивали шелком и лишний раз не открывали рта, поэтому жена взяла за правило разделять взгляды мужа. Она научилась любить блюда, которые предпочитал супруг, начала ездить верхом, чтобы не отставать от прочих дам, хоть терпеть этого не могла и ни разу не взбиралась в седло до самого замужества. Кроткая, красивая, благонравная, но притом умная и рассудительная, прочитавшая все прогрессивные романы, но равнодушная к нарядам и украшениям, а главное, сторонившаяся сплетен жена – удача для любого дворянина.
Тонкая, как болотная камышинка, Анастасия долго не могла забеременеть, жаловалась лекарям и знахаркам, но все бесцельно. А стоило Иннокентию попросить заступничества у костяного льва, как супруга сразу же понесла, поправилась, налилась сочным яблочком, стала не в меру усидчивой и слезливой. Рожать она страшно боялась. Говорила, что узкий таз, что маменька с трудом разрешилась от бремени. Супруг слушал вполуха. Он-то знал, кого следовало попросить.
Роды пришлись на сумрачную недовольную весну. Только тронулись льды на Неве, и вся чистая публика пошла любоваться могучим ледоходом. Русско-японская война в 1906 году пока не принесла уготованных разочарований. Непросвещенные массы еще верили в маленькую победоносную войну, которой положено прославить русское оружие на Дальнем Востоке. Правда, просвещенные уже чесали облысевшие от многомудрия макушки, но покуда молчали, у них своих финансовых удочек доставало, чтобы не лезть в политические бредни.
Анастасия Яковлевна совсем не предполагала, что дохаживала последние денечки нелегкой беременности. Ее только недавно перестало тошнить, и теперь вроде бы пора поесть, набрать вес. Прогулкам надлежало взбодрить аппетит, поэтому молодая графиня взяла променад за привычку. От Мойки до Невы – коротенький отрезок, всего-то на одну папироску по меркам Иннокентия Карповича. Графиня замоталась в шаль и уверенно ступила на мостовую, опираясь на руку верной немки-компаньонки. Ругаясь с ледяным ветром, они дошли до Михайловского дворца, немного полюбовались великолепной чугунной решеткой.
– Непогодится, может быть, на сегодня достаточно? – Заботливая фрау Барбара придерживалась устаревших взглядов на течение беременности.
– Ни за что, – отрезала Анастасия, – доктор велел гулять. Малышу полезно.
Ветер крепчал, впереди показался новопостроенный дом Зингера с причудливой сферой на крыше. В хорошую погоду графиня не уставала им восхищаться. Повернули на Невский. И тут порыв ветра снес вывеску с кондитерской, даже не вывеску, а половину ее, халатно прилаженную картонку с изображением пухлогубого пекаря. Вторая часть, на которой остались заманчивые пирожные и кексы, криво повисла на карнизе и продолжала радовать прохожих, а оторвавшаяся полетела прямо на тротуар, в частности на Анастасию Яковлевну.
Мужественная фрау Барбара попыталась встретить опасность монументальной грудью, но коварный картон мастерски облетел ее корпулентную фигуру и стукнул плашмя растерявшуюся от такого произвола графиню. Вся оживленная улица вскрикнула, затрепыхала, кинулась поднимать, дуть, утешать. Зачем? Никакого вреда беременной несчастный пекарь не причинил, просто напугал. Анастасия почувствовала, как к щекам прилила кровь, и покорно склонила голову перед своей спутницей:
– Хорошо, на сегодня довольно. Пойдемте домой.
Они медленно пошли назад, но кровь от щек графини не отливала, они стали пунцовыми, как у того пекаря с вывески, что напал на беззащитных женщин. Когда подошли к дому, оказалось, что не только к щекам, но и к чреслам, даже выплеснулось немного наружу.
– Батюшки, да у вас воды отходят, – заголосила фрау Барбара.
– Как? – Анастасия осела прямо на пол, мимо приветливого ковра, на потрескавшиеся местами паркетины. – Как? Что?
– Голубушка моя, пройдемте в спальню, я пошлю за доктором.
Но встать бедняжка сама уже не смогла. Ей казалось, что малейшее напряжение вызовет роды, к которым она еще не готова. Графиня сжалась в комок и сидела не шевелясь. Только горели испугом ставшие огромными, в пол-лица, теплые карие глаза.
Иннокентий Карпович подоспел в самый разгар битвы за роженицу и младенца. Он коршуном налетел на компаньонку, потом на доктора, долго не хотел признавать, что ничьей вины в случившемся нет. Более того, рано или поздно родам все равно надлежало случиться, так что в суете, криках из опочивальни и озабоченных лицах, в общем-то, не было ничего предосудительного. Разве что чуть-чуть пораньше положенного, но так часто происходило.
Он отодвинул плечом слуг и попытался втиснуться в комнату к жене, но оттуда донесся такой душераздирающий крик, что ноги приросли к паркету. Злой шепелявый доктор не позволил даже посмотреть на его Настеньку. В окно заглянула ночь. По озабоченным лицам фрау Барбары и сестер он понимал, что не все шло гладко. Несколько раз выходил доктор, нервно курил и шел обратно в обитель слез и страданий, недовольно покачивая седой головой.
Только после вторых петухов Иннокентий Карпович понял, что ему надлежало сделать. Он побежал к себе в кабинет, вытащил почерневший амулет и принялся горячо его упрашивать помочь суженой разрешиться от бремени. Подумав, добавил: «здоровеньким дитятей». Поуговаривав костяшку, граф высунул нос в приемную. Ничего не изменилось: те же суровые взгляды, стоны, переходящие в крики, дрожь по спине. Почему-то в этот раз со львом не удавалось достигнуть взаимопонимания.
Тогда Иннокентий Карпович принялся молиться иконам, как положено. Долго стоял на коленях, кланялся. Потом подумал и снова принялся уговаривать костяную статуэтку. В пылу своих запутанных молений он и не заметил, как в приемной все стихло. Кто-то осторожно постучал в дверь. Шевелев испугался, зажмурился. Он уже приготовился услышать страшный приговор.
– Ваше сиятельство, – так высокопарно слуги обращались только в нерядовых случаях, – Ваше сиятельство, дочка.
– Что-о-о-о?
– Дочка, говорю. Поздравляю вас, Иннокентий Карпович.
Помогло! Как он мог сомневаться? Конечно же, помогло! Помог лев всемогущий, спас Анастасию Яковлевну! Уберег! Шевелев ликовал. Он тихонько поцеловал измученную спящую жену и долго смотрел на красный комочек в белопенных кружевах люльки. Дочь. Его дочь. Граф щедро одарил доктора и всех-всех-всех причастных, распорядился закатить пир для прислуги и побежал хвастаться друзьям. Только выбежав на улицу и кликнув кучера, он понял, что на часах едва пробило пять утра.
Дочку назвали Инессой – пусть романтичное нерусское имя предопределит красивую судьбу. Малышка, хоть и появилась на свет раньше срока, росла здоровенькой, смешливой и до умопомрачения похожей на отца. Между супругами царила любовь, в доме множились сервизы и гарнитуры, предприятие процветало, капитал рос, и во всех везения х граф винил свой талисман, своего льва, палочку-выручалочку, заботливого опекуна и заступника.
Анастасия Яковлевна относилась к мужней придури со снисходительным пониманием. Раз нужно, то пусть так и будет, ей не жалко. Она бережно укладывала талисман рядом со своими драгоценностями: жемчужным ожерельем, такими же подвесками, браслетом-змейкой с зеленым глазком, старинной изумрудной брошью страшной, непомерной цены, сапфировым гарнитуром, еще одним браслетом без камней, зато ажурной прихотливой работы. Жемчуг хранился отдельно в замшевом мешочке, чтобы не поцарапались волшебные перламутровые зерна, изумрудная брошь – та вообще в отдельной сафьяновой коробочке. Начищенные и отполированные браслеты хозяйка заворачивала в мягкую фланель, а костяной лев валялся в шкатулке каслинского литья просто так, без запасной чешуи. Рядом с ним еще блестели сапфировые недоразумения, но они тоненькие, камешки малюсенькие, такими особо не похвастать на приемах: кольцо, подвеска и серьги-жирандоли. Ажурная сердцевина скалилась шипами во все стороны, один камешек покрупнее по центру и три по краям, три висюльки под стать основанию, шипастые, с хищными пастями несимметричных дырок, в каждую вставлено по камню, но не в середину, как положено, с любовью, а сикось-накось, с издевательской небрежностью. Еще три малюсеньких сапфирчика на сочленениях подвесок с основанием и три на той части, что вдевалась в ухо. Но неумехой ювелир не был, потому что две полные диссонанса жирандолины удивительным образом зеркалили друг друга. То есть мастер умел, если хотел. В общей сложности тринадцать камней на каждой – несчастливое число. Если перевернуть серьгу, она напоминала желто-синего льва со вздыбленной гривой и разинутой пастью, откуда торчали хищные клыки. Графиня не любила их надевать и не распространялась, откуда к ней забрели оскалившиеся сережки. Она редко выгуливала их в свет: то ли считала, что к рыжим кудряшкам и теплым карим глазам не шел синий цвет, то ли и вправду избегала носить украшение по скрытым, не совсем добродетельным мотивам.
Надо отдать должное, Иннокентий Карпович вспоминал про свою реликвию не только в часы бедствий, но и в обычные погожие будни. По воскресеньям, бездельничая, он требовал у дражайшей половинки открыть сокровищницу и продемонстрировать костяной талисман, брал его в руки, любовно гладил и даже разговаривал. Наверное, и в самом деле чувствовал тайную связь. Когда Инеска стала подрастать, он брал дочурку на руки и показывал нехитрое изделие языческих, скорее всего степных мастеров:
– Смотри, ma chère[15], вот он, оберег нашего рода. Запомни его, не теряй и никому не отдавай.
Малышка не понимала, о чем речь, но деловито хваталась пухлыми пальчиками и норовила попробовать талисман на зуб. Отец смеялся и целовал теплые, пахнущие молоком щечки.
В их доме на Мойке становилось все больше вещей и все меньше места. Супруги любили красивые диковины: громоздкие антикварные буфеты, заморские вазы, редкие музыкальные инструменты, пусть и поломанные, зато с клеймом известной мастерской. Им слышались голоса ушедших эпох, что рассказывали умопомрачительные истории. Так, в кабинете графа выстроились целых три секретера и два письменных стола викторианской эпохи. Почему два? Ну не разлучать же пару. Анастасия Яковлевна уже не раз зарекалась проходить мимо лавок с закрытыми глазами, но почему-то облюбованных оттоманок, кресел-качалок и жардиньерок в доме все равно прибывало.
Перед империалистической войной табачное производство настолько расширилось, что превратилось в трест из четырнадцати отдельных фабрик, в империи о нем говорили с уважением. Пай, унаследованный тестем, превратился в весомый каравай. Каждый, кто торговал нынче в Пассаже на птичьих правах, грезил подобным успехом. Война больно ударила по фантазиям, по цифрам, заграбастала рабочие руки, транспорт, заковала банковские счета. Иннокентий Карпович стал чаще вытаскивать костяного льва, смотрел задумчиво, молчал.
– Innocent, не кручинься, голубчик, – уговаривала Анастасия Яковлевна, – в мире всегда кто-то воюет. Человечество настолько глупенькое, что до сих пор не может уразуметь простых истин: от войны происходит только разорение в душах и кошельках. А кто сегодня победитель, тот завтра повержен. Вот и все.
– Anastasie, я не против войны, меня угнетает, что Россия не в авантажном положении. Не так надобно входить в войну.
– А хочешь кофейку? Попьем на балкончике вдвоем. – Она вскочила, чтобы отдать прислуге распоряжение.
– Нет, голубушка, не кофейку, а настоечки, что-то горло прихватило. – Он пожаловался просто так, не потому что действительно беспокоило горло, а чтобы она пожалела. И она это поняла. И сразу стало хорошо, и вовсе не следовало разговаривать про немирное.
С началом войны приумножились странности Иннокентия Карповича: теперь он стал обозначать одежду как фартовую и не очень. В числе первых числился лимонный жилет и полосатые панталоны, а в числе вторых – коричневый редингот. Выходило так, что жилет приносил удачу, дни становились продуктивными, успехи исчислялись десятками, а редингот всегда тащил за собой скуку и разочарование. Поэтому лимонный шелк затерся едва не до дыр, а коричневое сукно висело в гардеробе как будто вчера из магазина.
После Февральской революции в 1917-м жить стало опаснее, но интереснее. Иннокентий Карпович ходил на какие-то собрания, за кого-то голосовал, даже писал длинные петиции от лица петроградских предпринимателей. Быстро воспламенявшаяся натура не упускала случая впрыснуть в кровь авантюрных специй, но рассудок уже понимал, что ничего хорошего ждать не приходилось. Тем, кто процветал при старом режиме, Временное правительство не приготовило сдобных плюшек. Дальше – только хуже.
Инессе исполнилось десять лет, почти барышня. Веселые детские кудряшки уже не обрамляли головку ангельским нимбом, а стелились по худеньким плечикам благочинными локонами в узде шелковых лент. Высокие аристократичные скулы подчеркивали отцовский профиль, в котором от далекой грузинской родни сохранился тонкий нос с горбинкой. Материны приветливые глаза на матовом лице без веснушек смотрели холоднее и как будто свысока. Рыженькая Анастасия Яковлевна согревала взглядом, а темноволосая Инесса только оценивала. Иннокентий Карпович неприкрыто любовался дочкой и шептал благоверной:
– Inesse – красавица у нас. Где зятя подбирать станем?
– Красота – это последнее, что помогает барышне в выборе достойного мужа, – отмахивалась Анастасия Яковлевна. – Лучше бы гувернантку хорошую найти.
– А что?.. – Он вопросительно смотрел на ее животик и нежно брал за руку, готовый тут же поднести к губам, зацеловать, утешить.
Супруга опускала глаза. Шевелевы хотели еще одного ребенка. Лучше бы мальчика. Но со второй беременностью не задавалось, как до этого с первой. И лев не помогал.
В начале октября 1917-го скончалась старая нянька Инессы Иннокентьевны. Дружная прислуга особняка на Мойке всем скопом отправилась на отпевание, а потом на поминки. Графская семья не побрезговала и пошла вместе со слугами. Такой поступок, во-первых, соответствовал духу тревожного времени, во-вторых, юная мадемуазель ее беззаветно любила. Граф оплатил все расходы по достойному прейскуранту, графиня надела траур. После отпевания залитая слезами барышня потребовала, чтобы семейство посетило и кладбище, а затем присутствовало на поминальном обеде.
– Для девочки это страшная травма, первая потеря по-настоящему близкого человека. Надо уважать. – Анастасия Яковлевна поплотнее прикрыла лицо вуалью и сунула распорядителю похорон еще одну ассигнацию.
– Да-да, замечательная женщина нам попалась, царствие ей небесное, – поддержал супругу граф.
После поминок они долго гуляли втроем по набережной, вспоминали покойную Евдокию, смеялись ее простецким, но смешным шуткам и своим воспоминаниям. Как будто нянечка шла четвертой среди них, иногда несла на руках кружевной кулек, иногда – непослушный комок розового счастья, хвасталась, как будто купила на ярмарке диковинную куклу. Вот она прибежала с выпученными глазами по поводу первого зубика, вот привела Инессу на ее собственных пухленьких ножках – это первые шаги.
Гранит гулко разносил шаги, помпезные особняки спрятали в темноте резные карнизы и легкомысленные рюшечки, только атланты стояли верными сторожевыми и грозно надзирали за мостовой. Перед домом на Мойке кто-то разбил фонарь и отпирать дверь пришлось на ощупь. Никого из прислуги не осталось, все на поминках, когда вернутся – неизвестно. Пусть помянут покойницу добрым словом, она это заслужила, а Шевелевы и сами управятся. Щелкнул замок, Иннокентий Карпович пропустил вперед жену и дочь.
– Ой, что это валяется? – Инесса взвизгнула и отпрыгнула назад, едва не сбив мать с ног.
– Надеюсь, что не труп, – мрачно пошутил Иннокентий Карпович и зажег лампу.
В прихожей на полу вальяжно раскинулись соболиная шуба графа и пышное боа из черно-бурой лисицы.
– Так-с… – Досада мигом вытеснила умиротворение от прогулки.
– Инесса, никуда не ходи! – Мать остановила порывавшуюся куда-то бежать дочку.
Глава семейства в три прыжка достиг лестницы и зажег там светильники, потом по всей гостиной и столовой. Слава богу, никого. Раскрытые серванты, выпотрошенное на ковер серебро: блюда и супницы, которые трудно унести. Рюмок и приборов не нашлось. Анастасия Яковлевна взяла за руку дочь, глазами велела мужу следовать впереди, такой процессией они поднялись на второй этаж. В опочивальнях тоже поохотились. Воры сдирали с вешалок платья и манто, наверное, хотели прихватить с собой, но в последний момент передумали, не влез объемный графский достаток в заплечные мешки. Унесли только самое ценное: пачку облигаций из бюро, немного наличных денег, серебро, две шубы и шкатулку с драгоценностями.
– Жемчуг жалко, – холодным тоном произнесла графиня.
– Сколько раз говорили мне, чтобы дома надежный схрон оборудовать. – Иннокентий Карпович чертыхнулся.
– Матушкино кольцо хотела сегодня надеть, но постеснялась: зачем перед слугами красоваться? – Анастасия Яковлевна начала механически подбирать с пола разбросанные шляпные коробки. – Это не просто изумруды, это память.
И тут будуар наполнился отчаянным воплем:
– Мой лев!!!
Глава 6
Петроград к лету 1918 года напоминал попавший в шторм корабль: некогда величественный, но изрядно потрепанный, еще на плаву, но с критичными пробоинами. Матросы желали продолжать плавание, а пассажиры отчаянно стремились высадиться на чужом берегу.
– Господа, никакого электричества, только свечи. – Аркадий Михалыч распахнул парадные двустворчатые двери жестом заядлого фокусника. Он лукавил: электричества давно уже не подавали.
– Да вы чародей, Гарри, – низким томным голосом проворковала Фанни.
В гостиную чинно вступили четыре пары: мужчины во фраках и парадных мундирах (два на два), дамы в вечерних платьях.
– Не так мы планировали объявлять помолвку. – Дородная Надежда Ильинична поджала губы и присела на боковой стул, как бы выражая свое несогласие с подобным протоколом.
– Дорогая Надин, сейчас не до званых пиров. Хорошо, что удалось… – Ее лысоватый тщедушный супруг Леонид Евстигнеич обвел рукой застывшие в предупредительном ожидании фужеры, торжественный фарфор и крахмальные салфетки.
Середина гостиной блестела натертым паркетом, ему подпевали бронзовые ручки старинных буфетов, но углы предательски выдавали секреты: за порядком уже давно не следили. Шелковые портьеры кое-где оторвались от карнизов, висели любопытно раскрытыми ртами, на диванную обивку прилепилось несколько темных пятен, со стены исчезло старинное оружие, оставив только крючки, неумело задрапированные модными акварелями, которым здесь совсем не место.
– С эмми, Лола, примите мои искренние поздравления, – Аркадий Михалыч наполнил бокалы.
– И вы, дарлинг Гарри энд Фанни, даст бог, мы отпразднуем пышные свадьбы и забудем эти черные дни как страшный сон. – Спутница Арсения – маленькая верткая барышня в шоколадном атласе – прижала крохотные ручки к груди и взглянула на каждого по очереди, спрашивая, случится ли пожелание, не зря ли она так опрометчиво пообещала всем, не посоветовавшись с провидением.
Артиллерийский капитан в отставке Аркадий Корниевский и его брат скрипач Арсений занимали роскошную квартиру из семи комнат на Невском в доме Кушелёвой. Вернее, раньше она могла считаться роскошной, а в 1918-м без прислуги, с наглухо закрытым черным ходом, потухшей печкой и заросшей грязью кухней, походила на снулый скелет минувшего пиршества. Да и весь дом без швейцара в парадном, с обглоданными перилами и разбитым фонарем, с простынями и подштанниками на балконах больше напоминал отставного инвалида, чем подтянутого офицера. Гарри с трудом затащил новую соседку – жену какого-то рабочего, вроде теперь начальствующего, – и заставил уговорами и посулами навести какой-никакой порядок. Нехитрую закуску для праздничного банкета они раздобыли в обмен на шубу Аркадия, он резонно рассудил, что ходить в мехах придется еще нескоро. Со свечами повезло, отыскались забытые с бог весть какого Рождества, может, пять лет пролежали в коробке с елочными украшениями, а может, и все десять.
– Mes enfants![16] – Леонид Евстигнеич встал и поправил пенсне. – Нынче хочу пожелать вам скорейшего воссоединения. Да закончится этот бардак, и да обвенчаетесь вы, как велит закон и Господь Бог. Мы с Надин несказанно рады, что сестры выбрали себе в мужья братьев. Это сулит переплетение брачных уз с братскими.
По комнате поплыл мелодичный звон хрусталя.
– Я ma soeur[17] Лолу в обиду не дам. – Фанни шутливо пригрозила Арсению пальчиком с кроваво-красным рубином, одетым в массивный золотой наряд.
– My sweet[18], в такие времена лучше бы не блистать украшениями – довольно неземной красоты, – предостерег ее Гарри, но тут же наплевательски махнул рукой. – Я любому голову оторву, если только посмеет на вас посмотреть.
– Это ненадолго, только для суаре, – ответила за сестру Лола. – Мы на улицу выходим донельзя скромными и печальными mademoiselles[19]и даже по-французски стараемся не беседовать.
– Это правильно. – Сэмми подмигнул невесте. – Но что-то должно оставаться неизменным в этом неуверенном универсуме, поэтому позвольте вам сыграть.
Он убежал и через пару минут вернулся со скрипкой в руках:
– Божественный Паганини на скрипке божественного Страдивари в руках бездарного олуха. S'il vous plâit[20].
Зрители вежливо похлопали. Начальные аккорды совпали с первыми всполохами заката. Скрипка заплакала об умирающем дне, который никогда уже не повторится на этой земле, она то улетала ввысь печальными трелями, то клонилась книзу приглушенными рыданиями. Все забудется: и свечи, и улыбки, и розовеющее небо над городом, которого больше нет. Потом вдруг, опомнившись, струны восстали против подобной несправедливости и потребовали реванша, мелодия забурлила воинством, готовым сражаться с наступающими силами тьмы. Нет, все повторится еще раз, еще лучше, светлее, надежнее, раз и навсегда. Глаза Надежды Ильиничны наполнились слезами. Когда Сэмми опустил смычок и в унисон с ним острый подбородок, она попросила:
– Не оставляйте скрипку здесь, mon cher[21], привезите с собой.
– Непременно, мадам.
– Ах нет, maman, пусть Сэмми сам приезжает, бог с ней, со скрипкой, – непрактично всхлипнула Лола.
– И Сэмми, и скрипка, все вместе, – заверил всех Гарри и снова разлил шампанское по фужерам.
Братья еще в детстве шутили: мол, им бы жениться на сестрах и не расставаться вовек. С годами шутка обросла мясом: они и в самом деле присматривались, чтобы у избранницы имелась в наличии хорошенькая сестрица. С Фанни и Лолой повезло. Первым клад отыскал, конечно, Гарри, как и положено бравому офицеру Его Величества. Претендентка на его руку и сердце сверкала черными очами, обжигала обольстительными улыбками – настоящая Матильда из «Иоланты» Чайковского. Лола же была в дуэте заводилой, маленьким неприметным сверчком, который командовал великолепной сестрой. Так неброской Лоле без особых усилий удалось заарканить близорукого Арсения, собственно, Фанни и Гарри все сами сделали, ему просто осталось кивнуть и отнести выданное матушкой колечко.
Сэмми не смог признаться вслух, что по-настоящему любил только музыку. Ни Лола с ее умненькими высказываниями, ни те, другие, пышногрудые, голубоглазые, нежные или занозистые, острые на язычок или томно-молчаливые, не пленили его воображение так, как ноты. Он убегал с вечеринок, чтобы закрыться в кабинете и часами разучивать новые сонаты или рондо-каприччиозо. В театре он мысленно подбирал скрипичные композиции к эпичным сценам, в опере ревнивым ухом слушал, не забивал ли фагот струнные. Хитренькая Лола раскусила его лицемерие и тоже стала верной вассалкой скрипичного ключа.
Обручение проводили второпях, без гостей, без слез и шуршащих шелками подружек, потому что завтра семейство Леонида Евстигнеича отбывало в эмиграцию: уже и билеты на руках, и договоренность с красным воеводой.
– Поосторожнее, mes chères[22], поосторожнее! – Немногословный старый полковник в отставке – отец Гарри и Сэмми – посмотрел строго сначала на сыновей, потом на их невест. – Мы с Алекс еле-еле добрались из Москвы. А вы говорите, скрипку в неметчину привези. Может статься, пешком придется идти. – Он подергал жестким седым усом. Или не подергал, а это был нервный тик.
Его молчаливая супруга печально покивала головой. Сыновья надумали жениться не в самое подходящее время. Практичная полковница предпочла бы сначала эмигрировать, а потом уж женить Сэмми и Гарри, и лучше бы на местных, европейских барышнях. Так легче обжиться. Но нет, взбалмошный младшенький всегда придумывал что-нибудь заковыристое, как он сам любил выражаться, не искал легких путей. Авантюрист, весь в отца. И старший повторял за братом, как попугай, даром, что талантливый музыкант. Гарри – в мужа, вояка и баламут, а Сэмми в нее, такой же неприспособленный романтик. Надо его поскорее увозить.
Семья полковника Корниевского со взрослыми сыновьями не планировала задерживаться в красном Петрограде. Как только получат les permissions[23], сразу au revoir[24], невские берега. Они и лошадей загодя продать умудрились, даже заводик на родовой земле, вотчине, пусть и за бесценок, но все лучше, чем просто экспроприация. Леонид Евстигнеич и Надежда Ильинична не могли похвастать такими успехами.
– Пусть наши дети будут счастливы, дорогие сваты, – поднял бокал полковник.
И снова полилась радостная музыка фужеров, а вслед рассыпала быстрые трели волшебная скрипка.
Назавтра Финский вокзал больше напоминал походную похлебку: давка, матерщина, спящие на мешках и сидящие, обняв колени, шинели на голое тело, трещавшие в сутолоке дорожные платья, потерянные и украденные чемоданы, саквояжи, документы. Ворью в таком котле выходил отменный навар. Пышущая здоровой силой Фанни сумела пробиться к вагону, Гарри тащил за руку Лолу и ее мать, Сэмми и отец невест прикрывали тылы. Поезд долго стоял, несколько часов. Красные командиры что-то решали, кого-то ссаживали, а других, наоборот, подсаживали в набитые под горлышко вагоны. Леонид Евстигнеич просился на перрон покурить, его не пускали, шикали. Лола несколько раз порывалась потерять сознание, но поняв, что сейчас не до нее, находила силы смириться с суровой вокзальной эпопеей и, прилипнув к окошку, ждала. Женихи то прощались и лихо спрыгивали на землю, то, соскучившись, снова залезали, перебирались через чьи-то ноги, головы и надежды. Каждый раз казалось, что уже невозможно протиснуться внутрь, чтобы последний раз пожать нежную ручку и поклясться в вечной любви, но битва снова и снова заканчивалась победой, и еще одно рукопожатие обещало много-много счастья впереди.
Наконец поезд тронулся. Уставшие от долгого махания платочки обрели второе дыхание и замельтешили с судорожной частотой. Оборванцы в лаптях, отиравшиеся поодаль, по сигналу паровозного гудка тронулись с насиженных пятаков и начали подбираться к составу. Как только вагоны сдвинулись с места, лапотная братия побежала и отважными мартышками начала запрыгивать на подножки.
– Стой, куда?! – вопили вожатые, пытаясь стряхнуть прилипчивую перхоть со ступенек, но это мало кому удавалось.
– Что за бандиты? – наивно спросил брата Арсений.
– Шантрапа привокзальная, ж-ж-жулики, прощ-щ-щелыги. – Гарри, не сходя с места, ухватил горсть лохмотьев.
– Пусти, дяденька, а то порежу, – заверещала ветошь и вырвалась, оставив офицеру трофей в виде полы гнилой фуфайки и смрадного запаха.
Гарри понимал, что его маленький поступок никак не менял ситуацию: в состав уже просочилось ворье, теперь пойдет шаромыжничать по вагонам. Сэмми тоже попробовал схватить одного, получил меткий пинок в пах и согнулся пополам.
– Полиция! Грабят! Караул! – завопил сзади почтенный господин в золотом пенсне.
– Полиция!!! Милиция!!![25] – заголосила обмотанная платками, как будто на дворе зима, румяная широкоскулая баба.
Братья дружно потянулись ревизировать свои карманы. Поезд удалялся, а выход в город уже запрудила рьяная потасовка, набежавшие милиционеры кого-то лупцевали и получали сдачи. Драчливая воронка расширялась, в давке кто-то получил тумака, повернулся и, не глядя, впечатал кулак в лицо соседу. Тот передал обиду по цепочке, и так дальше. Накопленное недовольство находило выход в кулачном ремесле. Свара неотвратимо надвигалась на Корниевских. Теперь уже все мутузили друг друга. Чубатый студент заехал локтем в скулу удивленному Сэмми, специально ударил, уставясь ненавидящими серыми глазками в красивое вытянутое лицо. Это увидел Гарри, схватил драчуна и в два кулака опрокинул на землю.
– Ты что творишь, вашблагородье! – суровый окрик разносчика остался висеть в воздухе, потому что за студента вступилась его братия. Три или четыре синие куртки навалились с трех сторон, оттащили, принялись угощать тумаками.
– Назад, стрелять буду! – Аркадий не планировал стрелять, хоть и не расставался с трофейным маузером, однако революционное студенчество и милицейские чины этого не знали.
– А, благородь, мало попил крестьянской кровушки, аще хошь? – грозно рыкнул здоровенный разносчик.
– Держи его! Вот она, контрреволюция, товарищи! – студенты радостно загудели.
Арсений кому-то растолковывал, что те первые полезли в драку, но его, конечно, не слушали. Он хватал милицейских за рукава, за портупеи, но в результате только получил плашмя шашкой по лбу. Гарри скрутили, заломили руки за спину и увели в здание вокзала. Толпа еще пошумела и начала расходиться. Сегодня поездов больше не намечалось, значит, представления не будет.
Аркадий пропал, сгинул в брюхе новоиспеченного правопорядка. Сначала он сгоряча нагрубил милицейским, обозвал их недоумками, недоучками и недоделками, а потом еще выложил правду о своих политических пристрастиях. Вспылил. Не стоило так распинаться перед вчерашними извозчиками и дворниками. Его оприходовали в Кресты как контрреволюционный элемент. В душной камере он оказался только ночью, голодный и злой, но забыться сном не получилось: во-первых, не сыскалось свободных нар, во-вторых, сокамерники из числа уголовников, батьки, требовали у новеньких отчета. Гарри тоже хотелось выговориться, выплюнуть негодование вместе с матерщиной.
– А с чего ты взял, что они извозчики, вашблагородь? – пожилой усач внимательно выслушал, потер поясницу, покряхтел. – Они пролетарии, то бишь рабочие. А ты белый офицер. Раз офицерье проиграло против рабочей косточки, значица, это ты недоучка. Это ты воевать не умеешь.
– Я не умею? – обозлился артиллерист. – Да мой взвод на фронте самым метким числился. На нашей совести подбитые орудия, танки!
– Так то на фронте. А здесь революция… – К Аркадию подсел молодой блондин в форме морского офицера. – В том-то и глупость наша, что воевали против чужеземцев, пока у самих в тылу черт-те что творилось.
– Приказ был. – Аркадий пожал плечами и представился новому знакомому: – Капитан артиллерийского полка Корниевский.
– Свидерский, мичман. – Блондин кисло улыбнулся. – Приказ… Приказы тоже люди отдают.
– Я тоже воевал, хоть и не офицер, – воодушевился усач. – Вот скажите, господа, зачем мы кровушку проливали?
– Зачем? Таков наш долг. – Свидерский явно не желал вести бесед с простолюдинами.
– А для чего армия, любезный, если не сражаться? – Гарри не приветствовал классовой розни, он и на фронте пил и ел с солдатами из одного котла, и песни их пел, и целовался, не брезговал. – Не зря ли нам хлеб казенный есть?
– Да был бы хлеб, – отмахнулся усач. – Не случись войны, не было бы и энтой революции, продавал бы я свои колбасы и в ус не дул. А теперь как?
– А теперь тебя шлепнут, и дело с концом, – тоненько заржал прыщавый юнец с верхнего яруса, но его быстро одернули.
– Война, любезный, – это политика. Кабы государь император знал, чем дело закончится, наверняка не полез бы в эту туманную авантюру. – Свидерский решил сменить гнев на милость и порассуждать с низшим классом о высоких материях.
– Российская империя не могла стоять в сторонке, пока другие державы делят пирог, – разъяснил Аркадий, – если отойти от стола, то тебя посчитают слабым и завтра уже твой кусок заберут.
– А, энто как на сельской гулянке: кто пужлив, того и бьют, – усач оказался догадливым.
– Так или примерно так. Война – это деньги. Кто победил, тот и богат. Поэтому и армии нужны.
Камера жужжала жалобами на власть. Гарри слушал, как лавочники делились убытками, смаковали их, обсасывали с разных сторон, как леденцы, и думал о прогулках по приморской набережной, об утином паштете и французском вине. Он не боялся смерти, война отучила. Самое печальное, что рара и Сэмми ни за что не уедут без него, будут ждать, просить, подавать челобитные, искать знакомств. А им надо ехать, поскорее оставить в прошлом этот кошмар. Он представлял maman перед деревянной лоханью, штопаные подштанники и кукурузу на обед. Нет, так не пойдет. Он обязан что-то предпринять. Если убьют, то пусть поскорее, чтобы родные не ждали, не надеялись. С тем и лег спать, мечтая не о свободе, а о походной шинели, чтобы укрыться и не зябнуть всю ночь.
Назавтра никого не дергали на допрос. Заключенных вообще мало тревожили, наверное, у дознавателей хватало других неотложных дел. Зато в камеру прибыло пополнение.
– Кудыть вы их, господин начальничек? – завозмущался прыщавый с верхов.
– Не твово ума дело, цыц, – огрызнулся красноармеец, втолкнувший новичков в глухо лязгнувшую железную пасть, – и господ здеся нету, всех извели под корень. Здеся одни товарищи.
– Ох, пардоньте, товарищ начальник, обознался.
В числе пополнения оказался князь Гудиашвили, барон Риддер, двое длиннобородых молчунов-староверов и граф Шевелев Иннокентий Карпович.
– И где тут располагаться? – Князь брезгливо оглядывал камеру, где вместо положенных восьми уже сгрудились двадцать или двадцать пять арестантов. Он морщил крупный породистый нос от запаха параши и давно немытых тел, но деваться от него все равно некуда.
Усач выдвинул на пятачок три деревянных ящика:
– Присаживайтесь, вашблагородь, рассказывайте, какими судьбинушками.
Кто-то подвинулся, кто-то полез наверх, и новоприбывшие смогли рассесться.
– У вас не забалуешь, как я погляжу, – печально проконстатировал Шевелев.
– Увы и ах, – согласился Свидерский. – Помнится, на службе я больше всего боялся угодить в карцер. Это такой закуток в трюме, хуже колодца. Ну думал, на земле места вдоволь, там не бывает таких удушливых каморок, как на судне. Оказалось, нет, еще как бывают. Вот мы, господа, сидим в столице наипервейшей во всем мире империи, ее просторам нет равных. Ни Китай, ни Америка, ни Индия по площади не сравнятся с Россией. А места нам – гражданам – с гулькин нос. И это страна, которая мнит себя разносчиком свободы.
– Вы для их не граждане, а враги, – не согласился прыщавый, – а врагам места нет.
– А вы, значит, не враги, – усач обиделся.
– Мы – ты и я – не враги, мы оступившиеся, несознательные, а их благородия – форменные враги. – У прыщавого имелась своя собственная философия.
Его поддержали мичман и грузинский князь:
– М-да, м-да, все дело не в мировоззрении, а в титулах.
Общество помолчало, соглашаясь.
– А может, дело не в титулах, а в деньгах? – прямо спросил Аркадий. – Красной власти денег не хватает, их надо забрать у кого-то? А титулы вовсе ни при чем.
– Ну, господин капитан, здесь я готов с вами поспорить. – Шевелев встал, попытался пройти до окна, наступил на чью-то ногу, ойкнул и вернулся на свой ящик. – Мы были пайщиками табачного завода «Лаферм», завод, как вам известно, национализирован. Сначала нам обещали сохранить рабочие места, зарплату, квартиры. Я поверил, продолжал трудиться, отчет держал перед коммунистами, исправно ревизировал вверенное имущество. И что? Намедни ко мне в контору ввалилась свора, обозвала подлыми прозвищами и взашей вытолкала из конторы, приволокла в Кресты. Дескать, я укрываю народное имущество. Во-первых, касательно народного – это большой вопрос. Во-вторых, и хотел бы укрывать, да нечего. Сырья нет, мощности простаивают. Вот и ответ на вопрос: почему прибыли упали. Красным нужны деньги. А их надо заработать. Не могут заработать – значит, надо отнять, – он говорил рассудительно, без истерики, но глаза метались по темным углам, перескакивали с одного заросшего лица на другое, будто спрашивали, как им дальше быть.
– Так в чем поспорить-то? – уточнил Аркадий.
– Ах, поспорить… Не деньги им нужны, а классового недруга изжить, растоптать, лишить чести и достоинства.
– И как вы поступите, граф? Пожертвуете честью и достоинством? – Князь Гудиашвили смотрел оценивающе, как будто что-то взвешивал.
– Конечно, пожертвую. – Иннокентий Карпович скривился, как от зубной боли. – Графиня беременна, долго не могла зачать, а тут бог послал. Я не могу ее оставить. И дочке двенадцать лет. Им опека требуется.
– То есть вы подпишете все, что предложат, лишь бы отпустили? Пусть на ваше место другого посадят?
– Кого другого? Уже никого не осталось. – Граф развел руками. – Все умные давно гуляют по Европе. Я просто подпишу все бумаги, которые попросят, лишь бы вернуться к семье. Отрекусь от титула, от имени, от особняка. А драгоценности у нас до этого украли.
– Наверняка ваши богатенькие партнеры что-нибудь припрятали. Об этом тоже напишете? – Гарри метко определил слабое место в тактике Шевелева.
– А? О чем? Я ничего не знаю… Я могу говорить только за себя.
– Вот потому тебя сюды и закрыли, – развеселился усач, – чтобы память-то освежить. А имя твое им на хрен не нужно.
– Увы и ах, граф, коммунистам ни имя, ни достоинство дворянские не нужны, – Аркадий сатанински засмеялся и стал похож на Мефистофеля. – А денег у вас нет… И у меня нет.
– У меня жена беременная есть. А прислуги нет. И денег нет, тут вы правы. Мой долг – заботиться о семье.
– Успокойтесь, граф, вам не к лицу, – одернул его князь, – не все упирается в деньги. Есть еще гордость, честь и достоинство дворянина.
– Не согласен с вами, ваше сиятельство. – Свидерский подошел к ведру, брезгливо взял двумя пальцами оловянную кружку, зачерпнул воды, долго смотрел на нее, прежде чем решился попить. – Все и всегда упирается в деньги. Было бы у России больше денег на войну, мы бы не проиграли. А выйди мы победителями, то никакой революции не случилось бы. Деньги правят миром.
– «Сатана там правит бал, там правит бал», – приятным баритоном пропел Гарри.
– Не смейтесь, так и есть, – горячился мичман. – Размер контрибуции с лихвой покрыл бы расходы, казна бы пополнилась, народ насытился.
– Дорогой мой господин. – Шевелев забыл имена, хотя ему и представились при заселении. – Если бы все деньги, пущенные на эту распроклятую войну, государь император отдал в промышленность, то голодных в империи вообще не осталось бы. Знаете, сколько заводов можно построить? Сколько рабочих мест? Сколько полей возделать? Урожая собрать?
– И со всеми этими заводами и урожаями нас завоевала бы любая маленькая держава, – закончил за него Аркадий.
– А зачем ей нас воевать? Нельзя разве всем миром пустить деньги на… мирные дела?
– Нельзя, – коротко отрезал Свидерский, – так не бывает. Кто слаб, того едят.
– Кто богат, тот не слаб, – подал голос князь, – богатый слабым не бывает. Граф рассуждает как промышленник, а вы, господа, военные, у вас своя правда.
– И все равно все сводится к деньгам. – Молчавший до того усач азартно хлопнул в ладоши. – Ну-ка, спойте еще разок про сатану, вашблагородь, дюже понравилось, как поете.
– У меня семья музыкальная, брат без пяти минут профессор музыки. – Аркадий стеснительно потупился и запел. Гудиашвили со Свидерским подхватили куплеты из оперы Гуно.
- В угожденье богу злата
- Край на край встает войной;
- И людская кровь рекой
- По клинку течет булата!
- Люди гибнут за металл,
- Люди гибнут за металл![26]
День закончился умиротворенно. Каждый верил, что завтра его судьба решится благополучным избавлением из застенков, что комиссары во всем разберутся, отпустят по домам. Кому хочется заниматься рутиной, когда надо строить новую страну?
Назавтра в соседней камере заключенные на пали на конвоиров, двух покалечили, а одного убили. Начальник тюрьмы приказал вывести всех во двор. Неожиданное сентябрьское солнце на минутку выглянуло из-за туч, оптимистично подмигнуло, мол, и не такое видели. Ветерок принес запах Невы, пьяно ударивший в голову после вонючей каталажки. Перед строем всклокоченных, заспанных или равнодушных арестантов стояли, переминаясь, два красных командира в формах со споротыми погонами и еще двое в штатском с бумагами в руках. Военные придирчиво разглядывали контингент, особенно присматривались к мундирам.
Штатские ковырялись в бумагах, показывали какие-то листы военным. Четверть часа прошла в напряженном молчании, потом по рядам пошли смешки, бормотание и провокативные окрики. Тогда один из командиров постарше, со строгим лицом школьного учителя сделал шаг вперед:
