Аллотопии. Чужое и Другое в пространстве восточноевропейского города
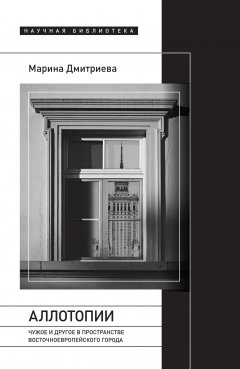
© М. Дмитриева, 2023
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2023
© OOO «Новое литературное обозрение», 2023
Предисловие
Над этой книгой я работала несколько – много – неторопливых лет, которые последовали за так называемыми «бархатными» революциями в Восточной Европе и перестройкой в СССР. Посвященная по преимуществу бурным, критическим событиям XX века, она в отдельных своих частях и в целом смотрела на это прошлое из воображаемой перспективы «конца истории». Зимой 2022 года она должна была выйти в свет. А потом наступило 24 февраля 2022 года. И в течение нескольких дней та оптика, которой я пользовалась при написании этой книги, была подвергнута испытанию новой исторической эпохой. Сейчас, перечитывая книгу перед сдачей ее в печать, я вижу, что в определенном смысле она стала последним взглядом из той эпохи, которая безвозвратно ушла. Читатель сам увидит, что в ней есть объяснительные ресурсы для понимания культурного кризиса, вызванного наступившей катастрофой.
Майкл Баксандалл, британский исследователь, написавший социальную историю итальянской живописи XV века, ввел в историю искусства понятие period eye. Он понимал под этим изменение восприятия тех или иных процессов в зависимости от резко изменившегося исторического, социального и культурного контекста, в котором находится исследователь или зритель[1].
Сейчас изменение геополитической ситуации привело к необходимости нового взгляда. Предмет исследования – восточноевропейский город – сложный, отражающий, как никакой другой, перемены политической ситуации, сделался еще более хрупким и неустойчивым, чем это казалось ранее. Консенсус нарушен. Разрушения, которые произошли на территории Украины в последние месяцы, заставляют иначе взглянуть на происходившее ранее на тех, по выражению Тимоти Снайдера, «кровавых землях» (Bloodlands), которые были ареной военных действий уже во времена Первой и Второй мировых войн[2].
Сейчас оказывается, что я писала не о послевоенной Восточной Европе, а лишь о затянувшейся межвоенной эпохе. И теперь я сама читаю эту книгу как исторический документ другого времени: то, что до 24 февраля 2022 года могло казаться кризисом, обернулось межвоенной идиллией.
Лейпциг, сентябрь 2023
Введение
Города Восточной Европы с их палимпсестом исторических наслоений воплощают конфликт памяти драматически и наглядно. Войны, прокатывающиеся через регионы Восточно-Центральной Европы, миграции и депортации жителей, следы имперского насилия и борьбы за национальную или региональную независимость, частая смена политических режимов, а также сложившийся веками многонациональный состав городского населения – все это оставляет след в городской среде и делает ее особенно интересным объектом исследования.
В этой книге собраны работы разных лет, посвященные визуальной культуре Восточной Европы.
Речь в ней пойдет о том, как в городской среде пересекаются и спорят друг с другом режимы давнего и недавнего прошлого, а les lieux de mémoire – «памятные места» (фр.), по определению Пьера Нора, – неожиданно оказываются чужими для этого города. Отсюда и название книги – «Аллотопии», от греч. ἄλλος – «иной» и τόπος – «место», то есть поиски мест Другого в интересующем нас географическом ареале – городской среде Центральной и Восточной Европы.
Пространство любого города включает в себя различные семантические и временны́е пласты, воплощенные в его архитектуре, монументах, в местах коллективной памяти, как официальных, так и альтернативных, как групповых, так и индивидуальных, а иногда – и в пустотах. Алейда Ассман говорит о разделении исторической памяти и о наличии многих архивов памяти, существующих параллельно в одном культурном пространстве[3].
Мне очень повезло, что в силу обстоятельств, благодаря работе в образовавшемся в середине 1990-х годов в ходе объединения двух Германий Центре культуры и истории Восточной Европы в Лейпциге (GWZO[4]), мне удалось объездить многие страны бывшего соцлагеря. Бывая в Кракове и Варшаве, Праге и Риге, Будапеште и Бухаресте, а также попадая в такие менее известные, но не менее интересные места, как Бая-Маре в Румынии, Чески-Крумлов и Йиндржихув-Градец в Чехии, Люблин и Замостье в Польше, Сплит в Хорватии, Черновцы в Украине и многие другие, я внимательно наблюдала за изменениями в городской среде. В некоторые города мне довелось приезжать с интервалом в два-три десятилетия и неизбежно сопоставлять очевидные внешние перемены с переменами в восприятии и переживаниях горожан разных поколений. Особенно наглядно, ежедневно и ежечасно, происходила трансформация города, в котором я работала с 1996 до 2020 года – а туристкой бывала уже в середине 1970-х, – в Лейпциге. Буквально на моих глазах город стряхивал с себя следы уже давней войны, еще в начале 1990-х видимой в оставшихся руинах и простреленных стенах домов.
«Улица коменданта Труфанова», названная так в честь военного коменданта города Николая Труфанова, получила недавно название «улица Труфанова» (Trufanowstraße), правда с разъяснительной табличкой о происхождении имени. В то же время по инициативе жителей в угловом доме на углу Луппенштрассе и Ян-аллее возник не так давно маленький музей венгерско-американского фотографа Роберта Капы. Он сопровождал американские войска при штурме города в апреле 1945 года. Объектив его фотоаппарата запечатлел смерть американского солдата, сраженного на балконе этого дома пулей немецкого снайпера. Эта фотография прославила Капу на весь мир.
Серые, неприглядные, закопченные угольным печным отоплением городские здания постепенно превращались в разукрашенные лепниной и цветной штукатуркой постройки, какими они и выглядели во времена расцвета города – в конце XIX и начале XX века, вплоть до Первой мировой войны. Были отреставрированы и частично расширены три библиотеки – созданная в 1913 году, в год юбилея Битвы народов под Лейпцигом, Немецкая национальная библиотека, городская и университетская библиотеки; обрели былой блеск целые кварталы эпохи модерна. Но в то же время в Лейпциг, как и в другие города Восточной Германии, бесцеремонно внедрилась так называемая коммерческая застройка – архитектура торговых центров, заполнявшая образовавшиеся в результате войны и послевоенной бедности ГДР лакуны, дискредитируя своим унылым однообразием исторически сложившиеся площади и торговые улицы. Все это происходило несмотря на поначалу вялое, а со временем все более активное сопротивление населения, озабоченного судьбами своего города, вплоть до уличных демонстраций и общественных движений[5]. Монотонные жилые кварталы эпохи расцвета ГДР, вначале активно разрушавшиеся как несовременные, постепенно меняли свое обличье. Многие из них стали обретать статус охраняемых памятников. С другой стороны, реставрация и реконструкция роскошных зданий начала XX века привели к резкому удорожанию съемного жилья и, как следствие, к вытеснению коренных жителей из центра на окраины. И наконец, типовые панельные дома эпохи ГДР, обветшавшие и деградировавшие, которые по первоначальному замыслу градоначальников должны были пасть жертвой джентрификации, начали частично восстанавливать, а целые городские кварталы были законсервированы как примеры типовой социалистической застройки. Происходят и другие процессы: небольшие лавочки и магазины уступают место торговым центрам. Особенно трагично это выглядело в период пандемии, когда улицы опустели, кафе и магазины, не пережившие отсутствие покупателей, закрылись. Кому принадлежит город сегодня? Это город инвесторов и архитекторов, получивших благодаря строительному буму небывалые возможности, или же все-таки его обитателей? Схожие процессы происходили и в других странах и городах эпохи трансформации.
Готовя эту книгу, составленную, как мозаика, из отдельных сюжетов, объединенных общей темой, я следовала нескольким важным для меня методологическим ориентирам, которые кратко обрисую.
Искусство и география
Крушение социалистической системы, объединение двух Германий и распад СССР с последующим превращением союзных республик в самостоятельные государства привели к возникновению новых полей исследования и новых подходов. Дисциплиной, которая быстро отреагировала на геополитические изменения, оказалась история искусств. Одной из центральных тем, заинтересовавших исследователей, стала тема центра и периферии в их динамике и развитии. Другим направлением, также возникшим как реакция на расширение горизонтов и новую геополитическую ситуацию, стал поиск не иерархичного, а равнозначного подхода к предметам изучения – так называемая глобальная история искусств[6].
Глобальная история искусств, которую американские историки искусства открыли для себя в начале 2000-х годов, была не так уж нова.
Польский историк искусства Ян Бялостоцкий еще в 1982 году призывал отказаться от «привилегированной точки зрения» на дисциплину, имея в виду преобладающую в университетских программах евроцентристскую позицию иерархически выстроенной истории искусств[7]. В то же время Бялостоцкий обратился к исследованию «художественных ландшафтов», то есть транснациональных регионов, в которых в определенное время возникли общие стилистические явления. Для этого он использовал подход, который получил название «художественная география». Художественная география (Kunstgeographie) возникла в 1920-е годы в среде немецких историков искусств в противовес истории искусств, воспринимаемой как история стилей. Этот метод исследовал художественные пространства, сложившиеся вне зависимости от национальных границ, но обладавшие определенными, не обязательно стилевыми, константами на протяжении многих веков своего существования.
Интересно отметить, что метод художественной географии возник во время и после Первой мировой войны, в связи с геополитическими переменами. Три империи – Австро-Венгерская, Российская и Османская – прекратили свое существование, изменились национальные границы, возникли новые государства. Многие историки искусств, пользовавшиеся этим методом, поддались нацистским представлениям о «крови и почве», вот почему и сам метод художественной географии оказался дискредитирован и долгие годы оставался не востребованным послевоенной наукой, пока не был освобожден от идеологической начинки в 1980-е годы, в том числе и Бялостоцким[8]. Таким художественным ландшафтом была для него Центральная и Восточная Европа в XV–XVII веках – регион, включающий в себя сегодняшнюю Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию[9]. Бялостоцкий выдвинул и тезис о плодотворной роли периферии: возникшие в художественных центрах явления воспринимаются и творчески перерабатываются на окраинах, обретая совсем иное качество[10]. Примером плодотворной периферии западноевропейских центров (Рим, Флоренция) служила для него Центральная и Восточная Европа в эпоху Возрождения и маньеризма.
В странах бывшего соцлагеря большую популярность с начала 2000-х годов обрел тот подход, который рассматривал культурные процессы с точки зрения постколониальных теорий – отношений поработителей и порабощенных[11]. Однако, по мнению влиятельного польского историка искусства Петра Пиотровского, такой взгляд на культурные процессы хотя и возможен, но как единственный метод исследования неизбежно приводит к упрощению многообразия явлений, наблюдаемых в визуальной культуре Восточной Европы.
Глобальная история искусства должна быть «горизонтальной», лишенной всякой доминантности; она должна быть открытой как для всех периферий, так и всех центров, которые также могут быть рассмотрены как периферии, или же, на худой конец, на равных основаниях[12].
Попыткам Восточной Европы найти свое место в мировых процессах, по мнению Пиотровского, к которому я присоединяюсь, больше соответствует тот подход, который стал возможен в связи с переосмыслением художественной географии[13]. Он позволяет рассмотреть проблемы Другого в различных культурных контекстах, а также динамику соотношения центров и периферий в историческом развитии и, главное, вне контекста виктимности. Так, например, Польша находилась в колониальной зависимости от больших стран (Австро-Венгрии, Пруссии и России после Второго раздела, Советского Союза в результате пакта Молотова – Риббентропа и после образования соцлагеря), но была «колонизатором» по отношению к части Украины и Белоруссии. Варшава, находившаяся в составе России, была тем не менее не культурной периферией России, а важным центром для всех трех частей Польши, сохранивших польскую культурную традицию. Или, например, в Киеве в 1910–1920-е годы образовался значительный самостоятельный центр культуры украинского авангарда, лишь отчасти связанный с Москвой, но находившийся в динамичных отношениях как с центром власти, так и с европейскими художественными центрами[14]. Геополитические изменения последних десятилетий заставили по-новому взглянуть на географию искусства, что привело к децентрализации, плюрализму, диверсификации, к изучению транснациональных процессов, к отказу от поисков ригидной национальной идентичности (и взгляду на предполагаемую национальную общность как imagined communities) и к стремлению изменить евроцентристский подход к изучению искусств[15], о чем еще десятилетия назад говорил Ян Бялостоцкий.
Город как текст
Начиная с 1960-х годов в урбанистических и культурологических исследованиях как на Западе, так и в Советском Союзе, в кругу московско-тартуской семиотической школы, сложился подход к «чтению» города. Город стал пониматься метафорически – как текст, который может быть прочитан и расшифрован с помощью подобранных к нему ключей, или кодов.
Этот поворот в исследованиях оказался очень плодотворным для холистического взгляда на город историков культуры и философов, отличающегося от функционального прагматизма инженеров и архитекторов. Показательно, однако, что два философских эссе, оказавшихся наиболее влиятельными для развития этого направления в урбанистических исследованиях, возникли в середине 1960-х годов как лекции для архитекторов.
Первое из них, «Гетеротопии» Мишеля Фуко, было прочитано в марте 1967 года на конференции Центра архитектурных исследований в Париже, посвященной теме пространства Другого (espace d’autre)[16]. Гетеротопии, по Фуко, – это реализованные утопии, места вне мест, существующие в разрыве времени (гетерохронии). К ним он относит кладбища и библиотеки, театры и тюрьмы, ярмарки и детские площадки. Этот подталкивающий к размышлениям, но, по мнению некоторых критиков, недостаточно аналитический и потому ведущий к умножению бесконечных примеров короткий текст тем не менее открыл глаза на семантическую многослойность городской среды.
Другой текст – «Семиология урбанизма» Ролана Барта. Он восходит к докладу, прочитанному в 1967 году на архитектурной конференции в Неаполе[17].
По Барту, для того чтобы понимать город, надо научиться «говорить на его языке».
Город – это дискурс, и этот дискурс в действительности является языком: город говорит со своими жителями, мы говорим с городом, с тем городом, в котором мы находимся просто потому, что мы в нем живем, проходим по нему, его разглядываем[18].
Он видит город как «любитель», а не как профессионал-урбанист и добавляет «эротическое измерение» к анализу города. Важная особенность – вовлеченность человека, находящегося в городе, в городскую жизнь, то есть взгляд изнутри.
Призывая изучать не только функцию и архитектуру города, но и его образ в литературе, Барт ссылается на Париж Виктора Гюго, а также на труды урбаниста и архитектора Кевина Линча. В книге «Образ города» (1960) Линч сформулировал теорию визуальной перцепции города. Анализируя городскую среду Бостона, Лос-Анджелеса и Джерси-Сити, Линч предлагает воспринимать их с точки зрения iability, то есть того подхода (Линч называл его «ключом») к городу, который позволяет запечатлеть его в памяти. Он употребляет понятие «ментальной карты» (mental map), создающейся в восприятии городских жителей и путешественников. В качестве аналитических ориентиров Линч, сам будучи архитектором-урбанистом, выявил определенные структуры, определяющие среду современного города: пути (paths), края (edges), районы (districts), узлы (nodes), вехи (landmarks)[19]. Это восприятие не только визуальное, но и тактильное и сенсорное; оно включает звуки, запахи, шумы, освещение, атмосферу города, хотя при этом намеренно игнорирует исторический и временной контекст[20]. На Линча оказала влияние совместная работа с архитектором венгерского происхождения Дьёрдем Кепешем, который в Чикаго и в Принстоне разрабатывал теорию художественного видения, сформировавшуюся ранее как образовательная дисциплина в Баухаусе в Дессау. Продолжает линию Линча еще одна влиятельная публикация – изданная американским урбанистом Робертом Холлистером книга «Воображаемые города» (1984). Она рассматривает «тематические картины» города, возникающие в восприятии различных социальных групп и анализируемые исследователями в различных областях науки. Воображаемые города являются при этом подходе таким же предметом анализа, как и реально существующие[21]. Диалог с Кевином Линчем продолжается в урбанистической литературе и поныне[22].
В аналитическом «прочтении города» преобладало стремление к выявлению «кодов» и культурных слоев, которое емко сформулировал Юрий Лотман:
Тысячи… реликтов других эпох выступают как кодовые программы, постоянно заново генерирующие тексты исторического прошлого. В этом отношении город, как и культура, – механизм, противостоящий времени[23].
В современной традиции урбанистических исследований присутствует и восходящая к Вальтеру Беньямину позиция восприятия городской среды с точки зрения наблюдателя-фланера: в спонтанном восприятии из фрагментов возникает городской коллаж[24].
Этим интеллектуальным траекториям я и следовала в очерках о восприятии советских городов европейскими путешественниками в 1920-е годы, а также в главах о Вильнюсе в художественной фотографии, о Солнечном городе в книге Н. Носова о Незнайке и о городах в детективных романах.
Историк Восточной Европы Карл Шлёгель, еще с 1980-х годов внимательно следивший за процессами, происходившими в СССР, на постсоветском пространстве и в странах Восточной Европы, соединил в своей работе подходы Барта и Беньямина. Он «читает» города, является «любителем» в духе Барта и внимательным путешественником, следующим Беньямину, коллекционером странных вещей и мест, характерных для эпохи трансформации, а затем исчезнувших бесследно, вроде огромного вещевого базара, раскинувшегося на площади Дефилад в центре Варшавы, перед сталинской высоткой, где когда-то проходили официальные демонстрации верности режиму. Начиная с 2000-х годов Карл Шлёгель живым литературным языком рассказывает о городах Восточной Европы, одновременно давая научный анализ культурной политики и исторических процессов[25]. Его книги стали важным вкладом в дискуссию о месте Восточной Европы в европейской культурной традиции, дискуссию, оживившуюся в связи с геополитическими переменами последних десятилетий.
Культура памяти
Одним из последствий крушения железного занавеса и общественной трансформации стран Центральной и Восточной Европы стало особое внимание к политике и культуре памяти. В это же время происходит ее диверсификация, наблюдается конкуренция ее отдельных пластов[26].
Оказалось, что Восточная Европа особенно богата полисемантичными памятными местами, обладающими к тому же конфликтным потенциалом. Так, например, совместная победа войск Польского королевства и Великого княжества Литовского над Тевтонским орденом в 1410 году при Грюнвальде (в немецкой традиции она называется Битвой при Танненберге)[27], приведшая к усилению Польши и Великого княжества Литовского, стала для Польши в XIX веке основополагающим мифом, поддерживающим стремление к независимости и образованию собственного государства. Презентация монументального полотна Яна Матейко «Грюнвальдская битва» (1872–1878) в Национальном музее в Варшаве была важным общественным событием, поддерживавшим патриотические и антиколонизаторские настроения. Анализу спорных и конкурирующих в своих национальных традициях мест и памятников посвящено пятитомное, вышедшее на польском и немецком языках издание «Немецко-польские памятные места» (2012–2015)[28].
Памятники, веками и десятилетиями стоявшие на городских площадях, по которым, по словам Роберта Музиля, взгляд скользил не останавливаясь, как капли воды после дождя, перестали быть невидимыми. Свержение памятников сопровождает смену режимов – от памятников Сталину в Венгрии до памятников Ленину в Восточном Берлине после воссоединения Германии или от «ленинопада» в Украине в 2014–2015 годах до крушения памятника Нурсултану Назарбаеву в Казахстане в январе 2022-го. Актуальность дискуссий о памятниках подтверждается актами иконоклазма в движении BLM – от Америки до Западной Европы.
Памятники прошлого режима свергают, их разрушают намеренно, или они уничтожаются в ходе военных действий. В любом случае они или их тень, воспоминания о них становятся предметом внимания.
Откликом на эти события стал целый поток публикаций как публицистического, так и научного характера. Их особенность – соединение дискурса постколониализма с дискуссиями о политике памяти[29].
Не только памятники и память могут вызывать дискомфорт. Что делать с памятью о чужих, нелюбимых режимах – одна из тем этой книги.
В современной Германии, по мнению Алейды Ассман, происходит смещение в сторону «коробящей, неудобной памяти» (перефразируя Das Unbehagen in der Kultur Фрейда)[30]. В первую очередь это память о нацизме и холокосте. В современной России очевидны попытки вытеснить и даже стереть неудобную память о репрессиях сталинского времени и заменить ее на симулякр другой, приемлемой для существующего режима истории страны.
Как создавалась и жила чужая память в городах Восточной Германии и Восточной Европы? Какой была материализация этой памяти?
Эта тема рассматривается на примере памятников павших режимов и их места в городской среде Берлина, Вильнюса, Варшавы, Бухареста. Как воспринимаются памятники, построенные российскими и советскими архитекторами в немецких и восточноевропейских городах? Таков, например, Дворец науки и культуры в Варшаве, возведенный по проекту Л. В. Руднева на месте жилых кварталов, или мемориальный ансамбль памяти русским воинам в Трептов-парке в Берлине[31]. Таков русский храм-памятник в Лейпциге, построенный по проекту В. А. Покровского. Какова была его роль в год постройки, в 1913-м (в год юбилея Битвы народов при Лейпциге), в послевоенной ГДР и сейчас? Какие исторические слои скрываются за его стройным обликом?
Пространством Другого в городе был и советский американизм. В книге показано, как архитектурные доминанты американского образца внедрялись в городское тело восточноевропейских городов и становились символами советской гегемонии и как в то же время американские образцы оказывались идеалом стиля и поведения, знаком неподчинения навязанным рамкам.
Удалось ли еврейским художникам из России, Польши и Белоруссии, оказавшимся в 1920-е годы в Берлине, и представителям восточноевропейского авангарда стать частью художественного мира Германии и интернациональной художественной сцены? Об этом глава «На перепутье».
Следующий ключевой вопрос книги – как на фоне войн и конфликтов создавалась утопия? Существует ли идеальное общество и найдется ли место для чужака в этом пространстве? Здесь представлен взгляд на реальные и воображаемые города. Примеры – впечатления путешественников из Западной Европы по городам Советского Союза в поиске осуществленной утопии – от Вальтера Беньямина до Андре Жида. Идеальный город в детской книге в завуалированном виде оказывается рефлексией событий переломного времени – оттепели.
Реальные города постсоциалистического транзита – Москва и Прага – увидены авторами детективных романов и ощущаются ими как опасное, угрожающее пространство эпохи трансформации или даже «не-место» (non-lieux, по формулировке Марка Оже). Как это происходит?
Особое место занимает в восточноевропейском городе еврейская тема. Кому принадлежит такой многослойный город, как Вильнюс? Старинный польский город в фотографиях классика польской пиктографической фотографии Яна Булгака и фантасмагорический призматически-призрачный еврейский город Моше Воробейчика создают разные образы одного пространства. Является ли фотография документом действительности? Кто здесь свой и кто чужой?
За поддержку моих исследований я благодарна Институту истории и культуры Восточной Европы в Лейпциге. Творческую научную атмосферу института создавали многие коллеги, дружеское и профессиональное общение с которыми было очень важным во все мои годы в Лейпциге. В работе над этой книгой особую роль сыграли Арнольд Бартетцкий, Штефан Трёбст, Кристина Гельц, Ева Крумрай, Кристан Любке.
Важными человеческими и профессиональными ориентирами для меня были Игорь Голомшток (1929–2017), беседы с которым превратили служебную командировку по городам Чехии в своего рода семинар по истории искусств; профессор Фрайбургского университета Вильгельм Шлинк (1939–2018), знакомство и дружба с которым определили всю мою профессиональную судьбу в Германии. Его скептический ум и точный искусствоведческий глаз помогли мне по-новому взглянуть на многие проблемы истории искусств. Эта книга едва ли возникла бы, если бы не многолетнее – сначала близкое, потом удаленное – общение с коллегами по Институту искусствознания на Козицком, где я работала до 1992 года, особенно с М. Я. Либманом, М. И. Свидерской, Е. К. Золотовой, с которой нас связывает многолетняя дружба.
Не могу не упомянуть интенсивное общение со щедрыми на добрые советы восточноевропейскими коллегами: Войцехом Балусом (Краков), Кристой Кодрес (Таллин), Лаймой Лаучкайте и Гедре Янкевичуте (Вильнюс), Иваном Гератом и Яном Бакошем (Братислава), Кармен Попеску (Бухарест и Париж), Миланом Пельцем (Загреб), Александром Мусиным (Санкт-Петербург и Ченстохова). Интересными собеседниками были для меня Мишель Эспань и Ева Берар (Париж), а также Алексей Берелович (Рим).
Огромное спасибо Ирине Прохоровой за возможность публикации этой книги и сотрудникам издательства за работу по ее изданию.
И наконец, хочу поблагодарить важных читателей и соучастников моих начинаний – дочь Дину Гусейнову и мужа Гасана Гусейнова. Последнего – не только за то, что он был моим спутником во многих путешествиях по Восточной Европе, но и за тот увлекательный диалог, который сопровождает нас во всех жизненных и интеллектуальных перипетиях совместного пути.
Лейпциг, август 2021
I. Чужие памятники
Что делать с памятниками прошлых режимов?[32]
Летом 2013 года в Москве, в кинотеатре «Ударник», прошла выставка художника Гриши Брускина «Коллекция археолога»[33]. По словам художника, это рассказ о том, как цивилизация превращается в руины, а руины становятся источником новых мифов. Для этого Брускин закопал в землю отлитые им в бронзе фрагментированные фигуры героев советского микрокосма: милиционера, солдата, пионера и др. Откопанные спустя три года, эти скульптуры покрылись патиной и приобрели вид античных памятников. Их иератически-торжественный характер, идолоподобная застылость лиц и поз, а также фрагментарная сохранность превращают их в антикизированные артефакты и в то же время ставят под сомнение главный вопрос – о достоверности материального свидетельства вообще. Советская цивилизация, предстающая в виде фрагмента, становится, таким образом, объектом исследования археологов, отодвигается в далекое прошлое, не имеющее прямого отношения к настоящему, объектом остраненным и, несмотря на свое уродство, даже привлекательным своей чуждостью. По этим остаткам предлагается реконструировать прошедшую эпоху как не вполне знакомую. В сопровождающем выставку фильме демонстрировался весь процесс возникновения этого проекта – от отливки памятников до раскапывания артефактов. Это инсталляция деконтекстуализации памяти.
Развал социалистической системы, для большинства людей наступивший внезапно, вызвал не только необходимость переиздания политических карт Европы, приведения их в соответствие с реальной ситуацией. Эти радикальные перемены привели к драматическим разломам в сознании, и прежде всего – к принципиальному изменению отношения к истории, к культуре и политике памяти[34]. Это вызвано разными причинами. К ним относятся открытие архивов, новые исторические подходы, лишенные жестких идеологических рамок, а также появившиеся сейчас, спустя 30 с лишним лет со дня крушения Берлинской стены, новые поколения исследователей – с иными горизонтами и методами работы. Особый интерес к политике и культуре памяти породил целую лавину исторических и историко-культурных исследований. Многие из них посвящены историческому региону Центральной и Восточной Европы[35]. Эта память оказывается различной в зависимости от фокуса и взгляда исследователя, от того, с какой географической точки – вернее, с какой стороны железного занавеса – тот рассматривает свой предмет, с позиции большой страны (России) или маленькой (Латвии[36]), с точки зрения победителя или проигравшего в недавней истории.
Американский исследователь Андреас Хюйссен констатировал еще несколько лет назад «гипертрофию памяти» как ключевой момент в жизни общества. Он даже считал, что интерес к памяти идет в ущерб интересу к истории. Кроме того, разворот в сторону прошлого явно важнее, чем интерес к будущему, в чем он видит различие с первыми десятилетиями XX века, когда все совершалось во имя будущего[37]. И, по мнению известной немецкой исследовательницы Алейды Ассман, в отношении к памяти происходит в настоящее время «материковый сдвиг»:
Будущее утратило свою светоносную силу, но зато все более в наше сознание вторгается прошедшее». Фокус от «будущего настоящего» переместился к «прошлому настоящего»[38].
Рассуждая так, она пользуется инструментами анализа, разработанными еще в 1970-е годы немецким историком Рейнхардом Козеллеком, одним из основоположников концептуальной истории, центральным моментом которой является понимание временно́го режима культуры. По его мнению, существует различие между объективным прошлым как прошлым (материалом для историка) и «прошлым настоящего», полного воспоминаний в памяти живущих поколений. Настоящее в его представлении – время разрыва, переходный период между тем, что он называл «пространством исторического опыта», то есть собственно прошлым (Erfahrungsraum), и «горизонтом ожиданий» (Erwartungshorizont), то есть будущим. Притом признаком современности являются темпоральные сдвиги и сгущение временных пластов, привнесение в реальное переживание чего-то неожиданного, не связанного с конкретным жизненным опытом, а также симультанное восприятие прошлого и настоящего[39].
Для иллюстрации своих идей Козеллек часто обращался к примерам из области визуального. Так, для объяснения положений о темпоральных сдвигах он приводил в пример картину Альбрехта Альтдорфера «Битва Александра с Дарием» (1528–1529, Мюнхен, Старая Пинакотека), на которой участники реального исторического события античных времен одеты в современные художнику костюмы.
Фотограф-любитель, Козеллек использовал и собственные фотографические снимки. На одном из них поезд въезжает в Кёльн по мосту Гогенцоллернов, построенному в начале XX столетия. Одна из конных статуй, обрамляющих мост, снята так, будто она несется в город на крыше скоростного поезда[40]. Изображения, по Козеллеку, более наглядно выражают идеи, чем словесные описания, – в данном случае речь идет об образном воплощении идеи одновременного существования различных временных пластов.
Эта симультанность исторических слоев как нигде прочитывается в палимпсесте города. Еще французский социолог Морис Хальбвакс заметил, что городская среда является носителем коллективной памяти отдельных групп населения. Памятники, улицы, дома или интерьеры в своей материальности создают иллюзию стабильности, мало подверженной временным изменениям. Память отдельных людей и групп отпечатывается в городском пространстве, а городская среда фиксируется в эмоциональной памяти[41]. По Пьеру Нора, история передается содержательным нарративом, а память опирается на знаки. По его мнению, происходит разделение истории и памяти. Исчезновение реальных мест как среды (les milieux de mémoire) ведет к возникновению символических меток, концентрирующих и конструирующих утраченную память нации (les lieux de mémoire)[42]. Такими местами могут быть не только памятники, но и исторические личности, учреждения или архивы[43]. По следам Нора в немецкоязычной научной литературе возникла целая традиция собирания и изучения памятных мест, приобретающая постепенно инфляционный характер[44].
Каким же образом происходит та или иная кодировка памятных мест и их иерархизация?
В Варшаве, наряду со Старым городом, восстановленным из руин в первые послевоенные годы, таким местом памяти парадоксальным образом является Дворец культуры и науки – сталинистский символ советской власти, построенный советскими архитекторами. Дворец Николае Чаушеску в Бухаресте, образец гигантомании социалистической эпохи, для возведения которого были снесены исторические кварталы города, в большей степени является памятным знаком города, чем, скажем, барочный королевский дворец, поскольку воплощает память о тоталитарном режиме и его крушении. Таким же концентратом памяти является храм Христа Спасителя в Москве, построенный вместо разрушенного в середине 1930-х годов собора Константина Тона XIX столетия, на месте незаконченной стройки Дворца Советов и позже возникшего там бассейна. Вся эта история вчитывается в возведенный в середине 1990-х храм и превращает бетонный новодел в место памяти.
Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как произошел развал, если не сказать – крах, социалистической системы, приведшей к значительным переменам в структуре и теле городов. Появлявшиеся с конца 1990-х годов исследования рассматривали процессы (происходившие главным образом в больших городах и в бывших столицах стран соцлагеря) с точки зрения трансформации – непростого, часто болезненного перехода от одного общественного порядка к другому. Поначалу в центре внимания были пространственные изменения, связанные с переделом политической карты Европы. Неудивительно, что и «пространственный разворот», возникший в исторических науках и культурологии, был непосредственно связан с радикальными политическими изменениями на карте мира[45]. Затем исследователи обратили внимание на смену знаковых систем, приводящую зачастую к банализации и багателизации прежних идеологических норм[46].
Польский культурный антрополог Мариуш Чепчинский классифицировал эти изменения, приняв в качестве модели принцип лиминальности, разработанный еще в 1920-е годы антропологом Арнольдом ван Геннепом и развитый далее Виктором Тернером. По Геннепу, процессы трансформации имеют три фазы: разделение (сепарация), перенос (транзит) и перевоплощение (реинкорпорация). По мнению Чепчинского, эти же процессы можно наблюдать и в городе после крушения социализма. Постсоциалистические общества объединяет как общая память о прошлом, так и общее забвение. Чепчинский анализирует культурный ландшафт города в духе культурной географии Косгроува и Дэниэлса[47] как систему репрезентации, в которой все объекты, здания, монументы и пр. складываются в нашей голове в определенное отношение друг к другу. Разрушение социалистической системы в лиминальной фазе привело к коллапсу определенной системы репрезентации, идеологических ландшафтов и икон[48].
Если посмотреть на эти процессы с точки зрения урбанистических изменений, то они имеют много общего на всем постсоциалистическом пространстве. Ослабление диктата государства привело как к ускоренному строительству различного качества, в том числе и с участием ведущих мировых архитекторов, так и к хаотической застройке, вызванной отсутствием генерального плана, как, например, в Москве или Варшаве, и представления о дальнейшем развитии города. Вздутые цены на недвижимость, особенно в престижных районах города, привели к произволу инвесторов, но и к джентрификации центральных районов путем устройства пешеходных зон в исторических кварталах. Обратной стороной этих процессов являются изгнание коренного населения из центров и разрушение исторических и архитектурных памятников, а также консюмеризм и создание во всех городах унифицированных и безличных «вне-мест», нарочито лишенных исторической памяти. Процессы вытеснения касаются не только жителей, но и неудобных, с точки зрения новых собственников, и «нелюбимых» памятников. Нелюбимым оказался демократичный конструктивизм по сравнению с «тоталитарной» сталинистской архитектурой, а также послесталинская архитектура социалистического модернизма[49]. Неудобным становится всё, что мешает осуществлению планов богатого заказчика (например, описанный в романе «Война и мир» особняк XVIII века, так называемый дом Болконского на Воздвиженке, вблизи Кремля, варварски перестроенный влиятельным владельцем). Ответом на эти процессы передела города сверху является возникновение гражданских инициатив снизу, охватывающих все большее число людей. Иначе говоря, наряду с «городом Мишеля Фуко», городом обсервации и контроля государства за гражданами, в постсоциалистическом городском пространстве существует и «город Анри Лефевра», то есть активное стремление граждан привлечь к участию в формировании городской среды художников, право- и градозащитников, просто жителей своего района. В Москве это проявилось в мае 2012 года с движениями «ОккупайАбай», а еще раньше – с мирными демонстрациями художников на Бульварном кольце и градозащитным движением Архнадзора[50]. Особенность постсоциалистического города заключается как в радикальной и даже драматической динамике происходящих с ним перемен, вызванных изменениями политического строя и всего жизненного уклада, так и в крайней поляризации и фрагментации исторической памяти. Такое бурное и противоречивое развитие делает город, с одной стороны, объектом интереса для урбанистов и антропологов, а с другой – некомфортной средой обитания для его жителей.
Особый интерес наблюдателей вызывают происходящие на всем постсоциалистическом пространстве процессы конструирования национальной памяти, которая была непроясненной, искаженной, фрагментарной. Оказалось, что многие национальные проекты, возникшие в этот переходный период, такие как восстановление, вернее, строительство заново великокняжеского дворца в Вильнюсе либо же сооружение царских дворцов в Царицыне или Коломенском в Москве, прежде не существовавших в окончательно достроенном виде, приводят к созданию симулякров, возникших в результате фантазии реставраторов и в соответствии с пожеланиями заказчиков «сделать покрасивше». Эти воплощенные в бетоне фантазии – по сути, проекты по визуализации памяти. Возникшие в последние десятилетия, они показывают, какой яркой, красивой и пышной хотели бы видеть национальную историю на государственном уровне.
Но есть в некоторых городах-палимпсестах и такие памятники, которые никак нельзя назвать вполне своими, хотя они и связаны с историей страны. Это памятники-варяги, созданные чужими архитекторами и скульпторами или же в чужой традиции. Их авторы были присланы извне или назначены местным начальством и работали по заказу и в контексте, диктуемом завоевателями.
Что происходит с памятниками отживших режимов, воплощающими память о завоевании, угнетении, чужом господстве? Каковы их судьбы сейчас, спустя три десятка лет после развала социалистической системы? Каково место «чужих» и «нелюбимых» памятников социалистического времени в постсоциалистическом городе?
На нескольких примерах из Германии, Украины и Польши я попытаюсь показать различные подходы к таким памятникам.
Damnatio memoriae
Damnatio memoriae – разрушение памяти и связанное с этим иконоборчество, то есть уничтожение самих ее материальных следов, – сопровождает, собственно говоря, смены режимов почти всегда. Разрушение памятников сакральной архитектуры и скульптуры во время Великой французской революции было крупномасштабным актом, имевшим благодаря богохульному характеру большой пропагандистский смысл.
Иконоклазм, сопровождающий обычно радикальные смены режимов, характерен также и для периода системного перехода в странах бывшего соцлагеря, в Восточной Европе. Памятники в первую очередь являются знаками этого прошлого и подлежат разрушению. Некоторые из нас помнят знаменательные дни в августе 1991 года и свержение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке, эйфорию и надежды, связанные с этим событием. Визуальной подкладкой этого события являлся, возможно, эпизод свержения памятника Александру III из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь».
Ил. 1. Разрушение памятника Ленину (скульптор Сергей Меркуров, 1952) в Киеве в декабре 2013 года. Фото: Mstyslav Chernov / Unframe / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Разрушению или демонтажу подверглись многие памятники в бывших странах социалистического лагеря: берлинский Ленин (скульптура Николая Томского, 1970 года, на бывшей площади Ленина, снятая в 1991 году) или тогда же свергнутый с пьедестала Ленин в Таллине, памятники Ленину и мавзолей Георгия Димитрова в Софии, памятники советским вождям в Венгрии и других странах. Все эти разрушения были предметом медийного внимания как проявление новой «войны памятей». Как таковая расценивался, например, перенос памятника советскому солдату на другое место в Таллине и захоронение его останков[51]. О пропагандистской силе иконоклазма говорит и серия разрушительных актов, произошедших в Украине в связи с Евромайданом. Началось это в декабре 2013 года в Киеве – с разрушения гранитного памятника Ленину (скульптор Сергей Меркуров), успешно пережившего падение режима в начале 1990-х, – и продолжилось свержением памятников Ленину и чекистам по всей Украине (ил. 1).
Смена парадигм первых лет после развала соцлагеря привела к багателизации идеологии. Результатом этого стало создание парков коммунизма, таких как музей-парк Мементо в Будапеште или парк Грутас в Литве[52]. Вначале довольно популярные, в дальнейшем они не оправдали своего пропагандистского и коммерческого предназначения ввиду смены поколений, прихода другого политического, социального и эстетического опыта. В Москве поверженные памятники советским вождям, свезенные в сквер за Центральным домом художника на Крымском Валу, растворились в созданном там внеидеологическом Парке скульптур. Тотальное отрицание, приведшее к разрушению многих памятников, а также к их остранению путем лишения их первоначального контекста, благодаря их переносу буквально «на свалку истории», уступило место в большинстве случаев более сложному и порой противоречивому отношению и к самим памятникам, и к их месту в городской среде. Руководители Евромайдана призывали разрушителей памятников обратить внимание на их историко-художественную ценность и включение их в охранные реестры, что не могло произойти в первые годы после крушения системы.
Ил. 2а и 2b. Зеленый мост в Вильнюсе. Историческое фото (Thomas Vogt / Flickr / CC BY 2.0 DEED) и фотография свержения скульптур (Wikimedia)
Ил. 3. Миндаугас Навакас «The Hook», 1994, Вильнюс. Фото: Марина Дмитриева
Когда в Вильнюсе по распоряжению городского начальства летней ночью 2015 года снимали с тумб на Зеленом мосту советские скульптуры, это вызвало возмущение литовских коллег-искусствоведов, но при этом – поддержку большинства жителей. Зеленый мост (ил. 2) был спроектирован в Ленинграде. Его построили в 1952 году взамен разрушенного в войну. Скульптуры в стиле соцреализма воплощали идею единства всех слоев общества: красноармейцев и студентов, интеллигенции, рабочих и крестьян. По словам мэра, это было воплощением лжи советского времени. Другой, более убедительный способ противодействия советской идеологии – инсталляция скульптора Миндаугаса Навакаса на фасаде бывшего Дома железнодорожников (1994): огромный ржавый металлический крюк впивается в сталинистский классицистический фронтон клуба с колоннами. Здесь конфликт с советской системой воплощен одним из наиболее выдающихся современных литовских скульпторов как конфликт формы и материала[53] (ил. 3). Не в последнюю очередь благодаря этой амбивалентности клуб стал одним из самых популярных молодежных арт-пространств в городе.
Чья память?
Многозначной оказывается ситуация с памятниками в городах, которым по самому их пограничному расположению суждено было менять подчинение и символическое гражданство. Таков Львов. Культурный палимпсест Львова давно уже привлекает внимание исследователей. Изменение семантики городской среды в процессе советизации, полонизации, украинизации городского пространства проявляется как в смене названий улиц, так и в установке (и сносе) памятников[54]. Конкурирующую память демонстрируют, например, памятники двум историческим фигурам, установленные после обретения Украиной независимости (ил. 4, 5), – основателю Львова князю Даниилу Галицкому, средневековому властителю Галицко-Волынского княжества, получившему от папы римского королевскую корону и воплощающему «европейскую» составляющую львовской идентичности (2002), и Степану Бандере, иконе праворадикального движения украинских националистов (2007).
Одним из самых спорных объектов является Лычаковское кладбище, созданное в самом начале инкорпорации королевства Галиции и Лодомерии в состав Австро-Венгерской империи. Вплоть до Первой мировой войны это кладбище отражало многонациональный состав империи. Поляки составляли большинство, но в городе жили и евреи, и австрийцы, и украинцы. Кладбище было городским, вернее, галицийским некрополем. В период между двумя войнами на кладбище был создан пантеон защитникам Львова, в том числе детям-воинам, «орлятам». В советское время этот пантеон был стерт с лица земли. Центральное место на кладбище занял монумент советским воинам, павшим при взятии Львова в конце войны, – Холм Славы. В постсоветский период пантеон защитникам Львова был восстановлен польскими силами и на средства Польши. Одновременно был усилен украинский коммеморативный элемент, со своими героями и мучениками. В 2005 году состоялось открытие памятника «орлятам» одновременно с памятником украинско-галицийской армии времени Первой мировой войны как совместный проект Польши и Украины. Холм Славы, несмотря на предложения его разрушить, был оставлен в своем мемориальном качестве. Туристические экскурсии по кладбищу, соответственно, адресуются самой разной аудитории и выстраивают свой исторический нарратив. Таким образом, хотя и не всегда мирно, различные памятники в одном городе обслуживают и воплощают культурную память различных этнических и социальных групп, традиционно и эмоционально считающих город «своим».
Ил. 4. Памятник Карлу Марксу в Хемнице, ранее Карл-Маркс-Штадт (скульптор Лев Кербель, 1971). Фото: MKBler/ Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Ил. 5. Памятник Эрнсту Тельману в Берлине (скульптор Лев Кербель, 1986). Фото: Марина Дмитриева
Ил. 6. Дворец культуры и науки в Варшаве, 1952–1955 (архитектор Лев Руднев, коллектив советских архитекторов и инженеров). Фото: Марина Дмитриева
Переосмысление памятников
Каким образом чужие памятники становятся своими? Каково их место в городской среде?
Обратимся к двум памятникам в Восточной Германии работы советского скульптора Льва Кербеля – Карлу Марксу в Хемнице (1971) и Эрнсту Тельману в Берлине (1986). Это, по словам А. Бартетцкого, «неудобное наследие» социализма[55], тем не менее оно показывает возможности и границы ресоциализации иконических образов социалистической эпохи путем их адаптации к новой социальной реальности и включения в региональный городской контекст. Но происходит это по-разному.
Торжественная установка гигантской гранитной головы Карла Маркса состоялась в Хемнице в 1971 году, когда этот город звался Карл-Маркс-Штадт. После объединения Германии, вопреки ожиданиям и предложениям многих радикально настроенных реформаторов, этот памятник не был разрушен или перенесен в другое место. Напротив, огромная каменная голова основоположника научного коммунизма стала культовым объектом, знаком города, предметом туристического внимания и даже существовала в виде сувенира (ил. 6). Однажды она была отдана художникам для художественных проектов: они построили рядом такую же голову, но полую, которая демонстрировала посетителям «марксизм изнутри».
Памятнику Эрнсту Тельману, созданному Львом Кербелем по заказу Эриха Хонеккера в 1986 году, повезло меньше (ил. 7). Массивная бронзовая голова на гранитном пьедестале была установлена в бывшем рабочем квартале – Пренцлауэр Берг, в центре одного из последних образцовых жилых проектов ГДР, на пути правительственной трассы и рядом с парком, носящим имя Тельмана[56]. Патетический монументализм памятника лежал, однако, уже тогда вне художественного контекста умеренного модернизма поздней ГДР. Сейчас этот памятник оказался на границе одного из престижных (и быстро дорожающих) районов Берлина. Внесенный в список охраняемых памятников культуры, памятник Тельману пребывает все же в запустении, которое и воплощает его выпадение из исторической памяти. Эрнст Тельман дважды оказывался жертвой истории: в первый раз – когда был арестован, будучи главой КПГ периода Веймарской республики, сразу же после прихода к власти Гитлера. После одиннадцати лет в тюрьме он был отправлен в Бухенвальд и там расстрелян. Тельман был одним из главных героев-мучеников в пантеоне ГДР. В первые годы после объединения Германии памятник вызывал резкое противление жителей с попытками его элиминации, теперь же взят под защиту (весьма слабую) городских властей. Весь исписанный граффити радикального антикапиталистического содержания, памятник используется как место встреч анархистами и левыми радикалами.
Ил. 7. Полиграфический комбинат «Скынтейя» в Бухаресте, 1950–1956 (архитектор Хория Майеу во главе коллектива румынских архитекторов и инженеров). Фото: Арнольд Бартетцкий
Ил. 8. Бывший «Дом колхозников» в Риге, 1951–1958 (архитектор Освальдс Тильманис). Фото: Марина Дмитриева
Первый памятник работы Кербеля стал центральным символом Хемница. В его «карьере» присутствуют и момент некоторого сопротивления навязанной городу общегерманской политике памяти, и попытка удержать свою идентичность, частью которой было социалистическое прошлое, и имя города. Второй памятник оказался вытесненным как из официальной, так и из групповой памяти и, следовательно, находится вне сферы интересов городских властей. Но благодаря включению в городской или в узкорегиональный контекст и даже, как в случае с Тельманом, в радикальную субкультуру города оба памятника-варяга оказываются лишенными своего собственного, еще недавно острого и спорного исторического контекста, то есть становятся «своими».
Знаменательными и отчасти курьезными представляются судьбы монументальных и особенно заметных архитектурных свидетельств советского господства в Восточной Европе – сталинских высоток в Варшаве, Риге и Бухаресте.
Дворец культуры и науки им. Сталина в Варшаве (1952–1955) был построен по проекту Льва Руднева, главного архитектора здания МГУ им. Ломоносова, принявшего этот проект из рук попавшего в опалу Бориса Иофана (ил. 8). Высотное здание в центре Варшавы было даром Советского Союза Польской Народной Республике и задумывалось как вертикальная ось новой Варшавы – в противоположность Старому городу, полностью утраченному, а потом восстановленному как народный проект.
Новое здание, отсылающее к московским образцам, в центре польской столицы, разрушенной немцами и взятой Красной Армией, имело особое идеологическое значение – оно стало символом нового мирового порядка.
Тот факт, что после различных эскизов и проб возобладала форма, характерная для московских небоскребов и опиравшаяся на силуэт Кремля, превращал архитектурный объект в знак оккупации.
Румынское высотное здание Combinatul Poligrafic Casa Scînteii в Бухаресте (1950–1956) – еще одно визуальное проявление нового политического устройства советского типа в Европе. Полиграфический комбинат, носивший, как и варшавский Дворец культуры, имя Сталина, был центром коммунистической пропаганды. В нем находились редакция и типография органа Румынской рабочей партии – газеты «Скынтейя» («Искра»), другие издательства и редакции, а также большой зал конгрессов. О значении этого высотного здания говорит и его триумфальная архитектура (ил. 9).
Ил. 9. Современная открытка с видом Дворца культуры и науки в окружении других высотных зданий
Ил. 10. Обложка книги Тадеуша Конвицкого «Малый апокалипсис» (Варшава, 1994)
Идеологический заряд этой патетической архитектуры, которой надлежало быть «национальной по форме и социалистической по содержанию», стал роковым для строений прежде, чем они были завершены. Как в Варшаве, так и в Бухаресте после смерти Сталина и сообщений о смене курса в Советском Союзе приходилось уводить прославляющий компонент на задний план. Помпезная сталинская риторика этих высотных зданий была вскоре осуждена как архитектурное излишество. Даже Лев Руднев публично критиковал этот столь быстро устаревший метод строительства. Внешнее оформление Casa Scînteii осталось незавершенным. Проект пришлось завершить в более скромной форме. По сравнению с дворцом Чаушеску этот памятник социалистической эпохи является маргинальным и даже редко упоминается в истории архитектуры.
Та же судьба постигла и Дом колхозников в Риге (ил. 10).
Если сравнить самовыражение города на открытках и в исторических исследованиях, то и бухарестская, и рижская высотки там отсутствуют. Даже на открытке советского времени постройка Тильманиса кажется стыдливо задвинутой на задворки, тогда как небоскреб в Варшаве занимает центральное место, гордо возвышаясь над другими, возведенными позже высотными зданиями (ил. 11, 12). Рига позиционирует себя как город старинных традиций, Варшава – благодаря советскому подарку – как город современный.
В отличие от других сталинских высотных зданий, в том числе и московских, Дворец науки и культуры в Варшаве сделал стремительную «карьеру» и обрел почти культовый статус: в результате целенаправленной коммерциализации он превратился из героя анекдотов (лучшее место в городе, потому что из него его самого не видно) в символ Варшавы и предмет научного интереса[57]. Варшавская высотка является интересным примером создания памятного места, объединяющего в своем знаковом качестве, хотя и с разным эмоциональным знаком, различные группы населения. Для польской интеллигенции это ненавистный символ чужого господства, пришедший на смену разрушенному в 1920-е годы, в период Второй Польской республики, храму Александра Невского. Здание стало героем многих фильмов и художественных произведений, в первую очередь романов Тадеуша Конвицкого, называвшего его «памятником страха, монументом несвободы, страшным каменным тортом»[58]. Для жителей города это традиционное место проведения концертов, например легендарного выступления группы «Роллинг Стоунз» в 1967 году, и знаменитых в социалистическую эпоху джазовых фестивалей Jazz Jamboree. Детей туда водили и водят в спортивные кружки и в бассейн, там находятся популярные кинозалы и театры.
Ил. 11. Памятник Матери-Родине. Монумент советскому «Воину-освободителю» в Трептов-Парке в Берлине, 1949 (скульптор Евгений Вучетич, архитектор Яков Белопольский). Фото: Марина Дмитриева
Ил. 12. Работа над памятником Матери-Родине. Историческая фотография из книги Das Treptower Ehrenmal (Berlin, 1987)
После падения режима шли горячие споры о его судьбе – разрушить, законсервировать в виде руины, создать музей коммунизма, диктатуры и пр. И еще недавно министр иностранных дел Радослав Сикорский неожиданно высказался за его элиминацию. Но уже в 2007 году здание было взято под охрану памятников и тщательно отреставрировано. Дворец однозначно является лицом Варшавы и культовым сооружением, что умело используется на его интернет-странице[59]. В то же время этот памятник сталинизма не утрачивает своей вирулентности, продолжая оставаться предметом бесконечных споров архитекторов и урбанистов, предлагающих различные решения, чтобы убавить его доминантный статус в городе.
С одной стороны, происходит его успешная интеграция – если не в архитектурную среду, то в городскую жизнь. Он успешно продолжает существовать как функциональное сооружение. С другой – мифологизация и различные попытки истолкования. Например, варшавская высотка становится предметом интерпретации в контексте постколониального дискурса. При этом сами интерпретаторы занимают позицию пассивной жертвы советского режима[60].
Маргинализация памятника
Сложная судьба у одного из самых известных памятников Восточного Берлина – монумента «Воин-освободитель» в Трептов-парке (1949).
Этот монументальный комплекс был одним из первых памятников советскому воину-освободителю, установленных в Центральной и Восточной Европе. Первым был памятник на площади Шварценберга в Вене работы Евгения Вучетича. Он был установлен в 1945 году, сразу же после освобождения Вены и ее раздела на зоны влияния. Памятник в Трептов-парке, один из трех советских военных памятников в Берлине[61], посвящен воинам, погибшим при взятии Берлина, он установлен на месте захоронения более пяти тысяч советских солдат. Это был один из центральных памятников Восточного Берлина. Американский географ Пауль Штангль говорил, что, установленный тоталитарным государством, он «является предельным выражением власти идеологии над пространством»[62].
Авторами комплекса в Трептов-парке были скульптор Евгений Вучетич и архитектор Яков Белопольский. Памятник создавался в специальной мастерской, совместными усилиями советских и немецких специалистов: скульпторов, живописцев, каменотесов, мастеров по металлу. Материалом служили гранитные глыбы из руин новой рейхсканцелярии, построенной главным архитектором Гитлера Альбертом Шпеером, что имело не только практическое, но и символическое значение.
Два входа с противоположных сторон мемориального комплекса образуют горизонтальную ось. Через ворота, которые оформлены как римская триумфальная арка, украшенная паноплиями, входящий попадает на площадь, окруженную плакучими ивами. В центре площади стоит памятник скорбящей матери (ил. 13). И уже оттуда открывается вид на главную, вертикальную ось, которая завершается гигантской фигурой воина-освободителя, стоящего наподобие кургана. Склоненные знамена из красного гранита обрамляют вход в собственно мемориальную часть (ил. 14). Она состоит из обширного поля прямоугольной формы и возвышающейся над ним гигантской фигуры советского солдата с мечом и девочкой на руках, попирающего свастику (ил. 15). По обеим сторонам поля расположены саркофаги, увенчанные стелами с двусторонними барельефами (ил. 16). На торцах стел – цитаты из Сталина о войне и героизме советского народа (ил. 17). Изображения слева и справа идентичные, а надписи – на двух языках: с одной стороны поля – на немецком, с другой – на русском. Зритель, попадающий в это пространство, вынужден следовать предложенной, даже навязанной ему линии движения, мимо цитат из Сталина. Эти цитаты хорошо читались все время существования памятника, даже в период хрущевской «десталинизации», хотя и сильно поблекли по мере обветшания в период ГДР.
Ил. 13. Трептов-парк в Берлине, вход в мемориальную часть. Фото: Марина Дмитриева
Ил. 14. Статуя «Воина-освободителя». Фото: Марина Дмитриева
Ил. 15. Деталь статуи «Воина-освободителя». Фото: Марина Дмитриева
Нарратив памятника – история, рассказанная с точки зрения победителей. В несколько наивной повествовательной манере в барельефах излагается советская версия войны, исключая, естественно, пакт Молотова – Риббентропа: от мирного строительства Советского государства, прерванного неожиданным вероломным нападением, и героической обороны до освобождения Европы советскими воинами. Этой теме посвящена одна стела, на которой показаны «внешние» участники событий, приветствующие освободителей, и место действия – Карлов мост в Праге. Но при этом, в отличие от других памятников (как, например, на Мамаевом кургане в Сталинграде работы того же Вучетича), обращает на себя внимание его не столько триумфальная, сколько коммеморативная составляющая: ранение и смерть, оплакивание погибших. Фигура матери-Родины при входе в собственно мемориальный комплекс, в основе которой лежит, несомненно, фигура матери, оплакивающей своего павшего сына, работы Кэте Кольвиц, привлекательна своими небольшими, близкими к человеческому масштабу размерами, особенно по сравнению с получившей позднее развитие в советской иконографии гигантской фигурой «Родины-матери» в Сталинграде или в Киеве. Это память павших, тема, которая почти не получила продолжения в советской триумфальной символике войны. И этот жертвенный нарратив касается только павших победителей, но не побежденных. Ту же тему развивает мозаичный фриз, расположенный в мавзолее у подножия памятника (ил. 18). Точность деталей одежды служит документальной достоверности, а привнесение исторических элементов – средневековый «тевтонский» меч наряду с солдатской формой у воина, попирающего ногой свастику, мозаичный фриз с портретами плакальщиков в современных костюмах, но с элементами античных драпировок, используемые формы раннехристианской, античной и ренессансной архитектуры – соединяет профанное и сакральное, что, по словам Козеллека, является неотъемлемой частью мемориальной иконографии[63]. Лишь солдат с мечом и с немецкой девочкой на руке воплощает не только официальный миф о воине, несущем мир, но и определенную угрозу потенциальному врагу.
Ил. 16. Стела с барельефом. Фото: Марина Дмитриева
Ил. 17. Стела со сталинской цитатой. Фото: Марина Дмитриева
Ил. 18. Памятник Битвы народов в Лейпциге, 1913 (архитектор Бруно Шмитц, скульпторы Франц Метцнер и Кристиан Беренс). Фото: Марина Дмитриева
Ил. 19. М. Горбачев и Э. Хоннекер при посещении Трептов-парка. Фото из книги Das Treptower Ehrenmal (Berlin, 1987)
Как признавался сам Вучетич, для создания этого памятника он обращался ко многим образцам мировой мемориальной классики – и к античным храмам, и к египетским пирамидам, но создал, по его собственным словам, нечто совсем новое[64]. Один явный источник Вучетич не упомянул – памятник Битве народов в Лейпциге.
Это огромное сооружение в форме зиккурата, или усеченной пирамиды, построенное по проекту архитектора Бруно Шмитца и скульпторов Кристиана Беренса и Франца Метцнера, как и мемориал в Трептов-парке (ил. 19), отличается «сакральным монументализмом»[65]. Он обычно понимается как образец тяжеловесного имперского стиля в преддверии Первой мировой войны и крушения империи. Сам император Вильгельм II, однако, дистанцировался от него: памятник был не в его вкусе, к тому же ему претила масонская символика (масоном был инициатор создания памятника, Клеменс Тиме). Сочетание языческого монументализма с христианскими мотивами, как и общий силуэт памятника, несомненно, повлияли на композицию и настроение монумента в Трептов-парке. По мнению исследователя немецких памятных мест Руди Кошара, близость этих двух памятников – как во внушительном гигантизме, так и в трактовке героического подвига нации, воплощенного в фигурах героев[66]. Памятник, находящийся в полутора часах езды от Берлина, был к тому же широко известен в профессиональных кругах благодаря многочисленным публикациям в прессе. Как и в Трептов-парке, это памятник павшим воинам, но имеются в виду немецкие жертвы Битвы народов. Гигантские фигуры гениев в египетском стиле, обрамляющие интерьер, воплощают «германские добродетели». Хотя этот построенный на собранные «Союзом патриотов» народные деньги памятник никак нельзя назвать чужим, все же в отношении к нему последующих режимов есть элемент растерянности. Его несоразмерный монументализм, его несовременный пафос и его странная, языческая символика делали этот памятник весьма неудобным для включения в памятный дискурс. Ко двору он пришелся разве что в нацистское время с его гигантоманией. Веймарская республика пыталась сделать из него памятник миру, в ГДР он был гротескно переформатирован как памятник немецко-российской дружбы: внутреннее пространство с его прекрасной акустикой стало местом выступления немецкого хорового коллектива, специализировавшегося на русской и советской музыке. После воссоединения Германии и наступившего в связи с этим антипатетического и антипатриотического настроя общественного дискурса появилось желание снизить возвышенный и националистический настрой памятника. К юбилею Битвы народов в октябре 2013 года была закончена его обширная реставрация. Одновременно произошло примирение с монументом и пока еще не вполне удавшаяся попытка постепенного превращения его в памятный знак города.
Этого не произошло и в отношении монумента воину-освободителю в Берлине. В 1992 году, после попыток диффамации и порчи памятника, между ФРГ и Российской Федерацией было достигнуто соглашение о его охране. Только недавно завершена его тщательная реставрация силами немецких специалистов. Отреставрированы и покрыты позолотой цитаты Сталина (но не имя диктатора).
Как считает исследователь памятника, берлинский краевед Андрей Портнов, это не избавило его от наступившей маргинализации. Монумент в Трептов-парке, ранее являвшийся центральным официальным памятным местом ГДР, встречается теперь не во всех путеводителях по Берлину и входит далеко не во все туристические туры[67]. Мемориал служит местом встреч российских ветеранов войны в День Победы, а также ГДР-ностальгиков. С недавних пор сюда стали приезжать русские свадьбы: для русскоязычной молодежи это место стало таким же обязательным атрибутом свадебной фотосессии, как фото у Вечного огня на исторической родине. Вырванный из своего изначального идеологического контекста, памятник победителей в войне оказывается в стороне от памятного дискурса объединенной Германии. Его патетическая эстетика кажется неуместной, воспринимается как экзотический пережиток прошлого. Возведенный американским архитектором Питером Айзенманом минималистский памятник холокосту (2005) лучше отвечает духу времени и назначению общегерманского мемориального комплекса памяти жертв тоталитарного режима.
Монумент между памятью и историей
Приведенные примеры показывают, насколько важным ориентиром для формирования исторической памяти являются артефакты. Монументальные свидетельства недавно исчезнувших режимов, о которых шла речь выше, еще не стали историей, то есть частью прошлого, и не превратились в такие законсервированные памятники, по которым, как сказал Роберт Музиль, взгляд скользит, как капли воды по масляной поверхности[68]. Памятники павшего режима заметны в городе более, чем другие, нейтральные памятники плюсквамперфекта – королей, генералов или поэтов. Их покрывают граффити, их изучают антропологи и искусствоведы, и они, если попадаются под руку, могут быть сброшены с пьедестала. Чужие памятники являются видимыми в первую очередь благодаря медийному интересу к их разрушению. В хрониках на YouTube свержение памятника прошлого режима происходит снова и снова: так из нейтрального материального объекта он превращается в постоянно присутствующую, вирулентную, хотя и виртуальную, реальность постсоциалистического города. В этом смысле иконоборчество более действенно, чем иконопочитание, то есть возведение новых памятников.
В отличие от социалистического времени, память общества после крушения системы более не является навязанной, официальной и единой памятью народа. Она множественна и фрагментарна, состоит из памяти как немногих еще живущих свидетелей Великой Отечественной войны, так и ветеранов и очевидцев других войн – в Афганистане, на Балканах, в Чечне – что отменяет сингулярность той войны. Это память как диссидентов, так и партийных функционеров, как коренных жителей города, так и недавних приезжих, как этнического большинства, так и маргинальных групп. Каждая из этих памятей опирается на свои памятные места.
Роль и положение «чужих» памятников в городах после конца социализма зависят, как я показала, от того сегмента множественной памяти, в который этим монументам удается попасть или вписаться. Голова Маркса работы преуспевавшего (и не самого бесталанного) советского скульптора Льва Кербеля обслуживает память о ГДР, вызывая у части населения ностальгию. Ее гипертрофированный монументализм вызывает даже некую региональную гордость. Другой памятник того же скульптора оказался менее защищенным и, наоборот, включенным во владение городской субкультурной группы, которая использует крупный объект в новом контексте, что можно объяснить лиминальным статусом монумента: берлинский Тельман установлен в 1986 году, то есть накануне крушения системы, и сейчас очутился между «модным» и «социалистическим» районами города.
Высотные дома в Бухаресте и в Риге выпали из актуального контекста современного города. Ни «маленький Париж» – Бухарест, ни представляющая себя как средневековый ганзейский центр Рига не стали искать место для советских высоток московского образца в своем имидже и скайлайне. Они оказались на обочине культурной памяти горожан. Это же произошло и с памятником советскому воину-освободителю в Трептов-парке. Патетические эстетика и семантика победителя, старшего брата и наставника не вписываются в современный дизайн памяти и оказываются невостребованными ни дидактически, ни туристически.
В иной контекст попал Дворец культуры и науки в Варшаве. Однозначно воспринимаемый как символ чужой власти, он все же обращается к памяти различных групп со своим посланием. Охранной грамотой является не только его статус памятника архитектуры – впрочем, иногда оспариваемый, – но и его легко прочитываемый в российском тексте «польский акцент». Возможным дополнительным гарантом успешного функционирования этого архитектурного сооружения как места памяти является постоянная актуализация проблематики насилия, разрушения и жертв. Эта тема оказывается лейтмотивом культурной памяти стран бывшего соцлагеря.
Многие исследователи культуры памяти постсоциалистического времени отмечают явное смещение фокуса внимания с памяти победителей на память жертв. Как считает российский историк Николай Копосов, холокост и ГУЛАГ стали символами памяти XX века. Но та история, которую они воплощают, – история преступлений. Одновременно с подъемом исторической памяти он наблюдает «криминализацию» и «виктимизацию» прошлого, которые являются важной матрицей современного понимания истории[69].
Это в первую очередь касается болезненной исторической памяти стран Восточной Европы, которые позиционируют себя как жертвы обоих тоталитарных режимов – и нацистского, и советского. Милан Кундера когда-то называл страны Восточной или, как он писал, Центральной Европы «маленькой архиевропой» и Occident kidnappé и говорил об общей для этого исторического региона памяти[70]. После развала соцлагеря общей стала противоречивая память о недавнем прошлом, тот жертвенный эмоциональный настрой, в духе которого созданы музеи оккупации во многих странах Восточной Европы. Именно об этом говорила на Лейпцигской книжной ярмарке литовская политическая деятельница Сандра Калниете, заклиная Европу не забывать об опыте жертв, принесенных малыми народами «Новой Европы». Но травматический опыт недавнего прошлого, как во времена воззвания Кундеры, так и сегодня, не стал частью общеевропейского мемориального дискурса.
Именно в этом противоречивом контексте следует понимать обращение с чужими памятниками в постсоциалистическом пространстве: это и форма протеста против гнета исторической памяти, и способ забвения.
Чья память? Вильна – Вильно – Вильнюс в художественной фотографии 1910–1930-х годов
В книге «Улицы Вильны» польский поэт и эссеист Чеслав Милош описал Вильну как город, в котором всегда находилась работа для маляров: им постоянно приходилось перекрашивать названия улиц – то польских, то немецких, то на идиш. А население было занято переоформлением паспортов. Город этот напоминал (и по-прежнему напоминает) старинный палимпсест, то есть манускрипт, время от времени переписываемый заново[71]. Редко новая надпись спокойно уживается рядом со старой. Это был «город спутанных, перекрывающих один другой пластов»[72]. По Милошу, представители разных этносов и конфессий жили в этом городе рядом друг с другом, но «как на разных планетах»[73].
Не много существует городов, чьи названия и история настолько переменчивы. Вильна была столицей Великого княжества Литовского в составе Польско-Литовского королевства. Вильно входило в состав Российской империи, пока в результате Первой мировой войны не стало опять Вильной во Второй Польской республике. После Второй мировой войны город стал называться Вильнюс. В промежутке – во время Первой и Второй мировых войн – немецкая оккупация. До истребления еврейского населения Вильне (еврейское название города) был «литовским Иерусалимом», одним из центров религиозной и сакральной идишистской культуры.
Все воспоминания о «своем» городе имеют право на субъективность. Это касается даже интерпретации таких явлений, как архитектура. Она имеет в такой перцепции собственное «лицо». Так, художник Герман Штрук и писатель Арнольд Цвейг в своей книге «Еврейский лик» (1922) запечатлели «еврейский облик» города. В поисках истоков восточноевропейского еврейства они находили физиогномическое сходство кривых старинных улочек и покосившихся домов с их еврейскими жителями[74].
При этом физиономия зависела от национальной оптики. «Польское Вильно» (Le Wilno polonais) – так назывался альбом фотографий, изданный вильнюсским фотографом Яном Булгаком в то же время, что и книга Штрука и Цвейга[75]. В нем частично воспроизведены те же мотивы.
В литературном портрете, который создали Чеслав Милош и Томас Венцлова (их диалог опубликован в том же сборнике), образ города определяется триумфальной барочной архитектурой. Для Венцловы вильнюсское барокко имело символический смысл. Это триумф цивилизации над советским бескультурьем. «Архитектура довольно рано начала восприниматься как знак… Это было возвышенное прошлое внутри странного и бесформенного настоящего»[76]. Для Венцловы, как и для Милоша, город имел европейское, то есть литовское или же польское, лицо.
Ил. 20. Обложка книги Wilna. Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)
Ил. 21. Интерьер Доминиканской церкви. Фото: Ян Булгак. Из книги Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)
Ил. 22. Дом с польским аттиком. Фото: Ян Булгак. Из книги Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)
Город, воспринимаемый таким образом, в то же время реальный и иллюзорный. Такими же качествами – воспроизведения реальности и ее преображения – обладает фотография. По мнению Ролана Барта, она является «странным медиумом, лишь касающимся реальности» (medium bizarre, frotté de réel). Объектив фотоаппарата передает предметы «объективно», но в то же время фрагментирует и искажает их[77].
На примере фотографий Вильны Яна Булгака и Моше Воробейчика я постараюсь показать, как это происходило. Мои источники – фотоальбомы города, напечатанные типографски, и фотографии, хранящиеся в частных и публичных архивах.
Речь пойдет о двойном механизме сохранения и искажения памяти средствами фотографии.
Польская Вильна в немецком путеводителе
Вскоре после немецкой оккупации города во время Первой мировой войны началось искусствоведческое обследование памятников[78]. Одно из них – книга «Вильна. Забытый художественный памятник» (Wilna. Eine vergessene Kunststätte). Как и другие «солдатские путеводители», эта книга была напечатана в армейской типографии Десятой армии Восточного фронта. Книга снабжена иллюстрациями и планом и посвящена «Завоевателю Вильны генералу Эйххорну»[79] (ил. 20).
Ил. 23. Польская усадьба. Фото: Ян Булгак. Из книги Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)
Ил. 24. Руины дворца Радзивиллов. Фото: Ян Булгак. Из книги Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)
Издание представляет собой по-немецки скрупулезное описание тех следов, которые оставили в этом городе различные народы и режимы. Германским культурным наследием считается магдебургское право или северогерманская кирпичная готика. Немецкий глаз раздражает отсутствие порядка и чистоты. За это, а также за общий хаотичный вид города несут ответственность «русские»[80]. Они же всячески мешают проявлению «европейского характера» города. Польское барокко хотя и заметно в городском пространстве, но заслонило собой немецкую готику. А еврейский квартал, отделенный от остальной части города, запутан и отличается «восточным» характером. Все эти рассуждения снабжены иллюстрациями, многие из которых – фотографии Яна Булгака. Большинство мотивов, таких как «Остра Брама» или «Интерьер Доминиканской церкви», ранее публиковались в виде открыток (ил. 21). Другие были, по всей вероятности, сняты для путеводителя.
«Дом с польским аттиком» (ил. 22) или «Небольшая польская усадьба» (ил. 23) показывают не выдающиеся памятники архитектуры, а памятные места польской национальной культуры. Надписи на различных языках могли бы послужить иллюстрациями к книге Милоша. Даже руины дворца Радзивиллов (Литовская династия) «в теперешнем состоянии разрухи» (ил. 24) относятся к мотивам из польского репертуара.
Ил. 25. Еврейская улица. Фото: Ян Булгак. Из книги Eine vergessene Kunststätte (Wilna, 1917)
Памятник другой истории – «Храм Муравьева» (ил. 25). Возведение памятника Михаилу Муравьеву-Виленскому, усмирителю Польского восстания 1863 года и губернатору Северо-Западного края, а также царице Екатерине II (оба – работы Марка Антокольского, уроженца Вильны) сопровождались протестами польского населения города. Их «свержение» после отступления русских войск было отмечено современниками как символический акт освобождения.
Fotografia ojczysty
Ян Булгак (1876–1951) родился в городке Новогрудек (теперь Белоруссия). В 1912 году он открыл свое фотоателье в Вильнюсе. До этого учился в Дрездене у фотографа Хуго Эрфурта, известного мастера портретной фотографии. Вильна и до Булгака была известна как центр фотографии: там работали такие фотографы, как Станислав Филиберт Флёри, братья Чиж, Ян Куруши-Воробьев[81]. Вскоре Булгак стал заниматься созданием городского фотоархива. После открытия польского университета Стефана Батория, где в 1919 году художник Фердинанд Рущиц создал факультет изящных искусств[82], Ян Булгак руководил там мастерской фотографии[83] – единственным в своем роде университетским учебным заведением в Европе. Его собственный проект заключался в документации памятников польской культуры, или, как он называл это, «мартирологии нации»[84].
Первым результатом этого устремления был альбом с фотографиями Булгака «Вильно и Виленский край» (Wilna i ziemia Wileńska), изданный Рущицем в 1931 году[85]. Центральное место в нем занимает глава Второй Польской республики маршал Юзеф Пилсудский. Пилсудский был родом из Виленской губернии и провел свое детство и юность в Вильне, тогда входившей в состав Российской империи. Задача книги – апология города, особенно в соперничестве с Варшавой, с опорой на свидетельства многовековой истории и современности. Художников Фердинанда Рущица и Людомира Слендзинского, а также искусствоведа Станислава Лоренца (который затем стал руководить отделением охраны памятников в варшавском Министерстве культуры и искусства) называли «апостолами здешности» (apostoly tutejosci)[86]. Лоренц организовал радиопередачи о вильнюсских памятниках, Рущиц создал эскизы оформления ратуши, городского герба и почтовых марок с государственной и городской символикой. Булгак написал в этой книге главу о природе, иллюстрированную фотографиями, в которых он стремился подчеркнуть единство ландшафта, города и его жителей.
Из этого патриотического настроя возникла концепия Fotografia ojczysty («фотография родины»), которую Булгак представлял до Второй мировой войны. Книга под таким названием вышла в 1951 году во Вроцлаве[87].
Если в период между войнами этим понятием он определял культурный ландшафт Вильны и окрестностей (включая теперешнюю Белоруссию), то после Второй мировой войны и потери Вильны для Польши эта идея распространилась на всю Польшу и преобразовалась в идею «польскости»[88]. При этом он опирался на немецкую традицию Heimatfotografie, которая, по его мнению, должна была бы, как это было в Вильне, преподаваться в университете[89]. В последние годы жизни он стремился создать «правдивый и прекрасный образ Родины». Эта концепция была сродни формальным основам соцреализма.
Моше Воробейчик – Мой Вер – Моше Равив
На факультете изобразительных искусств Вильнюсского университета, в классе живописи Людомира Слендзинского, учился в начале 1920-х годов молодой уроженец Вильны Моше Воробейчик (1904–1995). В 1927-м он перебрался в Баухаус в Дессау.
Из любительских снимков, сделанных «лейкой» в Вильне во время пасхальных каникул 1929 года, возникла фотокнига «Еврейская улица в Вильне» (Jewish Lane in Wilna / Ein Ghetto in Osten. Wilna, 1931). Она был издана в издательстве «Орелль Фюссли» в Лейпциге и Цюрихе на четырех языках: идиш, иврите, английском и немецком.
Булгак и Воробейчик по-разному воспроизводили на своих фотографиях памятные места родного города. И сами эти фотографии стали культовыми объектами, или lieux de mémoire, по выражению Пьера Нора.
Оба мастера относились к фотографии как к искусству. Булгак создал термин фотографика (буквально фото плюс графика). Стилистически его фотография относилась к пикториализму XIX – начала XX века, то есть он использовал изобразительные и технические приемы, сближающие фотографию с изобразительным искусством. Воробейчик представлял тот тип экспериментальной фотографии, который возник в Баухаусе. Возможно, еврейский Вильнюс Воробейчика был ответом на польский взгляд Булгака.
Странно, что их никогда не рассматривали вместе, будто они жили на разных планетах.
Ян Булгак, родившийся в Новогрудском уезде Минской губернии, провел большую часть жизни в Вильне, пережив там и советскую, и немецкую оккупацию. В 1945 году он бежал. Все его негативы, подаренные городу, погибли в пожаре. Оставшуюся часть жизни он прожил в Варшаве.
Моше Воробейчик многократно менял города, страны и даже свое имя[90]. В 1927–1928 годах он прошел в Баухаусе вводный курс у Йозефа Альберса, посещал курсы Кандинского и Клее, кроме того – курс фресковой живописи у Хиннерка Шепера[91]. Но в 1929 году он переселился в Париж, где поступил в École Technique de Photographie et de Cinématographie (Техническую школу фотографии и кинематографии), в дополнение к чему посещал вечерние курсы живописи у Фернана Леже в Académie Moderne (Современной Академии)[92]. Воробейчик поддерживал многочисленные контакты с представителями художественной богемы. В их круг входили Мэн Рэй, Филипп Супо, Андре Мальро или Илья Эренбург, как и его сокурсники по Баухаусу. Учившаяся там фотограф Флоранс Анри также обосновалась в Париже. Воробейчик присоединился к международной группе художников, которые создали École de Paris (Парижскую школу)[93], и, среди прочего, участвовал с несколькими живописными работами в организованной Блезом Сандраром выставке «Еврейские художники из Литвы в Париже 1930-х годов»[94]. В то же время он работал на договорной основе фотокорреспондентом для парижского агентства Photo-Globe и газеты France soir. Его фоторепортажи из Польши, Испании и Палестины были опубликованы в журналах Vu, Art et métiers graphiques, Esprit, Varietés. Revue mensuelle illustrée de l’esprit contemporain, Esprit Nouveau. В 1933 году в Galerie d’Art Contemporain (Галерея современного искусства) на бульваре Распай была выставлена его фотоинсталляция. В Париже он принял псевдоним Мой Вер, под которым вышла его книга «Париж – 80 фотографий».
Будучи убежденным сионистом, Воробейчик – Мой Вер переселился в 1934 году в Палестину. Там начиная с 50-х годов он жил в колонии художников Цфат и занимался преимущественно живописью. Своей фамилии, звучавшей по-русски (Воробейчик, то есть маленький воробей), он придал древнееврейское звучание, превратив ее в Равив. Он стремился познакомиться с еврейской символической и религиозной традицией, используя формальные средства Баухауса. В камере-обскуре, оборудованной в его студии в Цфате, он по-прежнему предавался алхимии фотопроизводства. Воробейчик умер в преклонном возрасте в январе 1995 года.
Еврейский Вильне
Фотографии Вильны Моше Воробейчика демонстрировались на выставке, сопровождавшей сионистский конгресс в Цюрихе в 1929 году. Художественный критик Эмиль Шефер предложил художнику сделать из них фотокнигу (Schaubuch) для серии, которую он выпускал в издательстве «Орелль Фюссли»[95]. Публикации на разных языках и резонанс в Америке свидетельствовали о больших ожиданиях, связанных с этой книгой. Тираж в 12 500 экземпляров был распродан очень скоро.
В предисловии к фотографическому альбому Воробейчика 1931 года известный еврейский писатель Залман Шнеур писал:
Город Вильна обрел теперь… своего истолкователя. Этот автор сумел обойти традиционно-шаблонное, преодолеть сентиментальное, свойственное видам синагог и старых кладбищ. Он устремлял взгляд на саму жизнь, на то, как она пульсирует здесь же, на месте. <…> Здесь видно восприятие как живого, так и неорганического, зданий и людей. Перемешивается старинное и современное, торжественное и повседневное. <…> Так и выросла эта книга: память о Еврейской улице, музей в миниатюре, полный дрожащих теней и радостей прошлого[96].
В своей рецензии на книгу, опубликованной в американской еврейской газете Jewish Daily Forward, Макс Вайнрайх резко атаковал точку зрения Шнеура[97]. Выдвинутая Шнеуром «формула еврейской Вильны» как раз и символизирует то шаблонное и сентиментальное, против чего он борется. Более того, писатель, по словам Вайнрайха, пытается представить еврейскую жизнь как крепость, отгороженную от внешнего мира. Из чередования света и тени, наполняющих книгу, Шнеур выбирает теневую сторону: в тени, в промежутке между днем и ночью, евреи выползают из своих убежищ, чтобы пожить своей жизнью, заработать хоть сколько-то деньжонок, чтобы поженить своих детей.
Вайнрайх вовсе не мог согласиться с этой точкой зрения. Прошли времена, когда родители знакомили своих детей. Теперь молодые люди женились сами, не спрашивая родителей. Евреи больше не хотят скрываться в темноте, напротив, им хотелось бы получить шанс выйти из своих темных пещер на солнечный свет.
Мы создали здесь синагоги и библиотеки с их многочисленными фолиантами. Дайте же нам теперь доступ к сокровищам всего мира! Это послание, которое адресовали мне фотографии Воробейчика[98].
Как в предисловии, так и в рецензии подчеркивались значение и качество фотографий Вильны, сделанных Воробейчиком, но интерпретации, предложенные обоими авторами, были различны. В то время как для Шнеура книга являла квинтэссенцию еврейской жизни в Вильне, но в то же время представляла собой и своего рода музей прошлого, Вайнрайх попытался увидеть в этом путь в будущее. Вильна была, с его точки зрения, лучше всего пригодна для того, чтобы служить мостом между прошлым и будущим, ведь сам он был одним из основателей и руководителем Yidisher Visnshaftlekher Institut (YIVO) (Еврейского научного института), который работал с 1925 по 1939 год в польской Вильне. Тем самым Вайнрайх категорически указал – особенно по отношению к американским донаторам YIVO – на Вильну как на место новой еврейской культуры, его представление не было окрашено ностальгией по традиционной еврейской жизни. Хотя старые камни и здания и напоминали о тысячелетней традиции еврейского народа, но на них следует строить, чтобы создать новую культуру[99].
Правда, Вайнрайх сожалел о том, что Воробейчик не обратил внимание на многое из того, что для него теперь уже было частью реальности Вильны. Он спрашивал несколько наивно: «Почему не были показаны атлетические упражнения футбольной команды или восторженные лица взрослых, если их команда забивает гол?» Другими мотивами могли бы быть, например, демонстрация еврейских трудящихся, бойскаутов или здание политехникума[100].
Такие отклики, которые вызвала эта книга у двух знаменитых читателей, указывают на различные когнитивные карты города. Совершенно разные коннотации и памятные места существовали не только для его многонационального населения (вспомним, что Милош говорил о городе «запутавшихся, перекрывающих друг друга зон»), сам еврейский город казался очень неоднородным. Престиж Вильны как «литовского Иерусалима», с одной стороны, и как центра светской культуры и политических идеологий – с другой, вызывал противоречивые ассоциации. В результате основания YIVO Вильна стала центром идишистской утопии «социального инжиниринга» «нового еврея».
Картина Вильны, которую дает Воробейчик, относится, несомненно, к традиционным формам и памятным местам еврейской жизни, к «гетто на Востоке», где каждый камень и каждое здание имеют собственную историю и связаны с прошлым. Вполне допустимо, что портрет «еврейского» города был задуман как своего рода ответ на фотографии «польской» Вильны, сделанные Яном Булгаком. Вместе с тем 65 фотоколлажей Воробейчика – это не просто документы прошлого, к которым их очень часто сводят. В своей композиции и подборе в книге они представляют общую концепцию, которая была в своем роде абсолютно новаторской.
Совершенно необычная книга, которая наглядно представила архаические формы жизни еврейской общины в Вильне в фотографиях, с точки зрения формальных озарений превосходившая все, что до сих пор видели на рынке фотоальбомов, —
так писал Герберт Молдерингс, историк фотографии, представлявший немецким читателям Моше Равива-Воробейчика, известного среди специалистов и как Мой Вер[101].
Именно это бросавшееся в глаза расхождение между выбором мотива – еврейской жизнью в ее традиционной форме – и «модерновостью» художественного решения вызвало дискуссии и, вероятно, обеспечило успех книги.
О книге и о фотографе
Открытая процитированным выше предисловием писателя Залмана Шнеура, книга (ил. 26) состоит преимущественно из фотографий, снабженных только краткими подписями. При этом речь идет о фотоколлажах и фотомонтажах, в каждом случае – двух или четырех на развороте.
Ил. 26. Обложка книги Ein Ghetto im Osten – Wilna (Zürich – Leipzig, 1931)
Ил. 27. Разворот из книги Ein Ghetto im Osten – Wilna: «Человек и его физическое пространство»
Ил. 28. Страница из книги Ein Ghetto im Osten – Wilna: «Красивы эти улицы»
Он вырезал острыми ножницами квадраты и круги, строго ограниченные и тем более содержательные, наполненные содержанием Еврейской улицы, —
пишет Шнеур[102]. Многие фотографии размещены по диагонали, что придает им динамическое напряжение. Фрагменты противопоставляются цельным снимкам, портреты – архитектурным сюжетам. Каждый разворот представляет собой продуманную тему, мотивы группируются в тематические комплексы. Важный сюжет – это человек в связи с архитектурой, в своей сфере жизни (ил. 27). Тем самым картина города, пробужденная Воробейчиком, принципиально отличается от архитектурных фотографий Яна Булгака, в работах которого архитектура Вильны предстает в своем чистом образе и большей частью без людей. Архитектурные детали в книге Воробейчика представлены точно так же «физиогномически», как и люди. Вырезанные части составляются в общую картину; оттиски негативов, наложенных друг на друга, дают хрупкую картину парящей реальности, что в свою очередь устраняется резко сфотографированными фрагментами распадавшейся каменной стены или мостовой. Приближение и дистанция, индивидуальное и умноженное контрастно противостоят друг другу, как и отдельные и двойные фигуры.
Важная тема – это мотив дороги, улица в игре света и тени, в контрасте фактуры камня и эфемерного виде́ния (ил. 28). Как заметили и Шнеур, и Вайнрайх, свет и тень являются лейтмотивами книги. Но это же – один из главных мотивов интерьерных снимков Яна Булгака, сделанных совсем в другом эстетическом ключе. У Воробейчика лучи света, освещающие интерьеры библиотеки Страшуна или очерчивающие силуэты на улице, наполненной светом, по временам представляются мистическим посланием читателям. Иногда человек заменяется отсылками – шляпой, оставленной на столе для чтения. Мотивом является изъеденный временем угол стены или древнееврейская надпись в окне. Противопоставления – тяжелый – легкий, закрытый – открытый, материальный – иллюзорный – являются предшественниками позднейших эстетических решений в проекте Ci-Contre, над которым Воробейчик начал работать в то же время[103].
Старость и молодость в качестве одного из сюжетов книги показаны не контрастно, а как единое целое. Пример – портрет со старой женщиной и играющим ребенком. В выборе тем и мотивов узнается пример Германа Штрука[104]. Изоморфизм людей и сооружений в Вильне примерно десятью годами ранее произвел очень сильное впечатление на него и Арнольда Цвейга[105]. В то же время благодаря устоявшимся мотивам, смещенным углам зрения и различным перспективам возникает эффект отчуждения, которое сразу же ставит под сомнение традиционное и шаблонное. Обычные сцены повседневной жизни начинают колебаться. Их реальность стирается, превращаясь в виде́ние. Фотомонтаж дополняется принципом коллажа, возникшим из опыта художника-графика. Из фотографий вырезаются, ретушируются и компонуются «квадраты и круги», чтобы быть сфотографированными еще раз. Благодаря многогранному взгляду возникает картина города, которая в одно и то же время кажется реальной и иллюзорной, близкой и удаленной.
Позже художник так вспоминал историю возникновения книги о Вильне:
Дессау был городом рабби Мозеса Мендельсона. Однажды, когда я пришел в библиотеку при синагоге, которая достойна своего названия, мне пришли на ум те образы, что я оставил позади, покидая Вильну. Образ ученика, склонившегося над книгой в старом молитвенном доме, старик, играющий в переулке на скрипке, ребенок за игрой в классики. …Когда началась Пасха, я отправился в Вильну. Весна была солнечная, и я заставил камеру работать для меня[106].
Воробейчик сумел сохранить за годы, проведенные в Баухаусе, в международном художественном сообществе, не только внутреннюю связь с родным городом, но и самосознание еврейского художника. Признание в этом – его дипломная работа: мобиле, установленное между двумя зеркалами (фотография с отражением лица Воробейчика находится в архиве Рут и Майи Равив в Израиле[107]). Эта инсталляция включает в себя надписи на различных языках, в том числе и на древнееврейском, – метод, который играет определенную роль и в его фотоальбоме о Вильне. Фотографии Вильны возникли весной 1929 года, во время пасхальной поездки домой. Снимки были сделаны фотокамерой «лейка», которую художник купил на промежуточной остановке в Берлине.
«Спонтанный» характер фотографий Вильны[108], который часто провозглашал и сам художник, опровергается материалом из семейного архива. Помимо негативов и фотоотпечатков отдельных сюжетов, из которых впоследствии должны были возникнуть коллажи, сохранились и маленькие, выполненные сепией эскизы с размытыми контурами, на которых художник удерживает не только сюжеты, но и композицию: например, сюжет с часами можно увидеть на эскизе и фотоколлаже «Старая синагога» (ил. 29). Следовательно, работа над фотокомпозициями сопровождалась эскизами. Это подтверждает продуманный характер фотомонтажей и фотоколлажей, для которых фотографии служили только исходным материалом. Следует подчеркнуть приоритет глаза художника-графика по сравнению с «фотоглазом», дающий себя знать и в позднейших работах Воробейчика. Его видение Вильны возникло прежде, чем он стал делать картины. Почему, однако, он избрал фотографию, а не живопись или графику, чтобы воплотить это видение в жизнь?
Ил. 29. Страница из книги Ein Ghetto im Osten – Wilna: «Старая синагога»
Фотография и живопись
Моше Равив-Воробейчик, которого нередко ставят в один ряд с такими классиками современной фотографии, как Люсия Мохой, Умбо, Т. Люкс Фейнингер, Флоранс Анри, Жермена Круль или Герберт Байер, никогда не считал себя только фотографом. Говорят, Андре Мальро, увидев проекты для фотоальбома «Париж», сказал: «Месье, вам надо было бы стать живописцем!» На это Воробейчик ответил:
Да я ведь и есть живописец. Игра поверхностей и их глубина в моих работах – результат первого года, проведенного мною в Баухаусе. Нюансы живописи я изучал у Пауля Клее; структуры и внутреннее движение – от Кандинского; свет в фотографиях – от Ласло Мохой-Надя. Все трое были моими учителями[109].
В вводный курс Йозефа Альберса входили, кроме того, овладение композицией, искусством полиграфического исполнения книги, монтажом, столярным ремеслом и графикой, а также созданием плакатов для кино и театра. Это было многостороннее образование, позже пошедшее на пользу Равиву-Воробейчику.
Правда, во время его учебы в Баухаусе фотография еще не утвердилась как дисциплина[110]: Мохой-Надь преподавал в металлической мастерской, но, как говорят, его книга «Живопись, фотография, фильм» (1927)[111] оказала большое влияние и на Воробейчика, и на его однокурсников. Идеи фотографии как «формирования света» и «нового зрения» были тогда испробованы в любительских снимках студентов Баухауса скорее творчески и в игровой манере, нежели рассматривались в качестве самостоятельного предмета. Да и Т. Люкс Фейнингер, зарабатывавший в качестве фотографа, называл себя, подобно Воробейчику или Герберту Байеру, «художником, а не фотографом»[112].
Новых формальных решений в фотографии в 1920-е годы искали не только в Дессау, но точно так же в Берлине, в Москве или в Париже. В Баухаусе практиковался плодотворный обмен с русскими конструктивистами, среди которых были Лисицкий, Родченко или Дзига Вертов. Но в первую очередь – Мохой-Надь. Его книга «Живопись, фотография, фильм» была издана на русском языке под названием «Живопись или фотография» и читалась в контексте полемики о сущности и правомерности художественной фотографии[113]. В этой книге он провозглашал смену живописи другими видами искусства, как то: фотографией и фильмом, в чем он следовал русским конструктивистам. Ссылаясь на белые картины Малевича, он даже говорил о «последнем упрощении картины – проекционном экране». Вместе с тем Мохой-Надь подчеркивал роль «фактуры», перенятую фотографией из опыта кубизма, а также «проблематику симультанного видения фильма», испробованную уже футуризмом, то есть указывал на влияние новой живописи на фотографию[114].
Воробейчик пережил в Баухаусе не только живой дух экспериментирования. В его время школа находилась в фазе, ориентированной на производство, которая наступила с приходом нового директора Ханнеса Майера (1928–1930). Конфликты между «художниками» (Кандинский и Клее) и «функционалистами» имели место и раньше, а с приглашением Мохой-Надя они усилились. Постоянные высказывания Воробейчика «Я художник», а также его повторные указания на Клее и Кандинского как на своих учителей (позже в воспоминаниях о Баухаусе он говорил: «Дух Клее, Кандинского, Мохой-Надя и других парил над школой и поддерживал жизнь во всем»[115]) следует понимать как признание и как попытку сводить воедино выразительность тех вещей, которые более не обязательно образуют единство. Определенное разочарование развитием событий, имевших место в Баухаусе, также было, вероятно, причиной его переселения в Париж, где вещи казались еще более живыми, прежде всего в том, что касалось связи фотографии и живописи, и где не было необходимости подчиняться идеологии Баухауса. Книга о Вильне, в которой нашла выражение эта связь, именно в парижской художественной среде обрела свой окончательный вид.
Теоретические размышления Вальтера Беньямина о фотографии также возникли в рамках парижского дискурса. Вопрос Беньямина, изменился ли общий характер искусства в результате изобретения фотографии[116], касается не только «художественного произведения в эру его воспроизводимости», он относится и к доступу к фотографии как таковой, которая именно в 1920-е годы превращалась из средства документации в художественное средство. Это развитие, в котором колебание между документальным и ложно художественным характером, охарактеризованное Зигфридом Кракауэром как «демоническая двусмысленность»[117] и становившееся все очевиднее, в конце 1920-х годов сделалось предметом интенсивного теоретического и практического осмысления[118].
В особенности в фотомонтаже возник новый образ реальности, который в то же время должен был очаровать наблюдателя истинностью деталей и сбить с толку произвольностью композиции[119]. Франц Ро обнаружил в 1925 году в фотомонтаже с его связью модернистской абстракции живописи и крайнего реализма фотографического фрагмента знак нового тренда – «постэкспрессионизма»[120]. Благодаря этому калейдоскопическому способу множественного взгляда фотомонтажу удалось удовлетворять совершенно различным претензиям – от элитарного понимания искусства смешанных дадаистских композиций Ханны Хёх или Поля Ситроена до рекламных изображений новой массовой культуры и советских политических пропагандистских монтажей, создававшихся в 1930-е годы Эль Лисицким или Густавом Клуцисом[121].
Книга Воробейчика о Вильне – результат критического рассмотрения этих теоретических рефлексий и практического опыта. К экспериментам Баухауса восходят не только динамизация взгляда благодаря перемещенным углам зрения и диагоналям. Можно рассматривать и зрительное восприятие человека в гармонии с архитектурой как дальнейшее развитие любимой темы фотографий, которые делали любители в Баухаусе, – человек в своем архитектурном окружении. Там, правда, фотографов вдохновляла архитектура Гропиуса, здесь, напротив, – извилистые переулки и застроенные дворы старого еврейского города: сфотографированный под косым углом архитектурный вид называется «Еврейская архитектура». Но и исследование фактуры и света, охват предмета в нескольких измерениях, пришедший из кубизма, футуристическое рассмотрение проблем движения и одновременности – все это концепции и решения, исходящие из синкретизма фотографического и живописного опыта и непосредственно связанные с нынешними дискуссиями о фотографии как о коммуникативном средстве. Отсюда и новаторское значение этих фотографий.
Книга о Вильне была, однако, не блестящим индивидуальным деянием, а частью большого проекта (трилогии «Вильна» – «Париж» – «Ci-Contre»)[122].
Почти одновременно с этой книгой возник и другой фотоальбом, «Paris – 80 Photographies» («Париж – 80 фотографий»), который Воробейчик опубликовал под псевдонимом Мой Вер. Если «Вильна» показывает жизнь в ее вечном, неизменном образе, то «Париж» являет собой картину современной жизни. Фабричные трубы, лица, колеса – это футуристический образ европейской столицы. На сей раз это не коллажи, а фотомонтажи и отпечатки наложенных друг на друга негативов (в соответствии с так называемым методом сэндвича), создающие подвижный, не статичный образ. В отличие от других фотографов Парижской школы, например Андре Кертеса, Брассая или Флоранс Анри, которые искали в Париже остановившееся время[123], Мой Вер видел изменения и преображения. Наряду с этим (как и в книге о Вильне) город воспринимается вместе с людьми и посредством людей: на нескольких фотографиях город открывается сквозь прозрачные человеческие фигуры.
Как и книга о Вильне, «Париж» – фотографический альбом. Предисловие к нему написал Фернан Леже, учитель художника. В этом знаменательном тексте Леже обращается к фотографии как к коммуникативному средству, которое, на его взгляд, переживает переход от документации и чисто иллюстративной функции к «очень интересным пластическим открытиям». В качестве протагонистов этого движения он называет Мохой-Надя и Лисицкого, относя к их числу также художника Мой Вера.
Для Леже, вдохновленного фотомонтажами Мой Вера, фотография стоит ближе к формальным принципам живописи, нежели к формальным принципам фильма или литературы, хотя он и должен признать, что кино открыло фотографии много путей. Главным принципом фотографии и живописи является композиция. Как и живопись, фотография ищет la durée, продолжительности
