Лёгкие притчи и краски сарказма
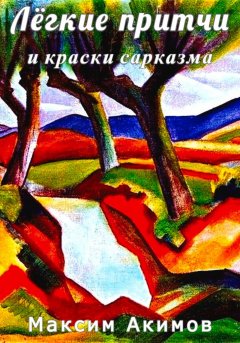
Не остаться без хорошей роли
В предбаннике у кабинета Главного, как обычно, была суета. На этот раз толпились милые дамы – душки, так называл их тутошний администратор, ожидавшие распределения женских ролей. То возникали перепалки, то лились откровения, то вдруг всё замокало. Но, возникая снова, разговоры неизменно касались будущих представлений, на которых каждая хотела получить роль, как можно более эффектную и яркую.
Наиболее желанными были роли трагические, сложные, где нужно было всерьёз убиваться, всерьёз страдать и умирать. То есть показывать себя так, чтоб после окончания всего действа обязательно получить всевозможные награды, а потом носить их, целую вечность.
Заходя по одной в кабинет Главного, каждая душка выходила с разным настроем. Одна радовалась, другая недоумевала, а бывали такие, что просто прыгали от счастья!
– Одинокая запойная алкоголичка! – в восторге прокричала душка, выскочившая из кабинета с желанным назначением. – С детства вся измученная, ни дня без истерик, родители бросили на попечение сестры, сестра – проститутка!
– Да-а, – завистливо протянула одна из душек, вылетевшая из кабинета чуть ранее. – Мне о таком только мечтать…
– А чего у тебя? – поинтересовалась сидящая рядом душа, не получившая пока никакой роли.
– Любимая дочь заботливого отца, жена министерского сына, – вздохнула обладательница незавидного жребия. – Счастливое детство, образцовые родители, благополучные дети, особняк в респектабельном районе, путешествия, добрый, порядочный муж, жизнь с ним душа в душу, и умереть не мучаясь, – горестно закончила свой перечень душка.
– Ох, и досталось тебе, подруга, – сказала соседняя душка, которой только предстояло идти за ролью, и она вся была в волнениях. – С такой ролью на многое рассчитывать не придётся. Чего там выстрадать можно?
– Вот и я о том же, – убивалась душка со скучной ролью, – чем такая роль, лучше вообще без роли!
– Ну не скажи, – возразила душка, сидевшая поодаль. – Если как следует постараться…
– А как тебя угораздило это тухлое счастье-то получить? Просила плохо? Главному не понравилась – допытывалась ближняя душка, – ангелу-администратору не приглянулась? Чего он говорил-то тебе?
– Да чего говорил, – хныкала душка с ролью счастливой министерши, – держи душу нараспашку, держи душу нараспашку!
– Он почти всем это говорит, – вздохнула сидевшая рядом душа.
– Ух ты! – всё более воодушевляясь, ликовала душа-алкоголичка, листая страницы собственной роли, – вся жизнь на открытом нерве, каждый день на людях – как рыжий на ковре! Каждый поступок всеми осужден, ни дня без колких упрёков и сплетен за спиной, четыре неудачных попытки самоубийства, – в восторге бормотала душка, перелистывая предстоящие эпизоды страдательных драм.
«Следующая – приготовиться», – сообщил ангел-администратор, когда из белых покоев Главного выпорхнула сияющая душка.
– Потомственная уборщица! – с радостным смехом, трезвонила она, – отчим-садист, два сводных брата наркоманы! Не роль, сказка!
– Везёт же некоторым, – пробурчала из угла какая-то, молчавшая прежде, душка, – вот бы мне так! А то ведь досталась гадость этакая, – откровенничала невезучая душа, – детство в тихом приморском городке, отец-художник, помешанный на семье, и сама вся в шоколаде, как королева испанская! И ладно бы в золотой клетке сидеть пришлось, так ведь нет – свобода и беспечность в придачу.
– Ну, ничего-ничего, – успокаивала её потомственная уборщица, – вот отбудешь эту тягомотину, порепетируешь настоящую жизнь, пообвыкнешься, и уж следующий раз роль тебе дадут человеческую, стоящую роль, со страданиями, с глубоким смыслом.
– Да-да-да, – подтвердила одна из ожидающих, – я с одной знакомой душой переписывалась, которая теперь в раю. Она мне так и говорила: поначалу, пожалуй, и помучают, навяжут туфту какую-нибудь, с радостным детством, счастливым браком и благополучными детьми, зато потом можно будет настоящее выпросить, серьёзное, для вечности!
– Ну и чего она выпросила? – будто воодушевляясь, поинтересовалась горемычная душка, получившая счастливую судьбу, начинавшуюся в приморском городке.
– Ох уж ей повезло, так повезло! Досталась судьба какой-то французской святой, редкостной гадины и дуры, ещё в юности удушившей шестерых человек, и собственную мать выгнавшей из дому, но потом встретившей истерика-мужа, ежедневно её избивавшего в пьяной тоске. А когда его парализовало, они оба получили просветление и даже стали исцелять всех подряд наложением рук. Но потом её обвинили в колдовстве. Попала она в руки инквизиции и умерла в кошмарных мучениях и пытках.
– Мечта, мечта, – тихо пробормотала душка, которой предстояло стать женой министерского сынка, тихого и порядочного.
У рая на Земле нет будущего. Это понимала любая душка. На Земле противопоказано быть благополучным, получать дары судьбы и пребывать в достатке. Иначе всё это вполне способно отразиться на существовании в вечности. Земля – не комната отдыха, Земля – стадион страдания без сострадания, была убеждена каждая неопытная душа. В земной жизни нужно успеть выстрадать и как можно более усердно. Вот за эту возможность, за эту привилегию, за право получить как можно больше ярких и тяжких страданий и сражались наши душки. Бились за всё это, вымаливали, как только могли.
Душки появлялись одна за другой, следом возникали другие. Каждая выносила свою роль, попутно разучивая её мизансцены. Ангел-администратор напутствовал взволнованные души, давал последние указания и, перекрестив, впускал к Главному, чтоб тот оценил, чего достойна каждая из частиц женского существа? А душки всё также судачили о своих ролях, ожидая последнего звонка.
Оставалось уж недолго: почти вся партия чистых душ, собравшихся здесь, в этот раз, получила свои роли и, постепенно теряя прежние свойства, готовилась к новой жизни, к забегу по пересечённой дистанции, кратковременной и опасной, но манящей своими возможностями. Мало-помалу разговоры угасли. Душки всё более становились похожими на сестёр, которым надо впервые выходить в свет. Все их мысли были уже в других местах, в других пространствах.
– Вот только я одного не понимаю, – вдруг прервала общее молчание душа, получившая по выпавшей нынче роли большое богатство с самого рождения, отменное здоровье, благополучие, известность и почёт. – Вот не пойму я, почему Он не распределит всем нормальные, хорошие роли? Почему каждой из нас не даст как следует настрадаться, помучиться хорошенько, побыть преступницей и жертвой с окровавленной судьбой, поломанной жизнью и поруганными надеждами, – всплеснула невесомыми руками душа. – Если уж кому-то даётся хороший материал, зачем остальных обделять? Пускай и бы и первая жизнь, и вторая имели нормальный сценарий, чтоб уж не зря затеваться, не зря время терять, ведь всем измучиться-то охота, как следует измучиться! Почему одной всё, а другой ничего?!
– Ну, ты спросила, подруга, – с невесёлым вздохом отозвалась какая-то из душек. – Это тебе потом объяснят, когда отбудешь положенное.
– Чистые души девиц! – провозгласил ангел-администратор. – Говтовьсь! Сейчас начнёте рождаться! И запомните: чтоб жить как следует, без самодеятельности, чтоб, – строго увещевал душек ангел. – Кому положено страдать – страдайте, а кому положено радоваться – радуйтесь, веселитесь, с детишками играйте, мужьям делайте маленькие сюрпризики. Страдания в запасе ещё есть, на несколько циклов хватит. Всем достанется большая неутолимая боль, каждая из вас узнает унижения и подлость, горечь предательства и поруганную любовь. Каждая совершит что-нибудь мерзкое и постыдное, – успокоил душек добрый ангел. – Но не все сразу, не все сразу, – добавил он. – Ну, с Богом! – отчего-то волнуясь, выдохнул светлый небожитель и стал потихонечку выпускать подопечных. А где-то там, внизу, на грешной и желанной Земле, послышался пронзительный крик, громкий и требовательный крик новорожденной девочки, которой суждено было вынести именно ту беду, которая положена и никакую иную.
Призвание
Маша очень любила ночные прогулки по тёмным переулкам. Маша выходила часов в одиннадцать вечера и до часика, а то и до половины второго гуляла себе, дышала прохладой.
Разве на шумных проспектах отдохнёшь душой? Разве там подышать удастся? Чего там делать-то?
Понятно, если уж идти – то в переулочки, в тишину!
Маша любила окраины, любила неизвестные уголки столицы, ночные парки, скверики, неблагополучные районы, где всякое можно увидеть и повстречать всякое. Она не боялась, а смело шла навстречу темноте и приключениям.
Нельзя сказать, что она совсем не боялась. Она, скажем так, слегка побаивалась, но не настолько, чтоб изменять своему обыкновению. А уж какой в этом-то году ноябрь-то тёплый выдался, сами подумайте! Не прогуляться ночью, одной, да по тёмным переулкам – дурочку свалять!
Вот и в этот вечер Маша, как обычно, отправилась на свою традиционную прогулку. Надела любимую ярко-жёлтую куртку, которая была далеко видна, даже если ближайший фонарь находился за полкилометра, подкрасилась и, выйдя в город, окунулась в его тёмнопереулочную загадочность.
Маша шла, тихонько напевая что-то себе под нос. Лёгкий шарф развевался на ветру. Редкие припозднившиеся прохожие сутулились и спешили по домам. Маша шла, и на душе у неё было ровно и мирно. Она шла и думала о чём-то очень хорошем.
Но вдруг Маша почувствовала, что за спиной у неё замаячила длинная нервная тень. Тень приближалась, она наползала. Вот тень поравнялась с Машей и, пройдя с минуту рядом, тень резко ухватила Машу за горло. Потом отчего-то отпустила горло, но прижала к себе и на весу поволокла в полуподвальчик, который оказался наглухо закрыт. Однако закуток, где была железная дверь, всё же представлял собой укромный уголок, где можно было совершить много интересных дел. Тень, судя по всему, принадлежала здоровенному парню. И прижав Машу к двери, ночной негодяй навострился насиловать свою жертву, а может, грабить и избивать её. Хотя не исключено, что в его планы входили все три пункта.
– Ну что, с-с-сучка, добегалась? – прошипел негодяй, впиваясь сухими губами в машин рот. – Сейчас тебе будет очень, очень хорошо! – вновь сжимая машино горло, шипел насильник.
– Хлордиазепоксида дветаблетки! – выкрикнула Маша, умелым и резким движением локтя нейтрализовала насильника, нанеся просчитанный удар и, заметив его лёгкое замешательство, ударила острой коленочкой по причинному месту. Впрочем, не очень сильно, а только чтоб отскочить. Но, отскочив, убегать не стала, а преградила дорогу наверх и, став на предпоследней ступеньке, вынула из кармана фонарик, пустив в лицо негодяя яркий луч пронзительно света, после чего произнесла, – и калия бромида тоже таблетки две-три для начала!
– Ты чего – совсем? – промямлил насильник, щурясь в лучах неожиданного света.
– Отлично! Электрошок применять не придётся, – деловито произнесла Маша и достала тонометр.
– Это что? – ещё более ошеломлённый промычал бывший насильник.
– А это, милый друг, я тебя лечить буду, – сказала Маша.
– Как это лечить? От чего лечить? – всё также обалдевши и совсем уж потерявшись, мямлил бывший насильник, не зная – чего ему теперь и делать-то уж!
– Ну, точный диагноз я тебе так сразу не поставлю, – сказала Маша, закуривая. – Тут надо анализы смотреть и обследование тщательное провести. А на первый взгляд скажу, что синдром у тебя довольно заурядный. Вывести в норму возьмусь за десять сеансов, – уверенно заявила она.
– Да я щас тебя знаешь как выведу в норму! – вяло и отступая, выкрикнул незадачливый преступный элемент, будто для того лишь, чтоб хоть немного держать марку.
– Электрошок у меня наготове, – сказала Маша спокойно и по-прежнему деловито. – Ты лучше хренотой страдать переставай. А давай-ка начнём собеседование. Моя машина вон за углом стоит, в ней и проведём первичный осмотр, обговорим условия лечения. Для начала карту заполним, а там поглядим. Если госпитализация не требуется, я тебя домой отвезу.
– Какая ещё госпитализация? – всё также вяло и потухнув, пытался протестовать парень, но Маша, достав-таки тот самый электрошок из кармана, взяла несостоявшегося преступника за руку и повела в машину, которая и вправду оказалась неподалёку.
– Мария Алексеевна, – представилась она, сбросив свою ярко-жёлтую куртку и как-то вдруг изменившись. – Общаться будем строго на «вы». Я практикующий психолог, работаю в центре экспериментальной медицины и реабилитации. Лечение у нас анонимное, так что вы можете сказать лишь имя, да и то вымышленное. Карточка будет под номером, ваш – А90.
– Это ты чё, реально врач? – всё ещё не врубаясь в ситуацию, в которую влип, спросил парень.
– Я же сказала, общение строго на «вы», – мягко, но требовательно проговорила Мария. – Сильно он вас? – задала она странный вопрос.
– Кто? – выпучил глаза парень.
– Отец или отчим – кто ж ещё? – спокойно уточнила Мария Алексеевна.
– У меня ни отца, ни отчима. Меня дед растил, – грустно проговорил несостоявшийся насильник.
– Бабушка алкоголизмом страдала? – спросила Маша.
– Да, – роняя голову на грудь, ответил парень. – И сам дедушка тоже, – добавил он, не сдержав тяжелого вздоха. – Дед боевой был. Иногда бил её, а когда я заступался…
– Доставалось и вам, – закончила фразу Мария. – Так, случай совсем-совсем нетяжёлый! Как и сказала ранее, максимум десять сеансов, и в норме! Работаю, можно сказать, с гарантией. По окончании лечения окажу содействие в знакомстве с девушкой.
– И сейчас вы предложите мне заплатить кругленькую сумму за всю эту колбасню? – отчего-то озлобляясь, прорычал парень.
– Лечение бесплатное. Работаю в рамках губернаторской программы «Решим проблемы молодёжи». Мне повезло, сумела втиснуться, грант получить. А ведь там конкурс-то был ого-го какой! Но у меня один чиновничек должником был, – вновь неопределённо проговорила Маша, ненадолго замолчала и принялась измерять парню давление. – Так, а с бромидом-то калия я, похоже, поторопилась, – сказала она, когда пересчитала пульс пациента. – Давление-то у вас, как ни странно, пониженное. Значит так: вместо бромида калия в качестве поддерживающего средства выписываю вот этот препарат в дополнение к сильнодействующим лекарствам, – говорила она, заполняя бланки рецептов. – Все эти лекарства вам нужно будет принимать строго после еды с большим количеством воды, – объясняла Маша вконец размякшему насильнику. – Записываю вас на завтра. Вот адрес. Это сразу за МКАДом, по Белорусскому направлению. Но добираться недалеко совсем и даже удобно. Можно на электричке, а можно и на метро. Там ещё буквально четыре остановки на автобусе. Программа губернаторская, поэтому клиника наша в области локализована, а у мэрии свои программы, – зачем-то объясняла Мария Алексеевна. – Явиться вам нужно завтра в шестнадцать тридцать.
– А почём вы знаете, что я приду? – спросил парень, но бумажки, однако, взял и спрятал за пазуху.
– Куда ж вам деваться? Кто ж такой шанс упустит? – отвечала Мария Алексеевна совершенно буднично. – Риска для вас никакого. Я же вас не в психушку приглашаю. Войдя, увидите, что больница приличная, кабинет психолога. А нервишки-то шалящие, да гадость всякая в голове, небось, и самому надоели? Небось, и семью нормальную охота, может, и детишек? – говорила Маша, открывая окно и вновь закуривая. – Вы уж извините, что я врач, а дымлю, как паровоз. Очень уж работа нервная!
– Да я понимаю, – как-то совсем смирно проговорил пациент. – А это вам что ж, – начальство велит улицы по ночам патрулировать? – спросил он, уставившись вдруг в лицо Маши.
– Нет, сама это делаю, по собственной воле. Тоже, своего рода мания. В некотором смысле, тяга к риску, – усмехнулась Маша.
– И как же вы одна, не боитесь? Могут же и покалечить! – удивлялся недавний насильник.
– Когда начинала, то одна не ходила. Провожатые у меня были, целых четверо человек – однокурсники с мединститута, которые поодаль в машине прятались. Мы вместе дипломную писали, а потом и кандидатские стали писать на взаимосвязанную тематику. Понадобилась практика, решили попробовать. Но, по счастью, результат с самого начала получился удачный. Вот и втянулась я. Друзья-то по заграницам разъехались, а я в Москве осталась. Одна теперь практикую.
– По заграницам… – задумчиво произнес парень.
– Ну да. Мы методику разработали комплексную. Лечим буквально под ключ, подводим пациента к созданию нормальной семьи и гармоничному существованию. Ребят моих в элитные швейцарские клиники с руками оторвали. Да и меня тоже звали.
– Чего ж не поехали? – недоверчиво спросил парень.
– А у меня основная тема, можно сказать – дело всей жизни, связана с очень уж тонкой медицинской проблемой, которая на западе почти под запретом. Только у нас можно спокойно ею заниматься, – пояснила Маша.
– Не верю я, – вдруг оживившись, сказал недавний насильник, – что есть такое, чего на западе делать запрещено, а у нас можно!
– Есть кое-что, но долго объяснять. Да и неохота сейчас, – немного замкнувшись, проговорила Маша.
– А-а, понял, в чём ваш кайф. Понял, зачем вы занимаетесь этим! – почти вскричал парень. – Вы таким образом себя возвысить хотите над нами, мужиками! Вот, мол, какая я крутая, а они у меня все на ладошке! Захочу – прихлопну силой авторитета и медицинских способностей! Это у вас самоутверждение такое. Раскусил я вас! Мужчин-то, небось, презираете в душе?
– К мужчинам я очень трепетно отношусь, – сказала Мария. – да и в моей-то практике с вами, с мужиками, куда проще. А с девицами-девиантками – мороки полон рот! Все эти истерички, несостоявшиеся самоубийцы, глотательницы таблеток, глотательницы шпаг, – улыбнувшись, хмыкнула Маша, – столько с ними лишней волокиты, так долго приходится их к необходимости лечения подводить, что с вами, с мужичьём, я буквально отдыхаю! Вот вас хотя бы взять, молодой человек. Мороки с вами было – самый минимум. Вы почти трезвый были. Буквально через минуту профилактической беседы пошли на контакт, а через четверть часа осознали необходимость лечения. Нет, люблю я мужиков, – почти с удовольствием проговорила Мария, – у них деловой подход к жизни, – захлопнув крышку ноута, сообщила она. – Ладно, поздно уже. Хватит лишних разговоров. Назовите мне своё имя, ну, то есть придумайте какое-нибудь, чтоб я вас по нему знала, и хорош на сегодня, домой вас повезу.
– Да чего уж темнить. Настоящее имя скажу. Вадик Морозов меня зовут.
– Ну и отлично! Сразу и карту дополню, – сказала Маша, вновь быстренько включая ноутбук. – Вадим Морозов, значит. Возраст? Лет двадцать шесть, наверное?
– Как вы точно определили! – удивился Вадик. – Хотя мне позавчера двадцать семь исполнилось, – вдруг потухнув и втянув голову в плечи, проговорил Вадим.
– Ничего-ничего, не тушуйтесь! Следующие именины будете встречать в кругу семьи, по крайней мере, в компании супруги, – сказала Маша опять почти буднично. – Работаю я с гарантией, как уже говорила, подход у меня комплексный, да и пациенток же нужно куда-то девать? Я подбираю пары, совместимые по психологическим признакам, девиации которых допустимы и не критичны. Заодно и отслеживать бывших пациентов мне проще.
– Надо же, – с возникшим вдруг раздражением проговорил Вадик и пожал плечами. – Вы их чего же, насильно сватаете?
– Этого не требуется. У меня свои методики разработаны, – всё также буднично отвечала Мария. – Работаете, учитесь? – продолжала она щёлкать клавишами.
– Работаю, – грустно выдохнул Вадим. – На заводе металлоконструкций.
– А чего так кисло? Завод этих самых конструкций – реальный сектор производства! Гордиться надо! На благо экономического роста России стараетесь!
– Тоже верно, – улыбнулся, наконец, пациент.
– Ну всё, поехали. Куда везти-то? – спросила Маша, выруливая.
– Ташкентский переулок, дом девять, корпус два, – ответил Вадик.
– Эх, куда вас занесло-то этим вечером! До вашего дома через весь город тащиться!
– Так ведь я нарочно подальше ехал, не в своём же районе насиловать буду! Чего бы соседи подумали? – сказал Вадим.
– Логично, – согласилась Маша. – Вот аптека, как раз, вроде круглосуточная. Давайте-ка сбегайте, купите лекарства по рецептику, который я выписала. А я подожду. Только побыстрее. Вам сегодня вечером их принять бы желательно вместе с расслабляющей ванной.
– Ладно, я сейчас, – буркнул Вадик.
Вернувшись, Вадим с полминутки помедлил, но потом решительно сел в машину. Мария Алексеевна выехала на оживлённый проспект, и разговор как-то пресёкся, не возобновлялся. Странные попутчики двигались по засыпающему городу. Автомобилей вокруг становилось всё меньше, и обоим нашим знакомцам тоже хотелось спать, несмотря на пережитое волнение.
– Ну а всё-таки, – вдруг заговорил Вадик, – неужели вы всё это на чистом энтузиазме? Неужели, кроме губернаторского гранта, у вас нет денежного интереса в этом деле, и с пациентов вы ни копеечки не берёте?
– Нет, ну почему же? Иногда, если пациенты богатенькие, то могу и взять, – сухо отозвалась Мария Алексеевна, – но только после успешного результата, и если уж очень настойчиво предлагают. Вот, например, эта машина – подарок от отца одного пациентика… правда, он не уличный маньяк был, – проговорила Мария, не отрывая глаз от дороги.
– А ваша обычная практика, она-то вам зачем? – буквально всплеснул руками Вадик, сделав саркастическую ухмылку на слове «обычная». – Зачем вам ходить по ночам, в этой яркой курточке, рисковать, столько нервов тратить?
– Ну, понимаете, – задумавшись, произнесла Маша, – художник не может не писать, певец не может не петь, а я не могу не заниматься экспериментальной медициной. Призвание, наверное, – немного насмешливо, немного горько ответила ночная искательница обычных приключений… или не таких уж и обычных.
– Вот мы почти и приехали, – тихо сказал Вадик в повисшей вдруг тишине. – Мой дом вон тот, за небольшим сквериком. В нём всего один подъезд.
– Хорошо, до завтра, – также тихо проговорила Маша, подъезжая к самому подъезду.
– Ну, до завтра, так до завтра, – будто бы и не желая прощаться, выдохнул бедняга-насильник. – Непростая у вас работа, – сказал он, медля и не выходя из машины, – наверное, и личной жизнью пришлось пожертвовать из-за неё? Одной остаться пришлось?
– Да нет, замужем я, – ответила Маша. – Ребёнку одиннадцать лет.
– Надо же, вот дела! Я уж подумал, вы это вместо личной жизни…
– Работа есть работа, а с мужем я в шестнадцать лет познакомилась, когда стояла одна ночью на Краснолужском мосту.
– На мосту ночью? А чего вы там делали? – задавал свои дотошные вопросы Вадик.
– А догадайтесь, – ответила Мария, резко повернувшись к Вадиму.
– Мне только одно приходит в голову. Ничего больше, – горько выдохнул Вадик.
– Да, я готова была совершить то, о чём вы подумали… я была на грани, не хотела жить. Но, по счастью, той ночью на том мосту нашёлся человек, который отвёл меня от края и стал собирать меня по частям, чтобы отправить жить дальше. Потом прошло время, я взглянула на всё другими глазами и решила вылепить себя по его образу и подобию: поступила в медицинский, стала делать то, чего всегда делал он – искать тех, кто стоит на краю обрыва, и помогать им. Мало-помалу стала заражать этим и других, команду сколотила. Ну, я об этом вам уже рассказывала.
– А как же он сейчас-то вас отпускает одну в эти ваши рейды, на патрулирование ночных улиц? – спросил Вадик с тихой затаённой грустью. – Он жив? Он ещё с вами? – вдруг как-то вскинувшись и повернувшись всем корпусом к Марии Алексеевне, выплеснул очередной вопрос Вадим.
– Жив, слава богу! Ну что вы! – произнесла Мария. – Он давно бы уже запретил мне одной без него выходить на поиск пациентов в ночной город. Но дело в том, что когда он оперирует, когда у него сложная многочасовая операция, то я просто не могу сидеть спокойно: у меня возникает такая жажда действия, что – либо опять на мост бежать и гасить себя самоё, либо делать что-то отчаянное, по-настоящему рискованное.
– Он хирург?
– Нейрохирург. Нейрохирургией увлёкся. Снова учиться пошёл после того, как понял, что ему тесно в прежней специальности. И вот девять лет уже оперирует. Берёт, как правило, самые сложные случаи, часто с риском для себя. А в этот раз и вовсе решился на отчаянный риск, где шансов на успех процентов двадцать от силы. И если операция закончится неудачно, а это пророчат все в один голос, то не исключено, что и под суд может теперь отправиться. Я отговаривала его, другие его отговаривали, но он всё равно решился, – сказала Маша, и голос её чуть дрогнул. – А знаете, что стало последней каплей, которая заставила его решиться? – в абсолютной тишине, не нарушаемой, пожалуй, даже дыханием Вадима, проговорила Мария. – В его кабинет ворвалась мать пациента, стала на колени и со слезами вымолила эту безнадёжную операцию. И это оказалось для него достаточным поводом, чтоб рисковать всем и даже своей свободой, – сказала Мария, чуть приоткрыв окно, чтоб глотнуть свежего воздуха. – И как, скажите, ну как я могла бы просто сидеть дома в это время и не делать ничего такого, что хоть в какой-то сотой степени способно быть похоже на тот риск, на который идёт он? Он там по лезвию бритвы ходит, с самим богом спорит или с самим дьяволом, а я? Что я? Что я такое есть? Чего я стою? У него жажда, понимаете, жажда протянуть руку помощи тому, кому никто другой не возьмётся помочь. И когда жизнь свела меня с ним, я всегда хотела так же. Но чего я могу? Что в моих силах? – с какой-то странной насмешкой выдохнула Маша. – Вот потому я снова и снова решаюсь на эти сомнительные эксперименты. Выхожу в ночной город, выставляю напоказ свои сомнительные прелести и беру на себя риск прикоснуться к самой тяжкой боли, чужой боли, которую мне так хотелось бы излечить, наплевав на условности.
– Сомнительные прелести… – тихо проговорил Вадик. – Вы очень красивая, Маша. Я не видал таких женщин, как вы. Если бы я знал вас раньше, то я бы никогда… – Вадик осёкся, вдруг резко замолчав, поскольку в этот момент из подъезда вышел какой-то человек, ведя на поводке потрёпанную собачонку. Вадим побоялся быть услышанным через приоткрытое окно. Когда же хозяин собаки удалился в близлежащий скверик вместе со своей лохматой спутницей, Вадик заговорил опять, стараясь сдерживать волнение. – Но как же? Но как же так? – говорил он, не умея-таки справляться с тем подступившим волнением. – Вы открываете передо мной душу, вы общаетесь со мной как ни в чём не бывало, а ведь ещё час назад я готов был совершать против вас подлый, грязный поступок? – договорил Вадим и погас, тяжко.
– Я не судья никому, – резко и грубо, будто с обидой на кого-то, кого не было здесь и сейчас, ответила Мария Алексеевна. – Я не занимаюсь правосудием, я занимаюсь болью, – говорила она с той же яростной и тоскливой категоричностью. – И я ненавижу судей! – выпалила она ещё более жёстко. – Ненавижу, презираю всех, кто смеет судить: и добровольных судей по жизни, которые всегда мыслят категориями мести и всегда готовы осудить, но и тех, респектабельных, официальных, в мантиях. Между ними нет особой разницы, – горько вздохнула Маша. – Хотя респектабельные, успокоенные своим положением и уверенные в допустимости отнять у кого-то свободу, они, пожалуй, хуже и опаснее для настоящего согласия в обществе, – проговорила странную и спорную вещь Мария Алексеевна. – Я видела это вблизи. Это циничное желание карать, вершить власть, посадить человека в клетку. И меня тошнит от этого больше, чем от зрелища любых злодеяний, – со всей желчью, которая есть у человека, говорила Маша, и голос её дрожал. – Пусть будет проклят, жестоко проклят на всю жизнь и на всю вечность тот, кто допускает для себя возможность такой мести – лишить другого свободы, посадить его в клетку, пусть даже в отместку за самые подлые деяния. Я категорический противник тюрем! – также убеждённо, твёрдо и даже зачем-то именуя себя в мужском роде, заявила Мария. – Тюрьмы – это самое подлое и самое вредное изобретение человечества. Они призваны лишь поддерживать в кровоточащем состоянии те очаги боли, которые необходимо гасить. И если ты перенёс страдание, то должен был научиться чему-то. А месть – это самая мелкая дешёвка, которую только можно изобрести. Месть – это самая жалкая, самая ненужная вещь, даже если её пытаются оформить в виде справедливого отмщения. Если человек страдал, то он должен был чему-то научиться, чему-то важному. А страдание без сострадания – это пустая игра. Она не интересна, она банальна и пресна.
Мария Алексеевна замолчала, вглядываясь в окна массивного бетонного дома, в каждом из которых тянулась линия какого-то сюжета: порой затейливого и странного, порой банального и будничного, а Вадим хотел сказать ей чего-то ещё, подыскивая внутри себя нужные слова, пытаясь слепить из них что-то, конструкции какие-то, но из этого не получалось ничего, ровным счётом ничего. В конце концов, он додумался лишь до того, чтоб начать извиняться и произносить какие-то совершенно ненужные вещи, слушать которые Маша смогла не больше минуты, после которой прервала его, но заговорила вдруг невпопад и очень странно.
– Вот вы спрашивали: могу ли я поставить себя выше мужчины? – произнесла она, скомкав пачку сигарет и запихивая её поглубже в сумочку, чтоб не закурить опять. – Мужчина – это такой удивительный зверь, – говорила она, но опять обращалась, как видно, не к своему ночному пациенту, а к кому-то ещё, с кем однажды вела диалог, но, быть может, не довела его до конца, не высказала что-то главное. – И он очень тонко устроен! – совсем забывшись, продолжала Маша. – Пока я не познакомилась с ним, я думала, что мужчина, по существу, ничем особым от женщины не отличается. Разве что он грубее, проще, живёт инстинктами, подчиняется простым рефлексам. И всё-то у него на поверхности, всё неглубоко, всё ясненько. А оказалось всё иначе. Он сложный, трудный, ёмкий. И главное, я не думала, что мужчина может быть так тонко устроен, настолько тонко! Он такой, что за ним всегда хочется всё повторить и следовать за ним, куда бы он не двинулся. Он открытый, добрый, не боится людей, – всё более забываясь и с каким-то радостным подъёмом говорила Маша. – Знаете, пока не встретила его, я очень боялась людей, особенно женщин: их глубокого внутреннего недоверия, их усмешек, их осуждения и сплетен, их бойкотов, их желания побольнее уязвить. А он научил меня выходить за флажки и отпускать ситуацию. Не заниматься пафосной наукой прощения, а просто отпускать и идти дальше. Причём не бросать общение, не отказываться от человека, а перешагивать через всё говно и идти дальше. Я долго училась этому, но всё-таки сумела научиться, глядя на него. У него есть редкое качество – он не занимается накоплением обид. Этот накопительный счёт совершенно пуст в его банке. И когда я спросила себя однажды: «А хотела бы ты родиться мужчиной в следующий раз? – то в конце концов ответила отрицательно. Ведь быть настоящим мужчиной я бы, пожалуй, не смогла. Это так трудно. А если жить не в полную силу, зачем тогда затеваться?».
Когда Маша выдала в темноту эти откровения и когда Вадик услыхал их, то у него проступили слёзы. Вадик почувствовал боль. Такую резкую, острую боль во всём своём существе. А ещё зависть, огромную, тяжкую, как камень на шее. Вадим резко открыл дверь и столь же резко бросился вон, к двери своего унылого дома.
Маша опомнилась вдруг и поняла, что совершила ошибку. Жестокую ошибку, чего раньше себе не позволяла. Маша поняла, что отвлеклась в какой-то момент и утратила нить этого вечера, будто вернувшись к двери операционной, где её любимый человек должен был провести полдня, весь вечер, захватив начало этой ночи, а может, и весь остаток этой странной, тяжёлой, тревожной ночи. Маша поняла, что не смогла справиться с волнением, которое так хотела заглушить. И Маше сделалось очень скверно.
Вадик ворвался в своё захламлённое жилище и, едва избавившись от уличной одежды, кинулся в ванную, к умывальнику. Открыв воду, он принялся смывать слёзы со своего потерянного лица. Он очень хотел смыть и весь этот вечер, и всю эту ночь, и всю ту жизнь, что текла прежде. Но затея не клеилась, причём никак не клеилась, катастрофически.
Вадик неуклюже вытер лицо, сел на кровати: он не зажёг свет, он плакал как ребёнок, вспоминая давние детские обиды, которые так дорого обошлись его душе. Вадик плакал и проклинал своего деда-воспитателя, сломавшего детство и психику своему несчастному воспитаннику. Вадик не мог не проклинать и других мерзостных, по-настоящему подлых тварей, глумившихся над его жизнью, над его тонкой и хрупкой душой. Вадик проклинал и себя, бесконечно и жестоко, ненавидел себя, и хотел сейчас одного, только одного… В Москве много мостов… далеко-то ходить не надо.
Вадик понимал, что ни за что, ни в коем случае не пойдёт завтра на приём к Марии Алексеевне, поскольку не сможет опять предстать перед нею таким, каков он есть. Вадик теперь хотел одного. Только одного…
Вадик принялся надевать уличную одежду, но горько усмехнулся вдруг: «А зачем мне она теперь нужна?» Вадик лишь на минуту зашёл на кухню, чтоб выпить воды. Холодной воды из пластиковой бутылки. Но вот он мельком взглянул в окно и увидал, что автомобиль, на котором он приехал сюда с места своего несостоявшегося преступления, по-прежнему стоял у подъезда, никуда так и не уехав. А рядом с машиной, ссутулившись, маячила Мария Алексеевна.
Вадим ничего не смог поделать с собой. Он очень хотел удержаться, но он не смог. Он подошёл к окну. Он сделал это против своего желания, подчиняясь лишь зову внутреннего голоса, изломанного и тонкого.
Было темно. Вадик не включал света. Однако Маша тут же нашла его глазами. Она очень хотела этого, и она нашла его.
– Вадим, открой окно! – закричала она, не смущаясь ничем, даже тем, что может разбудить полдома, который давно залёг спать. – Вадим, пожалуйста, открой окно, – кричала она, но не властно, не требовательно, не методично. Нет, это была мольба.
Вадим опять ничего не смог поделать с собой. Он хотел отойти от окна – вглубь, в темноту, но повинуясь тайному, другому желанию, он открыл одну створку, пустив в своё тёмное жилище сырой ноябрьский воздух и звуки голоса Марии Алексеевны.
– Вадик, прости меня! – прокричала Маша с нотками такого отчаяния в голосе, будто и в самом деле безумно хотела выпросить прощения за дурной поступок. – Прости меня, Вадик! – всё также громко, не обращая внимания на огни, начавшие зажигаться в окнах, и на чьё-то недовольное ворчание из этих окон, умоляла Маша. Но Вадик молчал, лишь глотая свои нелепые слёзы. – Это была очень грубая ошибка, моя грубая ошибка! Я забылась, дала волю чувствам, начав изливать перед тобой душу! – не унимая своих эмоций, кричала Мария Алексеевна. – Но зато мы теперь равны с тобой, понимаешь – равны! Я не лучше тебя, ты не хуже меня! Мы одинаковы, мы в одной связке. И нам надо теперь вместе выходить из этой ситуации. Если ты не придёшь завтра, то мне будет очень тяжело. Я даже не могу сказать, насколько тяжело. Это будет крах, катастрофа. Я не могу тебя отпустить. Ты не должен просто так уйти. Я слишком хорошо знаю, что происходит сейчас с тобой, слишком хорошо. Мне было знакомо всё это. Ты должен прийти завтра, хотя бы ради меня. Самое страшное – совершить ошибку, которую невозможно исправить.
Когда прошло время, много времени, лет десять, наверное, Мария Алексеевна холодными вечерами всё также слонялась по тёмным закоулкам неблагополучных районов этого огромного беспокойного города: по окраинам, по мостам, перекинутым над Яузой и Москвой-рекой. Мария Алексеевна была уже не в той форме, что прежде. Возраст брал своё. На Машу всё реже бросались молодые маньяки, чаще её пациентами становились неумелые самоубийцы, вцепившиеся в перила моста. Но Маша больше не ходила одна. С нею, как и в самые первые годы, было четверо человек: её подросший сын, её муж и Вадим Николаевич Морозов с женой. Такая вот свита важной дамы. Забавная свита.
Полуповорот головы
Племя готовилось к бою. Наутро племени предстоял тяжёлый бой. И все женщины этого племени, воевавшие, как водится, наравне с мужчинами, заостряли стрелы, чтоб поддерживать с флангов передовую ватагу воинов, несущих острые копья над головами.
Одна только Пилинея не заботилась о тетиве, о стрелах, и не точила копий. Она сочиняла новый танец, который должна была показать племени вечером, у костра, в самый канун боя. Пилинея была на особом счету, ведь её танец уже давно стал подобен обряду, происходившему после ритуала, совершаемого старшим шаманом. Пилинея жила ради этих вечеров. Она дарила своё искусство родному и любимому племени.
Танец был всякий раз новым. Пилинея слушала движение ветвей, едва колышимых ветром, всем телом ощущала колебание воды в ручье, окунаясь в него, как в сон, проходила между шалашами соплеменников, всматривалась в дымы, ловила короткие взгляды и, затаив поющую душу, внимала оттенкам звуков и движений, чтоб собрать это всё воедино, украсить сюжет своей любовью, наполнявшей Пилинею изнутри, и отдать племени, вылить на его головы, будто тёплую влагу летнего дождя, что дарит возможность плодородия, как саму жизнь.
А сейчас Пилинея удалилась на заветную поляну, прикрыла глаза и, постояв несколько времени, будучи совсем неподвижной, начала сочинять новый танец. Пилинея погружалась в картину появляющихся движений, как в таинственную темноту, но выходила из неё, неся на руках свет, что должен быть подарен любимому племени. Пилинея придумывала новую тонкость небанальных движений, будто изобретала новые слова, способные приоткрыть людям новое счастье. Пилинея забывала себя, она растворялась в танце, как в самой возможности любви. Но Пилинея лишь намечала те движения, что могли проявиться единожды, в момент дарения танца родному племени.
Но в этот раз Пилинея чувствовала, что танец не имеет единой струны, что он красив, но в нем не хватает какой-то детали, быть может, совсем невеликой, но необыкновенно тонкой и приметной.
Тогда Пилинея решила рискнуть. И хотя уже совсем было ушла, но, подумав, всё же вернулась на поляну и принялась снова намечать движения, сочиненные ею только что. Пилинея никогда не делала повторений, она и репетировать старалась лишь единожды. Но завтра была война, и танец должен был стать вкладом Пилении в общую победу.
Пилинея вспоминала движения, обозначала их, закрепляла в памяти, но все они были теми же, а того недостающего движения, которое Пилинея угадала душой, но не выразила пока собственным телом, так и не проявлялось, не приходило. И лишь в самом последнем такте, в картине завершающей фигуры, являвшейся прощанием, вернее, пожеланием доброго времени, Пилинея нашла то движенье. Она увидала его, будто яркий драгоценный камешек на самой дороге, словно угадала что-то удивительно неожиданное.
Это был полуповорот головы. Тихий, краткий и очень искренний. Он завершал последнюю фазу танца. И в этом полуповороте было много мысли, солнца, и самого огня.
И Пилинея ушла из своего святилища, покинула его и принялась взволнованно ждать вечера. Когда же он наступил, когда окончилось шаманское камлание, когда все ритуалы были завершены, и даже молодёжь, прошедшая обряд инициации, пришла в себя и немного успокоилась, все снова расселились вокруг костров, в центре которых, на ровной площадке, покрытой мелкими лепестками термопсиса, начался танец.
Пилинея вышла в круг, расправила руки и саму душу, в последний раз глянула за цепь костров, увидав яркие блики в глазах людей, и, взяв серебряный колокольчик, стала творить танец. Он был поначалу тихим и ласковым, как слова неопытных возлюбленных, даже робким и несмелым. Но кружение развевалось будто ветер. Руки открывали новые мысли. Руки жили всё более ярко и яростно. Руки были сама любовь, руки были море, руки были воздух, руки были солнце.
Танец возвышался, танец уходил к небу, танец раздавался вширь. Пилинея не собиралась себя беречь. Она отдавала всю кровь, и всю жизнь, и всю невозможность. Пилинея дарила себя по капле и всю целиком, она отдавала свою любовь каждому, не зная возможности счета, но сделав ровное количество ясных движений по числу соплеменников.
А племя, будто восторженный ребёнок, замерло в упоении и дышало в такт немыслимой красоте повторяющихся мгновений танца. И у каждого человека были слёзы на смуглом лице, и каждое лицо было подобно зеркалу, отражающему свет костров, горящих в танце, как цепочка огней вокруг священного круга.
Но вдруг танец закончился. Пилинея вспомнила, что она человек, а чудо танца вновь ушло в свою отдельную жизнь, зазвучало над кострами. А ей самой нужно идти к реке, чтоб пить и пить, восполняя возможность новых движений, как течения вечной воды.
Но лишь отойдя от костров, лишь только укрывшись в темноту, Пилинея вздрогнула. Её будто молнией поразило воспоминание. Она вспомнила, что забыла сделать то самое движение, которое должно было сказать племени о главном. Пилинея упала на землю и стала прислушиваться к остаткам движений танца, которые всё ещё помнила земля. И Пилинея услышала всё, кроме того движения. Его не было. Пилинея забыла его. Она не сделала того полуповорота головы, который обязана была сделать, который явился ей на священной поляне.
Тогда Пилинея бросилась обратно. Она хотела повторить свой танец, хотела вернуть всё вспять, усадить племя, рассказать ему танцем то, что было известно ей. Но костры были уже потушены, а племя разошлось по шалашам, укладываясь на покой перед тяжким боем.
И Пилинея была вне себя! Она проклинала себя. Она готова была рвать волосы в исступленье. Она то билась в рыданиях, то впадала в оцепенение, не будучи способной уснуть. А под утро она ушла к берегу своей реки и всё бродила, будто сомнамбула, теряя возможность покоя.
Когда рассвело, было тревожно и сыро. Туман лёг на охладившуюся вдруг землю, и его клочья, как сама тревога, липли к ветвям деревьев, пожелтевшим за одну ночь. Племя двинулось в бой. Племя ушло на войну. Племя очертило головы, наполняясь решимостью и яростью.
А на исходе утра, когда последний человек ушёл вслед за войском, Пилинея не сумела совладать с собой и утопилась в реке. Она не простила себе того забытого полуповорота головы. Он был слишком необходим. Он слишком дорого стоил.
Племя ещё не знало ничего, но Пилинея знала. Она чувствовала. И она не простила себе.
Полуповорот головы.
Доверчивая смерть
В одной из земель, где царили покой и гармония, а на деревьях поспевали прозрачные плоды, истекающие медовым соком, жила смерть.
Смерть была доброй и справедливой. Она караулила беззакония и подлость. Стоило только им появиться, как тут же виднелось блестящее острие косы и доносился хруст беззаконных костей.
Смерть была неутомимой и добросовестной, оттого подлости в тех землях почти не оставалось. Разве только память о ней, что хранилась в одном из мешков, которые таскала за собой смерть. Наполнен он был всеми подлостями: грязью, черепами и скелетами. В другом мешке смерть таскала набор инструментов, к которым вынуждена была прибегать. Но страшные щипцы, удавки, топоры и вилы угрожали лишь тем, кто сворачивал с пути и отдавался подлой волне.
Временами лицо смерти бывало красивым. И когда подходила к одному из тех, кто достойно пронёс свой кубок по жизни, не смешав его содержимое с грязью, смерть откидывала капюшон, печально улыбалась и уводила его с собой к берегу Леты, не тревожа инструментов и кос.
Но случилось так, что каким-то людям из числа живущих в той земле не понравился тихий нрав смерти. И почудилось им, будто смерть нарочно стремится погрузить людей в благоденствие и покой, чтоб навеять скуку и умертвить всех разом, не гоняясь за каждым в отдельности. И тогда решили они проучить смерть, подразнить её, а заодно и разбудить в ней буйную страсть, что дремала где-то, в загадочной глубине.
И вот, когда смерть, сгибаясь под тяжкой ношей своих мешков, спускалась с холма, готовясь войти в город, кто-то протянул канат перед её ногами. Споткнувшись, смерть покатилась с горы. Черепа и скелеты, что покоились в мешке, обрушились на город каменным дождём, и у каждого порога оказались чьи-то старые, пожелтевшие от времени кости. И было б это с полбеды, коль смогла бы смерть удержать в руках свои страшные инструменты. Но и они полетели с горы со страшным грохотом, попадая в случайные руки горячих юнцов.
Едва ли не каждый из горожан тихо вскрикнул, увидав скелетные кости подлости, но, растерявшись, не нашел ничего лучшего, чем упрятать с глаз долой скелеты в платяные шкафы, выбросив из них одежду.
С тех пор поселился страх во всяком, кто владел старым скелетом, ведь не умея открыться близким и родным, чтоб рассказать всю нелепость беды и срама, он лишь тихо страдал. А детские души тех близких, которые по злой оказии не ведали причин появления скелетов в шкафах, разъедала чёрная тоска. И лишь гадая о происхождении костей, они никак не могли найти ответа. Они готовы были грешить на родного человека, который боязливо молчал, готовы были обвинять его в чьей-то безвременной и страшной гибели, той, что будто бы стала причиной появлении таинственной находки. Но и они молчали до поры. Молчали все, храня никем не оговоренный обет, заперев шкафы и не желая тревожить злополучные кости.
Но выискались те желторотые юнцы, которые с неверностью дурной спешки повзрослели до срока и сумели взять в заложники обезоруженную смерть. Они, напоённые властью топоров, догадывались обо всем. Но и они молчали, удерживая смерть под дурной своей властью. И смерть, подчиняясь им, всё чаще уводила к берегам последней реки достойных и светлых.
И чем больше проходило времени, тем яростнее становилась волна беззакония и подлости. И ветер, дувший с мёртвой реки, набирал ураганную силу.
А люди всё молчали, не смея говорить друг с другом о скелетах, что хранились на месте старых платьев. И даже плоды в садах, что прежде наливались медовым соком, казалось, наполнены были теперь неутолимым ядом подозрения, тревоги и вины. Не зная за собой греха, все чувствовали его присутствие и боялись раскрыть перед ближними свои сердца, чтоб не потревожить любимых, да и самим не узнать страшной правды.
И сердце смерти сжималось, когда она глядела на беззакония и подлости, что вершились теперь её руками, ведь всё то, с чем прежде боролась смерть, стало её ремеслом и обязанностью.
Но однажды, когда ураган достиг страшной силы, а столпы тёмной пыли застили глаза тюремщикам, владевшим смертью, она улучила момент и, выхватив один из топоров, побежала в город, разя тюремщиков и разрывая криком густую темноту. Смерти было много. Смерть была повсюду. Её буйная страсть, что дремала где-то в глубине, оказалась разбуженной. В порыве ярости смерть разила каждого, кто попадался ей на пути, не разбирая лиц.
А когда тёмный прах осел и ветер утих, прекратившись, и когда утро обнажило страшное дело смерти, дикий вой раздался над городом и над всею той землей. Это смерть терзала себя, не в силах справиться с болью от свершившейся несправедливости.
Но, терзаясь и бранясь, смерть раскрыла, наконец, глаза людям, распахнув створки старых дверей и начав собирать в огромные мешки то, что причиталось ей. Смерть устыдила людей, что убили доверие в своих сердцах, умолчав о скелетах.
И все отпрянули друг от друга, не в силах поверить, что в душе близкого человека жило тёмное подозрение. Дочери заплакали навзрыд, узнав мысли отцов, матери зарыдали, услыхав подозрения сыновей. И никто не мог понять: откуда появилось столько греха, что сетью окутал землю? И никто не мог смыть его прах со своих тел.
Но даже узнав обо всём и открывшись друг перед другом, люди никак не могли простить греха, что стоял над городом, как запах старой могилы. Было слишком поздно. Прощение заблудилось где-то по дороге и никак не приходило к людям, оставляя их со старыми обидами и слезами.
А смерть, взвалив на спину мешок с подлостью, грязью, черепами и скелетами, теперь всегда наготове держала свои страшные инструменты. Смерть стала недоверчивой и скрытной, и лицо её уже не бывало красивым даже тогда, когда она приходила за теми, кто пронёс вой кубок через всю жизнь. Ведь слишком большой редкостью сделался тот, кто не смешал его содержимое с грязью и не побоялся раскрыть своё сердце, когда платой за откровенность была смерть.
Разорвать замкнутый круг
Островерхая крыша загородного дома, похожего на готический собор, проявлялась из густого утреннего тумана всё больше и больше. А когда совсем рассвело, стали видны окна с матовыми огоньками и крыльцо, на котором, скучая, покуривали двое человек – хозяин дома и его друг. Полной ясности, однако, не наступало. Сигаретный дым в стоячем сыром воздухе не спешил растворяться и улетучиваться, а сгущался вокруг курильщиков и стлался по земле.
Хозяин дома был не в духе. Он с ненавистью глядел на сигарету и каждую затяжку делал через силу, как будто его заставляли заниматься этим. Между тем, он собирался на рыбалку, иначе зачем бы ему надо было надевать на себя прорезиненный камуфляжный костюм и брать удилища? Друг его экипирован был точно так же, но курил совсем с другим настроением: имея вид мечтательный и задумчивый, он получал удовольствие от каждого глотка сигаретного дыма, который выпускал из себя кольцами, догоняющими друг друга в неподвижном воздухе, похожими на нули чьего-то огромного состояния.
– Ты знаешь, Колян, – заговорил друг, блаженно улыбаясь и глядя на густые нули, – у меня сейчас такое чувство, что мы с тобой уже когда-то здесь стояли. Точно в такой же день, также курили и собирались на Десну.
– У тебя тоже? – удивился хозяин. – Я уж думал меня одного эта гадость мучает! Не могу отделаться от навязчивой мысли, что все это во второй раз, или даже не во второй, а в третий, пятый, десятый. Как по кругу бегу и всё повторяется, словно замкнутый круг!
– У меня так и раньше бывало. Иногда на работе, в офисе, а иногда дома: вот вчера, Лариса только голову ко мне повернула, а я уже знал, что она скажет. И даже как скажет, с какой интонацией! Знал даже, что телефон зазвонит, не дав ей закончить, – снова с улыбкой проговорил друг.
– Да чего там, – ответил Николай с остервенением, – я вот, например, знаю, что ровно через минуту проснётся домработница, и сразу же разобьет китайский кувшин, который так обожает моя Ольга.
Несколько секунд над домом стояла тишина. Потом послышался шум бьющейся посуды, сопровождаемый испуганным женским криком.
– Накаркал, – с усмешкой ответил друг. – Иди успокаивай!
– Да ну её, – буркнул Николай. – Пускай осколки спрячет, сделаю вид что не заметил, – устало выдохнул он, играя в великодушие.
– А все-таки здорово, что бывают такие моменты, как нынешний. Живешь как по заданной программе, – всё с той же странной радостью говорил Денис. – Я, в такое время, даже смерти не боюсь, потому что есть надежда, что опять так же вот жить придётся. И опять кувшин разобьется, и мы с тобой на Десну поедем…
– А знаешь, Денис, – ответил Николай, делая ударение на первый слог имени друга, – поехать-то мы с тобой поедем, да вот только не доедем, ни хрена.
– Куда же мы денемся? – ухмыльнулся друг.
– У меня такое чувство, что сегодня на дороге… – заговорил хозяин особняка, но его прервала вбежавшая на террасу заплаканная домработница.
– Николай Степаныч, я не нарочно, я спросонья, – лепетала она жалким голосом.
– Всё слышал, всё понимаю. Успокойся. Как-нибудь переживём. Главное, следы не оставляй, чтобы Ольга не заметила, – сказал Николай, всё также устало.
Домработница ушла. Разговор сам собой пресёкся. Друзья по-прежнему курили. Дым всё так же клубился. Утро застыло на полдороге, и туман, начавший было рассеиваться, оставался в воздухе, спустившись чуть ниже готической крыши.
– А мне цыганка предсказала, что я восемьдесят два года проживу, – вдруг ни с того ни с сего, заговорил Денис. – А ты в предсказания веришь?
– Нет, не верю. Я итак всё про свою жизнь знаю, какие мне предсказания еще нужны? – с прежней апатией отвечал Николай.
– Ну и чего ты такого знаешь? Сколько тебе жить осталось, знаешь? – с интересом спросил Денис.
– Точно не знаю, но примерно могу сказать. А вот отчего умру, знаю точно, – с твёрдой убеждённостью проговорил Коля.
– Ну и отчего же?
– Да от этой вот дряни, – ответил Николай выдохнув сигаретный дым. – Рак лёгких у меня будет, или чего-нибудь в этом духе. От этого лапти и откину.
– Зачем же ты куришь, тогда, раз тебе так хорошо всё известно? – снова удивляясь, спросил Дэн.
– Не могу я не курить. Всё предопределено заранее, говорю же тебе! Как по замкнутому кругу бегу, и нет сил вырваться, – выпалил Колян.
– Ну ты даёшь!
– Мне, и помимо курения, со многими вещами хотелось бы распрощаться, а не могу. Предопределение!
– Какой-то ты не такой сегодня, – сказал Денис, вдруг потухнув. – Настроение у тебя не то совсем, не для рыбалки.
– Это уж точно, – ответил Николай, обречённо.
– Да чего ты зацикливаешься на своих предвидениях и предопределениях? Я вот живу безо всей этой рефлексии, и ничего.
– Так мне о себе такие вещи известны, что тебе и не снились! – с неожиданно возникшей горячностью, и даже каким-то огоньком в глазах, сказал Николай.
– И чего уж тебе такого известно? – спросил Денис, отбросив, наконец, сигарету. – Какие такие страсти тебя ожидают, что ты вдруг раскис, со страшной силой?
– Ожидает меня много чего поганого, – проговорил Колян, с тупой болью. – Но и в прошлом со мной кое-что такое происходило, чего скрывать придется, – произнёс он, заостряя свою затаённую боль.
– Да ладно тебе! У каждого свой скелет в шкафу, – выдал стандартную, для таких случаев, фразу Дэн.
– У каждого разный, – заметил Колян. – У тебя, небось, в шкафу хранится скелет лягушки, которую ты в детстве дрессировал на пляже, и до смерти замучил, а потом простить себе не мог. Знаю я твой характер! – хмыкнул прозорливый товарищ, – У меня кое-что посерьёзнее хранится, – тяжело вздохнул он. – Как, думаешь, что за таланты такие помогли мне бизнес-то сколотить в девяностых? Тогда ведь в белых перчатках никто не работал. Иногда вспомню, и бежать хочется от себя самого!
– Ах, вот зачем ты завод продал, и всё с нуля начинать стал… чтобы от этого освободиться? – проговорил Денис на полтона ниже, будто для себя самого.
– Да. Только зря всё это, зря! – опять тяжело вздохнув, сказал Николай. – От себя не убежишь, – также скорбно добавил он. – Делаю я это всё, организую, а в мозгу одна только мысль: «это всё уже было». Я и тебя-то взял только для того, чтобы новыми людьми себя окружить. Мы ведь с тобой в школе почти не общались. Какая может быть дружба, когда у нас восемь лет разницы? Только что жили по соседству. Я даже не думал, что мы так сойдемся: всё характер твой, с кем хочешь поладишь.
– Не верю я, что ты своей жизнью недоволен. Тем более менял ты её несколько раз на корню, – вновь заговорил Денис, в самом деле пребывая в сомнении. – Какое может быть роковое предопределение, если ты чего хочешь, того и добиваешься? Да и какие у тебя уж там грехи в девяностых были! Другие вообще такое творили… и то ничего! – резонно заметил Дэн, и потом добавил, – а семья твоя, дочь, жена. Всё у тебя по-человечески!
– С женой по месяцу не разговариваем. Дочь – шалава и наркоманка. Пробу поставить негде! – выпалил горькую правду Колян.
– Ничего-ничего, это переходный возраст у неё. Подожди, вот пройдёт немного времени…
– Какой ещё переходный возраст? Девятнадцать лет бабе! У её матери, в это время, уже дочь была, годовалая, – сказал Николай и зло сплюнул. – Эх, в семье у меня тоже самое, что и во всей остальной жизни. Замкнутый круг. Знаю, что всё делаю неправильно, знаю, что уже который раз бегу по этой же дорожке, но всё равно, как по инерции, заворачиваю в те же закоулки, делаю те же ошибки, как будто сплю и проснуться не могу…
Николай замолчал на полуслове. Лицо его стало красным, будто он и впрямь долго бежал, но наконец остановился. Ноздри его раздулись, и желваки ходили, как у разъяренного борца.
– А иногда хочется оборвать всё это, и заново, заново всё, только уже без ошибок. Прожить, наконец, как дело сделать, чтобы уж в последний раз. Может тогда отпустят меня! А то, веришь, надоело! Который уже раз живу, кажется, а всё одно и тоже повторяется. Не могу я изменить ход вещей, а надоело всё, до зеленых чертей! – повернувшись лицом к Дэну и глядя ему в самые глаза, хрипел Коля.
– Да-а, не знал я, что ты так глубоко себя закапываешь, философ прямо! – сказал Денис, чтобы что-то сказать. – Тебя, случайно, не Аристотель Платонович Бердяев зовут? – зачем-то вставил он шутливый вопрос, хотя сам внутренне поёжился. – Может быть, ты и прав, – немного помолчав добавил он, – но я бы не отказался разок-другой прожить точно так же, как живётся сейчас.
– Каждый баран за свою ногу будет подвешен, – неопределённо проговорил Николай.
– Не знаю я, кто за что подвешен, но только не вижу ничего ужасного, что нам с тобой ещё раз придется прожить вот это утро, а потом этот день. Тем более Новый год скоро.
– Наступит Новый год, а там мой день рождения. Мне исполнится тридцать девять, – с новой обречённостью и густеющей тоской говорил Николай Степанович. – А в тридцать девять я узнаю свой страшный диагноз, и как крыса начну трястись за эту жизнь, которая ничего не стоит. А потом побегу по врачам, разбазаривая огромные деньги впустую, вместо того, чтобы потратить их на какое-нибудь дело! – прорычал Николай, и глаза его сделались безумными.
– Да чего такое с тобой творится сегодня? – испуганно проговорил Денис. – С чего ты взял, что всё это действительно правда? Может, тебе только кажется. А вот отдохнешь на природе, расслабишься, выпьешь, в конце концов, настроение твоё изменится, и забудешь ты всю свою дребедень, или уж по крайней мере, станешь относиться к ней с юмором?
– Хотел бы, да не получается! Как через стекло вижу, что со мной произойдет, до мельчайших деталей…
Туман над домом наконец рассеялся, вместе с ним куда-то подевалось сизое сигаретное облако. Солнце, запоздало и тускло, совсем по-зимнему осветило террасу, и Денису вдруг стало заметно, как сильно постарело лицо его друга за это утро, как проявились бывшие ещё вчера незаметными морщинки у глаз, и даже седина, в аккуратно постриженных височках, стала заметнее.
– Нет! Хватит философию разводить! Поехали! Пора тебе развеять свою тоску! – сказал Денис, решительно. – Где там шофер? Спит, как суслик! Десятый час уже пошел! – нарочно громко проорал Дэн.
– Сам поведу, – сказал Николай, не вставая, однако, с места.
– Поведёшь, значит поехали, – сказал Денис и взял рыбацкие снасти Николая.
В это время вышла домработница.
– Николай Степаныч, обедать сегодня во сколько будете? – сдавленным голосом спросила девушка.
– Мы теперь дня два не появимся, – ответил было Денис, но Николай почему-то горько взглянул на него.
– Может, через пару часов вернёмся уже, – ответил хозяин особняка и своей тоски-печали, захлопнув дверь машины.
За рулём оказался Денис, нарочно первым занявший это место, чтобы не подвергать опасности себя и друга, который разошёлся не на шутку, и вести машину сейчас, пожалуй, не смог бы.
– Вот мы сейчас с тобой на рыбалочку, потом в лес, – как ребёнка уговаривал друга Денис, – а там грибочки.
– Какие грибочки? Ноябрь месяц, – пресно отозвался Николай.
– Так ведь тепло же. Снега нет. Может ещё будут? Устанешь, как собака, потом отоспишься, а уж потом домой, к Оленьке, под бочок, – с видом заговорщика, подмигнул Денис.
– Мы, с Оленькой, как кошка с собакой существуем! Под какой бочок? Целый год уже не спали вместе. Я даже завещание составил, по которому весь мой бизнес тебе остаётся. Просто говорить не хотел, чтобы заранее не радовать. А то бывало, как представлю, что этой корове всё достанется и прахом пойдет…
После произнесённых Николаем слов, в салоне автомобиля повисла тишина. Николай молчал, впав в свою ипохондрию, которая снова пришла на смену тревожному возбуждению, а Денис не знал, как реагировать на то, что услышал. Подумав, он решил никак не проявлять своё отношение к словам друга, подозревая, что это может оказаться шуткой.
– Ну, ничего страшного, чего-нибудь другое придумаем! Свет не без добрых людей, найдем у кого погреться, – заговорил Денис вновь, продолжая свою мысль и делая вид, что не слышал последние слова Николая.
– Надоело всё, – флегматично проговорил Николай. – Надоели эти девки. Я их бессмысленные рожи видеть не могу!
– На рожи можешь и не смотреть, – нейтрально отозвался Денис. – Ну, впрочем, как хочешь. Но отдохнуть ты у меня, все равно, отдохнешь.
– Не знаю, не знаю, – с каким-то злорадным ехидством пожал плечами Николай.
– Ну, чего ты опять придумал? Чего твое предвидение ещё намололо? – начиная и вправду уставать от колиного нытья, спросил Дэн.
– Я голову даю на отсечение, что мы через несколько километров попадём в аварию. Машина в лепёшку, а у нас даже царапин не останется. Зато пока обратно, домой добираться будем, на нас нападут…
– Хватит, хватит тоску нагонять! Так я и думал, что ты по новой начнешь придумывать свои страсти. Ничего такого не будет! – сказал Денис, но внутри почувствовал холодок.
– Вот увидишь, будет! Могу поспорить, что именно так всё и случится. А я не могу умереть ни от чего другого, кроме рака легких, – снова выдал своё пророчество Николай Горе-Степанович.
– Да бред это всё, – чуть не плача говорил Денис. – Я могу поспорить, что это бред! И ни от какого рака ты не умрешь, и ни в какую аварию мы не попадём, пока я за рулем. Дорога пустая, да и к тому же мы почти приехали уже. Километров пять осталось до нашего места.
– Не веришь? – отчаянно и глухо, спросил Николай.
– Нет, конечно, – неуверенно и теряясь, ответил Денис.
– А хочешь я докажу тебе, что прав? Только ты уж тогда не виляй!
– Докажешь? Чем ты докажешь? – вконец растрёпанный, закричал Денис.
– Чем? – протянул Николай с жутковатой улыбкой. – Ну вот хотя бы тем, что я, чего бы не делал, не смогу погибнуть сегодня, даже если специально стану лезть на рожон.
– Только этого не надо, – вконец испугавшись, выпалил Дэн. – Хватит! Подурил и достаточно, – пытаясь прозвучать твёрдо и спокойно, но всё больше паникуя, говорил Дэн.
– Да нет уж, нет! Раз ты не веришь, я тебе докажу, – тихо прохрипел Николай, всматриваясь в дорогу.
– Верю, теперь верю, – суетливо и не своим голосом согласился Денис.
– Не дрейфь! Ну-ка, останови машину, – со спокойной уверенностью велел Николай.
– Зачем? – испуганно и не останавливаясь, спросил Денис.
– Да ладно, расслабься! Не бойся ничего. Останови.
– Не могу я, у меня тоже предопределение. Ноги сами на педали жмут. Вот еду и еду, пока в лес не доберусь, – желая вновь прибегнуть к иронии, балакал Дэн.
– Хватит со мной как с дитём малым. Останови! – властным тоном сказал Николай, делая ударение на последнем слове, и Денис невольно подчинился.
Остановился Дэн на пустынном перекрёстке, находящемся в неглубокой ложбине, где всё ещё белел залежавшийся утренний туман. Николай прошёлся по обочине, неторопливо оглядел ближайшие окрестности. Остановка в пути подействовала не него благотворно и успокаивающе: лицо его прояснилось, и он заметно повеселел, присев у куста шиповника. Денис, взволнованно и ожидая какого-то чудовищного подвоха, ждал, заразившись тем тревожным возбуждением, которое только что покинуло Николая. Сердце Дениса бешено билось.
Заметив вдалеке машину, приближающуюся к их перекрестку, Николай звучно выдохнул, как перед рюмкой водки, и затаил дыхание. В последний момент, когда летевший на полной скорости внедорожник был уже совсем близко, Николай шальным голосом прокричал Дэну: «Я сейчас брошусь ему под самые колёса, а он вывернется, и я всё равно не смогу погибнуть».
Николай так и сделал. Покинув тень куста, он резко кинулся под колёса машины, за рулём которой сидела молодая женщина. Всё происходило так быстро, что Денис не успел среагировать на безумную выходку друга. Он рванулся было наперерез Николаю, но для того, чтобы остановить друга, Дэну не хватало времени. В какой-то момент в его глазах отразился правый поворотник, которым мигнула хозяйка машины. В это время у Дениса вырвался крик радости, поскольку Николай был слева и не успевал под колёса неожиданно решившей свернуть вправо машины. Однако девушка, впадая в панику, напутала, как видно, и с сигналом, и с направлением движения, и повернула она всё-таки влево, резко сбив Николая с ног. Николай упал спиною на выщербленный асфальт. Всё было кончено.
Притча о книге
На самом краю бескрайних аравийских пустынь жил мудрец. А может и не мудрец он был вовсе, а просто странный человек. Его иногда называли мудрецом за то, что он не раз спасал своё племя, хотя и жил обособленно от него.
Однажды странный человек предсказал жестокую засуху и подсказал направление, куда должна переместиться кочевая община для того, чтоб сделать запруду, поймав водоток последних весенних дождей, и тем выжить, пережидая смертельную сушь. В другой раз он по каким-то приметам угадал направление надвигающейся оравы диких шакалов, которые, как и водилось у них, раз в десятилетие могли неумеренно расплодиться и, несясь, будто жестокий бич, уничтожали всё на своём пути. Сообщив об этом родному племени, мудрец отвёл угрозу, уговорив сделать новую перекочёвку в безопасное место. Бывали и другие случаи, когда этот необычный человек помогал людям в самых трудных оказиях и находил верные решения.
От даров, приносимых ему в награду за спасение и прозорливость, он не отказывался, но брал лишь самую малость для простого пропитания. Жил он в скромном маленьком шатре у самого края становищ, на значительном отдалении и от иных шатров и палаток.
Мудрец когда-то имел семью, но это было так давно, что никто уже и не помнил о его близких. В нынешнюю пору он был сух, спокоен, умиротворён и тих, а досуг свой занимал лишь тем, что читал какие-то странные книги.
Как-то раз в шатёр мудреца пожаловал некий юноша. В его зеленоватых глазах были огоньки любопытства, сверкавшие из-под пепельных завитков непослушных волос. Незваный гость ворвался к мудрецу, нарушил его покой и начал озираться, выискивая глазами чего-нибудь любопытное, составлявшее быт странного человека. Но ничего примечательного в аскетическом жилище отшельника выискаться не могло. Не было там ничего особенного. Однако спустя минуту юноша заметил, наконец, нечто, сумевшее удивить его, явившись-таки любопытным и странным. Это была книга в яркой обложке, лежавшая перед глазами мудреца. Юноша не смог удержаться от того, чтобы взять в руки эту книгу, буквально выхватить её из рук старика. Но даже заглавия не сумел прочесть юный гость, поскольку вместо привычной арабской вязи там красовались какие-то буквы, непонятные и странные.
Мудрец, увидав юного посетителя, ни о чём не спросил его и никак не стал препятствовать его бесцеремонному поведению. Юноша же, не оставляя удивившую его книгу, принялся рассматривать цветные рисунки, на которых (о, ужас!) встречались изображения людей и животных, запрещённые священным Кораном.
– Скажи, мудрец, на каком языке написала эта книга? Что это за буквы такие? И отчего ты читаешь именно эту книгу? – спросил он, не в силах сдержать удивление.
– Она написана по-гречески, – спокойно и неторопливо ответил старец, поскольку имел обыкновение отвечать на вопрос или обращение, следующее до него, даже если оно было совсем неуместным и собеседник не возбуждал желания общаться. Старец поднял глаза на самозваного собеседника и хотел сказать ему что-то ещё, но нетерпеливый гость прервал его.
– Мои родители, да и многие другие в народе уверены, что в руках у тебя всякую минуту находится священный Коран или хотя бы сочинения учеников пророка! Но ты читаешь эту греческую книжонку! – восклицал юноша. Здесь половина страниц занята какими-то крамольными картинами, и на них изображены лица людей, фигуры животных! – с ужасом заметил юный гость. – Скажи, мудрец, в чём дело? Неужели ты не прочёл священного Корана и не ведаешь его запретов? Молва утверждает, что книги вредны! Все книги, кроме одного лишь священного Корана.
– Молва часто ошибается, – вновь заговорил мудрец. – Вот и в этот раз молва права лишь отчасти, – с неизменным спокойствием добавил старец.
– Но в чём дело? О, мудрец! Не могу понять! В наших общинах есть немало людей, которые, прочитав Коран и пояснения учеников пророка, не сумели сделать того, чего сделал для народа ты! Как же так получается, что ты узнал из одной крамольной книги, то, чего другие не узнали и из священных томов?
– О, юноша, существует немало книг, которые можно назвать крамольными и даже неумными и пустыми, но случается, что иная книга требует заглянуть в самую глубину её.
– Ах, вот в чём дело! – догадался юноша.
– Нет-нет, это лишь небольшая часть науки быть мыслящим человеком, – продолжил своё слово мудрец, – поскольку все книги и каждая из книг насколько мудры, настолько же и повторяют одна другую, ведь новых сюжетов слишком мало. Нужно лишь уметь увидать в своей книге то, что греки называют космосом.
– И что ж, во всякой книге можно отыскать космос? – едва не вскричал обескураженный юноша.
– Нет, пожалуй, – не сразу ответил мудрец, – не во всякой. Свою книгу нужно найти. Это как найти жену, – заметил мудрец, чуть оживившись. – Чаще всего нужно быть верным своей первой любви и идти с ней по жизни. Но бывает, что ты должен допустить сомнения и, уйдя куда-то очень далеко, отыскать именно своё и родственное.
– Но при чём же здесь книга? – вновь не понял юноша.
– При том, что глядим мы всегда лишь в космос, а книга или человек, находящийся поблизости от тебя, не должен быть помехой твоему общению с вечным космосом, а всякую минуту должен помогать тебе в этом.
– Лишь космос… – озадаченно проговорил юноша, вполголоса.
– Лишь космос и вечность космоса, – спокойно ответил мудрец. – В нём всё есть и всё возможно: все сюжеты новых книг и все мысли уже написанных когда-то книг вращаются в нём и живут необычайно ярко. Мне повезло, свою жену я нашёл, будучи ещё ребенком, а женившись, прожил с нею сорок лет, как один день. И книгу я тоже нашёл. И хотя она не была моей первой и единственной книгой, но сейчас она утешает и наставляет меня лучше всего.
– Ты нашёл лучшую из книг? Так значит новые книги и не нужны вовсе? – снова вскричал юноша, подойдя к тому, чего не ожидал. – Можно отыскать одну лишь книгу, и всякий человек сумеет утешить себя ею! – произнёс он вдобавок.
– Ошибаешься, мальчик мой, ошибаешься. Именно новые книги и нужны более всего. Каждую пору нужна новая книга. Для каждого человека нужна своя книга. Меня всегда удивляли фанатики Креста, которые поклоняются одной лишь книге – Библии, да и те наши соплеменники, которые считают, что одному Корану позволено определять всю нашу жизнь и все наши мысли, кажутся мне теперь пленниками тесной пещеры, – проговорил мудрец, увидав тень испуга в глазах юноши, заподозрившего святотатство в таких речах. Но, помолчав с минуту, старик, однако, продолжил: – Человеческая мысль всегда движется вперёд. Нельзя замереть на месте, доверяя одной лишь застывшей истине или древнему манускрипту. Каждый день должна являться новая книга. Неизменным в ней должно являться лишь условие доброты её слов, их умение научить нас не причинять друг другу зла и боли, какие бы священные причины не оправдывали причинение этой боли, – сказал мудрец и посмотрел в самые глаза юноши, который замолк, не в силах преодолеть свою растерянность.
– Но как же? Как же это? – тихо проговорил юноша после тяжёлого молчания. – Священные слова нашей единственной книги даны нам навеки, – озвучил давно заученную истину юный житель арабских пустынь.
– Произнесённые слова быстро устаревают, – сказал мудрец со вздохом, – и написанные тоже устаревают однажды, – добавил он. – И даже те слова, что ещё вчера казались самыми убедительными, самыми верными, самыми главными, утром следующего дня становятся вчерашними. Не понимаю, не могу понять: как можно всю жизнь читать одну лишь книгу и поклоняться ей одной! – горячо произнёс мудрец, немного отходя от своего бесстрастного обыкновения. – Каждый новый день побуждает искать новые слова. Так заведено судьбой. Для того, наверное, чтобы не прекращалось вечное течение жизни и течение мысли в ней, – добавил он, вновь становясь умиротворённым и ровным.
– Как всё это сложно! – проговорил юноша, вновь впадая в раздумья, но, как видно, всё ещё теряясь в них. – Я привык к тому, что один лишь Коран способен ответить на все вопросы, а доверять чему-то иному вредно, опасно и подобно предательству, – сказал юноша и сам уставился теперь в глаза мудреца, будто желая выискать в них либо ответ на загадку, либо признак измены вере отцов и их священному постоянству. Мучительно вглядываясь в лицо своего странного собеседника, юноша сказал именно то, чего мудрец вполне мог ожидать. – Те вещи, которые ты говоришь сейчас, и пугают меня, и кажутся слишком сложными, – договорил юный собеседник и потупился.
– Ничего сложного! Ничего, поверь мне! – изрёк мудрец, вновь оживившись, но едва заметно. – Человеку, который желает учиться мыслить, идя вперёд и по-настоящему открывая для себя жизнь, нужно лишь не разрывать связь с космосом. Нужно глядеть внутрь себя и в ночное небо, доверяя себе до конца и слушая всякий мотив как главный, а уж потом разделять их по чувству. Я очень редко говорю с людьми, но знаю почти всё, что может узнать любой из тех, кто имеет много слуха и общения. И потому лишь, что я слушаю космос. А через посредство космоса я узнаю слова сразу многих, их думы, их смысл.
– Вот бы и мне научиться так! – проговорил юноша, а глаза его ожили и загорелись.
– Ничего сложного, ничего сложного, – вновь проговорил мудрец, и добавил: – избегай лишь пустоты. Она – враг мыслящего. Настоящий космос всегда наполнен смыслом, хотя и не тесен. Весь космос – одна раскрытая книга.
Когда удивлённый гость покинул шатёр мудреца, в голове юноши вращался рой противоречивых мыслей, а в неопытном сердце томились столь же разноречивые чувства. Одно из них, как и велел правоверный долг, побуждало сообщить соплеменникам о святотатственных мыслепреступлениях старика, оскверняющих незыблемость власти священной книги. Но другие помыслы шептали мотивы соблазнов юной душе и воле. Проведя пару бессонных ночей, юноша отчего-то так и не сообщил никому о волнующем разговоре со стариком, хотя в голове у юноши, вновь и вновь распаляя смятение, вращалась с тех пор одна и та же фраза, сгоряча брошенная мудрым стариком: «Не понимаю, не могу понять: как можно всю жизнь читать одну лишь книгу и поклоняться ей одной!»
Прошло время, юноша начал взрослеть, а вместе с тем отдаляться от ближних, всё больше обретаясь теперь в странном упрямстве и своеволии, а то и вовсе: озвучивая мысли, пугающие соплеменников. Потом он исчез куда-то, затерялся в кочевьях, и никто, с тех пор, не видал его поде родных шатров. А спустя годы в больших городах, а потом и самом в Багдаде появился учёный, который отличался ото всех смелостью новизны полезных для жизни находок и изобретений. Он казался умудрённым жизнью старцем, и только огонёк в зеленоватых глазах, глядевших из-под светло-пепельных завитков, выдавал в нём того юношу, который позволил заронить в своём сердце зерно сомнения в незыблемом.
Антиохийский престол
Эта история произошла в те времена, когда рыцари Крестовых походов покидали свои палестинские королевства, проливая собственную кровь и кровь упрямых сарацин, когда судьба, дав срок, изгнала рыцарей Креста от Гроба Господня, подвергнув положенному испытанию их святую веру.
Последним оставалось Кипрское королевство, сумевшее продержаться дольше, чем прочие государства крестоносцев, благодаря своему островному положению. В его пределах и завязался сюжет, оборвавшийся затем на сломе двух юных судеб.
Крестоносцы в Палестине и Сирии терпели одно поражение за другим. Их власть была полностью сломлена иноверными врагами. Но жизнь продолжалась. И, съехавшись в Никосию, последние, самые отчаянные и стойкие воины веры Христовой застали там шикарный приём кипрского короля. Дамы, как и водится, поражали красотой, обязанной смешению северных кровей Альбиона и Нормандии с южными кровями неаполитанских герцогов и миланских графов. А рыцари, помня дворянское достоинство, не поддавались унынию, а веселились на королевском балу, устроенному в их честь.
Торжество длилось несколько дней, но и ему суждено было прекратиться. Кавалеры и дамы покидали замок. Музыканты давно устали играть свои фуги, но посреди обширной залы продолжала кружиться одна юная пара. Ярко-медные завитки волос очарованного кавалера нежно касались пшеничных локонов принцессы Альмодис, ещё вчера бывшей милым ребенком, но сегодня познавшей страсть влюблённой женщины, не умевшей ничего поделать с этой напастью.
Зала была пуста. Музыканты изнывали от усталости. Но эти двое не видели ничего и лишь шептали друг другу те самые банальности, которые необходимы, как воздух всякому, кто испытывал ту первую нежную страсть.
– Только с тобой, – шептала Альмодис. – Только с тобой, – повторяла она опять и опять.
– Но я простой дворянин, – отвечал Эмерик, почти неосознанно, ощущая лишь обрушившееся на него счастье.
– Я согласна потерять титул, согласна жить в скоромном поместье твоих родителей, о, Эмерик! Лишь бы быть с тобой! Навсегда с тобой! – говорила Альмодис, ощущая огромные пределы своего собственного королества чувств, которое раскрылось обширнее иных империй.
Пара всё также кружилась. Золото и медь их волос смешивались в вихре нового сплава любовной гармонии. Но в этот момент за балюстрадой высокого перехода у западной стены замка, над самыми головами возлюбленных пронеслась Сибилла Аквитанская, гордая наследница Аквитано-Лузиньянской династии. Нынче она была радостно-взволнована, поскольку уже почти заполучила бургундскую корону для своего мужа путём сложной многоходовой игры, последним актом которой должен был стать династический брак её дочери, принцессы Альмодис, с малолетним наследником Бургундии.
Увидав зрелище, красноречивее всяких слов свидетельствующее о том, что свершается в сей момент, Сибилла обомлела и едва не вскрикнула от досады. Но это было лишь минутной слабостью. Вскоре она блеснула глазами, сжала губы и, скрестив руки на груди, прошествовала дальше, в отведённые ей покои замка кипрского короля.
А когда и свечи догорели, и, казалось, сама зала устала кружить влюбленную пару, двое неравных возлюбленных расстались. Но с тем лишь, чтоб встреться на заре.
Очутившись в своей комнате, Альмодис припала к узкому окошку, не надеясь на то, что сможет заснуть в эту ночь. И счастье грезилось ей лунною дорогою, обильной и ясной. Так его было много. Но спустя несколько времени в дверь постучала мать.
– Как Вы себя чувствуете, Альмодис? – строго спросила Сибилла.
– О, Ваше Высочество! Превосходно! – начала Альмодис. – И я хотела бы говорить с Вами и с отцом…
– Альмодис, – произнесла Сибилла твёрдо и властно, прервав чувственные ноты дочери. – Давайте будем откровенны, – сказала Сибилла, сузив глаза.
– Я готова, – произнесла дочь, но было заметно, что она теряется, и остриё взгляда Сибиллы заставляет её отступать с самого начала.
– Мне случайно пришлось увидеть Ваше почти неприличное поведение на приёме, – говорила Сибилла. – И я, как мать и как Ваша наставница, не могу не предостеречь Вас от подобных действий.
– О, матушка! – вскричала вдруг Альмодис, но, наткнувшись на тот холодный взгляд, что пронзил её своим остриём, поправилась. – О, Ваше Высочество, я готова припасть к земле и молить вас выслушать меня. Я готова стать на колени перед отцом и умолять его снизойти и понять то чувство, которое родилось во мне. – Альмодис говорила, слёзы блестели на её щеках. Казалось она и вправду готова забыть своё положение и достоинство, став на колени. Слова, вырывавшиеся из её уст, были настолько горячи и часты, что Сибилла не могла остановить их поток. И лишь темно-зелёные глаза Сибиллы метали молнии.
Альмодис, будто искусный романист, описывала вихрь необыкновенных красок, проносящийся в этот момент в её душе. Она клялась в любви, также, как ещё час назад говорила об этом своему возлюбленному. И Сибилла даже испугалась немного, слишком хорошо зная собственную кровь и породу аквитанских принцесс, которые готовы на многое, коль заражены пламенем страсти.
Сибилла уже оставила попытки прервать разгоряченный монолог дочери и, погрузившись в невеселые раздумья, пыталась найти выход из ситуации, сложной и щекотливой.
– Альмодис, – проговорила она, когда поток слов дочери, наконец, иссяк, – Вы отдаёте себе отчёт о том, что Ваш Эмерик – простой дворянин, причём из небогатого, незнатного рода? Вы понимаете, что связать судьбу с тем, кто не является владетельной особой, Вам невозможно?
– Но Констанция Эдесская вышла замуж за простого чешского дворянина, – вскричала Альмодис.
– И какой урон она нанесла своему роду! – твёрдо проговорила Сибилла.
– Но матушка! – вскричала Альмодис, будто и впрямь перестав быть принцессой крови. – Я молю Вас так, словно стою перед святой заступницей! Подарите мне счастье жить в любви, быть с тем человеком, который дорог больше самой жизни! – Альмодис вновь пустилась в пространную тираду, и слезы снова заблестели на её лице. Но в этот момент у Сибиллы мелькнула спасительная мысль, а глаза её блеснули так зло и хищно, что Альмодис едва не осеклась.
– Ну что ж, дочь моя, – изменившимся голосом произнесла Сибилла Аквитанская, отчего Альмодис замолчала и остановила взгляд. – Раз уж Вы так яростно стоите на своём, значит, я должна буду уступить, ведь и Вы особа королевских кровей. Я не могу противоречить Вам в Ваших решениях, после того, как совершеннолетие ваше состоится.
– Но оно произойдет уже через пару месяцев, – снова вскричала Альмодис, будто приняла обыкновение вести себя не по-королевски.
– Да, именно через пару месяцев, – неопределённо произнесла мать. – И в эти месяцы я могла бы воспрепятствовать Вам в Вашем желании. Более того, могла бы сделать сделать то, чего собиралась, то есть обручить Вас с бургундским принцем, – отчего-то мягче, чем прежде произнесла Сибилла. – Но я решила помочь Вам в Вашей просьбе.
– О, матушка! О, госпожа! Как я благодарна Вам! – не помня себя и не собираясь помнить, кинулась Альмодис к ногам Сибиллы.
– Я женщина и я мать. И я возьмусь помогать Вам, – также мягко говорила Сибилла, чуть отстраняя дочь. – Ваш избранник не ровня Вам, брак морганатичен, но я не была бы Сибиллой Аквитанской, коль не взялась бы сделать Вас королевой, даже выдав замуж за простого дворянина.
– Но как это возможно? – удивилась Альмодис.
– Я сделаю Вашего Эмерика королём.
– Королём? – не поверила своим ушам Альмодис.
– Да, вернее князем Антиохийским, – ответила Сибилла.
– Но Антиохия давно пала. Пала одной из первых, – грустно проговорила Альмодис. – Сарацины заняли её столицу, и города, и земли. Вы не хуже меня знаете об этом. Теперь уж не только Антиохия, но и Эдесское графство, и Иерусалимское королевство, все палестинские государства пали под натиском сарацин.
– Королевства пали, но титулы-то остались! – странно радуясь, произнесла Сибилла. – Антиохийский престол теперь жалуют за доблестные заслуги, а иногда передают младшим отпрыскам королевских фамилий, которые принимали участие в обороне последних государств крестоносцев. На ваше счастье, Альмодис, титул князя Антиохийского принадлежал ещё недавно Рожеру Прованскому, но он погиб, не оставив сыновей. Потому титул вакантен, и, приложив усилие, мы могли бы заполучить его для Вашего избранника.
– О, Ваше Высочество! Вы благороднейшая из женщин! Ваше великодушие поражает меня и внушает восторг, – вновь заговорила Альмодис, делаясь высокопарной.
– Этот титул поможет разрешить наш сложный казус, и Вы, Альмодис, останетесь королевской особой, приняв титул княгини Антиохийской, поскольку папа римский не исключил Антиохию их числа христианских держав. Сия страна всё также является действительной короной, разве что земля её временно и незаконно занята сарацинами. Но мы-то знаем, что однажды Антиохия будет отвоёвана нашими доблестными рыцарями, – договорила Сибилла, будто в тон дочери, произнеся последние слова пафосно и театрально.
Особы королевской крови ещё долго обсуждали детали предстоящих хлопот. Ночь успела истечь, занялось утро, и солнце уже раскрасило узкие стёклышки покоев принцессы, а слуги обходили коридоры замка, разнося тёплую воду в рукомойниках.
Окрылённая Альмодис, едва проводив Сибиллу, бросилась на поиски своего Эмерика, позабыв о приличиях и этикете. Без труда найдя его и осыпав поцелуями лицо своего теперь уже всё более близкого избранника, начала взахлёб рассказывать о планах, которым вот-вот суждено было осуществиться.
Эмерик не верил своим ушам, вспоминая о том, как холоден был отец Альмодис и её мать прежде. Но энтузиазм и надежда принцессы делали свою работу. И вот Эмерик уже и не помышлял об отказе от Антиохийского престола. Он ждал лишь одного: когда подойдет время коронации.
Сибилла же и вправду собралась сдержать слово. Она вновь пустила в ход все свои связи, собрала волю в кулак, и пользуясь текущим чрезвычайно удачным моментом, когда на Кипрус в одно время съехалось столько династических глав, сумела устроить договор о передаче антиохийского престола юному Эмерику. Сибилла так тонко и умело повела свою игру, что буквально через считанные недели все были уверены: самым доблестным из последних защитников палестинских княжеств был простой дворянин Эмерик.
Особо романтичные натуры из числа собравшихся в сию пору на острове Кипрус, выпив бургундского, пускались в воспоминания, в которых фигурировал юный Эмерик. А дамы нередко видали сны, в которых медные кудри Эмерика развивались на ветру, а сам он, соскочив вдруг с коня, был настолько горяч и неистов, что сон оказывался весьма приятным.
Ритуал коронации был необыкновенно красочен! По счастью, доблестные рыцари и даже несколько бывших королей-крестоносцев, покинувших Палестину, но ещё не успевших разъехаться по Европе, присутствовали на передаче судьбы Антиохи в руки её нового законного властелина Эмерика Первого. Своим присутствием они сообщали происходящему дополнительную законность и основательность.
Альмодис была счастлива. Глаза её сделались опьянены всякую пору! Она не ходила более, не касалась ногами грешной земли. Она порхала, как всякая влюблённая душа, получившая вдруг заветный шар, наполненный радостью.
Для того, чтоб не затягивать с коронацией, свадьбу решили отложить. На этом настояла Сибилла. Но молодые протестовать не стали. И как бы не тяжёл был обет ожидания, но они готовы были на многое, лишь бы соединиться, наконец, и однажды быть вместе. Альмодис настояла лишь, чтоб было проведено обручение, и в этом ей не смогли отказать.
По прошествии же некоторого времени родителей Альмодис позвали срочные дела, и они вынуждены были отбыть на материк, оставив дочь заботам антиохийского князя Эмерика Первого и дяди, крёстного отца принцессы, герцога Гальбы, прибывшего из Неаполя.
Альмодис покинула Никосию и вместе с родителями устремилась к морю, но, проводив глазами их паруса, осталась на берегу, в тихой, уютной Фамагусте. И, выплакав на этом берегу слёзы расставания с родителями, Альмодис стала как никогда спокойной. И отныне всякое время тёплая волна поднимала её над землёй, а счастье, ставшее главной частью её жизни, и радость, что была теперь всегда с нею, не позволяи грусти задержаться на сколько-нибудь продолжительный срок.
Простившись с родителями, принцесса вновь поручила себя тому, кто уже через какие-то месяцы, когда будут закончены все приготовления, станет её мужем и господином. Он сам прибыл в Фамагусту, чтобы соединиться со своей оручённой спутницей.
Стояло раннее лето. Средиземное море дарило ту необыкновенную пору, когда прогулка по его побережью была похожа на нежный поцелуй ребенка, проснувшегося недавно и тихо улыбающегося.
Эмерик и Альмодис шли по самой кромке воды, и в морской дымке они будто видели свою грядущую жизнь, слышали тихое поскрипывание карет, останавливающихся у парадных дверей их нового замка, замечали радостных гостей, выходящих из них, а тысячи свечей гирляндами и рядами освещали радостные вечера. И даже снег, коль он кружился в легких фантазиях, был приметой счастья и новизны ощущений.
Эмерик и Альмодис говорили, тихо перебирая радостные страницы будущих дней. Но вдруг к берегу прибилось судёнышко: оно было непривычным для кипрских мест. В нём оказался человек, одетый как сарацин, и взгляд его был чрезвычайно странным. А человек тот втащил свою посудину на пологий берег и резкими рывками устремился в сторону влюблённой пары.
– Ты Эмерик, объявивший себя властителем Антиохийского престола? – безбожно коверкая французские слова, проговорил сарацин.
– Кто ты, незнакомец? И отчего ты обращаешься ко мне? – не теряя монаршего достоинства, но намереваясь осадить дерзкого незнакомца, проговорил Эмерик.
– Ты князь Антиохийский? – в другой раз повторил сарацин, выговаривая слова более четко.
– Я Эмерик Первый, – ответил юноша гордо.
В следующий миг сарцин вытащил из-за пазухи острый кинжал, и Альмодис не успела и вскрикнуть, как клинок был уже в самом сердце её жениха. Сарацин же, будто маниак, не остановился на этом, а нанёс ещё несколько ударов. После чего вдруг успокоился и, неторопливо вонзив остриё окровавленного оружия по самую рукоятку в сырой песок побережья, очистил его от крови. Лишь после этого ретировался.
Альмодис, придя в себя, бросилась было за ним. Но его след простыл почти мгновенно, а очертание скрылось в дымке седого Средиземного моря.
Альмодис будто лишилась души. Воля её оказалась парализована. Всё происходило как во сне! Поначалу она и впрямь думала, что это сон. Альмодис отказывалась верить своим глазам, но, проведя рукой по остывающей груди Эмерика, она почувствовала струящийся ужас уходящей в песок крови. Альмодис всем существом ощутила, как жизнь покидает её юного князя.
Когда Альмодис опомнилась, она принялась звать на помощь. Она хотела было бежать в город за лекарями, она даже пыталась тащить куда-то тело Эмерика по песку. Но, поняв бесполезность этих затей, она увидала лишь один результат их: всё платье было в крови, на руках была кровь, и даже пшеничные волосы сделались красным от крови.
Присутсвие духа вдруг оставило её, а горячие волны тяжкой истерики поглотили её павшее существо. Она уже не помнила, как оказалась в замке.
Те дни, которые потекли после гибели Эмерика, казались ей теперь однообразной пыткой. Даже смирившись с его уходом, Альмодис никак не могла понять: отчего всё это случилось, почему судьба так жестоко покарала её? Пока однажды герцог Гальба не открыл ей истину тайных причин.
– Девочка моя, – сказал крёстный отец, – как же плохо ты знаешь жизнь! Антиохийский престол, что достался твоему возлюбленному – слишком тяжёлая ноша! Как жаль, что я прибыл на Кипрус слишком поздно, когда коронация уже произошла. Я хотел открыть глаза тебе и твоему Эмерику, но боялся вас потревожить, ведь исправить-то уже ничего было нельзя. Дело в том, что сарацины не оставляют в живых того, кого крестоносцы коронуют на Антиохийский престол. Потому-то и прежний Антиохийский князь был убит точно также, как твой жених.
Так она и закончилась, эта история. Надменная, всегда добивающаяся своих целей, Сибилла Аквитанская была слишком горда, чтоб самой найти наёмного убийцу, который бы уничтожил жизнь юного Эмерика и расчистил дорогу для выгодного династического брака Альмодис. Сибилла была не способна замарать своё высокое имя подобным способом, но она была очень хитра и искусна в интригах. Она, даром что не родилась мужчиной, была азартным игроком и всегда выигрывала партию. Такова была её врождённая суть.
Нетерпеливо дождавшись, когда Альмодис оплакала обрученного с нею жениха, Сибилла сама, в сопровождении лишь нескольких верных рыцарей и дам, прибыла на Кипрус и, принявшись утешать бедняжку-дочь, будто бы и преуспела в этом, задействовав всё своё искусство. Но, утешив, объявила, что свадьба Альмодис с бургундским наследником состоится уже через считанные недели.
И хотя наследнику было всего девять лет, свадьба всё-таки состоялась.
Альмодис навсегда запомнила подарок матери, но противостоять Сибилле Аквитанской была не силах. Сибилла была коварна, но, пожалуй, остроумна в своём коварстве. Ну, кто бы ещё смог преподнести столь дорогой и изысканный подарок, как Антиохийский престол?
Юрген и Дитрих
Когда неудачи истовых крестоносцев остались в далёком прошлом, и когда инквизиторы сожгли всех еретиков и богоотступников, грехи которых навлекали беды на земли Старой Европы, а чума и холера, терзавшие эти земли, отступили, окружённые с севера истинной верой Реформации, а с юга – святостью папства, тогда само Солнце стало теплее, и зимы перестали уносить тысячи жизней. В эти благословенные времена женщины Старого Света разродились таким количеством детей, что ни прокормить, ни сосчитать эту армию было невозможно. Каждую минуту появлялось столько белокурых, рыжих и Бог весть каких наследников великой цивилизации, что она уже не могла делить своё наследство между ними, вынуждая их искать счастья на стороне. Многие приходили в отчаяние и пускались во все тяжкие, но кто-то брал себя в руки и отправлялся на поиски новых земель, посвящая свои открытия величию Европы.
Однако и в заморских пределах обитало слишком много людей, отчего английские пираты должны были в меру сил исправлять положение. Не покладая рук, они трудились, расчищая жизненное пространство для своих соплеменников, а в перерывах изобретали футбольные правила, используя головы пленников в качестве мячей. Не пропадать же добру!
Европа несла свет истины в дикие варварские уголки, отчего они менялись на глазах, до отказа наполняясь гуманистическими идеалами.
Но не все европейцы имели счастье отправиться за океан и основать новые страны. Кто-то волей судьбы был послан на восток, где всё было давно основано, однако до конца не открыто. Юрген и Дитрих попали как раз в число последних. Своим прозорливым европейским оком они должны были окинуть бескрайние заснеженные просторы Московского царства и по возможности принести русским дикарям дух цивилизации.
Нельзя сказать, что эти двое имели в руках редкое ремесло или обладали иными способностями: они, честно говоря, пребывали скорее в поиске своей стези. Но для столь первобытной страны, как Русская терра инкогнита, любой иностранец был на вес золота. И каждому были рады.
Перед самым отъездом друзья встретились в пивной, где собирались каждую пятницу, чтоб обговорить все детали предстоящего путешествия, а заодно попрощаться с любимым заведением.
– Поздравь меня, Юрген, – сказал Дитрих, едва поздоровавшись. – Вчера Хильда родила мне сына.
– Какого по счету? – спросил Юрген.
– Откуда я могу знать? Я же умею считать только до десяти! – ответил Дитрих, раздражённый забывчивостью друга. – Десятый был уже давно. После его рождения я бросил подсчеты.
– А как назвал? – поинтересовался Юрген, отпивая пиво из высокой кружки.
– Гансом, – ответил гордый отец.
– Но у тебя уже был Ганс! – удивился Юрген.
– Он давно вырос, я его лет пять не видал. Живёт сам по себе. Зачем же хорошему имени пропадать?
– Да, ты прав, – согласился Юрген. – Но ты, надеюсь, не собираешься откладывать наш отъезд из-за крестин?
– Ни в коем случае! Хильда сама разберётся. А если что, брат поможет. У её братца деньги водятся, – уверенно проговорил Дитрих, а затем добавил, – зима скоро наступит, нам надо торопиться.
– Но почему ты хочешь попасть в Москву именно зимой? – спросил Юрген настороженно. – Я слышал, там стоят такие морозы, что все вынуждены пить только спиртное. Воду невозможно налить в стакан, она тут же замерзает.
– Зимой почти все местные жители впадают в спячку, а значит, нам грозит меньше опасности. Мы сможем спокойно осмотреться, приступить к делу. Глядишь, до весны успеем управиться и домой вернуться, – ответил Дитрих.
– Хорошо бы, – вздохнул Юрген, осушив вторую кружку пива.
– Старый Клаус, который вернулся из Московии прошлой весной, рассказывал мне, что в большинстве своём люди, населяющие тамошние леса, есть помесь человека с медведем, – говорил Дитрих, запивая сосиску. – Похожи они могут быть и на людей, и на медведей, каждый по-разному. Но до весны они обычно спят, как медведи, что для нас с тобой может оказаться очень даже удобным!
– Да как же это может быть, чтобы с медведем? – удивился Юрген.
– Очень просто: страна огромная, всюду лес, людей мало, деться некуда. Вот и вынуждены многие с медведями жить, – пояснил Дитрих.
– Но почему же их так мало? Ведь говорят, что москвитянки производят на свет не меньше пяти детенышей, причем каждые полгода? – спросил Юрген.
– Слишком мало выживает, – ответил Дитрих, сочувственно вздохнув.
– Я слышал, что раньше там люди с собачьими головами встречались. Снизу все как у человека, а голова собачья, – заметил Юрген.
– Сейчас уже нет, – убеждённо произнес Дитрих. – Старый Клаус ни одного такого не видал. Хотя с рогами встречались! – пояснил Дитрих, ради объективности.
– Страшновато как-то, – поёжившись сказал Юрген. – Может не поедем?
– Нет, раз решили, значит решили. Уже и повозка готова, – недовольный колебаниями друга, проговорил Дитрих.
– Но ведь в Москве по улицам, помимо московитов и медведей гуляют и другие звери из леса! – всё ещё колеблясь, заметил Юрген.
– Да, гуляют, причем самые разные, – спокойно отвечал Дитрих. – Но их легко можно поймать руками. Представь, если даже не получится главное наше дело, ради которого мы затеваем все это путешествие, то мы сможем наловить соболей, куниц и прочей пушнины. На одном этом можно заработать целое состояние.
– Раньше ты говорил, что там можно раздобыть столько золота, сколько сможем увезти? – сомневаясь произнёс Юрген.
– Конечно можно, ведь московиты не умеют им пользоваться по назначению, – снова вздохнув, произнёс Дитрих.
– А разговаривать они умеют? – спросил Юрген с надеждой.
– Умеют, но не все, – ответил Дитрих, помолчав. – Многие только мычат, зато некоторые и на человеческом языке говорят, да так, что даже понять можно!
– А где же нам-то жить там всю зиму, ведь они наверняка в берлогах спят, раз полумедведи? – спросил Юрген.
– Нет, ну что ты! Там и дома, и церкви есть. Московиты вовсе не полумедведи, а помесь. Это разные вещи! Все мы твари божьи, в конце концов, – заметив испуг в глазах друга, лукавил Дитрих.
– Но говорят, что московиты чудовищно жестоки! Они каждый день до полусмерти избивают друг друга, не могут удержаться даже во время мытья, стегают раскалёнными прутьями. А их несчастные лошади от побоев имеют по два горба на спине, – взволнованно говорил Юрген.
– Всё это было раньше, когда они должны были обороняться от амазонок, а горбатые лошади им были нужны для того, чтобы не выпасть из седла во время боя. За горбы легче удержаться, – объяснял Дитрих.
– Но ведь в Москву так долго ехать! – всплеснул руками Юрген. – Мы итак всю жизнь в пути – из Дортмунда в Дюссельдорф, из Дюссельдорфа в Марбург, – всё больше раскисал он.
– Такая уж профессия наша, – сказал Дитрих, ободряя друга. – Приходится гастролировать.
– Ох, надоело, – признался захмелевший Юрген.
– Кто же виноват, что во всей Германии ни у кого не водится в карманах больше двух талеров? Мы страдаем вместе со всеми, – изрёк печальную истину Дитрих.
– А в Московии, думаешь, карманы толще? – не слишком обнадёженно спросил Юрген.
– Зачем нам карманы, когда мы сможем пройтись по домам, спокойно собрав золотишко? Пока московиты погружены в спячку, сделать это пара пустяков!
– Ах, вот зачем тебе понадобилось ехать зимой! – догадался, наконец, Юрген.
– Ну конечно! Зимой нам никто не сможет помешать, – втолковывал простую вещь Дитрих.
– Но ведь мы можем замерзнуть заживо, – опять с хмельной тревогой говорил Юрген.
– Опасность такая, конечно, существует, – вздохнул Дитрих. – Зато во время русских морозов ты сможешь своими глазами разглядеть слова, выходящие из уст. Они застывают, стоит только их произнести. Где-нибудь ещё ты мог бы такое увидеть? – выложил Дитрих свой главный козырь.
– Правда? – удивлённо промямлил Юрген.
– Ну конечно, – засуетился Дитрих. – Старый Клаус говорил, что иногда эти слова валяются на улицах, как ледышки, до самой весны, пока не растают.
– А если по нужде захочется? – выпалил Юрген. – Тогда что делать станем?
– Ничего, выкрутимся… придумаем чего-нибудь, – ответил Дитрих не совсем уверенно. – Если что, можно и потерпеть. Мы же ненадолго уезжаем.
– Бросаемся мы с обрыва вниз головой, честное слово! – сказал протрезвевший вдруг Юрген.
Спустя пару месяцев друзья были в России, застав её объятую лютыми холодами. Рассказы старого Клауса очень пригодились, поскольку всё оказалось почти так, как он описывал. Первый страх, одолевший Юргена и Дитриха, когда они только-только попали в дикие леса Московии, быстро улетучился, и друзья начали действовать. Поначалу они промышляли по-старому, отчего пару раз были пойманы и биты батогами, а однажды попали в острог и чуть не угодили в Сибирь. Но Юргену удалось бежать, а Дитрих пришёлся по душе коменданту острога, и тот назначил его тюремным счетоводом, узнав, что немец умеет считать.
Со временем Дитрих сделал неплохую карьеру, поступив в Податной приказ. Став сборщиком налогов, он разъезжал по дворам, собирая медяки и гроши, а заодно наблюдал диковинный быт московских аборигенов. Наблюдениями своими он делился с другом, который, вернувшись в Германию, написал правдивую книгу о России, начинавшуюся такими словами: «Неправда что москвитяне происходят от бурого медведя и едят без помощи рук. Лгут те, кто говорит, что видел оборотней и ведьм, в которых по ночам превращаются здешние жители. Всё обстоит совершенно иначе. Белые медведи, которые и есть настоящие предки московитов, очень смышлёные животные…»
Департамент мелких обид
Марыся Тухольская до позднего вечера пропадала на работе. Каждый день, за исключением редких выходных. Оттого, наверное, и личная жизнь у Марыськи не клеилась катастрофическим образом, и Збышек не перезванивал уже вторую неделю. Очень уж напряжённая и ответственная досталась работа Тухольской, ведь служить ей выпало в Институте Национальной Памяти, где серьёзные учёные заняты важной деятельностью, жизненно необходимой. Я бы сказал, миссией на благо всей Хольши и хольского народа!
Институт подсчитывал обиды и прегрешения, которые были причинены нам, холякам, за всю историю, в течение которой эти гады, (ну соседи, то есть, с запада, с юга, и особенно с востока) чинили всякие подлости в ответ на нашу благородную и просвещённую политику.
Обиды и пакости, а также причинённые нам оскорбления и случаи урона нуждаются в чётком учёте, классификации и популяризации. Чтоб не дай Бог никто из нас забыл какую-нибудь из обид столетней давности или даже пятисотлетней, а уж тем более не простил. Исчисление обид – дело сугубо важное, дело государственной значимости! Особенно подсчёт обид, причинённых этой злобной, гадостной империей, что лежит к востоку от наших границ – Лусской Федерацией. Однажды мы соберём полный список обид и предъявим ей так, что уж отвертеться не сможет: она у нас на коленях будет стоять, мы заставим её покаяться, мы её ползать заставим и унижаться. Ну и, разумеется, принудим на веки вечные платить компенсации, в немалом размере!
Однако нам ещё предстоит большая работа по сбору всех эпизодов, по учёту и тщательному подсчёту всех обид и пакостей. Вот к этому священному делу и была причастна Марыся Тухольская, хотя и работала она младшим сотрудником в отделе мелких обид.
Дело в том, что весь институт, как учреждение серьёзное, с самого начала был разделён на несколько департаментов-отделов: самый высший и старший занимался крупными обидами и большими пакостями, которые были нам когда-либо причинены. В этом отделе сидели только самые проверенные люди, с учёными степенями. Они почти еженедельно на доклад к президенту республики ездили, сообщить: нарыли новых обид, за которые мы можем принудить кого-то покаяться и заплатить, или не нарыли? Другие отделы-департаменты средние обиды подсчитывали. А Марыська по молодости лет оказалась зачислена, честно говоря, в департамент самых мелких обид. Там считали всякие давно забытые эпизоды, которые имели место в истории, когда в кого-то из наших предков кто-то плюнул, на ногу наступил, обсчитал или обругал на улице. Это тоже важно. И за всё это мы заставим покаяться и заплатить, когда наступит подходящий момент.
Непосредственная деятельность Марыси заключалась в штудировании летописей, источников давней поры, исторических документов и выуживании оттуда эпизодов, в которых имели место подобного рода обиды, причинённые кому-то из наших предков. Тухольская добросовестно процеживала архивы, ломала голову над старославянским языком, но отчего-то попадались всё больше эпизоды, когда наши бравые хольские воины, отправившись в поход во имя славы державы и распространения просвещённых идей, немножечко жгли, немножечко грабили, немножечко насиловали и пытали. Нет, разумеется, они делали это гораздо гуманнее, чем могли бы сделать эти гады лусаки, то есть проклятые лусские варвары. Но вся беда состояла в том, что фронт работ для Марыси был обозначен рамками средневековья. А в ту пору на нас лусаки-то не нападали и никак почти нас не обижали, а мы сами периодически их пощипывали, опустошали их городки и деревни и даже отхватили у них в конце концов огромный кусок территорий.
Короче говоря, несмотря на то, что пропадала Марыся на своей работе до позднего вечера, работа её не клеилась почти также, как и личная жизнь. Периодически Марыську вызывал начальник департамента мелких обид пан Клоповский, и устраивал выволочку.
У пана Клоповского было много заслуг перед наукой и перед Родиной. Пан Клоповский был ходячей энциклопедией мелких обид. Он помнил такие мельчайшие пакости, которые не сумел бы удерживать в памяти ни один человек, даже самый обиженный. Пан Клоповский уже подсчитал кто и сколько должен нам заплатить за эти обиды, кто и как должен покаяться.
Пан Клоповский заслуживал огромного уважения. Марыся это понимала. Но отчего-то, попадая в его кабинет и глядя на его раскрасневшуюся физиономию, на маленькие глазки, которые наливались кровью, когда он рассказывал о своих новых открытиях, Тухольской очень хотелось взять его за шиворот, двинуть ему как следует между глазёнок и бросить в окошко, чтоб он летел кувырком, а потом записал бы в свой список ещё одну обиду, коль не переломал бы шею, свалившись со второго этажа.
– Ну куда это годится, дорогая моя Марыся? – как обычно начал пан Клоповский, вытащив отчёт о проделанной работе, который на прошлой неделе представила Тухольская. – Тебе кажется, что это работа? Ты считаешь, что так можно относиться к истории обид, причинённых хольскому народу? – всё больше распалялся пан Клоповский, а глаза его опять наливались кровью. – Ты не нашла ни одной мелкой обиды, причинённой нам за всю четверть века, которую обозревала?
Марыся пожала плечами, потупилась и уронила плечи, ссутулившись и понимая, что ничего хорошего её не ждёт. Так и вышло. Пан Клоповский перешёл на крик, срываясь местами на пронзительный визг.
– Тухольская, – бушевал начальник, – ты позоришь хольскую науку! Ты позоришь всю нацию! Ты саботируешь работу! Ты препятствуешь восстановлению национальной памяти, подсчёту обид и пакостей! Теперь я понимаю, почему мы до сих пор не ездим в Лоскву как победители, как хозяева положения, способные по-настоящему диктовать условия и прижать к ногтю всю эту лусскую сволочь! Пойми, Марыся, – отчего-то слегка утих пан Клоповский, – детальный подсчёт мелких обид – дело ничуть не менее важное, чем составление перечня крупных подлостей, совершенных против нас гадами-соседями, всегда хотевшими нас уничтожить и подавить. Марысенька, наступит момент, и главные отделы нашего института вычислят всё, что мы можем предъявить, всё, за что не собираемся прощать. Но вдруг этого окажется недостаточно? Вот тогда-то наш отдел вынет из широких штанин свои бумаги, свои перечни многочисленных мелких обид, и мы способны будем просто завалить Лоскву всем этим! Тогда-то мы возьмём за горло проклятых лусаков! Мы возьмём Лоскву за жабры, мы заставим её покаяться и так согнуться в поклоне, что у неё хребет переломится! Мы потребуем огромных компенсаций, а главное, будем настаивать на передаче, то есть на возвращении нам законных земель на востоке, всех наших Всходних Кресов, которые достались нам в честной борьбе в давние годы, но потом были подло отобраны у нас в бесчестных авантюрах, затеянных нашими врагами. На востоке не будет никакой Велоруссии, никакой Своленской и Грянской областей. Всех незаконно проживающих там оккупантов-лусаков мы выселим в Моркуту и Вагадан. А заселятся в пределы Кресов твои детишки, когда они у тебя, наконец, появятся, мои внуки и правнуки и прочие законные хозяева этих территорий, то есть хольский народ!
– Я понимаю, пан Клоповский, – тихо ответила Марыся, когда повисло тяжелое молчание. – Я давно осознала всю важность нашей работы, всё её государственное значение. Но что поделать если за исследуемую четверть века я не нашла ни одной обиды, причинённой нам лусскими варварами?
– Что делать? Работать надо лучше! Внимательнее надо быть! – ответил пан Клоповский, и глазки его блеснули недобрым огоньком. – Я нарочно после прочтения твоего отчёта проштудировал те источники, анализ которых ты провела, и нашёл там сразу несколько эпизодов, мимо которых никак нельзя пройти, которые и являются тем самым масштабом обид, что выискивает наш отдел, Марысенька! Мелкие обиды, не спорю, но именно такими мы и занимаемся.
– А что это за эпизоды? – поинтересовалась Марыся.
– Ну взять хотя бы случай с королевским посольством, прибывшим в Лоскву ко двору царя Ивана Бронзого, – начал Клоповский, открыв свою папочку. – Посол в сопровождении стражей и советников прибыл ко двору. Однако поселили его в каком-то курятнике, не иначе, который они нагло называли лучшими палатами Кремля, – горестно вздохнул пан Клоповский. – Чтоб поиздеваться, – добавил от себя пан. – Постель выдали несвежую, – продолжил перечисление обид пан учёный, – кормили постной и невкусной едой, прислуживали плохо. Но это ещё мелочи. Самое обидное впереди, – повышая голос говорил начальник департамента мелких обид. – Во время приёма дьяк или писарь царя Ивана чихнул в самое лицо посланнику Хольши! Нагло чихнул, скорее всего нарочно! А царь, этот тиран, это дикое животное, усмехнулся, увидав это, и едва не загоготал! И ты считаешь, что это не является обидой, нанесённой хольскому народу? И ты считаешь, что это можно простить? Ты думаешь, такое стоит забыть и не рассказывать об этом детям и внукам?
– Нет-нет, пан Клоповский. Я так не думаю, – поспешно ответила Тухольская.
– А вот другой случай из более ранней истории, – всё более мрачнея, говорил учёный пан. – Тут ещё и клевета на великий хольский народ, – продолжал пан начальник, перелистывая листки потрёпанной папки. – После одного из славных походов хольского войска на восток, когда мы почти уже одержали победу и готовы были окончательно присоединить все те земли, на которые давным-давно имеем законное право и на которых веками незаконно проживает лусское население, наши шляхтичи прибыли на переговоры о мире, поскольку благополучного исхода не получилось. Зверская и подлая свирепость диких лусаков поломала наши планы. А они, эти лживые тёмные варвары, предъявили нам обвинения в том, что мы якобы сожгли восемнадцать деревень, выжгли поля в четырёх волостях, убили десятерых священников, подвесив их в голом виде. А ещё, будто мы нарочно удерживали шестьдесят тысяч пленных, не давали им еды и питья, чтоб они померли от голода в муках, – возмущённый поклёпом зачитывал текст пан Клоповский. – Понятное дело, это была подлая ложь, направленная против гуманного сердца хольского народа, – пояснил он очевидную истину, подняв очи на Марысю. – И хотя лусаки на самом-то деле заслуживают куда более жестокой участи, – добавил он ещё более очевидную мысль, – но благородство наших предков не позволяло сделать с лусскими псами то, чего они давно заслужили, – слегка сожалея об излишнем хольском добросердечии, говорил учёный пан. – Так вот, Марысенька моя милая, – почему-то вновь потеплел пан Клоповский, – во время обсуждения условий перемирия один из поганых лусских князей бросился на нашего шляхтича с кулаками и сломал ему нос! А потом, когда переговоры закончились, и шляхта сидела в придорожном кабаке, подлая свора лусских вояк тоже ввалилась в кабак и очень скоро затеяла такую чудовищную склоку, что даже тот шляхтич, которому сломали нос, после драки не досчитался трёх зубов! – краснея от возмущения, говорил пан учёный-исследователь. – Три зуба! Подумай, Марыся – это не шутки! Уверен, нужно внести их в список и требовать от Лосквы компенсации за каждый зуб!
– Да, это разумно, – ответила Тухольская. – Надо каждый из выбитых зубов внести в список под отдельным реестровым номером.
– И нос, отдельно, под своим номером! – подняв вверх указательный палец, сказал пан Клоповскиий. – А вот ещё один случай, – оживился начальник департамента мелких обид, когда увидал листок, помеченный красным маркером. – Это было в Своленске, куда прибыл младший наследник короля Пшекослава для охоты на медведя по приглашению лусских князей, – начал пан Клоповский с оттенками торжественности в голосе. – Покинув Кряков, королевич прискакал на Своленщину, где приём ему оказали ужасный, как и можно догадаться, – добавил пан начальник отдела мелких обид, вновь тяжело вздохнув. – С ним прибыли многочисленные приближённые, среди которых оказалась и племянница королевского повара Ядвига, девица благопристойная и мечтательная. Она любила гулять короткими летними ночами по лесу. И вот как-то раз, выйдя в лунный вечер на окраину Своленска, вдыхая запах трав, сосен и бука, случайно оказалась около какого-то сеновала. Размечтавшись о чём-то, она и не заметила, как к ней подкрался здоровый рыжий детина, мужлан из деревни, находившейся неподалёку, и, прижав её к бревенчатой стене, начал грязно лапать, а потом и вовсе сорвал с неё одежду, утащил несчастную девицу на сеновал и почти полночи творил с нею такие гадости, что рассказать об этом нельзя! Несчастная Ядвига была глубоко оскорблена, очень глубоко, но поначалу не решилась признаться в случившемся, думая, что всё как-нибудь забудется. Однако по возвращении в Кряков, она родила сразу троих рыжих младенцев. Ты представляешь, Тухольская? Ты представляешь? Троих орущих гадёнышей с ярко-рыжими волосёнками на голове, в точности как у этого потного грязного мужлана из своленской деревни, который нанёс оскорбление бедной Ядвиге. Ей и, разумеется, всему хольскому народу в её лице! За что мы теперь обязательно должны истребовать покаяния и компенсации, причём в тройном размере, в три раза большем, чем за прочие мелкие обиды! – бушевал пан Клоповский, искренне оскорблённый тройной подлостью лусского мужика.
– Ужасное событие, – ответила, наконец, Марыся. – Но я, составляя свой доклад, не стала включать это событие в список, поскольку во время этой же охоты наш королевич был замечен за…
– Замолчи! – крикнул пан Клоповский. – Молодая ты ещё судить о грехах королевича! – строго выпалил пан. – Ты поставлена подсчитывать обиды и пакости, которые были причинены нам, то есть хольскому народу. А уж всё прочее – не твоё дело!
– Да, я поняла. Теперь буду корректнее, – тихо ответила Марыся.
– Вот то-то же, – строго проговорил пан начальник. – Давай-ка Тухольская, за ум берись. Прекращай свою неуместную рефлексию! Бери пример с опытных сотрудников института. Вот недавно департамент обид среднего масштаба нарыл в летописях такую обиду, которая, пожалуй, на крупную тянет, – не без гордости и с чувством глубокого удовлетворения заметил пан Клоповский.
– Правда? Я не слышала, – отозвалась Марыся, стараясь изобразить заинтересованность.
– Ну и зря! А ведь находка их тянет на открытие! Отдел средних обид, проанализировав период так называемой интервенции холяков в Лосковию, нашёл эпизод, за который вполне можно требовать компенсацию с лоскалей! Был у них, у варваров этих, некто Иван Гусанин, который взялся провести хольских военных через лес к молодому царю, чтоб наши славные воины арестовали этого выскочку. Арестовали и казнили законным образом, на правах победителей. Так этот гад Иван Гусанин завёл несчастных героев в такую непроходимую глушь, в которой они померли, – с болью в голосе констатировал учёный пан, – наших воинов, почти победителей, героев хольского войска, подло обманул и уморил. Там лучшие люди Хольши полегли! – убивался пан начальник отдела мелких обид. – Думаю, дело пахнет геноцидом, – заметил он, – ведь были уничтожены лучшие из лучших, элита хольского народа! Можно доказать, что Иван Гусанин в нарушении устного договора об экспедиторстве и проводке через лес, подло уморил лучших сынов Хольской земли, которые пришли в Лосковию нести свет просвещения, пришли на поиски славы и воинской удачи.
– За Ивана Гусанина они тоже должны заплатить и покаяться? – немного удивлённая, проговорила Тухольская.
– Разумеется! Ну, разумеется! О чём разговор? – воскликнул пан Клоповский безапелляционно. – Платить и каяться, платить и каяться – вот чего им надлежит! Они нам за всё ответят! За каждую обиду, за каждый зуб, за каждую пакость! Они у нас в ногах валяться будут! Им придётся работать на выплату одних лишь компенсаций! Они на коленях перед нами ползать станут! Они вот у меня где будут, – сжав сухенький кулачок, трясся пан Клоповский.
– Однако нынче-то лусские гордятся Иваном Гусаниным, почитают его в качестве национального героя, создали культ Гусанина. Они даже оперу написали, – осторожно заметила Марыся.
– Мы заставим их провести Дегусанизацию. Недавно я принимал участие в конференции по исторической проблематике, там присутствовали и сотрудники национального агентства «Изыскателей новых поводов для компенсаций и репараций». Я подал им несколько свежих идей и, в частности, указал на необходимость борьбы с подлым культом Гусанина и на возможность потребовать компенсацию за гусанинские деяния. Надеюсь, ко мне прислушаются. Но мы и сами должны работать в поте лица. Наш институт тоже многое может. Есть немало того, что в наших силах. И в первую очередь – составление полного списка многовековых обид. Чтоб никто из холяков, ни один наш гражданин ничего по глупости не забыл, не простил и не начал жить без обиды. Не начал опять верить тем бредням, будто Спалин и лусские солдаты фактически подарили нам независимое государство, отвоевав территорию у Хитлера, надарили нам земель на западе и северо-востоке, будто чем-то там помогали нам и относились по-человечески. Всё это наглая ложь! Настоящий наш союзник, который и помогает открыть глаза на истинное положение вещей – это Соединённые Штаты Африки! Только США – наш истинный друг и союзник. Не нужны нам дружеские и уважительные отношения с восточным соседом. Нам нужно, чтоб лусские унижались перед нами и каялись, чтоб признали весь список обид, которые мы им представим.
Когда пан начальник наконец отпустил Марысю, она была обессилена так, будто всю её выпили изнутри и вытянули всю душу. Тухольская с трудом дождалась окончания рабочего дня, а потом еле-еле доползла до своей квартиры, даже поужинать толком не сумела и повалилась спать. Едва голова её коснулась подушки, сон сгустился без промедлений и явил свои странные картины. В начале Марыся увидала себя в интерьере каких-то старинных палат, где в сопровождении охранников подошла к бородатому царю, но тот вместо приветственных слов нагло чихнул ей в самую физиономию и дико, заливисто захохотал. Эту картину сменила сцена, развернувшая перед Марысей пьяную драку в стенах какого-то кабака, где Марыське зачем-то выбили сразу три зуба, заодно сломав и нос. Под конец сновидения Тухольская и подавно оказалась у стен Своленского кремля, от которых она пошла прочь вдоль дороги, поросшей соснами и буком. А когда посреди сна настала светлая летняя ночь и луна нарисовалась на небе, будто сумасшедшая, то где-то поблизости уже виднелся бревенчатый остов старого сеновала. Подойдя к нему и размечтавшись, Марыся вдруг заметила почти у самого своего лица какие-то прозрачно-рыжие завитки волос, блестевшие в безумном лунном свете, а ещё почуяла острый запах потного мускуса. Это навалился какой-то мускулистый мужлан, прибежавший из ближней деревни и, будто жеребец, бивший копытом землю от нетерпения. Молодой рыжий негодяй прижал бедную Марысю, дыхнул ей в лицо и начал грубо лапать её, хотя она, конечно же, изо всех сил пыталась сопротивляться! В голове несчастной пронеслась мысль, что негодник более всего похож не на жеребца даже, а на мускусного оленя, источающего запах, от которого что-то цокало в голове и вращалось. Девушка подумала, что теперь-то и случится всё самое ужасное, и ни капельки не ошиблась! Рыжий мужлан за пару секунд сорвал с неё всю одежду, потом быстро сбросил с себя всё, что на нём было, и, крепко ухватив свою пленницу, потащил на сеновал, где, повалив, почти полночи творил с нею такие гадости, что проснулась Марыся раскрасневшейся и как никогда понимающей, насколько неистово и глубоко мог оскорбить несчастную хольскую девушку тот гадкий обидчик из древней рукописи.
На календаре снова был будний день. Значит, нужно было позавтракать и топать на работу, в департамент мелких обид. Марыся проверила почту, просмотрела сообщения, но от Збышека по-прежнему ничего не было, ни ответа, ни привета.
По дороге на службу Тухольская твёрдо решила выпросить рабочую командировку к местам былых обид и, собравшись с духом, явилась к пану начальнику. Поначалу робела, но потом, неожиданно для себя самой, она стала вдруг такой убедительной, такой аргументированной, что пан Клоповский и сам понял: Марысе неплохо будет поработать в архивах Своленска, полистать страницы источников, попрактиковаться в лусском языке, поискать следы обид на местности, исследовать весь возможный объём сведений. И в этот же вечер Марыся Тухольская выехала в командировку. Она хотела увидать эти горемычные для хольской истории места, взглянуть на знаменитый Своленский кремль, на эту кроваво-красную средневековую громадину и прогуляться, в конце концов, светлой летней ночью при ясной луне по пригородам Своленска, вдохнуть запах сосны и бука, поглядеть на звёзды, отыскать места, где стоял тот старый сеновал, размечтаться, окунуться в пучину истории, какая она ни есть, и какие бы неожиданные встречи она не предвещала…
