Ампрант
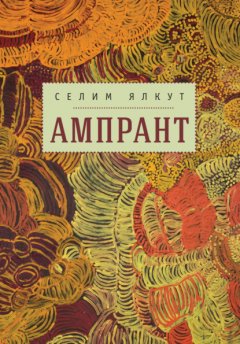
EMPRENTE (франц.) – След. Отпечаток.
В свободном переводе: След в памяти.
Можно: Неизгладимый след…
Кому как больше нравится…
© С. И. Ялкут, 2016
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016
Глупая выходка
А. С. Пушкин
- Дела давно минувших дней,
- Преданья старины глубокой…
В восемь вечера Виктор Андреевич Ананасов стоял на привычном месте под мостом путепровода и дожидался троллейбуса. Весна сказывалась вполне ощутимо, день заметно удлинился, тянулись долгие сумерки, темень сгущалась постепенно, будто кто-то заталкивал ее сюда, в сдавленное железобетоном пространство, и становилась она плотной и вязкой, как черничный кисель. Впереди и сзади мутнел уходящий дневной свет. В нем угадывались, постепенно расплываясь и теряя очертания, детали городского пейзажа. Не жаль, что терялись. Это был тоскливый и неинтересный пейзаж, даже по нынешним временам, когда рот сам по себе растягивается в зевоте от созерцания архитектурных достижений. С одной стороны моста была высокая насыпь, спадающая глинистым обрывом в овраг, на его дне – покрытая маслянистой пленкой вода непонятного происхождения: от каких-то источников, стоков, то ли еще от чего. Вдобавок с каким-то странным бульканьем, будто внизу под маслянистой пленкой кто-то дышал, двигался и даже всхлипывал, переворачиваясь в плохом сне с бока на бок. На берегу этого унылого водоема лежали в совершенном беспорядке разные строительные конструкции. Огромные трубы, бетонные блоки, тяжелые на вес и на вид, так что в одиночку или даже в паре с близким родственником утащить их не было никакой возможности. Потому и лежали открыто, без присмотра, захламляя окружающую среду. Видно, из года в год собираются со всем этим что-то делать, но пока никак не соберутся и даже не решат, что именно. А пока кто-то решает, как облагородить здешние берега, они зарастают буйной травой, дикими, не ведающими ухода кустами, сквозь которые светятся тела энтузиастов, принимающих солнечные ванны. Всюду течет своя жизнь, и теперь, весной время для этой жизни близится и готово вот-вот наступить. Тогда сверху над обрывом раскроются зонтики летнего кафе, заблестит под лучами солнца зеленая стена с бурыми вымоинами глины, и весь вид вместе с раскинувшейся внизу лужей облагородится, преобразится и, как знать, сможет даже претендовать на некий швейцарский колорит. По крайней мере, пробудить воображение. Но это, повторяем, если сильно напрячься, и то, попозже, ближе к лету. А сейчас здесь неинтересно, и даже тоска берет.
И с другой стороны моста расползается тоже пейзаж скучный. Какой-то завод с трубами из нового кирпича прячется за длинным бетонным забором. Напротив тянется еще один, но уже деревянный и временный с большой буквой М посреди каждого щита. Только они и внушают оптимизм, возвещая о приближении в эти края метро. Поскорее бы. А пока между двумя заборами натужно с толчками и усилиями свершается уличное движение, ползут друг за другом троллейбусы, останавливаясь и наезжая на кромку тротуара, отчего пассажиров начинает болтать и встряхивать необычной для городского транспорта морской качкой. Сквозь окна троллейбуса просматривается внутреннее пространство стройки. Развороченная мостовая обнажает глубинные сосуды труб, а горы булыжника напоминают о подвигах пролетариата. Но сами рабочие настроены вполне счастливо, мирно и покуривают сейчас у огромного цилиндра, змеей переползающего через стройплощадку и такого объемного, что взрослый человек, чуть пониже, чем Виктор Андреевич, может войти в цилиндр с одной стороны и выйти с другой, почти не сгибаясь в пути. Но впрочем, никто никуда входить не собирается. Не в этом дело…
За дальним концом стройки был институт, где трудился Ананасов. Сюда он прибывал пять раз в неделю, кроме профсоюзного отпуска и некоторого числа отгулов, добытых за труд на благо общества. Болеть Ананасов пока еще, тьфу-тьфу, не болел. Здоровье у него пока было, не подорванное разными неприятностями, которые, похоже, готовы были свалиться на несчастную голову. В девять утра он прибывал, а в шесть вечера покидал служебное помещение – двадцать этажей стекла, блестящего, как заеложенные штаны. Бывали, правда, исключения, когда приходилось засиживаться, но случались они не часто и относились к той прежней, будничной и скучноватой жизни, о которой вспоминалось теперь как бы со сна. Насколько это казалось теперь призрачным и малореальным.
– Идиот несчастный, – растравлял себя Ананасов. – Ну, что делать? Что? – И, не найдя ответа на мучительный вопрос, он даже саданул кулаком по бетонному основанию столба. Хотел в меру наказать себя, на серьезную травму Ананасов пока не решился. Кожа на месте встречи со столбом слезла, и, обдувая ссадину, Ананасов попытался вернуть душевное равновесие. Придти в себя.
– Спокойно. – Говорил он себе вслух. – Нужно разобраться, Обязательно. И сопоставить. Не может такого быть. Не может. Идиотизм какой-то.
В том и дело, что никакой это не идиотизм. История началась в ноябре прошлого года, когда Ананасов переживал сразу два события. Сдачу большого отчета по работе, которую его группа выполняла в течение нескольких лет, и острую влюбленность в Леночку Шварц – молодого специалиста, свалившегося на голову Ананасова годом раньше. Любовь поразила несчастного, как гром небесный.
Ананасов был человеком основательным, семейным. Женился рано, ребенка завел рано. Не колеблясь, считал, что жену любит, и, значит, действительно любил, потому что привычка – это тоже форма любви, рассчитанная на долговременное пользование с наименьшим, так сказать, износом. Хоть был Виктор Андреевич в свои сорок четыре высокий, седеющий с висков брюнет, такой, что вкупе с южной фамилией – Ананасов его даже принимали за болгарина, но преимуществами интересной внешности не злоупотреблял. Может быть, была какая-то интрижка и еще могли быть, но Ананасов старался в них не запутываться. Убегал с опасным для отношений самоедским чувством вины, даже со страхом, что сам он – человек довольный, благополучный, не жаждущий приключений, может заставить женщину страдать, плакать и объясняться. Кому-то это покажется странным, но факт остается фактом – флирт давался Ананасову тяжело и, главное, не был нужен. Он дорожил семейными отношениями, домом, который они с женой поднимали с нуля. Теперь плоды были налицо. Кооператив выплачен. Подходила очередь на машину. Стали захаживать в антикварный, где Валентина – жена Ананасова высматривала люстру. Она так и хотела – из антикварного. Все это говорило само за себя. К тому же Ананасова начали оформлять для командировки за границу. Станет выездным, откроется дальнейшая перспектива. Дочь Ананасова выскочила замуж в свои неполные восемнадцать и жила теперь в другом городе. По дочери Виктор Андреевич очень скучал. Все это было раньше, в недавнем и безоблачном прошлом, когда жизнь разматывалась как бы сама собой, без усилий, размеренно и монотонно. Вот тут и объявилась Леночка.
Казалось, Ананасов – человек проверенный и закаленный, но тут не устоял. Хоть была Леночка не лучше многих других. По крайней мере, другие ананасовские сотрудницы ставили себя ничуть не ниже. Такую суровость можно, хоть со скепсисом, принять. Однако, в любви часто находишь совсем не там, где ищешь, тем более, что Ананасов не искал. Так случилось. Можно понять строгих критикесс, но и адвокату, если такой объявится, есть, что сказать. Взбитые шаром волосы, которые хочется пригладить. Круглое личико с широкой улыбкой плутоватой обезьянки. Личико, еще не тронутое возрастом, в чем особенная прелесть, не сознаваемая ровесниками. Еще предстоит чертам отвердеть, принять окончательные формы, обозначить свойства зрелой женщины, а пока легкомысленный щелчок пудреницы, быстрый мазок, взгляд в снисходительное, доброе зеркало. И все на бегу.
Что еще? Глаза были хорошие, настоящие в этом нежном возрасте. Ясные, живые, а для тех, кто видит, с искорками на дне. В общем, набирается не так мало. Ананасов долго старался всего этого не замечать, но не вышло. Случилось в ноябре, на праздничном вечере, посвященном пролетарской революции, законном поводе для учрежденческой пьянки. Начали у себя, потом отправились в зал на торжественную часть. Все ушли, а Ананасов задержался, позвонить. И Леночка осталась зачем-то. Потом клялись друг другу, все вышло, как бы случайно. Но это для наивных, ясно, отношения только искали случая, себя проявить. Алкоголь способствовал. Для нерешительного Ананасова это было важным стимулом.
Их толкнуло друг к другу. Снаружи ходили, громко смеялись и к ним могли заглянуть. Ведь даже дверь Ананасов запереть не посмел, полагая, что сможет этим Леночку отпугнуть. Понятно, какой это был тюфяк. Минута все решила, а дальше их разнесло по рабочим местам. Леночка освежила губки, а Ананасов стал искать сигареты, и только потом вспомнил, что не курит. И все еще можно было остановить, но от голоса благоразумия Ананасов отмахнулся и остался до конца вечера, хоть с утра обещал жене, что задерживаться не намерен. Внутренность этажа была разгорожена стеклянными плитами и заставлена шкафами, забитыми до отказа разной отчетностью. Укромное место можно было найти. За таким шкафом они и устроились. О, как было восхитительно! Выяснилось, что Ананасов и целоваться толком не умеет, молодежь ушла далеко вперед. И науку пришлось осваивать прямо тут, за шкафом. Мыслимо ли такое? Оказалось, да. Потом, когда Ананасов стал совсем терять голову, Леночка остановила. – Подожди. Не нужно. Не сейчас… Это подожди решило ананасовскую участь. И самим обещанием, и его рассудочностью, заботой о будущем, стремлением оградить его от огласки и ненужного риска. На дворе был теплый и влажный ноябрь, и еще вчера не было никакого подожди, а телевизор, газета, конец чемпионата страны по футболу. Там были свои радости, но теперь…
Еще недели две Ананасов держался. Он был смущен и растерян. А Леночка вела себя, как ни в чем, не бывало. Состоялся моментик, и нет его, так… дымок от шампанского. Пошли рабочие будни, в конце года они всегда особенные. Люди были заняты отчетом по важнейшей, секретной теме. В конце каждого дня материалы полагалось прошить крепкой нитью и сдать на хранение, а утром человек из спецчасти возвращал их из сейфа под расписку. И так каждый день. Рабочее время в такие дни никто не считает, все сидят, и Леночка сидела, там более, как молодой специалист она должна была себя проявить. И судьба их настигла, не дала Ананасову смалодушничать. Опять они целовались, но имея уже некоторый опыт. И пылкое желание. Гудел неуместный неон, окна залепила плотная темень, сквознячок будоражил горящие щеки. И остались они одни не только на своем пятнадцатом этаже, но в целом мире. Неслась планета, и они неслись вместе с ней, лицом к лицу, смешивая дыхание…
Потом объявилась Леночкина подруга Люсьена с однокомнатной квартирой. Подруга преподавала в вечерней музыкальной школе. Влюбленные стали встречаться у нее. Мебели у Люсьены не было. Только тахта и небольшой рояль – кабинетный, как назвала его Леночка. Основную часть жизни подруга проводила на чистенькой кухне. Стол, стулья, холодильник и еще отдельный столик с замысловатым агрегатом, который Леночка представила как немецкую вязальную машину. Причем, как и рояль, с гордостью за подругу, потому что такую машину теперь ни за какие деньги не достать. Полеживая на тахте и уставясь в шоколадный с матовым блеском бок музыкального инструмента, Ананасов лениво размышлял, каково было затаскивать его сюда на четырнадцатый этаж. Рядом с нотами на рояле постоянно находился большой русско-итальянский словарь, и Ананасов пошутил, как казалось, удачно: не собирается ли подруга учить итальянцев пению. А Леночка, посмеявшись, ответила загадочно, что это совсем не исключено. Спустя три месяца Ананасов узнал, что Люсьена выходит замуж за итальянца и бывать на ее квартире теперь затруднительно. И отнюдь не из-за факта замужества. Итальянцы, как мы знаем из фильмов и опер, способны понять чужую страсть и бесприютность, тем более, когда они дополняют друг друга. Но Марио – так звали жениха, был иностранец, человек нам чужой, а, значит, подозрительный и способный бросить на любовную пару ненужную тень. Пришлось покидать гнездышко. Счастливые дни закончились неожиданно. В финале проявилась особая символика, которая никак не выказывает себя в будничной, законопослушной жизни, но всегда наготове для заговорщиков и влюбленных. По просьбе Леночки Ананасов помог музыкантам – друзьям Люсьены вынести из квартиры и спустить вниз проданный рояль. Между собой музыканты называли Ананасова запросто – Ленкин чувак. Раньше Виктор Андреевич ушам бы не поверил, а теперь принял запросто. Чувак, значит, чувак. Сильно он изменился.
Отчет они давно закончили, но под разными предлогами Ананасов продолжал запаздывать домой, и, понятно, все более запутывался во вранье, которым обрастают такие сомнительные ситуации. И на службе, вопреки репутации серьезного и предсказуемого начальника большого отдела, Ананасов позволил себе молодеческое легкомыслие, объяснимое для влюбленного. В общем, мальчишествовал. С отчетом совершил идиотскую выходку, которая раньше ему бы голову не пришла. Требования, как указывалось, к отчету были самые серьезные. Где-то там наверху, в таинственных сферах его станут изучать, держать под рукой. Но по прошлому опыту Ананасов знал (так ему казалось), что это вряд ли. Главное – обобщение, выводы, рекомендации, в общем, практика. Это – да, а остальное зачем? И рецензенты не одолеют работу целиком, а заглянут в начало и конец, оценят значимость. Микрофильмируют (и это – не факт), положат, что называется, под сукно, и КОНЕЦ. Ананасов и сам такие рецензии писал, на себя готовил такую вот козу. Другое дело, качество должно быть безукоризненное. Печать, поля, опечатки, подчистки всякие запрещались. Это с ума сойти, а, уж, глаза испортить – это непременно. Раньше Ананасов всем этим требованиям подчинялся беспрекословно, но теперь, на фоне романтических настроений буквоедский бюрократизм стал ему невыносим. Тем более, что Леночка, как молодой специалист, и лепила эти многочисленные буковки и значки. Читать ведь никто не будет. И тогда Ананасов решил открыть молодежи глаза на нынешнее занудное делопроизводство. Ровно на сотой странице, где шла невыносимая мура про всякие технические детали, он самолично впечатал в текст: Кто дочитает до этого места, получит десять. Склонился над столом поверх Леночкиной головы и впечатал. Вчера у Люсьены они смеялись над тупым бюрократизмом, потому Ананасов и воспарил. Проявил себя, как начальник. Под цифрой десять подразумевалось – рублей. Шутка дубоватая. Но рецензент был из соседнего отдела. Если не обнаружится, они в любом случае эту мину уберут и отправят наверх в самом безукоризненном виде. В общем, Ананасов ничем не рисковал. И читать никто не станет. В этом он был уверен. Десятка осталась при Ананасове, и они с Леночкой отпраздновали примерно на такую сумму. Но тут Ананасова срочно услали в командировку, отчет без него переплели и отправили в закрытое и секретное ведомство, откуда его заказывали. И шутка тоже уехала. Хоть и сам Ананасов, и его подчиненные получили за этот отчет приличные премии. Глупо вышло. Раньше, повторяем, Ананасов ляпа бы не дал, и вообще такой дикий юмор был для него нехарактерен. Но что взять с влюбленного? Оставалось надеяться, что там, наверху его выходка останется незамеченной. Иначе? Об этом лучше не думать. Ананасов так и поступил. Прогнал неприятную мысль подальше.
Так Виктор Андреевич крутился до конца марта, осваиваясь и увязая в непривычной для себя двойной жизни, путаясь во вранье, привыкая к нему и махнув на все рукой. Кроме самого главного. Свалившейся на него любви. А с остальным – будь, что будет…
День был светлый, по-настоящему весенний. В промытые окна ломилось отдохнувшее за зиму солнце. Плыли над столами столбы бумажной пыли. За едой объявился первый весенний огурец, длинный и кривой, как турецкая сабля. Ползла одурелая от зимнего сна муха. Дышалось свободно и весело. Тут Ананасову позвонили с проходной. Вахтером в тот день был Иван Иванович Козодой – отставной майор, страдавший от дисквалификации. К нынешней службе Иван Иванович относился с повышенной серьезностью, а к Ананасову чуть снисходительно, полагая, что, как старший по званию (Ананасов был капитан запаса) имеет на это право. И Ананасов ничуть не обижался.
– Андреич, – сообщил бывший майор, – тут до тебя интересная женщина добивается. Я думаю, пускать или нет?
Ананасов не стал расспрашивать. Лаборантка собиралась вниз, за почтой, он поручил провести.
Интересная женщина (шутка Козодоя) оказалась старухой, бодрой, несмотря на тучность, даже накрашенной. Что-то в ее внешности смущало, пока Ананасов не присмотрелся. Парик. Цыганского вида. Из-за него старуха была похожа на гадалку. И глядела на Ананасова, как сова, почти не мигая.
– Здравствуйте, молодой человек. – Старуха сделала паузу, подождала, пока лаборантка отойдет. – Пятнадцатый этаж. Хорошо, когда лифт, а если нет. Зато какой вид. У вас есть вода, я должна принять таблетку? – Старуха глотнула воду, пожевала накрашенными губами. Еще помолчали. Ананасов ждал, расслабленный.
– Ох, это давление. – Пожаловалась посетительница. – Лучше о нем не знать. Вы не поверите, три скорых за последнюю неделю. Как там поют – вся жизнь игра. А здесь не игра, а сплошные нервы. Адельфана нет, от клофелина круги, больше, чем это солнце. Потом приезжают эти бандиты, колют свою магнезию и нужно весь день лежать на животе, потому что больше не на чем. Вы хотите так лечиться?
Ананасов выслушивал нелепые жалобы с вялым сочувствием. Но пора была и спросить.
– Чудова я, Раиса Яковлевна. У меня был русский муж, это его фамилия. Какое теперь имеет значение. Русским тоже колют магнезию. Я интересовалась. Но вы, я вижу, приличный человек, без этих предрассудков. Даже неудобно обращаться к вам с моей просьбой.
Старуха запустила руку в сумочку, и на свет появилась сложенная вдвое бумага. Машинописный текст. Тут Ананасов буквально обалдел. Страница была из его собственного отчета, заверенная по всем правилам. Под номером сто. Фраза: Кто дочитает до этого места, получит десять… была жирно подчеркнута красным, а напротив на полях стояло: рублей? Именно так, с вопросительным знаком.
Первая реакция Ананасова была, как у всякого нормального человека. Захотелось зажмуриться и снова вернуться в настоящую жизнь, потому что такого, как сейчас, быть просто не может. Но именно так и было. И старуха никуда не делась, и разглядывала Ананасова, ища признаки понятного волнения.
– Что вы, молодой человек? Из-за какой-то бумаги. Подумаешь, десять рублей. Вы не представляете, что мы во время войны теряли. Какую мебель, какие книги…
– Откуда у вас? – Собственный голос показался Ананасову чужим.
– Племянник дал. Тетя, отнеси, пусть тебе будет на лекарство. Шестьдесят рублей пенсия, это можно прожить? А лекарства – двадцать пять. Легче умереть, но похороны тоже не без денег. Это вы, молодые, над нами смеетесь.
– Я не смеюсь. А у племянника она откуда?
– Откуда я знаю. Они разве говорят нам, старикам. Тетя, отнеси, получишь десять рублей.
– Но почему рублей? – Ананасов заметался в поисках отгадки. Может, это копеек?
– Копеек? – Удивилась старуха. – Я же не говорю – десять тысяч. Нет – рублей, это точно. Или верните бумагу. Я отдам племяннику. Пусть делает с ней, что хочет.
– Хорошо, дам я вам десять рублей. А у вашего племянника еще есть такая же?
– Не нужно так шутить. – Сказала старуха строго. – Знаете, где я работала? В торговле. Всех посадили, а я имела значок за отличную работу. Если я говорю, вы получите покой, значит, так и будет. Он свел в могилу мою несчастную сестру, но вы мне симпатичны. Уверяю вас, покой за десять рублей, это немного.
Старуха, кряхтя, поднялась. Ананасов тоже встал, как бы со сна (как бы он хотел, чтобы это был сон), вытянул из кармана деньги.
– Хотите знать мое мнение? – Сказала старуха, пряча десятку. – Вы очень правильно поступили. Десять рублей за покой – это немного.
Ананасов проводил старуху мимо бдительного Козодоя. Наверху она еще задержалась, разглядывая из поднебесья пейзаж. – Вы не представляете, какие здесь были сады. Мы умирали от запаха сирени. А теперь – тут бетон, там бетон. И такая жизнь, как эта магнезия.
Повторный визит
Старуха ушла, а Ананасов долго вертел страницу в руках. Оттиск был сделан с основного текста и хранился в развернутом виде, сгиб был свежий, когда пришла пора пускать бумагу в дело. Сволочи. Мысль работала вяло, Ананасов только приходил в себя. Нужно было отправляться в спецчасть, где хранилась копия отчета, запрашивать, сравнивать. А что там сказать? Хитрить и объясняться. А потом? По настоящему, следовало трубить тревогу, писать объяснительную. Это для начала. Отчет секретный, с таким не шутят. Тут Ананасов впал в какое-то оцепенение и решил оставить все, как есть. Сунул бумагу в отдельную папочку, забросил поглубже в ящик, и приказал себе забыть. Будем реалистами, что еще он мог сделать? Неделю играл сам с собой в кошки-мышки, гнал тягостные мысли и делал вид, что ничего собственно не произошло.
И дождался. Опять во время дежурства Козодоя. Зловещая получалась примета. Ананасов даже не удивился, как ждал.
– Андреич, слышь. Тут опять до тебя. Пришлешь кого, или сам спустишься?
Пошел сам. В лифте у Ананасова заныло сердце. Староват он становился для таких приключений. В голову даже ударило с обидой. За что? Хоть мог ответить беспощадно и честно: есть за что.
Ананасов миновал козодоевский рубеж и обнаружил посетителя, одетого в замечательный джинсовый костюм, и от того похожего на тореодора. Кем в таком случае был сам Виктор Андреевич, можно вообразить. Среднего роста, пониже Ананасова, в туфлях на высоком каблуке. Спустя несколько лет такую обувь стали носить мужчины с превратностями в любви, но пока до этого нужно было дожить. И внешне посетитель не был похож, насколько можно было разглядеть в сумеречном полумраке. Лицо смуглое, выбритое до синевы. Похоже, брюнет. Нос хищный даже как-то шевелился. Брови густые, южные. Цвета глаз Ананасов не разобрал, скорее всего, карие.
– К Ананасову я. – Горячо, по-кавказски выдохнул посетитель. Виктор Андреевич увлек незваного гостя вглубь вестибюля, подальше от глаз любопытного вахтера. Там присели в уголке, за квадратным столбом. Место тихое. Незнакомец сразу приступил к делу. Открыл папку под кожу, достал злополучную страницу.
– Вот, принес. Ваша бумага. Написано, десять рублей получить смогу. Что за деньги – десять, нужно было двадцать пять писать. Ладно, давайте, я пойду.
– Шутка это. – Прохрипел Ананасов. – Поймите, шутка.
– Какая шутка? – Удивился посетитель. – Официальный документ, понимаешь.
– Скажите, а вы эту… как ее, знаете? – Ананасов от волнения забыл имя недавней посетительницы.
– Слушай, папу, маму знаю, эту зачем знать?
Ананасов и сам понимал, дело тухлое. Встал. – Ладно, подождите здесь. Схожу за деньгами.
– Что десятки нет? – Удивился посетитель. – Ладно, только быстро. А если кто еще придет, другим людям эту бумагу передам.
В лифте у затравленного Ананасова возник план. Поднялся не к себе, а двумя этажами ниже, где трудился давний друг, Жора Однобоков. И застал на месте, слава Богу.
– Ни о чем не спрашивай. Спустись за мной в вестибюль. Я там буду с одним грузином, или, черт его знает, с кем. Шантажирует меня, потом объясню. Если сможешь, проследи, откуда.
Жора доедал завтрак в выгороженном шкафами кабинетике. Мирно гудел вентилятор. На солнечной стороне было жарко, топили еще по зимнему, щедро. Жора уставился недоуменно. Но в лице у Ананасова было что-то такое, что больше расспрашивать не стал. Взялся за пиджак.
– Ладно. Я следую за каким-то грузином. А ты мне потом все объяснишь.
– Да, да. – Торопил Ананасов. – Только, чтобы он ничего не заметил.
Грузин тем временем стал нервничать. Деньги сунул небрежно в нагрудный карман. – Бери свою бумагу. И папку бери.
Стал уходить. – Много еще у вас таких бумаг? – Ананасов пытался притормозить посетителя. Жора появился, пристроился к какой-то сотруднице. Все выходило удачно, без подозрений.
– Никто за десятку работать не хочет. Было бы двадцать пять, здесь бы очередь стояла. – Пожаловался вымогатель.
– А вы? – Неожиданно льстивым голосом спросил Ананасов, провожая глазами Жорину спину.
– Что я? Схожу, пообедаю. Выпью за здоровье. – Грузин полез в карман за полученной десяткой, поднес к губам, причмокнул и вернул деньги на место. – Хорошие люди везде есть. Сами должны понимать…
На том расстались. Никогда еще время не тянулось для Ананасова так медленно. Леночку услали с утра в дружественную организацию, а, если бы и была, Ананасов не стал бы посвящать. Его это дело. Для остальных он сослался на пищевое отравление, и, судя по виду, вполне можно было в это поверить. Где-то там, среди пятнадцати его подчиненных крылась тайна. Где же еще? Или у рецензента? Ананасов выгадывал время.
Наконец, объявился Жора. Уселся перед Виктором Андреевичем и долго рассматривал его сквозь темные очки. – Как здоровье, да-ра-гой? – Спросил голосом недавнего вымогателя.
Свалился камень с души. Дышать стало легче. С Однобоковым они вместе учились, сидели в одной лодке-восьмерке. Однобоков – рулевым, а Ананасов как раз перед ним. Вместе распределились в этот институт, и даже командовали вместе: Ананасов – отделом, а Жора – группой. И с ананасовской женой Валей они познакомились в один день. Жора был этой семье, как родной. И про нынешнюю любовь Ананасовскую знал, но мнение держал при себе. Только заходить реже стал, ясно, на нем, как друге, могло это отразиться. Валя бы не простила.
– Ну, – спросил Жора, – что у нас общего с опереттой?
– Какой опереттой? – Встрепенулся Ананасов.
– Сначала ты. Чего я шпионом стал?
Пришлось Ананасову поведать. В глаза старался не смотреть, кому интересно прослыть идиотом. А именно так оно и было.
Жора выслушал, не перебивая. – Скажу только, он такой грузин, как мы с тобой. Из оперетты. Звать Альфред Соткин. У меня там человек есть. Декорации рисует. Я к нему зашел, навел справки. Раньше Соткин был директором цирка лилипутов. Набрал этих ребят и возил по провинции. Крутил романы с лилипутками. Бабы есть бабы. Был там один, не слишком лилипут, только маленького роста. Он у них пирамиду держал. Соткин перестарался, кто, как – подробностей не знаю, в общем, этот Коля – так, кажется, – покончил с собой. Из-за страстной любви. – Тут Жора сделал паузу и многозначительно поглядел на Ананасова. – Скандал вышел громадный, хотели Соткина посадить. Но не вышло. Он в оперетту перескочил. Есть покровительница. А он – жук, видишь, чем занимается…
В дверь заглянули ананасовские сотрудницы. Перед уходом пришли пожелать начальнику здоровья. Неплохой человек был Ананасов, это уместно здесь подчеркнуть.
– Ну, что думаешь? – Спросил Жору.
– Я думаю, рабочий день закончился. Можно пойти, выпить пива. У меня рыба есть.
Одна из сравнительно поздних и надежных примет весны связана с разворотом на улицах разных торговых точек. Несут столы, устанавливают за крашеными оградками, распахивают цветные зонтики от солнца и дождя. Рассаживаются в деревянных вагончиках тети Маши и тети Клавы в свежих с весны передниках, готовятся, привечают первых клиентов, протягивают налитые щедро, для почина, кружки, тарелки с сиротскими котлетками, немочной зеленью и гуттаперчевыми сырками. Глянет вокруг человек, поведет головой, освобождая шею от шарфа, от тугого зимнего воротничка. И вдруг прозреет. Увидит все сразу, будто впервые. Крупицы солнца в капели. Младенческие листики, пробивающиеся на свет из разбухших почек. Хорошенькую женщину. Бабушку с припрятанным букетиком подснежников. Нелепый плакат о страховании жизни, будто можно ее сейчас остановить, удержать от летящей навстречу весны. Вот так глянет человек на оживший волшебно пейзаж и выдохнет с радостным удивлением. – Весна, братцы, весна…
А сзади поднажмет очередь и несклонные к сантиментам люди ответят с беззлобным ворчанием. – Всем весна. Однако, ты пей быстрее. Кружек не хватает…
Действительно, всегда чего-то не хватает. Но не в этом дело. Потому что весна. Идет к концу еще одна героическая зимовка полярников и колхозного скота, отопительный сезон готов смениться оздоровительным, белый теплоход отчаливает под духовые звуки в первый рейс от празднично разукрашенной пристани…
– Так вот. – Жора размял в руках воблу, принялся чистить. – Хороша рыбка. Пей и не переживай сильно. Хоть влип ты, конечно, в неприятную историю. Ладно. Пираты своих не бросают.
Пиратами они называли студенческую восьмерку. Блеснул летящий силуэт, и Ананасов испытал острое чувство благодарности. Чуть успокоенный, отхлебнул из кружки.
– Утешением является то, – Жора раскладывал по тарелкам разодранную на куски рыбу, – что такие нелепые истории должны иметь простое решение. Ясно, кто-то решил подшутить над тобой самым подлым образом. Кто у нас? Соткин? Грузины – народ небольшой, но лучше один Соткин, чем всю нацию перебирать. И старуха, похоже, из их числа. Портреты перед опереттой висят, глянь, может, найдешь знакомых. Но кто-то им эту идейку подбросил. – Жора вошел во вкус, Ананасов размяк. – Кто-то рядом точит на тебя зуб. Это если с позиций реализма, а не какой-то чертовщины. Не так много желающих. Кстати, насчет твоей Леночки.
Ананасов поперхнулся, а Жора продолжал. – Маловероятно. Но, согласись, круг не так велик. Ты спроси ее.
– Если начнем всех подозревать… – От выпитого или по свойствам натуры (что вернее) в Ананасове взыграло благородство.
– Не подозревать, а понять. Секретные документы. Эту историю так раздуют, только дай. Кто вынес? Куда? Люди на этом карьеру делают. Ордена за бдительность. А ты загремишь. И вообще, будешь меня слушать, или я умываю руки?
Руки после рыбы в любом случае нужно было помыть. Жора был прав. Друзья допивали по второй.
– Буду слушать. – Сдался Виктор Андреевич.
– Так вот. – Жора захмелел и заговорил витиевато. – Из-под пенной глади мне подмигивает козлиный глаз дорогого Гры-го-ры-ча. Вот он, злодей. – Жора указал на дно кружки. Отяжелевший Ананасов следил заинтересованно. В голове шумело.
– По идее, он мог сыграть такую шутку. Даешь серьезному человеку на рецензию и позволяешь себе идиотскую выходку. Если пройдет, первый станешь веселиться вместе с подружкой. А если заметит, что маловероятно, преподнесешь ему на эту десятку. Со мной так, я бы шкуру содрал. – Жора зажмурился. Помолчали. – Нет, Гры-горыч – не тот человек. Он бы стал ныть. Витя, как вы могли… А ведь ты, – Жора поднял палец, – и его подставляешь. Как рецензента. Он к тебе с доверием, а ты вон как…
Ананасов пристыжено молчал. Темнело вокруг, и сама история была темная. Над ларьком включили свет. Закрывать, слава Богу, пока не собирались.
– Всех нужно изучить. – Поучал захмелевший Жора. – Сотрудников, машинистку обязательно. Я недавно фильм видел…
Какой, Жора не досказал. Новая идея того стоила. – Возьмем еще большую и разольем.
Тут Ананасова посетила страшная мысль. – Ты не думаешь, что они весь отчет выкрали? – И этой страницей дают понять.
Жора глянул, и сердце Ананасова упало. – Думаю. Вернее должны думать. Подождем пару дней. – Жора хотел еще что-то добавить, выпитое к этому располагало, но вдруг встрепенулся и застыл как-то боком, прикрывая собой Виктора Андреевича.
– Не высовывайся. Сам господин Соткин пожаловал с каким-то хмырем. Лучше, чтобы они нас не видели. Глянь. Только осторожно.
Один из новых посетителей действительно был Соткин. При виде другого Ананасов и вовсе содрогнулся. Марио. Итальянец. И пояснил Жоре историю знакомства. Тот самый жених Люсьены, нарушивший покой влюбленных.
– Ну, Витя, держись. – Жора отнесся серьезно. – Сначала секретным отчетом шантажируют. Теперь иностранец.
Ананасов покаянно молчал, Жора собрался за пивом. – Не смей оборачиваться. Они в другом углу. Поглядим.
И поглядели. Часа пол это длилось, когда Соткин с итальянцем стали собираться. И нашим друзьям была пора. Заведение готовились закрывать. Но вечер сюрпризов еще длился.
– Ты погляди. Не туда. Они тебя не видят. Вон туда. – Ананасов ничего особенного не заметил. – Видишь того. Он недавно в скверике уселся, газетку в темноте читать. И сюда поглядывал. Хорошо, что я приметил.
Действительно, некий человек пристроился вслед за парочкой, и все растворились в теплых сумерках.
– Ну, и дела. Хорошо, что я заметил. Этот Соткин под колпаком. Как тебе это нравится?
Виктору Андреевичу не нравилось совершенно.
Женские проблемы
Ананасов был мастью пиковый король, а жена его Валя – между червонной и бубновой дамами. Кожа у Вали была белая, как молоко, и легко краснела, тут она попадала в черву, но волосы – рыжеватые, скорее каштановые, определенно указывали на бубну. Валя была ровестницей Ананасова, слегка за сорок. Но кто станет отрицать, дата в женском паспорте, хоть и не любят ее оглашать (и вам не советуем), – дело второстепенное, можно сказать, пустяк. Валя была богата зрелой, уверенной в себе красотой, разве только чуть отяжелела в бедрах. Была она родом из Сибири, а там, по расхожим представлениям, женщины только и делают, что лепят пельмени и пляшут с оханьем и притопом под гармонику на пристанях могучих рек и перронах вдоль бесконечной железной дороги. Может, в Сибири это так, но Валя была человек тонкий и, несмотря на ровный, спокойный характер, знала нюансы настроения. Пусть начинала сибирячкой, а потом еще долго мыкалась по общежитиям, где была замечена будущим мужем. Ананасов и сейчас был хорош, а тогда – просто красавец. Вместе они составили неотразимую пару. И ухаживал Ананасов необычно, использовал некий опыт, которым с ним поделился знакомый ватерполист. Была в продаже замечательная колбаса, о которой слагали легенды. Колбаса звалась сырокопченая. Отправляясь на свидание, Ананасов покупал двести грамм этой колбасы и просил нарезать ее потоньше. Конечно, так было не принято – каждому нарезать. Но Ананасов был, как мы уже понимаем, не каждый, и отказать ему девушки за прилавком никак не могли. Виктор Андреевич являлся на свидание с промасленным пакетиком, и они грызли сырокопченую, перебивая вкус божественными поцелуями. Ах, молодость. Потом сырокопченая исчезла из свободной продажи, потому воспоминание осталось незамутненным скучной обыденщиной, которая непременно приходит своим чередом. Но и теперь, когда они бывали в приличных домах и, усаживаясь за стол, находили взглядом редкостную сырокопченую, Валя напременно настраивалась на романтический лад, и подсказывала мужу взглядом или прикосновением колена к колену – ты помнишь? И Ананасов так же молча сигнализировал в ответ: еще бы. Это был их тайный знак, священный, как знамя в красном уголке, к которому нет допуска никому.
Учреждение, где Валя работала, был главк. Туда сходились нити управления целой отрастью промышленности, так называемых, товаров группы Б. В самой литере нет ничего загадочного. Придумана она для удобства планирования народного хозяйства или, как принято говорить, экономической стратегии. Товары этой группы не имеют оборонительного или наступательного значения, но пользуются повседневным спросом у населения и стоят ему не только денег, но и нервов. В других странах, где этих товаров побольше, литера, как говорят, отсутствует, но у нас пока так.
Рабочий коллектив у Вали был по преимуществу женский. Сколько полезной информации проходит сквозь него за долгие служебные часы. Телефоны и адреса портних, парикмахеров, детских и женских врачей и мясников, рецепты различных блюд, фасоны выкроек, еще много чего… сколько, наконец, любовных тайн. С Валей советовались, с ней делились, потому что была она человеком надежным. А своих секретов у нее не было. Хотя (между нами) могли бы быть. Заместитель министра – назовем его конфиденциально Н.Н. – брал Валю с собой в командировку и приглашал вечером к себе в номер для совместного реферирования. Как это можно понять? Были охочие до такого реферирования, хотя бы с целью укрепления производственного статуса, и ничуть бы не пожалели, пусть, по слухам, самого Н.Н. давно уже молодцом не назовешь. А Валя, когда шла реферировать, одевалась строже, чем в церковь, и даже подругу норовила прихватить, хоть Н.Н. при желании мог пригласить подругу и сам.
Сырокопченая крепко хранила ананасовскую семью, пока в главке не появился Генрих Матвеевич Пряхин, заброшенный к нам прямо из заграничного далека. Там он скитался много лет, пока не пресытился, устал и не запросился домой. Искушенный общением с той самой заграницей, где нашего земляка можно легко отпугнуть обилием социальных контрастов, запросто выходивший с твердой валютой куда-нибудь на Пикадилли или Манхеттен, Генрих Матвеевич вернулся в родное отечество. И тут же стал центром учрежденческого европеизма, который, при всем отвращении к западным порядкам, не отрицал все огульно, а отдавал должное отдельным достижениям и успехам, хотя бы в области производства пресловутых товаров группы Б. Ах, как чудесно умел Генрих Матвеевич носить заграничное, как небрежно оставлял, где попало, замшевые и кожаные пиджаки, забывал в гардеробе, заставляя вахтера создавать специальный пост для охраны. И как изящно сочетал это заграничное с нашим отечественным, все с теми же пресловутыми товарами группы Б. Личным примером разрешал вековечный спор славянофилов и западников именно в пользу своего, доморощенного. И носил это доморощенное с небрежным шиком, как бы призывая, не гнаться за суетным, а прислушаться к сокровенному голосу, который подбрасывал его среди ночи на мягких заграничных постелях и гнал, гнал к окну, где он стоял в одном дезабилье, не боясь простуды от работающего кондиционера, и устремлял тоскливый взгляд на восток.
Такое случалось с Генрихом Матвеевичем постоянно, разве только в Японии он смотрел среди ночи на запад, чуя близкую родину инстинктом некормленного зверя. Как безнадежно и уныло тянулось время там, у них, зато каким подарком, какой радостью и вознаграждением скитальца были встречи с нашими таможенниками, которые научились распознавать Генриха Матвеевича за время частых поездок и возвращений, а, узнав, с пониманием относились к запросам его близких, ради которых он и таскал ненужные для себя и обременительные тяжести.
Пусть Генрих Матвеевич знал языки, никогда не садился первым в присутствии дам и вообще вкусил плоды поверхностного западного просвещения. Будем и мы снисходительны. Но именно он привил институтским интеллектуалам здоровый скепсис перед чванливым просперити, умерил нездоровый интерес к закрытым просмотрам в Доме кино и походам в чековую березу. Как-то неловко было при Генрихе Матвеевиче распинаться на эти темы. Не такой это был человек.
Уже несколько лет как вернулся Генрих Матвеевич и пришел в главк, но до сих пор удерживал повышенный тонус, играл им, как бицепсом, напрягал в интересах дела. И принес немало пользы, именно, на общественных началах. Например, пожертвовал собственный костюм из чудесного английского твида, известный в заморских краях под брендом сельский джентльмен, для разработки отечественных моделей верхней одежды для аграрного актива. Многие рассуждают о жертвах во имя общего дела, но, согласитесь, на костюм не каждый решится. А Генрих Матвеевич решился, бросил, так сказать, на алтарь. Естественно, вокруг подвижника развернулось общественное движение, хоть в строгих рамках, но с примесью некоторого вольтерьянства, снисходительно не замечаемого высоким начальством. У нас всегда так. Секция лаун-тенниса. Просмотр тематических слайдов с рассказами о разных городах, в которых удалось побывать Генриху Матвеевичу за годы нелегкой службы. И не простые доклады, а с содокладчиками, которые знали о тех местах пока только понаслышке, но с упоением произносили, осваивая прононс, Сакре-Кер, Монпарнас и многое другое. Особенно сразил Генрих Матвеевич фотографиями, на которых был заснят во время прогулок по Парижу на пару с известным поэтом, флагманом отечественного свободомыслия. Поэт и Генрих Матвеевич снимали друг друга по очереди на фоне Эйфелевой башни и в Люксембургсом саду, а потом какой-то обыватель (там их тоже хватает, не только у нас) запечатлел Генриха Матвеевича с поэтом вдвоем, в обнимку. Этот снимок придал всему повествованию (были и другие) документальный характер и в недалеком будущем делал личность самого Генриха Матвеевича объектом мемуарописания и литературоведческого изучения, живым свидетелем большого лирического цикла, начатого поэтом все там же в Париже и проникнутого понятными до слез ностальгическими настроениями. Угадано было точно. Сам Генрих Матвеевич выглядел на снимках беззаботным, в летней рубашке с широко распахнутым воротом, а поэт, наоборот, вид имел нездоровый, измученный капризной музой, и застегнут был туго, под самый подбородок, оберегая не только плоть, но сам дух от тлетворных флюидов, опасных для русского человека, как вирус кори для инопланетянина.
Конечно, Генрих Матвеевич угодил в поле зрения местных дам. Причем не просто угодил, а сразу и решительно затмил всех институтских бонвиванов. Не зря украшал Генрих Матвеевич президиум в честь Международного дня 8 марта. Не напрасно освежал его монументальной фигурой, безукоризненной выправкой, крупной породистой головой, которую держал набекрень, чуть поводя подбородком и скашивая глаза на лацканы пиджака, что придавало ему умилительное сходство с умным породистым псом, осматривающим экстерьер в поисках блох. С ума сойти! И было от кого! Шикарный мужик – так хором оценили Генриха Матвеевича местные красавицы. С грустным, однако, вздохом. Потому что сердце Генриха Матвеевича было зашторено. По крайней мере, пока.
Причина была. Генрих Матвеевич направил свой взыскующий взгляд на Валю Ананасову. Но, направив, вел себя сверх всяких похвал. Как говорится, красиво вел. Не пытался штурмовать с ходу преграды, выстроенные растревоженной Валиной добродетелью, подминать их под себя, переползая, как через колючую проволоку поверх наброшенной шинели с хриплым криком Даешь! Нет, не так вел себя Генрих Матвеевич, а наоборот. Совсем наоборот. Заботливо готовил почву для будущих цветников и виноградников, разрыхлял, возделывал, засевал, не торопясь, но и не прекращая многообещающие труды. Не жалел усилий в ожидании грядущего сбора плодов, амброзии и нектара. Ах, как тонко и изящно он преодолевал Валино смятение, как бы умиляясь вместе с ней ее метаниям и растерянности. И, пардон, нелепости. Как будто белоснежным платочком стряхивал пыль уныния и скуки, под которой нет и не будет ничего стоящего. И уже сегодня можно предвидеть разочарование и досаду по поводу бессмысленно утраченных лет, горечь и ощущение во рту прокисшего холодного супа. Позвольте, как бы недоумевая (а может быть, действительно недоумевая) мысленно восклицал Генрих Матвеевич, а его красноречивый взгляд доводил это восклицание до Валиного сведения. Позвольте, как можно! Как? Губить и обкрадывать себя в наш век эмансипации и свободы. Как можно так жить? Не где-нибудь, а в Европе. Жить по законам домостроя, принося ненужные и даже вредные для здоровья жертвы. Как можно?!
Да, это были сильные аргументы. Он отбрасывал Валины сомнения легко и изыщно, как фокусник. Не торопясь, переходил к следующим, все более сильным доводам. С пониманием относился к пароксизмам женской добродетели. И заодно прояснял их безосновательность, которую он будет рад преодолеть совместными усилиями. Он довел до ее сведения, что их будущий роман (так это ему виделось) – не роковая страсть, не зловещий треугольник, сродни бермудскому, в котором бесследно исчезают здоровье и репутации, а по черной воде плавают обломки успешных карьер. Не надрывное выяснение отношений до самоистязания и угрозы самоубийства. Не шантаж, наконец, просроченной беременностью. Нет, и еще раз нет! Всего лишь логичное и приятное завершение легкого (обязательно, легкого!) ужина, изящный набор телодвижений, сила и продолжительность которых определяются возрастом и здоровьем, переключение эмоций, сброс пара или (одно из перспективных объяснений) вид совместной гимнастики для разнополых партнеров, аэробика под негромкий джаз или классическую музыку в зависимости от интеллектуальных запросов, темперамента и состояния нервной системы. В общем, что-то такое…
Как это было назвать? Ухаживанием, домогательством, совращением? В том и дело, что сильное эстетическое чувство Генриха Матвеевича в смешении с его же ответственностью за дело и достоинством патриота и гражданина, выводило весь процесс за определенные рамки, меняло привычные представления. Называйте, как хотите, но важен результат: Валя стала постепенно привыкать к новому состоянию. Сначала, что Генрих Матвеевич ее замечает и выделяет особо, а затем, пережив это волнующее ощущение, что она ему нравится. Да, да. Именно так. Открытие не слабее архимедовского, каждый из нас, даже не будучи древним греком, способен пережить внезапный восторг. Ах, как головокружительно и чудесно, ощутить на себе внимание, почувствовать интерес такого мужчины. Несколько неспешных, баюкающих разговоров за чашкой кофе в уютных обитых зеленым плюшем креслах модного кафе… вы помните, В старой Вене, на Пратере?… Вертинский пел, только свет там не такой яркий… Прогулки на речном трамвае… Именно тогда Валя стала ощущать вежливое, дружеское участие его руки, а потом ее сознательную задержку в своей. Не требовательную, нет, не просящую, а пока только намеком, подсказкой в направлении их возможных отношений. Соглашайтесь, звал он, я жду. И чуть позже, когда она почувствовала тепло его дыхания на своих пальцах, на обручальном кольце, которое она впервые ощутила с некоторой досадой, но которое он как бы не заметил, перевернув руку тактично, мягко и деликатно уведя губы ближе к запястью. И когда он прикоснулся к ее руке влюбленно, страстно и глянул снизу вверх, открыв раненую душу, она подумала с какой-то незнакомой, невозможной по прежней жизни сладкой болью: – Да, это он. Я готова.
И все же прошло немало времени, и дьявол был посрамлен в последний момент. Об этом стоит рассказать особо. Все было решено, и Валя сказала мужу, что может неожиданно уехать прямо с работы в однодневную командировку. Такое бывало и прежде, и не вызвало у Ананасова подозрений. Ему было о чем думать. Валя тайком уложила дневную и вечернюю косметику, туалет для вечера и песочного цвета, расшитый драконами пеньюар, который купила по счастью во львовской комиссионке и справедливо подумала, что Ананасов не сможет его оценить. Так оно и вышло, но наши желания и мечты сбываются самым таинственным образом, не сейчас и не сразу, а где-то далеко впереди, в будущем, до которого нужно добраться.
Закончился производственный семинар, на котором присутствовал сам министр. Был одобрен доклад Генриха Матвеевича и успешно проведена демонстрация твидового мужчины. Сопереживая успеху своего избранника, Валя была удивительно хороша. С честью выдержала очное соревнование с некоторыми другими участницами семинара, бесстыдно имевшими виды на ее Генриха. Было договорено, после заседания они отправятся отдохнуть, провести время в уютном коттедже, доступном для Генриха Матвеевича. Он предложил Вале эту прогулку накануне, как бы вскользь, мимоходом, с корректностью человека, уважающего чужие планы и не предполагающего их ломать. И с легким налетом безразличия и самоиронии – защитной реакцией, если бы выношенный план был отвергнут, а самолюбию нанесен урон. Ох, уж эти мужчины.
В то утро Валя с особенным чувством чмокнула Ананасова, что вызвало у него неосознанное беспокойство, будто сигнал тревоги, предупреждающий животных об опасности лесного пожара – инстинкт, утраченный цивилизованными людьми. Чмокнула в лоб, то есть в то самое место, на котором в грядущую ночь должны были прорасти символические рога, итог ее новых отношений с Генрихом Матвеевичем, или, если смотреть шире, переход на новую жизненную орбиту освобождения от бремени тягостных предрассудков. И, как бы подводя этим поцелуем черту под длительным периодом патриархата и скучной моногамии, Валя с легким сердцем покинула квартиру со спортивной сумкой, дополнительно ее молодящей и содержащей в себе разные соблазнительные и дурманящие притирания, умащивания и благовония, щетки для волос, кисточки для ресниц, легкие, струящиеся до пола одежды, которые должны были придать ритуалу соблазнения некое сходство с открытием памятника, правда, без излишнего освещения, зрителей и аплодисментов. Все было подготовлено и как бы застыло в трепетном ожидании сигнала.
И тут Генрих Матвеевич – этот безукоризненый европеец и джентельмен обидно сплоховал. Впрочем, может быть это слово здесь неуместно. Он не нахамил, не переволновался, что связывают в таких случаях со словом сплоховал. Наоборот, он вел себя выше всяких похвал, о чем еще будет сказано. Но не уследил за нюансами порывистого женского настроения, не проявил тонкости и, вернее всего, просто перестарался. Теперь пойди и объясни. То, что он усадил Валю в ведомственную машину, пусть, не из главка (туда бы Валя при нынешних обстоятельствах ни за что бы не села), а вызванную по заказу из специального гаража (!), практически не повлияло на ее романтическое настроение, разве только пустило легкое облачко по незамутненному горизонту, окрашенному в розовый цвет элегической грусти, сродни декадентскому романсу. Легкое облачко поплыло. Действительно, зачем было впутывать в их отношения казенного человека? Пусть даже непроницаемого, пусть даже бесстрастного, не предполагающего даже намека, фамильярных подмигиваний или ухмылок, даже просто реакции живого человека, но все же именно живого в силу возможности все видеть, слышать и понимать. Теперь ясно, нужно было обойтись такси. Было бы дороже и, казалось, попросту глупо, если имеешь соответствующие возможности. Ну, и пусть глупо. Не ищите логику там, где встречаются двое и еще только ищут путь друг к другу, слушая сердце, а не разум. Зато не было бы в зреющих отношениях привкуса заурядного приключения, романчика по случаю, банальной интрижки. Чепуха? Именно так говорила себе Валя, усаживаясь в казенную машину. Факт тот, что поехали. Валя расположилась, устроилась удобно на заднем сиденьи и, закрыв глаза, отдалась во власть новых ощущений. А именно руки Генриха Матвеевича, его прикосновения к колену и даже чуть выше, но только чуть-чуть, чтобы шофер, который мог наблюдать за этими пассами через свое зеркало, не оценил их иначе, чем дружеское прикосновение. И тут Генрих Матвеевич вновь пустил петуха. Пока убаюканная движением Валя совсем было задремала (что ни говори, а день был не из легких), Генрих Матвеевич стал негромко читать стихи. Причем в конце каждого называл автора, не указывая, правда, названия самого стихотворения. А объявлял: Лермонтов, Есенин, Рождественский Роберт, что предполагало, по-видимому, существование еще одного Рождественского, которого Генрих Матвеевич наизусть не знал. Поэзия была, в основном, лирическая, томительно любовная, но промелькнуло и несколько гражданских стихов, в частности, того же Рождественского, с отчетливой ностальгической нотой, со слезой по родному краю, что было вполне объяснимо применительно к подвижнической судьбе самого Генриха Матвеевича. Читал он долго и выразительно, выделяя интонацией сильные места и приглашая свою спутницу к сопереживанию нажимом на коленку. Но опять же мешал водитель. Тот вел машину и знал свое место. Но не знакомая со служебным сервисом, который вполне понятно и четко отделяет водителя от пассажиров, Валя испытала ужасную неловкость. Сначала за Генриха Матвеевича, потом за себя, а потом даже за водителя. Казалось бы, совсем нелепо, но именно так. Хоть это была всего лишь деталь, легкий штришок к дальнейшему сюжету. А, в общем, они доехали вполне благополучно, и шофер улыбнулся Вале на прощание. И совсем не казенно, а по дружески. Впрочем, тут полагалось говорить не вульгарное – шофер, а именно – водитель. Так это должно выглядеть, при подлинной демократии: просто у Генриха Матвеевича с Валей свои дела, а у водителя – свои.
А пока прибыли и расположились. Лежали на пляжике, и разомлевшая Валя наблюдала, как Генрих Матвеевич, чуть надавливая, изучает небольшой прыщик подмышкой слева. Даже царапнул красивым ногтем розовую пуговку, потом, приставив руку к нездоровому месту, проверил: трет или не трет, и даже убедившись, что не трет, удерживал руку чуть на отлете. Просто на всякий случай, пока они не вернулись в дом, и Генрих Матвеевич не прижег прыщик одеколоном.
Наконец, уселись ужинать. Но прежде Генрих Матвеевич поднялся на второй этаж и вернулся к столу в легких брюках цвета беж и в белой трикотажной майке с воротником. На левой груди было выбито не заветное для многих название Адидас, нет, а изображена похожая на улитку эмблема самого Пьера Кордена – магический знак приобщения к самой изысканной и утонченной моде, которая доступна или даже заслужена (так точнее) у нас очень и очень немногими. И итальянские кроссовки украшали ноги Генриха Матвеевича, причем левая, как он посетовал, еще должна была разноситься, а пока чуть жала, создавая некоторый дискомфорт, который Генрих Матвеевич должен был стойко терпеть. Как истинный теннисист, он просто не мог позволить, даже мысленно не мог допустить ношения другой, пусть даже более удобной для примитивного взгляда обуви. Естественно, те, кто побывал на месте Генриха Матвеевича, не могут его не понять. А другим, как, в частности, Вале, предстоит не раз убеждаться по мере приобщения. Главное – стиль, и еще раз – стиль.
Валя тоже переоделась, вернее, натянула на высохший купальник некий наряд, пусть не столь изысканный, как у Генриха Матвеевича, но выгодно оттеняющий немалые достоинства, в первую очередь, глубоко декольтированную грудь, сохранившую молодую форму, не квелую, не оплывшую, а теперь слегка разрумяненную пляжным солнцем. Поэтому, готовясь к ужину, Валя дополнительно протерла облученные места парфюмерией, а теперь скашивала глаза и обдувала сквозь трогательно сложенные губы. И Генрих Матвеевич раз за разом проявлял интерес и норовил проверить местную температуру тылом ладони. Должен же он, как хозяин дома, нести ответственность за свою гостью? В самом благородном смысле.
Во всем этом была не застенчивость и не жеманство, а именно пикантность, интрига волнующей игры, эманация некоей энергии, которая, как утверждают теоретики, доступна чувственному опыту и называется совмещением биополей. И очень кстати, что Генрих Матвеевич заговорил о парижанках. О некоем головокружительном, неповторимом, невыразимом на нашем языке эспри. Действительно, хоть велик и могуч наш отечественный язык, а выразить – не получается, чтобы связать в единое понятие: раскованность, стиль, умение нравиться и превратить знакомство, даже обольщение в изящную, легкую игру. Нет такого слова в нашем языке, и, видно, не случайно. Массовое одновременное присутствие таких черт в народе (а женщины – его лучшая часть!) и создают эспри, а вместе с ним неповторимый изысканный колорит, присущий лишь утонченным, даже упадническим культурам. Хотите пример? Как же это объяснить? Ага, вот. Когда можешь подойти на улице к понравившейся женщине и получить ее согласие на знакомство или даже отказ (для примера отказ даже лучше), но отказ вежливый, корректный, с извиняющейся улыбкой, без крика и риска нарваться на прямое оскорбление или хамство. Разные там: козел, пошел ты… и прочие вульгаризмы. Вы понимаете? Об этом и речь. Не следует, конечно, рассматривать этот пример примитивно, в нем скрыто гораздо более того, чем сказано. Здесь есть аромат, предчувствие. Пусть трудноуловимое, но есть. Качественно более высоких, сложных и одновременно более простых в своей утонченности отношений между мужчиной и женщиной. Ощущение их, как глотка хорошего коньяка, удержанного во рту и будоражащего кровь, а не заглоченного залпом в желудок, с вытаращенными глазами, над горой сваленной в тарелку закуски, чтобы, не дай бог, сразу не окосеть.
– В наших женщинах, – вещал Генрих Матвеевич, – это замечательное свойство, эспри встречается крайне редко, оно уникально и, на удивление, неразвито. Увы, это так. И трудно ждать быстрого прогресса среди озабоченных и загнанных бытом современниц. Потому замечательно, что сильные и энергичные признаки этого свойства Генрих Матвеевич, как опытный селекционер, обнаружил именно в Вале. И оценивает свое открытие вполне объективно, без понятного желания сделать комплимент, ибо сказанное куда весомее и выше.
Кропя елеем, Генрих Матвеевич разжег камин (был и камин), и они сели за стол. При свечах. Причем Генрих Матвеевич не преминул еще раз проявить заботу о Валиной груди. В полумраке цвет раздраженной кожи стал неразличим, а личное участие Генриха Матвеевича могло понадобиться. Свечи и камин освещали комнату, придавая и обстановке, и атмосфере застолья некую торжественность, будто то, что ждало их после ужина, было вызвано не влюбленностью и Валиным благодарным желанием, а особым ритуалом посвящения, сродни клятве или жертвоприношению. От странного ощущения этих минут, застывшей метафоры, неспособной развоплотиться в конкретный образ времени и места, у Вали стало ломить шею, а само эспри, так счастливо обнаруженное Генрихом Матвеевичем среди ее многочисленных достоинств, стало казаться досадным недоразумением. Будто это не она еще недавно была счастлива этим открытием. А Генрих Матвеевич, не замечая, гнул свое. Включил проигрыватель и значительно, как объявлял в машине фамилии поэтов, провозгласил: Скарлатти. Выждав первые такты, и как бы расставляя пальцем мелодические акценты, он достал начатую ими бутылку коньяка и предложил: – Еще Камю? По рюмке они выпили перед пляжем и самое время было пропустить по второй. Причем лучше водки, да, именно, водки, так как аппетит у Вали разыгрался, а для таких случаев водка была проверенней и надежней. Но она уступила, махнула рукой, чтобы наливал, а сама стала рассматривать стол, выбирая закуску. И взгляд ее ударил в сырокопченую. Будто током.
Ох, эти возможности в потреблении дефицита. Пусть даже официально и по ранжиру. Раз в месяц, раз в квартал. Кому по килограмму, кому больше, прямо на дом и в холодильник. Какую глупую шутку сыграла сырокопченая в тот вечер с Генрихом Матвеевичем. Как быстро и жестоко разрушила она тщательно возводимое здание. Ведь достроить оставалось всего ничего. Разве только фигурально положить последнюю черепицу и освятить сдачу готового объекта бутылкой шампанского. И сама бутылка была припасена для такого случая. Не какого-нибудь, а именно Брют, которое не просто пьют, а скорее приобщают к будущей изысканной жизни. Как и духами Диорелла, которые Генрих Матвеевич, не сомневаясь, пустил бы в ход. Правда, не сразу, не сегодня, а попозже, когда Валино место в его жизни будет определено более точно и конкретно. Потому что именно Диорелла, а не, например, Диорама или другие парфюмерные изделия знаменитого Диора, и была его любимым запахом, или, если хотите, ароматом. Но сейчас, пока Генрих Матвеевич токовал о преимуществах итальянской мужской моды над французской – да, да, это только кажется парадоксом, и Валя сама сможет в этом убедиться, также как и в том, что в женской моде французам действительно нет равных, и в этом тоже нужно быть объективным, – пока плавно лился этот разговор, Валя медленно жевала сырокопченую и вспоминала вкус молодецких ананасовских поцелуев.
Не удивительно, что в тот вечер у них ничего не вышло. Все было спущено на тормозах, хоть вызвало недоумение и, возможно, даже досаду Генриха Матвеевича. В двенадцать Валя уже была дома, где застала сморенного газетой Ананасова. Тот спал пока на диване, не раздеваясь, в шерстяном спортивном костюме местной фабрики Спартак, купленном для будущих спортивных пробежек. Как раз в эти дни Ананасов стал подозрительно следить за фигурой, но еще не мог преодолеть лени и сейчас эксплуатировал костюм не по назначению. И это летом! Было с кем сравнить. Валя снова чмокнула мужа в лоб, испытывая, как ни странно, именно сейчас, угрызения совести, которых не было утром.
И все же это была лишь последняя судорога измученной соблазнами добродетели. Жизнь берет свое, и нельзя обминуть то, чему положено случиться. Конечно, ночной побег Вали из коттеджа нарушил бережно созидаемую гармонию и произвел ненужный, болезненный надрыв. Теперь предстояло его лечить и зализывать, чтобы вернуться на брошенные рубежи. Обо всем этом Валя думала на следующее утро, лежа в постели рядом с посапывающим мужем.
Ясно, Генрих Матвеевич был не из тех мужчин, которыми можно бросаться. Если он сам предложил свое чувство, бросил, так сказать, к ногам, пренебрегать этим было никак нельзя. Можно, ведь, и пробросаться. Многие женщины Валю бы не поняли. Не поняли, и все тут. Даже со ссылкой на сырокопченую и другие воспоминания молодости. Ну и что? Пожали бы плечиками и справедливо заметили, молодость прошла, а воспоминания – всего лишь сорванный цветок, пусть, красивый, но когда? а теперь безнадежно увядший, утративший аромат. Никто не предлагает его выбрасывать. Наоборот, следует засушить и сберечь, чтобы на склоне лет рассматривать собранный гербарий. Но сейчас… Извините, причем здесь реальная жизнь? Время для других цветов. И, конечно, можно понять Генриха Матвеевича. Он должен был почувствовать себя задетым, хоть, пропитанный джентельменством, этого никак не показал. Он не дрогнул, не проскрипел зубами, хоть обиду можно представить. Долго он приглядывался к Вале, изучал характер, привычки, вкусы, примерял, как бы, на себя. Может быть, даже колебался, да-нет, нет-да, пока, наконец, решился. И после этого сколько было проявлено такта, чуткости, внимания к переменчивой женской натуре. И, попутно заметим, не какую-нибудь интеллектуалку или консерваторку выбрал он для себя, в женщину, хоть красивую, видную, но простую, сибирскую, потершуюся, конечно, в городе, но ведь, простите, где? – не среди бомонда или актива, а, все больше, в очередях и городском транспорте. И он это видел, понимал, но закрыл глаза. Значит, и дальше предполагал трудиться, поднимать до своего уровня, прививать манеры. Все было обдумано, взвешено. И вот, когда подготовка была закончена, когда было дано понять, и получено согласие, когда оставалось сыграть последний акт и опустить альковный занавес, когда все задуманное должно было произойти буквально вот-вот, и уже, собственно, происходило, случилось нечто непонятное, будто что-то лопнуло, треснуло, среди романтического сумрака ударил тупой прожектор, и Генрих Матвеевич увидел, клетка пуста, приманка съедена, а добыча ушла. Или, может, (того хуже) не ушла, а таится где-то рядом, посмеивается над незадачливым охотником, чтобы и дальше водить его за нос и лакомиться на дармовщинку. Так или нет? Именно так.
Вполне можно вообразить себя на месте Генриха Матвеевича после злополучного свидания. Тем более он был практик, а для практика нет ничего хуже, чем выжидать и таиться в бездействии. И, тем не менее, Генрих Матвеевич решил именно выжидать, хоть вполне мог оскорбиться и напустить на себя мрачный, байронический вид. Но не оскорбился, не напустил и оказался прав. Ясно, что Генрих Матвеевич был Вале небезразличен. Ведь она решилась на эту поездку с вполне определенной мыслью: а почему бы и нет? Значит, многое для себя представила, заглянула в грядущее, хоть, конечно, не могла предвидеть его в подробностях. Например, что Генрих Матвеевич уже припас для нее свою любимую Диореллу. И пусть сдерживающие мотивы сработали, оказались сильнее, но ведь Валя не была какой-то вертихвосткой, которую Генрих Матвеевич вниманием бы не удостоил. Значит, случай вполне можно было представить, как случайность, досадный сбой, подготовленный – так бывает – отдельными накладками, вроде вызова казенной машины и чтения того же Лермонтова, который в другом случае оказался бы более кстати. Все это похоже на серию подземных толчков, каждый из которых ощутим, но не опасен, и вспоминается потом, как приключение. Досадные нелепости часто присутствуют в начале больших дел и выглядят полной чепухой, когда остаются позади. Легко можно вообразить, что при другом обороте и Валя, и Генрих Матвеевич, отдыхая в интимной обстановке и обсудив под общим углом производственные проблемы, посмеялись бы среди прочего и над машиной, и над Лермонтовым, и даже над воспоминаниями о сырокопченой, которые, сумей их Валя преодолеть, утратили бы силу фетиша и оказались бы именно тем, чем положено, атрибутами старого обряда, утратившими магический смысл. Пыльным экспонатом. Инвентарным номером в архиве памяти. Именно так.
Но преодолеть этот рубеж Валя не смогла. И теперь вспоминала, как нелепо вела себя накануне. И размышляла, как быть впредь. Теперь, когда все утрачено. А тут еще Ананасов проснулся и, глядя в напряженное лицо жены, поинтересовался: – Что с тобой, мамочка?
Больнее нельзя вообразить. Валя едва не взорвалась на дурацкое мамочка. Повернулась к мужу спиной, и дала волю слезам. Немного, но и этого хватило.
Спустя месяц между ними случилось, что должно было случиться в тот злополучный вечер. Теперь пришлось пробираться к сердцу Генриха Матвеевича ледоколом. Он прохладно встретил ее усилия. Зато сама Валя знала точно, чего хочет, и была настроена решительно. Генрих Матвеевич покапризничал и сдался. Она приняла его согласие с благодарностью, как награду, которую еще предстоит оправдать. Это сразу определило лидерство Генриха Матвеевича. Отношения стали выглядеть более значительно, солидно, утратили ненужную игривость, характерную для ъенщин, стремящихся выдать легкомыслие поведения за легкомысленность возраста. Не побоимся сказать, отношения приобрели некоторый государственный масштаб, Генрих Матвеевич откровенно делился с Валей производственными планами, дерзкими начинаниями, которые после грядущей победы над бюрократизмом, после всех согласований и подписей, после освоения и внедрения, определили бы небывалый расцвет их несколько отсталой области товаров группы Б, а самого Генриха Матвеевича вознесли бы на должную высоту. И, постепенно проникаясь величием этих замыслов, Валя испытала незнакомое чувство собственной значимости. Отнюдь, не как любовница – нет, и еще раз нет! Пошло и оскорбительно! Соратница, именно соратница – вот нужное слово, – допущенная в штаб борьбы, для служения важному делу, и, лишь отчасти, для утоления чисто человеческих желаний, на которые они имели право, как всякие живые люди.
Дома у Ананасовых все шло как прежде, дисциплину и организованность Генрих Матвеевич распространил не только на личные отношения, но и на климат (так он это называл) в своей и Валиной семьях. Никто не должен пострадать. Озабоченная собственными страстями, Валя прозевала начало ананасовского романа. Но однажды она достала из почтового ящика письмо. Причем поразило Валю, не сразу (сначала она не обратила внимания), а потом, когда она ознакомилась с содержанием, письмо было без обратного адреса (странно, если бы было наоборот), но и без почтового штампа. Значит, было вброшено неизвестным автором прямо в почтовую щель. Подлость гораздо более расчетлива, чем считают порядочные люди. Ананасов был сейчас в командировке и не мог перехватить анонимку. В той самой злосчастной командировке, из-за которой Виктор Андреевич не уследил за судьбой отчета. Само письмо было, как водится, отпечатано и содержало полезную информацию. Внимание! Ваш муж постыдно сожительствует с подчиненной по работе Еленой Шварц! Привываем принять меры!
Каково? Валя прочла анонимку тут же у ящика и даже выбежала на улицу, чтобы настигнуть отправителя. Но, конечно, никого не настигла. Поднялась в квартиру. В глубокой тоске уселась на кухне. Даже плащ не сняла. Стала глядеть в окно. Осмотрела, как чужие, свои руки, услышала собственное сердце, попыталась что-то сообразить, не сообразила, и громко разрыдалась.
Если бы история ананасовского романа не пришлась на ее собственную измену, не стала ее отражением, как похожи друг на друга все подобные истории, если бы этого не было, Валя бы отнеслась к подобной новости, как и следует отнестись. А именно, как к стихийному бедствию. Ибо, что это такое, как не стихия? Разве последствия ее не катастрофичны, не бедственны для сложившейся годами прочной конструкции? Сейчас не думают о причинах, не стремятся сразу покарать виноватых (время для этого еще придет), не пытаются даже осознать масштабы катастрофы, а безоглядно рвутся спасать, что еще можно спасти, как бросается хозяйка во двор, спасать от ненастья вывешенное для просушки белье. Вот когда буря уляжется и прояснятся масштабы бедствия, тогда можно повздыхать о пережитом, оглядеть руины былого благоденствия, найти слова, чтобы преодолеть боль, и начать жить дальше.
Пока Ананасов был в командировке, Валя привыкала к полученному известию. Она поверила сразу. Сильно засело в ней ощущение собственной вины, чтобы подтвердиться теперь: вот она, расплата. Тревога и растерянность жгли. Как быть? Валя, как всегда за последний год, поделилась с Генрихом Матвеевичем.
Тот повертел анонимку в руках, закурил, красиво пустил дым. Вообще, Генриху Матвеевичу красиво давались жесты. Помолчал, он всегда значительно выдерживал паузу.
– Что собираешься делать?
– Не знаю.
– Ты его ревнуешь?
Валя скорбно кивнула. Именно так. Мысль об измене мужа не отпускала, как больной зуб.
– Понимаю. – Посочувствовал Генрих Матвеевич. – Трудно. Но ничего сейчас делать не нужно. Его ведь за границу готовят. Начнется скандал, все рухнет. И что тогда? Нет, пусть едет. – Генрих Матвеевич помолчал, прислушался к чему-то своему и решительно затянул французский галстук. Будто поставил в конце восклицательный знак, только вниз головой.
Прогулка
– Я предлагаю пройтись. – Сказал Жора Ананасову чудесным весенним утром.
Делать с утра в субботу особенно нечего, а тревога не отпускала, не давала вздохнуть спокойно. Даже не верилось, что было когда-то это спокойно. Хотя вокруг ничего не происходило. Не видать было следов подспудного движения, настораживающих признаков, сгущения атмосферы. Затихли невидимые враги, затаились, выжидая и наблюдая. И сам Ананасов, как индеец на военной тропе, застыл, не шевелясь, и зорко всматривался в окружающих, пытаясь разоблачить. Обжигающие взгляды заставляли ежиться ананасовских сотрудниц, и бежать, на всякий случай, к зеркалу, проверять косметику и одежду. Так Ананасов трудился, наблюдая и прислушиваясь, пытаясь разгадать негодяев под добродетельной личиной, ощущая – все ближе и ближе – таинственность бесплотных перемещений, плетение липкой паутины.
– Неладное что-то творится с Виктором Андреевичем. – Отмечала ананасовский заместитель Людмила Сергеевна – интересная женщина средних лет, почти натуральная блондинка. – А жаль. – И Людмила Сергеевна отправляла за ухо распустившийся локон страсти.
– Куда только его Валентина смотрит. – Поддерживала Клавдия Ивановна, еще один толковый работник. Не отрываясь от цифр, она чутко улавливала сигнал, посланный Людмилой Сергеевной, и отвечала на него ответным сигналом. При этом обе метнули взгляд в сторону Леночки Шварц, предлагая и ей поддержать волнующую тему. Но цели не достигли, Леночка была еще работник молодой, не научилась, делая главное дело, поддерживать разговор. Только задышала неровно на разложенные бумаги.
А Ананасов крутился. Окруженный вниманием коллектива, в смешении запахов парфюмерии и лежалой весенней пыли. Пережил ласковый сквознячок от вскрытого после зимы окна. Отведал первой редиски, взвращенной на собственном огороде Клавдии Ивановны, без всякой химии, как для себя. И хоть посматривал по сторонам настороженно и колко, но еще не очерствел окончательно, не заматерел и готов был улыбнуться, извиняясь за временную озабоченность. Потому выглядел Виктор Андреевич несколько загадочно в легкой хлопчатобумажной куртке с широким поясом стиля блузон, который где-то раздобыла жена и преподнесла, как подарок, для будущей поездки за границу.
– Что с тобой, Витя? – Спрашивала Леночка.
– Со мной? Ничего. – Ананасов изображал удивление.
– Не хочешь говорить… – Сникала Леночка, чувствуя обман фибрами влюбленного сердца.
Не то, чтобы он не хотел, просто что-то мешало. Бездомные, они шли после работы в кино или бродили по укромным улочкам в нижней части города. Хорошо еще, что жена Ананасова ушла с головой в работу и тоже стала задерживаться. А сегодня, в субботу отправилась с утра куда-то, даже особенно не прояснив. Сказала, что к портнихе, но Ананасов знал, портниха в больнице, и Валя, вроде бы, знала, что он знает. Семейная жизнь шла нервно, вразнос. Росло отчуждение и холод, как растет лед в горах, перед тем, как обрушиться с грохотом. Оба чувствовали и страшились, потому ходили и разговаривали с осторожностью, избегая выяснения отношений. И сегодня Ананасов молча снес Валин уход, заявился к Жоре, втянул в ненужное с утра застолье. Хорошо, что Жорина жена – Зира, женщина татарских кровей относилась к Ананасову по доброму.
Друзья, поднявшись из-за стола, отправились в путь. Прямо за домом начинался заброшенный лесопарк, тянулся вдоль железной дороги. Тропинка была влажной после ночного дождя и отпускала туфли с причмокивающим звуком сожаления. Место было сырое, болотистое, неуютное, предназначенное для разговоров досадных и неприятных.
– Подумай, что делать с Соткиным. – Рассуждал Жора. – Он пока единственный, кто нам известен. С иностранцами шляется. И интересуемся им не только мы.
– Потому делать ничего не нужно. – На правах пострадавшего за Ананасовым было последнее слово. – Мне скоро ехать. Сейчас главное, дотянуть. А к приезду все забудется. Или сам пойду, повинюсь.
– Но кто-то тебе сильно хочет нагадить. – Рассуждал Жора. – И, пока ты будешь отмалчиваться, сила на их стороне. Поговори с Леночкой. У женщин особый взгляд, ты внимания не обратишь, а они заметят.
Жора по камням перескочил через ручей и оказался на большой поляне, густо поросшей травой с островками мяты, щавеля и обилием желтых цветков одуванчика, что делало поляну похожей на посыпанный зеленью омлет. Здесь на солнечной стороне было сухо, сумеречный холодок исчез. За поляной, утопая в молочно-розовом цвете яблонь, тянулись ветхие строения, брошенные домики под ржавыми кровлями, рассыпающиеся сарайчики, сбитая на бок голубятня. Все это виделось сквозь плетение изгороди из проволоки, досок, камней, даже спинок кроватей, крепко прикрученных к стволам деревьев. Только защищать и прятать здесь было нечего. И не от кого. Вокруг ни души. Одичалая собака пробежала, сторожко глянула на друзей и исчезла. И более ничего живого не было заметно в застывшем, оцепенелом каком-то пейзаже. Ничейная земля. Человек уже отступил, а городская, чуткая природа еще только заползала зелеными щупальцами, пробиралась в затоптанные дворы, играла с ободранным железом на крышах, осыпала штукатурку с мазаных стен, обнажая деревянные крестики дранки и бугристые бревна.
Беседуя, друзья неспешно вышли к сонному озеру, обтянутому, как огромная лохань, бетонным скосом. По берегу тянулся променад, достаточно людный в этот погожий день. Густая пленка зелени была небрежно наброшена на сонную воду, а поверх, как игрушки на ковре, щедро разбросаны обломки дерева, доски, всякая строительная чепуха, даже металлическая бочка торчала боком в бахроме слизи. Противоположный берег был частично травянистый, так сказать, натуральный, над зеркальцем чистой воды стыла одинокая фигура рыболова, неподвижная и даже какая-то неодушевленная, будто затейник декоратор подсадил сюда не человека, а муляж, и так завершил композицию.
Когда-то в этих местах хозяйничали монахи. Пруд этот, как и другие, затерянные в глубинах парка, наполнялся целебной, родниковой водой, сулящей крепкое здоровье, богатого жениха и защиту от сглаза. Впрочем, и сейчас родничок пробивался. Старушки собирали драгоценную воду в банки, затягивали пластмассовыми крышками и трогались потихоньку в путь, в неблизкую церковь. Там воду святили, чтобы крепче могла совершать чудеса. И друзья попробовали отстоявшейся с болотистым душком водицы. И отправились в цивилизованную часть парка, которая была обозначена издали громадным колесом обзора, неуклюжей шестеренкой, врезанной в земную твердь. Пульсирующими толчками ползли в белесое небо кабинки, вознося все выше досужую публику в полет над зеленым массивом и ползущим сквозь него поездом детской железной дороги. А внутри, среди дорожек, крытых каменной пудрой – младенческой присыпкой паркового классицизма, среди стриженого барашком кустарника, блестящих свежей зеленью скамеек, среди бочек с квасом и пивом, среди всех больших и малых примет народного гулянья, вскипал субботний ералаш. С детским визгом и треском игральных автоматов, с шумом, хохотом, терпеливой очередью за шашлыками, с изготовлением бумажных силуэтов, с полуподпольной продажей бижутерии и гипсовых Венер, с военным патрулем, с пыхтящими бегунами, крикливыми массовиками, с доминошниками, бильярдистами, читателями газет и журналов, честными тружениками, ветеранами, искателями амурных приключений, дозревающими подростками, миллионами алых роз, сыплющихся из всех динамиков, и одиноким, пугливым как лань, эксгибиционистом, фигуру которого, укрытую в буйном неистовстве весны, обнаружить было труднее, чем полицейского инспектора Вернике на загадочной немецкой картинке.
Они миновали парк, вышли к дороге и поднялись на заросший деревьями склон, раскинувшийся двумя ярусами: нижним – пологим, окружающим лужайку, и верхним – крутым, открытым солнцу. На тропинке между ними было особенно людно, с изрядным числом беременных женщин и детских колясок. Публика была самая мирная и даже идиллическая. В верхнем ярусе друзья расположились, съели припасенные Жорой бутерброды, затем Жора отправился загорать чуть ниже, на открытый солнцу участок, а Ананасов поднялся в тень и залег, жмурясь от пробегающих по лицу солнечных бликов. Так он блаженствовал, закрыв глаза, отрешался от путаных и тревожных мыслей. Разогретый воздух наполнял изнутри ласковым теплом, расправлял слежавшиеся за зиму телесные складки, будто готовя в полет. Ананасов вдохнул растертую в пальцах мяту, расслышал шум деревьев и почувствовал себя легко и спокойно.
Вдруг совсем рядом раздался топоток и запрыгала в облачке пыли плотная фигура, светясь рыжеватым пушком. Две складочки приплясывали на поясе и затылке, блестела матовая лысина. Ананасов проводил толстяка взглядом, даже голову приподнял с подложенной куртки, а тот просеменил, прошелестел мимо, выбрасывая короткие ноги, упираясь ими в крутизну склона, сопротивляясь ускорению, будто кто-то стягивал его вниз за невидимую веревку. Разумно управляя энергией движения, толстяк допрыгал до лужайки, погасил скорость и скрылся за деревьями. Ананасов вновь улегся, но прежнее благодушное настроение уже не возвращалось. Накатила тревога. И несвоевременно было благодушествовать сейчас, когда подлые враги закатывали бочки с порохом в прорытый под него подкоп.
– Нужно быть другим, – мысленно приказывал себе Виктор Андреевич. – Стать сильным, тугим, накачанным, как резиновый баллон, постоянно ощущать плотное сцепление молекул, реагировать упруго, мощно, суметь выдержать удар и пережить боль, чтобы вернее захватить, сломать налетевшего врага, растоптать без жалости и вновь стоять, покачиваясь и вибрируя от напряжения регенерирующей плоти, издавая легкую отпугивающую вонь перегретой резины. Только так!
В таком направлении текли воинственные мысли Ананасова. Он даже задышал по другому, сквозь плотно стиснутые зубы, шипя, как потревоженная змея. Но в том беда, что своих недоброжелателей Виктор Андреевич не знал, а агрессивность была не в его характере, мягком или, как говорят, конформном, то есть привыкшем угадывать смысл жизненных обстоятельств и приспосабливаться к ним без конфликтов и нервотрепки. И сейчас злость Ананасова стала стихать, он сел, чтобы встряхнуться. Жора недвижно лежал внизу, подставив солнцу мохнатую, как у шмеля, спину. Тут Ананасов вспомнил о сбежавшем вниз толстяке и стал высматривать, справедливо полагая, что тот не мог далеко уйти без рубашки. И, действительно, толстяк нашелся, прогуливался на лужайке, похлопывая себя по стынущим бокам, потирая упитанную грудь. Прогуливался, не торопясь, постигая весенние токи природы. Рядом плясал белый мотылек. И вместе они – человек и насекомое демонстрировали себя дуэтом на зеленом гарнире лужайки, как в грандиозной опере-буфф на экологические темы. Будто сама мамаша-природа проводила на зеленом подиуме смотр наиболее способных к выживанию питомцев. В разогретой солнцем ананасовской голове явилось сюрреалистическое зрелище, и он вновь улегся, чтобы удержать себя в границах реальности.
И вновь прошумело слегка. И Ананасов увидел толстяка, восходящего, выталкивающего себя по склону сосредоточенными движениями коротких ножек. Неторопливого и деловитого. Внимательно глянули на Ананасова настороженные глазки, скользнули холодно, отметив проявленный к себе интерес, и не одобряя его. Толстяк проследовал мимо и выбрался под деревья, присоединившись к раскинувшемуся там лагерю. Стойбищу, если хотите. Там радостно встретили вожака. Повернувшись на бок, Ананасов наблюдал исподтишка. И по взмаху руки толстяка, направленному на лужайку, понял, что тот обменивается впечатлениями, как хорошо и славно гулять там, куда соплеменники не добрались по скудости воображения и недостатку инициативы.
– А ведь, действительно, – рассуждал одуревший от безделья Виктор Андреевич, – он ведь просто так спускался, без всякой цели, ведомый одним инстинктом, потребностью что-то затевать, расширять границы своего ареала. Пусть даже с риском, пусть даже со стычками на этих границах. Но последовательно и непрерывно. До полной победы, передышки и новой борьбы.
Толстяк, между тем, снял брюки, которые между своих были ему не нужны, и оказался в красных трусах, усыпанными белыми цветочками. Не слишком фотогеничный, но крепкий, уверенный в себе. Походил среди деревьев, отыскал подходящую ветку, развесил на ней одежду и устроился отдыхать.
Компания состояла из двух женщин, давно не имеющих претензий к своим фигурам, раздавшимся от несбалансированного питания с избытком мучных продуктов, картофеля и тяжелых сладких блюд. Они бродили по траве, неуклюжие и осторожные, будто боялись оступиться, подрагивая белыми студенистыми телами, облеченные в нечто розовое и шелковое, как праздничные парашюты. Был еще один – длинный, худой, небрежный в одежде, в переношенной, спадающей с плеча белесой майке, бесформенных брюках, с печатью судьбы на лице куряки и алкоголика. И еще девочка – тихое создание, смесь испуга и удивления.
Компания шевелилась, словно готовила себя к какому-то важному делу, а потом уселась играть в карты. Видно, в дурака, два на два. Сам толстяк играть не стал, а, устроившись за спиной одной из женщин, наблюдал, не вмешиваясь и сохраняя на лице серьезное выражение. Иногда заглядывал в карты к другим игрокам, как бы подчеркивая нейтралитет и роль бесстрастного наблюдателя.
– Да, не попал бы этот тип в мою историю. – Меланхолично думал Ананасов. Видно, безмятежный отдых давался ему с трудом.
– Витя, ты что, оглох. Зову, зову. – Жора стоял рядом. – Пошли, а то сгорим.
Ананасов взглядом распрощался с компанией, особо выделив толстяка. Они выбрались на дорогу и расстались.
Утренние сюрпризы
Несмотря на самое сознательное отношение нашего человека к труду, нелегко отыскать героя, радующегося, что ушло, наконец, постылое воскресенье, настал долгожданный понедельник, а, значит, можно вскочить ни свет, ни заря, собраться, влепиться в переполненный транспорт и спрессованным, как финик, прибыть к порогу родного учреждения. Ананасов не представлял приятного исключения. Он был с утра нытик. Не из несознательности, совсем нет, а из пагубной привычки поспать подольше, понежиться в постели, отдаляя начало дня и бремя унылой яви. Тем более сейчас, когда только и оставалось, ждать неприятностей.
Но сегодня он проснулся полный решимости, что-то предпринимать. Нужно, черт побери. Виктор Андреевич долеживал последние минуты, а Валя уже встала, Замирала перед зеркалом, а потом, глянув в окно, сменила уже надетую блузку на белый жакет. Кинула кое-что на лицо, оттеняя выгодно, что заслуживало внимания, а кое-что прибирала, известное ей самой. Ладно, не будем. Это не труд, не работа, а творчество, тем более у женщины влюбленной. Подлинный гимн преображения. Никаких мелочей, надежд на благоприятное освещение и доброжелательные взгляды подруг. Расчет на себя. На грациозную легкость походки. На изящество движений. На блеск глаз, оттененных французской тушью. На свежесть щек. На быстрый взгляд поверх приподнятого плеча. Взгляд небрежный и губительный, как разрывная пуля.
– Вставай, Виктор, вставай. – Тормошила Валя мужа на бегу между ванной и зеркалом. Всплыв из глубин сна, Ананасов не мог не отметить достоинства жены. Конечно, время туманит свежесть чувств, но и сейчас, в период увлечения Леночкой, они не были вытеснены полностью. Валя, действительно, была хороша. Ананасов потянулся рукой, но жена ускользнула. – Вставай, Витя, вставай.
Телефон зазвонил. Утренние новости редко бывают хорошими. Звонила Жорина жена. Искала мужа. Ушли они вчера вместе, и нет его. Впору начинать беспокоить милицию и морг.
Звонок пробудил Ананасова окончательно.
– Что-нибудь случилось? – Безразлично спросила Валя, слизывая с губ излишки помады. И Ананасов ощутил неожиданный холодок не в самом вопросе, а в его тоне. Холодок отчуждения, несвойственный между близкими людьми, странное ощущение неуюта и беспокойства. Впрочем, возможно показалось. Столько всего происходило вокруг бедной ананасовской головы.
– А, а. – Безразлично отреагировала Валя на сообщение о пропаже, и тут же умчалась, хоть могла бы расспросить. Жора не чужой. Но Ананасов был даже рад. Не хотелось сейчас объясняться. Собрался, позавтракал холодной сосиской (Валя себе варила и ему оставила) и отправился на службу.
Увидел Леночку издали, и унылое настроение ушло мигом. Казалось бы, неуместно среди тревог и огорчений. Но именно так и измеряется таинственное и непостижимое чувство – любовь, не иначе, как через судьбы любовников, которые следуют навстречу друг другу вопреки опасностям и здравомыслию. И наша пара не исключение. Пошли рядом, ощущая электрический разряд, с трудом удерживая себя, чтобы не поддаться здесь, на людях его магнетическому воздействию. Зато было о чем поговорить. Спокойный внешне, Ананасов все рассказал. Объяснил, что не хотел тревожить раньше. А теперь еще и Жора пропал. Молодец Леночка, смогла выслушать безразлично с виду, не выдала себя. Не знала она ровно ничего. Только в лифте, когда остались вдвоем, прижалась к Ананасову и замерла.
Потом еще урвали пару минут, и Ананасов развил вопрос. Иностранца Марио, с которым общался негодяй Соткин, Леночка знала мало. Встречались, конечно, у подруги, только и всего. Тем более мать Леночки, когда узнала, просила быть осторожнее и приводила в пример Леночкиного дедушку, который имел такие неприятности, что лучше не вспоминать. Сейчас не то, но зачем? Тем более Леночка на хорошей работе…
В общем, ничего толком прояснить не удалось. Курила Леночка, не переставая, и прощальный поцелуй вышел горьким.
Дел, как обычно, в понедельник много, но больше откладывать было нельзя, и Ананасов созвонился с Ильей Григорьевичем – рецензентом, от которого могла тянуться ниточка. В перерыв договорились встретиться. Но до этого Ананасова вызвали к директору.
– Вот, Витя, – объявил тот. – Вызывают тебя в командировку. Срочно. Телеграммой. Ты для них отчет делал. Бросай все и отправляйся.
Маленький Ибрагимов еще недавно был с Ананасовым наравне, но Виктора Андреевича обошел. Как раз то, в чем упрекала Валя, не хватало у Ананасова амбиций.
– Ехать, так ехать. – Согласился Ананасов. Ибрагимов следил за ним недоверчивым глазом. Ловил возможные признаки недовольства, чтобы проявить власть. Но Ананасову даже от сердца отлегло. Будь, что будет.
Илья Гры-го-рыч Бельмондо
Обыватель (в общем, все мы) – существо недоверчивое и готов судить по себе, не вникая в суть явления и масштаб фигур, выдвинутых на обсуждение. Зато высмеивать, иронизировать, это – сколько хочешь… тут лишь бы языком ляпать. Даже понятие, допустим, дурака, которым принято разбрасываться вдоль и поперек, является спорным. Нет такого критерия, кого, например, хвалить, а над кем пожимать плечами, мол, что с такого возьмешь. Легко заметить, те, с кого нечего взять, живут более спокойно, не забивают голову всякой ерундой, а это как раз и есть, так называемый, житейский ум. По-видимому, нет отдельного свойства, как дурак, в том смысле, как глухой, хромой или подслеповатый. Там собственное представление и мнение окружающих, как правило, совпадают, если говорят, к примеру, про Иванова, что он ограничено годен, то так оно и есть, и сам Иванов при случае не забудет об этом напомнить и даже справкой запасется. А дураком, извините, себя никто не считает, и справок на этот случай не выписывают.
Илья Григорьевич Бельский был подходящим примером для иллюстрации этого непростого вопроса. Спор вокруг его имени возбудили завистники, к прискорбию, тот же Жора, который, по-видимому, считая себя умником, даже близко не приблизился к вершинам, который Илья Григорьевич уверенно покорил. То-то Жора за глаза подсмеивался (но дружелюбно!) над Ильей Григорьевичем и звал его нараспев Гры-го-рыч. Придумал Гры-го-рыча не он, а учережденческая уборщица тетя Маша, которая Бельского очень уважала. А понять иронию было просто. Жора был грамотным инженером, но неостепененным, а Илья Григорьевич – доктором наук и видным авторитетом в своей области. Под Жориной насмешкой могла крыться зависть, и Ананасов, кстати, так это и понимал. Тем более, Жора от объяснений уклонялся, и только плечами пожимал. Согласимся, это совсем не серьезно.
Очевидных достоинств у Ильи Григорьевича было несколько. Как уже упоминалось, был он доктором наук, причем не каким-нибудь пошлым практиком, а фундаментальщиком, что означает (и сам Илья Григорьевич об этом честно предупреждал), польза от его научных трудов проявится не скоро, может быть лет через сто, или не проявится вовсе, если последователи Ильи Григорьевича и его коллег фундаментальщиков ослабеют интеллектуально и, как слепые куры, прокудахтают мимо зерен истины, щедро рассыпанных в научных трудах. Таких трудов у Ильи Григорьевича было не менее четырехсот, а, если считать с тезисами, – а это для истории науки важно, – то намного больше. Тут счет шел на тысячи. Именно потому Илья Григорьевич писал общее число прописью, и тюкал, тюкал по клавишам, не щадя ни себя, ни печатный инструмент.
И внешностью Илью Григорьевича Бог наградил, не иначе, как чем-то французским, особенно в профиль. Издавна считалось, что Илья Григорьевич смахивает на Ива Монтана, не только формой носа, но легкой галльской гнусавостью, смахивающей на вибрацию струны контрабаса. Долго длился период схожести отечественного ученого и французского шансонье, и, увы, угас, хотя Илья Григорьевич был, как раз, в самом соку и даже полипы в носу удалил. Просто фильмы с Ивом Монтаном перестали показывать из-за политических капризов вздорного француза. Зато Илья Григорьевич еще краше стал, избавившись от назойливой кинотени. Время шло и открылось, что французы, с их пристальным взглядом на мужские достоинства, не оставили Илью Григорьевича в покое. Прошла Неделя французского кино, и буквально бросилось в глаза – к Илье Григорьевичу напросился в двойники Жан Поль Бельмондо. Хоть, если рассудить, неясно, кто к кому напросился. Если во внешности наблюдалось приблизительное равенство – тут Илья Григорьевич из великодушия мог уступить, то в учености, в интеллекте вопрос решался однозначно. Конечно, известность, конечно, успех были на стороне Жан-Поля. Но если бы Илья Григорьевич гнался именно за этим, а не был известным фундаментальщиком и не служил самозабвенно (Илья Григорьевич любил это подчеркивать) Его Величеству научному факту, то, извините, неясно, как пошло бы дело.
Кстати, Илью Григорьевича выдвигали на Государственную, прошел он два тура уверенно, и сорвался на третьем, в силу досадной нелепости. На решающем заседании Комитета один из верных сторонников Ильи Григорьевича, видный академик, чьи идеи Илья Григорьевич плодотворно развил, вздремнул во время голосования, и, поспешно разбуженный, со сна бросил свой шар не туда, то есть попросту перепутал и вычеркнул из списка не соперника Ильи Григорьевича, тоже, кстати, фундаментальщика, а его самого. Потом, взбодрившись, академик осознал трагическую ошибку и требовал переголосовать, но вмешались, как говорил Илья Григорьевич, темные силы и его завалили. А сам академик, как вскоре выяснилось, проснулся ненадолго и спустя две недели умер. Илья Григорьевич пережил утрату, и сокрушался, что голосование могло сыграть трагическую роль. И, хоть утешали, что голосование не причем, просто срок подошел, но сомнения остались, и успокоить Илью Григорьевича так и не удалось. А тут еще вдова подтвердила: перед кончиной, уже в коме, академик повторял, как важно оценить вклад Ильи Григорьевича в науку и ради одного этого стоит жить.
Такие счастливые свойства сочетал в себе Илья Григорьевич Бельский, которому Ананасов отдал на рецензию злополучный отчет. Поэтому с утра в понедельник Виктор Андреевич искал встречи и договорился ровно на час. Почему именно в обед? Не до того было Ананасову, чтобы вникать в подобные мелочи.
А между тем время было выбрано не случайно. Аспирантка Ильи Григорьевича Зухра Магомедовна давала сослуживцам той, или, говоря по нашему, пир, в честь счастливого завершения первого года учебы. Перед отбытием на родину, для отдыха в кругу семьи и трех детей от академических забот, после работы над первоисточниками, сдачи кандидатского минимума и преодоления других препон, незнакомых прежде восточной женщине, а теперь таких понятных и близких после головокружительного скачка из феодальной деспотии прямо в развитой социализм.
Справедливо подчеркнуть, что и сюда успел Илья Григорьевич сунуть свой французский нос. Год назад он побывал в Средней Азии с ознакомительным визитом. И вместе с множеством впечатлений, вместе с японской кофточкой для жены, вместе с собственной фотографией (Илья Григорьевич любил фотографироваться) в обязательной тюбетейке на берегу мутного арыка, привез из паломничества Зухру Магомедовну – живое напоминание о волшебных краях, которые Илья Григорьевич совершенно полюбил. Там важные люди всерьез принимали его ученость, поднимали бокалы за эту ученость с ним – уважаемым ученым, а потом долго и неторопливо беседовали, как беседовали когда-то с известными мудрецами всевластные деспоты и повелители. Многими истинами наделил тогда Илья Григорьевич своих слушателей. Но и сам вкусил от местных соблазнов, усладил зрение, слух, и крепкий желудок, и даже грезил (о, сладчайший Восток!), ворочаясь ночью от последствий обильного застолья, ждал воздушного видения в прозрачных одеждах, такого естественного в желании усладить эти беспокойные часы. И вот результат. Илья Григорьевич, умеющий сублимировать в пользу науки самые нескромные желания, оформил их рационально и за утренним чаем предложил очень ответственному лицу, отправить его жену к нему, Илье Григорьевичу в аспирантуру. И восточный товарищ, важно прихлебывая чай, ответил на это предложение утвердительно. И направил в далекую Европу Зухру Магомедовну, а Илья Григорьевич дал по этому поводу интервью, опубликованное, к сожалению, на местном языке и не поддающееся точному переводу.
Сегодня завершался первый год учебы Зухры Магомедовны в аспирантуре. Миновало время младенческих шагов по длинному научному пути. Время первых тезисов и конференций, участий в секретариате, нарезания бутербродов с постной бужениной, заготовленной специально для симпозиума с международным участием. А сдача кандидатского минимума по философии, бросающей вызов устоям шариата (участие Зухры Магомедовны в этом акте глубоко символично!), а обучение английскому, утверждение темы диссертации… Не быть уже Зухре Магомедовне прежней восточной женщиной, скованной вековыми предрассудками, не месить тесто для лепешек, не чистить мужу перед уходом на службу черные туфли. Может быть, последние каникулы суждено ей провести под родной кровлей. Только тогда, глядя на разоренное гнездо, поймет муж, что натворил, доверившись сладкоголосому Илье Григорьевичу. И жалобно заблеет ему в ответ голодный барашек.
Ананасов как раз и попал на проводы. Попал неожиданно, не мог предполагать, и не было у него настроения. Но именно так и попадаешь куда-нибудь, совсем не стремясь и не желая. Кроме сегодняшней героини, Илья Григорьевич имел в подчинении еще трех женщин. Потому Ананасов, как мужчина, был на празднике не лишний и встретили его радостно.
– Закрывайте дверь на ключ, Витя. – Командовал Илья Григорьевич, восседавший во главе стола, и хлопнул в ладоши. – Начинаем, начинаем. Разливайте, девочки.
Илья Григорьевич был старше Ананасова и называл его просто по имени, отмечая не только разницу в возрасте, а несколько покровительственную позицию мудрого ученого по отношению к поверхностному, суетливому практику. Учитывая краткость обеденного перерыва, застолье сразу набрало темп. Бутылка коньяка пустела, коллектив был женский, но пьющий. Впереди был плов, которого напряженно ждали и призывали друг друга не наедаться закусками. Пловный дух витал. Ананасов решил разговор отложить и присоединился к застолью.
– Был я в Болгарии, – повествовал Илья Григорьевич, вытаскивая изо рта селедочные косточки и раскладывая их по ободку тарелки. – Иду по улице еще с одним. Рижанин. Тоже доктор наук. Умнейший человек, я ему тему для диссертации подсказал. Ничего на нас русского нет. Джинсы, тенниски. И все равно. Подходят. Русские? Что нужно? Как они нас узнают? А, Витя?
– Наверно, по лицу. – Брякнул Ананасов, не задумываясь.
– По лицу? – Илья Григорьевич, наоборот, задумался всерьез. Конечно, было в нем французское, и на этом можно остановиться, не желать для себя лучшего. Но ведь был Илья Григорьевич не во Франции и даже представлял себя там с трудом. Он достойно пережил искушение эмиграцией, не дрогнул, усидел на месте, хоть любил отмечать (всегда кстати), сколько мог бы получать там, у них, в той самой Франции или даже в Америке, где ценили бы его никак не ниже, чем в Средней Азии. Но если Илья Григорьевич пожертвовал личным комфортом для продвижения отечественной науки, то и отказываться от национальных черт во внешности так запросто не стоило. Пусть даже в пользу французского. Потому что завершали эти черты характер отечественный, а не французский, русскую, так сказать, душу. Сейчас Илье Григорьевичу даже захотелось глянуть в зеркало, уточнить, какие черты умудрились подметить в нем пронырливые болгары. Почему определили его, как собрата по Кириллу и Мефодию, тем более, что других языков Илья Григорьевич не знал.
– Да, что вы, Виктор Андреевич, – подала голос Аллочка Конопаткина. – Разве Илья Григорьевич похож на русского. Просто мы вещи носить не умеем. Ой, девочки, а меня в Тбилиси два раза за итальянку приняли.
Опасные слова для мнительного Ильи Григорьевича. Ведь не только наличие отечественных черт, но даже умение элегантно одеваться (напомним, Илья Григорьевич был в джинсах) ставилось под сомнение. Хотя молодости прощается многое. Тем более, после любимой селедки, в ожидании плова.
Ананасов все же решил нужный разговор затеять, пользуясь общим благодушием. И сам Илья Григорьевич, к тому же, захорошел.
– Зухра Магомедовна, – начал Виктор Андреевич обходной маневр, – не жаль уезжать?
– Почему жаль? Уеду, приеду. Дальше писать буду, пока не напишу.
– Молодец. – Похвалил Бельский, заглянув в пустой стакан. – Большой путь прошла. Между прочим, она отчет твой читала. Я не особенно вникал.
А почему нет? Ведь проект рецензии на свою работу сам же Ананасов и писал. Заготовил вместе с отчетом. Так что, если не придираться, вполне можно было довериться Зухре Магомедовне.
– Ну, и? – Небрежно спросил Ананасов.
– Понравилось, понравилось. – Закивала аспирантка. – Хоть многое непонятно.
До замужества Зухра Магомедовна закончила педагогический институт, работала учительницей, непонятные места в отчете могли найтись. В этом она сейчас призналась без ложной скромности, подтвердив, что восточные женщины еще не сказали в нашей науке последнего слова.
– А, вообще… – Ананасов с замиранием сердца тянул ниточку. – Нашли что-нибудь… недостатки?
– Нашли, почему не нашли… Кто дочитает до этого места, получит десять… Я смеялась, думала сначала, что рублей. Илья Григорьевич объяснил. Какие шутки могут быть в серьезной работе.
– Вы там действительно, Витя, чепуху написали. – Подтвердил Бельский. – Не помню, что именно. Если бы не ваша Людочка…
– Людмила Сергеевна?
– Сергеевна, Сергеевна… – Закивала Зухра Магомеловна. – Машинистка две работы печатала. Перепутала. Просила вам не говорить, не расстраивать.
– Вот так, Витя, – подмигнул Илья Григорьевич. – Видишь, как женщины о тебе беспокоятся. С тебя бутылка.
– Будет. – Пообещал Ананасов.
А Зухра Магомедовна подала, тем временем, плов. Час настал. Конечно, только мужчина может изготовить настоящий плов. Только мужчина знает, как выбрать барашка и правильно пустить ему кровь. Как должен упасть свет луны на замоченный с вечера рис. Сколько куда разных приправ, пряностей, зелени, не только называя их нежно: лучок, чесночек, морковочка, но и обращаясь трепетно, как с участниками сложной гастрономической симфонии. А у нас? В наших краях? Где баранину, увы, часто подменяют жирной свининой, а по вторникам и четвергам даже рыбой, пусть более полезной, чем баранина, и богатой фосфором, но все же, согласимся, неуместной именно в плове. Да, что там. Даже вместо риса, не только не замоченного с вечера, но непроваренного с утра, даже вместо такого риса умудряются подать перловую или пшенную кашу. А луком норовят заправить таким, что неловко вспомнить. А есть просто опасно. Не верите? Так спросите, клали ли вам в плов барбарис. И послушайте, что вам ответят. И подают этот плов в тарелке часто подозрительной на вид. А есть руками не рекомендуют, хотя там, на родине плова его едят именно руками. И хоть помыть руки в столовой можно, но чем их потом вытереть? Хорошо, пусть не руками, но вилку можно выбрать самому? Блестящую алюминиевую вилку, которую видела Вера Павловна в четвертом пророческом сне, а не такую, где зубья обломаны у самого основания, и при виде которой Вера Павловна непременно закричала бы от ужаса и запросила лавровишневых капель. И не только выбрать эту вилку, но еще недоверчиво осмотреть, обнюхать с обеих сторон, а потом протереть или заново вымыть, оскорбляя подозрительностью кухонный персонал. Будто отравить вас хотят, будто нужны вы кому то. И только потом приступить к этому самому плову. Мелочи, но в них понимание, как важно быть снисходительным и терпимым в наших краях, когда женщина самоуверенно берется за изготовление настоящего плова.
Внесли, наконец, заветную кастрюлю, освободили от противопожарных одеял, подняли крышку. Вернее, она сама воспарила в головокружительном аромате.
– Представляете, Витя, чуть не сорвалось. Козодой не хотел пропускать. Требовал открыть, проверить. Пришлось у Ибрагимова специальный пропуск подписывать. – Жаловался Илья Григорьевич. – Зухра Магомедовна, сразу директору отложите. Нет, Витя, скажите, можно так работать? Можно?
Зухра Магомедовна выложила плов на большое блюдо, и он стал похож на большую расцвеченную гору. Основание белое, рисовое, а вершина, выложенная кусками мяса, дымилась, как вулкан, и издавала такой замечательный аромат, что все разом вдохнули, закатили глаза и только потом выдохнули: – а-а-ах!
– Ну, что же, приветствуем нашего мужского гостя, – призвал Илья Григорьевич, когда Зухра Магомедовна вернулась из директорской, и взрыв гастрономических страстей поутих. Илья Григорьевич так и сказал: мужского гостя, выделив пол, как качество, на которое следует обратить особое внимание.
– Приветствуем, приветствуем. – Поддержала женская половина, и все уставились на Ананасова, от чего в нем проснулся инстинкт самосохранения, пробился к затуманенному алкоголем мозгу.
Зухра Магомедовна, торжественная, как жрица, возложила на бок изрядно разграбленной горы руку, украшенную золотым кольцом невероятной толщины, и длинными смуглыми пальцами стала загребать в ладонь горячую кашу, уплотняя и формируя нечто вроде бабки, которую лепят дети в песочнице. Затем оторвала спрессованную плюху от тарелки, поднесла к ананасовскому рту, вжала его голову себе в грудь, обхватив рукой за шею, расположила поудобнее, чтобы не мог он увернуться, и, наконец, залепила рот, еще пришлепнув, трамбуя последние крохи, чтобы ничего не пропало. И только потом отпустила.
Тут Ананасов узнал, как умирают от удушья. Не мог он вывалить назад угощение, которое минуту назад нахваливал. Но, в том и ужас, проглотить его он тоже не мог. Рот был широко открыт, даже в нос попал проклятый рис, щекоча и грозя чихом. Натуральные слезы покатились из глаз. Ананасов руки молитвенно воздел, предупреждая позорное исторжение пищи. И вдохнуть не мог, чтобы не забить легкие, нечем было дышать. Так он сидел, бессмысленно вращая глазами и переживая бесконечные мгновения ужаса, пока плов неторопливо сползал в желудок, освобождая горло для дыхания. Сейчас (пропади он пропадом этот плов!) воздух был важнее всего.
– Молодец, Витя. – Первым поздравил Илья Григорьевич, когда Ананасов сделал вдох и понял, что остался жив. – Настоящий мужчина. – И все зашевелились, захлопали одобрительно, особенно Зухра Магомедовна, которая, собственно, и была главным экспертом по выявлению настоящих мужчин.
– Так, девочки. – Илья Григорьевич подал сигнал, и Ананасов, еще не оправившийся от удушья, увидел чалму на вислоносой голове. – Всё, всё. Будем убирать и за работу.
Пошла кутерьма, всем захотелось вернуться к труду. Ананасов, вытряхивая из-под рубашки следы пиршества, отправился к себе.
Западня
Едва Ананасов вернулся к себе и прокашлял легкие от застрявшего риса, как позвонила Зира. Кое-что прояснилось. Жора, слава Богу, был жив, но сидел почему то в милиции, неясно за что. Нужно было подъехать. Отделение находилось недалеко, и Ананасов, отложив дела, немедленно отбыл. Дал задание Людмиле Сергеевне, на которую легла теперь густая тень подозрения, проскочил мимо бдительного Козодоя, который даже привстал, увидев Ананасова, и закричал, что нужно получить почту. Ананасов только отмахнулся, выскочил на улицу, нырнул в подземный переход и заспешил на помощь, хлопая себя по карманам в поисках документа. В милиции он мог пригодиться. Бегом устремился по переходу, но развязавшийся шнурок заставил притормозить. А, притормозив, сделал неприятное открытие. Как Робинзон Крузо после нескольких лет пребывания на необитаемом острове, был неприятно удивлен, наткнувшись на след чужой ноги, так и Ананасов. Он обнаружил за собой хвост. Совсем молодой человек, стриженый коротко, по военному, в джинсах и майке с портретом большеротой певицы, покорительницы Олимпии, попавшей, благодаря стараниям Генриха Матвеевича, на изделия швейной промышленности и кожгалантерею. Такой вот тип следовал сейчас за Ананасовым. Проскочил мимо, сбавляя ход, прикидывался дурачком. На душе Ананасова стало паршиво. За что? Ведь законопослушный, наш человек, без задних мыслей, даже за границу собрался. Значит, доверяют. И вот на тебе. Хорошо, что переход днем был пустынен, а то бы Ананасов слежки не заметил. Так бы и ходил. Хоть в открытии было мало радости.
Вместе с провожатым сели в троллейбус, вместе вышли. Юный шпик старался на глаза не попадаться, но неумело, а, может быть, сознательно бравируя. Что делать? Завести в подворотню и прижать. Ананасов бы справился. А дальше. Покажет красную книжицу, милиция вмешается. И привлекут за хулиганство, это точно. Сидит ведь Жора, и он сядет. В общем, лучше сохранять прежний вид, невинность, так сказать.
Вот и вознаграждение. От милиции шел Жора во вчерашней одежде, с несвежим лицом. Друзья обнялись. Ананасов оглянулся. Соглядатай исчез.
– Я его видел. – Жора успокоил. – Смылся подлец. Меня боится. Я еще до него доберусь. Лучше скажи, как я?
– Нормально. – Ананасов старался не замечать помятость, мешочки под глазами. Главное, все кончилось счастливо. Осталось дождаться рассказа.
Заметил Жора шпика еще вчера, когда они загорали в парке. Вначале внимания не обратил, но подлец держался неподалеку, хоть старался внимания к себе не привлекать. Когда расстались с Виктором Андреевичем, Жора засек молодца снова, на этот раз случайно. Тот шел куда-то по своим делам, не спеша и явно без цели. Людей вокруг хватало, и Жоре пришла в голову сумасбродная мысль, понять, что за человек и откуда. Придет же в голову, тем более, сравнительно немолодую, такая глупость. Факт тот, Жора двинулся следом. Шпик свернул в проходной двор, и Жора, преодолев нехорошее предчувствие, решил не отставать. Так он таился в полумраке, пока не наскочил на милицейский патруль. – Жену догоняю. Очередь за индийским перцем заняла… В милицейской рвции трещало, люди были заняты, в общем, сошло за правду. Жора поспешил и едва не врезался в своего подопечного. Тот разговаривал с приятелем возле дворовой спортплощадки, скользнул по Жоре мимолетным взглядом, – узнал или нет? – но вида не подал. Прошли дальше, вернее, шпик прошел, а Жора притормозил возле бака с мусором, в котором рылась печальная дворняга. Та глянула укоризненно на досужего человека, не знающего, чем себя занять, и толкущегося здесь, на мусорнике, куда могут завести только отчаяние и нужда. Известно, что собаки чувствуют жизнь острее человека, только предупредить не всегда могут. Тем более, предупреждать взрослого, который должен думать своим умом. Молодой человек тем временем спустился в полуподвал с тыла большого дома, открыл обитую железом дверь. Зашел. Жора подобрался следом. На стене рядом с дверью на вывеске значилось: Клуб. Собственно говоря, почему бы нет? Жора шагнул следом и попал в темень. Пусто, кругом никого, вопреки ожиданию. Где-то впереди краснел огонек. Жора шагнул, дверь позади с лязгом захлопнулась. Много времени не понадобилось, чтобы осознать собственную глупость. Жора подергал запертую дверь и понял, что попался. Взрослый человек! Полная тишина. Можно стучать, греметь, звать на помощь. Этим и должно было кончиться. Но пока Жора двинулся вперед на далекий огонек, цепляясь за выстроенные под стеной стулья, миновал (наощупь) несколько запертых дверей, попал, наконец, в туалет. Других открытий он не совершил. Пощелкал мертвым выключателем. Решил перевести дух, вернулся к стульям, уселся, ощутив сгоревшую на солнце спину. Даже не верилось, что такое может случиться. Какое-то время прошло, но отругать себя, как следует, не получилось. Дверь под красной лампочкой распахнулась, раздался злобный лай, на Жору ринулась огромная собака. Голос снаружи распоряжался: – Свет. Щит в тамбуре… Все это время Жора стоял, замерев и не шевелясь. Собака жарко дышала в лицо, ощущения были не из приятных.
– Уберите собаку. – Стонал несчастный. – Я свой, свой.
– Сейчас поглядим. – Свет вспыхнул, Жору повернули к стене, и он оказался лицом к лицу с изобретателем противогаза Зелинским в старорежимной бороде, который глядел на Жору, пожалуй, укоризненно. Сзади обхлопали карманы – ключи, записная книжка, хорошо, что удостоверение личности оказалось. Приказали повернуться, те самые стражи порядка, которые остановили его в подворотне. Был еще один с собакой, которую взяли, к счастью, на поводок. Ситуация была глупейшая, только времени на эмоции не осталось. Жору вывели к милицейскому воронку, под взглядами обитателей подъезда, коротавших на лавочке долгие сумерки. Ясно, комментарии последовали, хоть вид Жора имел приличный. Это пока, до ночлега в милиции. Согнувшись, он залез в машину. Следом запрыгнула собака, ткнула мордой в спину. Уселась напротив, ничуть не подобрев.
– Спасибо, товарищ сержант, что освободили. – Пора было возвращать себе гражданские добродетели.
– Сиди смирно. Набегался за индийским перцем. – В общем, ничего не оставалось, как отнестись к происходящему философски. В дежурке было по летнему прохладно. Жору усадили перед капитаном, сержант склонился над начальственным ухом и доложил обстановку.
Капитан мрачнел на глазах и к концу рапорта глядел на Жору с чувством отвращения. Разных негодяев пришлось ему видеть, но такого… капитан прихлопнул огромной лапой по столу. – Попытка хищения оружия. – Голос чеканил слова. – Кошельков, значит, мало. Нам оружие, инкассатора подавай.
– Какого инкассатора. Я туалет искал. – Поспешил Жора. Оправдание казалось правильным, единственным, что он смог придумать. И неожиданно добавил. – Гражданин начальник.
– Видишь, как заговорил. Сам правду расскажешь или помочь?
Помочь вышло мрачно. – Сам, сам. Выпил пива. Ясное дело. А дверь открыта. Пока искал, заперли. По ошибке, конечно.
– Ты за кого меня принимаешь? – Возмутился капитан. Встал, навис над столом. – Что ты лепишь? Тебя на грабеже взяли. Стрелкового клуба. А ты тут… Ладно. (В сторону сержанта). Дай ему бумагу и ручку. Пусть пишет. Что писать? Сам знаешь. Фамилия, имя отчество. Год рождения. Где сидел, когда вышел. Ты мне дурочку не валяй.
Жора прилежно записал данные, только вместо судимости (он так и указал – не имел), назвал место работы, должность, а потом, поколебавшись, добавил: ударник коммунистического труда. Не может быть, чтобы не помогло.
– Комаров, – окликнул капитан, дочитав бумагу. – Проверь этого отличника. И глянь по картотеке на Однобокова, не было ли хищений документов.
Пока Комаров старался, капитан разглядывал Жору, находя в нем все более отвратительные черты. Но, видно, внутри стало оттаивать. Похоже, птица попалась случайная. Тем более, Комаров вернулся пустой, в анкете все верно, криминала нет. Обидно для милиции. Капитан фыркал, дивясь наглости, а Жора подал голос. Имел право.
– Товарищ капитан, можно домой позвонить. Жена волнуется.
– Домой? Позвонить? – Вопрос поразил капитана, ибо, как говорят французы, нет ничего нескромнее наивности. И сержант хмыкнул. – Переночуешь у нас. До полного выяснения. Ясно.
– Неясно. Заперли меня. По ошибке.
– По ошибке. На складе ДОСААФ. Чтобы пистолетик подобрать. Объяснения нахожу неудовлетворительными… Комаров. – Рявкнул капитан, хоть Комаров находился рядом. – Запри его покрепче. Пусть до утра подумает. А станет шуметь, сам знаешь.
– Так точно. – Весело отвечал сержант. – Если что, я ему Шопена сыграю.
При чем тут Шопен? И насколько знаком сержант с творчеством великого композитора? Это осталось неясным, тем более, Жора смирился. Как раз он прочел полузапретную книгу по буддизму (ходила такая в самиздате) и, видно, решил, пришла пора дополнить теорию практикой. Вот и судимостей, к стыду своему, у него не оказалось. А без обособления от бытия, без страданий опыт жизни не полон. Такие высокие мысли посетили Жору за решеткой. Помогли даже вздремнуть, видно, судьба его сегодня была такая – спать на деревянном. Зато на душе спокойно. Под утро затолкали дебошира, который, в отличие от Жоры, никак не мог успокоиться и звал его почему-то мамой. – А тебя, мама, за что? Ну, меня, понятно, а тебя?
Утром соседа увели. Смотрел он одним глазом, второй был закрыт кровоподтеком. Жора снова остался один. Но дело его, не спеша, решалось. В дежурке Жора застал свою жену. Она доказывала капитану, что муж здесь по ошибке, и будут сейчас звонить из центрального аппарата для прояснения вопроса. Понедельник, пока сойдутся, а то уже бы позвонили.
Капитан собирался домой, сдавал дежурство и Жорой интересовался вяло. Чувствовал, что врет (капитан так Зире и сказал), но вранье к делу не пришьешь, а доказательств нет. Пошли звонки, Зирин родственник работал в Министерстве, это оказалось кстати. И с Жориной работы звонили. Предлагали дать характеристику, как на видного специалиста, а пока отпустить на поруки. Жора забрал удостоверение, деньги, дал расписку о сохранности и был отпущен на свободу.
Зира умчалась на службу, пообещав поговорить, как следует, вечером (ничего хорошего этот разговор не сулил), тут и подоспел Виктор Андреевич. Друзья обменялись новостями.
– Ты езжай в командировку. А я подумаю. Видишь как… – Жора бормотал что-то невнятное, но голос был бодр. Соблазны буддизма были преодолены. Хоть духовная практика помогла (нельзя не признать), но впереди ждала борьба.
Разговоры, разговоры…
Понедельник не принес Виктору Андреевичу радости. А чего еще можно было ждать? Но и это не все. Собираясь в командировку, Ананасов встрял в безрадостный разговор с женой. По своей же вине, сказалось эмоциональное перенапряжение последних дней. Причиной послужил деревянный ящик непонятного назначения, выставленный Валей в отсутствие мужа на балкон. Дотрагиваться до него было запрещено категорически. Сказано было так, что Ананасов спорить не стал, хоть не уставал подчеркивать, что место под ящиком можно использовать с пользой. Например, чтобы спать на балконе. Раньше Виктор Андреевич этого даже в мыслях не имел, но сейчас, когда там утвердился объект непонятного назначения, твердо решил, время пришло. А Валя наоборот, столь же твердо призывала потерпеть, отстаивая право на собственную независимость и тайну. И вот теперь Ананасов запросил, как бы официально, сколько будет мешать ему лично этот непонятный ящик, сводящий к нулю возможности рационального использования балконного метража. И опасный в противопожарном отношении, так как из ЖЭКа ходят и проверяют. И получил ответ, не только грубый и обидный, но формальный по существу, в том смысле, не его это дело, и сколько нужно стоять, столько и будет. После этого состоялось выяснение отношений. В общем, когда эти отношения охлаждаются до полного оледенения, тут, конечно, мало приятного. Но еще хуже, когда в таком льду появляются трещины и грозят полным обвалом. Тогда конец. Так что лучше не бросать друг другу упреки, не вносить инфекцию в открытую рану, а пересидеть тихо трудное время, рассчитывая, что когда-нибудь и у нас образуется. Легко, однако, давать советы.
В общем, супруги крупно поговорили. Но еще до этого у Вали случилось несколько разговоров, имеющих прямое отношение к этой истории. Непременно с Генрихом Матвеевичем, а до того с Жорой. Тот обещал хранить разговор в тайне, и, как видим, слово сдержал.
Поводом послужило пакостное письмо с известием о неверности Ананасова. Странный, все-таки, народ – женщины. Казалось бы, сама Валя завязала отношения совсем не служебные. И хоть производственные моменты обсуждались в них многократно, но все же, согласимся, не могли служить достаточным оправданием. Сама Валя встала на этот путь ради полноты жизненных ощущений, освежения эмоций на фоне каждодневной текучки, разматывающей со скрипом череду унылых будней, и увлекающих – все ближе и ближе – в затхлый туннель старости и болезней. Сама Валя обосновала для себя этот роман, сама выстроила треугольник житейской геометрии. Сама рассчитала притяжение сторон – Ананасова и его соперника, которые, не зная друг друга, оказались выведенными на взаимовлияющие орбиты и ощущали друг друга (по крайней мере, Виктор Андреевич ощущал), как некую силу – источник непонятного напряжения и искривления траектории.
И, конечно, прежде всего неожиданная влюбленность (подарок судьбы) в серьезного человека. Казалось бы, жизнь не обманула Валиных ожиданий. И она, действительно, испытывала эмоциональный подъем. И на внешности это сказалось, что присуще влюбленности. Но испытывая эту радость, ощущая заново способность чувствовать то, что казалось уже утраченным, затертым в будничной суете, а сейчас обнаруженным заново с тревожно сладким ароматом осени и томлением потаенного греха, она вдруг узнала, что Ананасов тоже погуливает. Да, да, именно погуливает, потому что какой бы самоотверженной и сильной не оказалась связь, общественное мнение не станет разбираться, и лишать себя удовольствия насладиться клубничкой, круглогодично зреющей в учрежденческих стенах. Пошлость – скажет моралист и общественник. Согласимся, хотя сказать – одно, а самому пережить – совсем другое.
Потому было грустно. Срок совместной жизни четы Ананасовых перевалил уже за третий десяток, сам этот факт служил солидной гарантией, залогом дальнейшей прочности союза. Дочь взрослая, жила с мужем далеко, узнает, не дай Бог, что она скажет? Пожалуй, это был последний ухаб, на котором их могло тряхнуть. Проскочи они его без потерь, и можно катить вдвоем по осенней дороге, пусть, в поношенном, но надежном семейном экипаже. Прочность любого союза проверяется именно в таких испытаниях, и положение Виктора Андреевича, хотя было двойственным, но устойчивым. Конечно, его заочные отношения с Генрихом Матвеевичем имели характер соревнования. Но какого? Вполне в духе социалистического реализма: соревнования хорошего и даже замечательного с еще более замечательным и прекрасным. Если бы Ананасов был негодяем, сгубившим невинную молодость и красоту, а Генрих Матвеевич – святым, достойным поклонения и омовения ног, тогда другое дело. А так. Генрих Матвеевич, конечно, был уникален и прямо из ряда вон, тут спора нет. Но и Ананасов был хорош. Сама Валя выцарапала бы глаза всякому, кто бы усомнился. Как же ей отказаться от мужа, который и на втором месте заслуживал серебряной медали. Тем более, Генрих Матвеевич не рвался менять заведеный порядок. Вполне можно понять Валино огорчение и даже панику. Что делать? Она решила поговорить с Жорой.
Встретились после работы в летнем кафе, открытом на крыше торгового центра, на разумной высоте, а не в заоблачной выси, где зрительные и гастрономические впечатления, соперничая, умаляют друг друга. Захватывающий вид открывался отсюда на три стороны света и лишь четвертая оставалась скрытой за поставленным, как спичечный коробок, высотным чудо-зданием с блестящими ребрами вертикалей и бесконечными квадратиками окон, переливающимися, как рыбья чешуя. Поверх здания лежал огромный шар, и все сооружение выглядело, как наглядное пособие по геометрии или черчению – прихоть фантазера, забавляющегося игрой форм. Много досужих догадок возникало по этому поводу. Опасливых и осторожных, будто сам шар магнетически улавливал проявляемый к себе интерес и наказывал любопытных за нескромность.
Зато с другой стороны, как бы в противовес архитектурным новациям, открывался нестесненный вид на широкую полосу реки, с каймой городского пляжа, кружевом бесчисленных рукавов, и зеленых островков, оживших после весеннего разлива. Далее, вслед за рекой разворачивалась мощная панорама индустриального пейзажа, укрывшая горизонт частоколом труб и заводскими корпусами. Кафе зависало над крутым обрывом, над буйством цветущих каштанов, сквозь которые проглядывали ржавые квадратики крыш, ход сбегающих к реке улиц – наследие неупорядоченной застройки старого времени, а когда, теперь и не вспомнить. Там внизу, в этих улицах было сыро и пасмурно, попахивало испарениями канализации, обильно лезла трава сквозь выбитый булыжник мостовой, а сами дома стояли заколоченными, с пустыми окнами и сыплющейся штукатуркой – следами поспешного бегства из этих мест в новые микрорайоны, отогретые чудом горячей воды и персонального туалета. Внизу, под деревьями таилась изнанка чудесного ковра, не предназначенная для разглядывания, задник огромной декорации – сверху нарядной и праздничной, особенно сейчас, когда первое (после зимы) мороженое кажется необычайно вкусным, а сама жизнь – новой и прекрасной.
А еще с одной стороны теснились золотые купола, выглядывали, как шлемы княжеской дружины, поверх ограды монастыря, когда-то грабленого, горевшего, оскверненного, а ныне известного, как крупный центр международного туризма. Туда валом валили любопытные американцы, немцы, японцы, прочие большие и малые народы, застывали под взором Богоматери – сумеречным и грозным, как осеннее утро в вытрезвителе, ощущали мистический холодок приобщения к загадочной славянской душе, а вместе с ним томительное желание быстрее раскошелиться и смотаться восвояси. Ну, и наконец, совсем внизу тек асфальт с белыми пунктирами переходов, с дневным оживлением человеческого муравейника, и с повторением этой суеты в хлопотах и заботах множества воробьев, угадавших в собственной серости демократические цвета приспособления и скромного житейского успеха.
Здесь, наверху, в спасительной отрешенности от мирской суеты, росли из плоской крыши многоцветные грибки, укрывали от солнца белые столики и металлические стулья с гнутыми ножками и узорчатой спинкой, разбросанные по квадратикам пола в супрематическом поединке белого на белом среди голубых и розовых теней. И как бы подчеркивая исключительность этого кафе, вознесенного в небеса оазиса праздности, только здесь подавали восхитительное шоколадное мороженое, изготовленное заграничными машинами. Чудодействовал здесь усатый дядя в белом фартуке, засыпал поверх толчеными орехами и подавал. Почти без всякой очереди, каких-нибудь пять-десять человек, а по будням и вовсе никого. Восторг, а не местечко. Вот и сегодня пусто. Они взяли мороженое и уселись.
– Погляди. – Валя передала Жоре анонимку. – Что ты на это скажешь? Как друг нашей семьи.
Жора оглядел бумагу, пытаясь обнаружить особенности текста, почерка, но не обнаружил. – Не бери в голову. – Посоветовал легкомысленно. – Глянь на себя. Какой нормальный человек станет такую жену обманывать.
Жора не кривил душой, Валя была очень привлекательна. Но не дала увильнуть. Допытывалась. – Ты знаешь эту Шварц?
– Какую? – Жора старался отвечать небрежно. – Знаю… наверно. Смазливые, все на одно лицо. Не может быть, я тебе точно говорю.
Про себя Жора клял Ананасова. И Валя расстроилась, хоть могла понять, иного ответа она не получит.
– Что делать, Жорик? – Валя ковыряла в вазочке тающий шарик. Солнце садилось, лучи плавились на крестах собора. Валины волосы светились.
– Не киснуть, вот что. Ты в зеркало на себя глянь. Ведь ты чудо. Все будет хорошо. Вот увидишь.
– Я смотрю. Я каждый день с ним воюю. Ужасно не хочется стареть. Пару лет назад не замечала. Плыла куда-то. А теперь за каждый день готова уцепиться. Помнишь, сколько мы раньше успевали за лето? Какое оно было. А сейчас. Редиска отошла, клубника отошла, огурцы засолила, варенье сварила, пальто из химчистки забрала. Я так его жду и боюсь. Дальше осень.
– Перестань. – Жоре стало передаваться Валино настроение. Не мог он равнодушно глядеть на женские страдания. – Хочешь, чтобы я поговорил с Витей?
– Нет. Сама не знаю, чего хочу.
И это было правдой. Тем временем за соседним столиком устроилась молодежная компания. Ребята и девушки в одинаковых робах, похожих цветом на ящериц, с нашивками строительных отрядов. Стало шумно. Ребята сидели на стульях по двое, и ели мороженое тоже по двое, как солдаты из одного котелка. Некоторая чинность заведения была нарушена. Один из ребят, дурачась, запел по гитару.
- Мне на картах нагадали невезучую судьбу,
- Грусть, разлуку и печали. Смех в аду и плач в раю.
- Вот валет, а это дама. К ней еще один валет.
- Два валета к одной даме – это сложный камуфлет.
Парень прервал песню, зачерпнул мороженого и продолжил.
- И уводит от порога под шатер чужих небес
- Моя дальняя дорога и пиковый интерес.
- Хороша судьба-злодейка, меньше верить – лучше жить,
- Остается на удачу только ручку золотить…
Песня закончилась, дал знать администратор. – Молодые люди, – администратор грустил, будто проникнувшись любовной тоской, – люди отдыхают. Не так громко, прошу…
– Ну, вот, – огорченно вздохнула Валя, – концерт окончен.
Возле выхода встретили примечательную пару: высокую даму, пухлую и большегрудую, но не толстую, нет, а именно осанистую, с прямой спиной, и ее спутника, чуть поменьше, в туфлях на высокой платформе – новинке сезона, с осиной талией тореадора, подчеркнутой джинсовой курткой в паре с такими же бледно голубыми штанами. Валя приветливо поздоровалась.
– Интересная парочка, – заметил Жора, когда разминулись. – Кто такие?
Вот так номер! Жора узнал в мужчине Соткина.
– Ой, – рассмеялась Валя, – как тебе рассказать. Представляешь, внедряем новый фасон. Он у нас идет отдельно для сельской местности. Один экземпляр импортный у нас есть, как образец. А этот его демонстрирует на разных совещаниях. Даже по телевизору показывали. Костюм наш начальник для себя привез, но отдал для пользы дела. Нашли вот этого. Артиста. Штаны укоротили, и в плечах он уже. Но умеет держаться.
– Что, действительно, артист?
– Да, из нашей оперетты.
– И кто его там нашел?
– Жена Генриха. То есть, нашего начальника. Она отделом культуры заведует. Ты ее сейчас видел. Она его пристроила, даже в штат к нам взяли. Временно. Но, видно, будем увольнять. Типаж, говорят, не сельский. Для демонстраций не годится. Придется опять перешивать. Что делать, прямо не знаю…
… С этим они расстались. Встреча не дала результатов, тем более, Валя и себе не могла объяснить, чего хочет. Потому на следующий день назвала Виктора Андреевича Генрихом. При ее сбивчивой, двойной жизни неудивительно. Врать нужно уметь, сразу не научишься, если таланта нет.
– Генрих, ты скоро? – Тарабанила Валя в дверь ванной. Спохватилась, но было уже поздно.
– Какой Генрих? – Недоумевал влажный Ананасов.
– Такой. – Нашлась Валя. – Третий. Грузинский театр приехал. Мог бы жену пригласить, сто лет не были.
О приезде театра Виктор Андреевич знал от Леночки. – Генрих? – Переспросил он. – Мне кажется, там Ричард, а не Генрих.
– Может быть, Ричард. Но, ведь, третий.
– Где же взять билеты? – Задал Ананасов справедливый вопрос.
– Где взять? Там, где все. Достать. У нас достали. Жена нашего начальника. Он и мне предлагал. Но только один. А я без тебя не хочу, на этого Генриха.
– Ричарда. – Поправил Ананасов.
А между тем, путаница в бедной Валиной голове стала невыносимой. Так ей стало страшно потерять своего Виктора из-за какой-то бессовестной девчонки, промышляющей чужими мужьями. Потому на свидание к Генриху Матвеевичу она пришла озабоченной, без прежней легкости. Причем не на свидание, на дружескую встречу. Увиделись они в сквере, не надолго, как раз, когда Ананасов гулял с Жорой.
– Непрактичный мы народ, – философствовал Генрих Матвеевич перед огромной клумбой. Тюльпаны покачивались под ветерком, соглашаясь с Генрихом Матвеевичем по поводу народной непрактичности. – Да, именно непрактичный. Потому что хорошее дело нам загубить – раз плюнуть. А ведь как можно было сделать, как сделать…
Огорчался Генрих Матвеевич по поводу своего доклада, в ходе которого должны были рухнуть последние преграды и твидовый мужчина уверенно зашагать по стране. Буквально, вот-вот. Но нет, преграды устояли.
– Мощностей у них нет. – Саркастически усмехался Генрих Матвеевич. – Хорошее дело с перспективой, а мощностей нет. Направление выбрано правильно, работайте дальше.
– А ты сказал, что штаны можно в сапоги заправлять?
– Конечно, сказал. У них же этот, из оперетты сфотографирован в сапогах. Когда мы готовили модель для средней полосы.
– Кстати. – Валя собралась с духом и воткнула шпильку. – Я его видела позавчера. В кафе, с твоей женой.
– А они говорят, вот и разрабатывайте пока сапоги. Чтобы можно было носить на простой носок. Ждите, когда мощности появятся. Тогда и запустим. – Генрих Матвеевич вроде и не слышал о жене, только головой повел. Видно мешал ему воротник шерстяной куртки. Выскочил он на зарядку с последующим забегом в молочный магазин, для чего имелась авоська и банка с крышечкой, если сметана попадется.
– А импорт? – Рядом с Генрихом Матвеевичем Валя училась понимать связи внутри сложного хозяйственного механизма.
– Какой импорт. – Отмахнулся Генрих Матвеевич. – Валюты нет. Спасибо галантерейщикам, пуговицы обещали подбросить. О подтяжках лучше не вспоминать. Это же нонсенс. Как в каменном веке.
– А ты что сказал?
– Я сказал, товарищи, давайте сразу делать хорошо, чтобы потом не переделывать.
– А они?
– Продумайте пока сапоги и принесите все сразу. Ничего слышать не хотят. Я объясняю. Сапоги пусть будут простые, все равно, фасонные наши обувщики не потянут. А простые можно хоть сейчас. А они, нет, ты представляешь? Вы же сами хотите, чтобы все было, как следует. Так что давайте на молниях и именно с сапогами фасонными. Если считаете, что нужно, пишите заявку, мы с чехами договоримся. Чехи сделают. Конечно, не сегодня, но сделают. Будто я сам чехов не знаю.
– Ой, сколько еще будет. Но ведь пока можно с туфлями. Ты сказал?
– Конечно. А они, вы с ума сошли. Хотите все дело сорвать. Какие туфли? В средней полосе? В Нечерноземье? Их там засосет в туфлях. Утонут за минуту. Представляешь? Они ничего не поняли. Будто я говорил про поле. Это же парадный костюм. Для актива. Губят такое дело, губят. – Генрих Матвеевич застонал и стукнул кулаком по скамейке.
– Не расстраивайся. – Валя положила ладонь сверху, утешила, как смогла.
– Не расстраивайся… Я как лучше хочу. – Генрих Матвеевич сокрушенно вздохнул и как-то обмяк. – Короче, будем готовить один экземпляр на выставку. Сам повезу. А сейчас… ладно нужно идти. Не знаешь, где сейчас сметану можно купить?
Такой состоялся разговор. Ничего путного. Рассчитывать приходилось только на себя.
…– Так вот, – продолжал Ананасов, собираясь в дорогу. – Я тебя очень прошу, Валечка, чтобы к моему приезду этого ящика на балконе не было.
– Я тебя тоже о многом прошу, – отвечала Валя, задетая директивным тоном. – Я тебя прошу сантехнику поменять? Прошу? Так и будем ждать, пока трубы лопнут?
– Трубы не могут лопнуть. Они что замерзают? – Злился Ананасов. – Не понимаю, к чему это затевать? К чему?
– К тому, что дальше жить так нельзя. Это же нонсенс. Как в каменном веке.
– Причем здесь сантехника? Меня она устраивает.
– Тебя, я смотрю, многое устраивает.
Ананасов встревожился. Неясной и даже угрожающей показалась ему последняя фраза.
– Что ты имеешь ввиду? – Виктор Андреевич сбавил тон.
– То самое. Что-то ты много работать стал. – И с этими словами Валя отпустила мужа в командировку.
В командировке
С некоторым трепетом искал Ананасов нужный адрес, готовясь впервые переступить порог важного учреждения, для которого готовил злополучный отчет. И был немного разочарован, когда нашел. Из-за каменной ограды выглядывал уютный особнячок с игрушечными балкончиками, поставленными на головы кариатид, небольшим портиком с круглым барельефом, на котором мускулистый Геракл заглядывал, как ветеринар, в пасть упирающемуся льву. Домик был под стать этой милой картине. Раскрашенный в кокетливые бело-розовые цвета, он имел вид на удивление приветливый, предназначенный для благополучной и мирной жизни. Видно, для нее дом и был когда-то выстроен. Только будочка охранника, прилепившаяся с тыльной стороны ворот, указывала на деловой характер дома. Всякое уважающее себя учреждение имеет такую будочку. Охранник внимательно проверил ананасовские документы, перезвонил по внутреннему, сказал, что ему нужно в пятую, к Евдокимову, а пока велел подождать. За ним уже послали. И Ананасов, приятно расслабленный уютом этого места, вступил во двор, в тень старых лип. Дохнуло на него свежестью вымытого недавно асфальта – волшебное ощущение после вокзальной толкучки и грохота метро. Как здесь было приятно и тихо. Выкатили с тыла особняка две черные машины, не наши, а какие-то иностранные, в которых Ананасов не разбирался. Строгое немолодое лицо мелькнуло за стеклом, с тихим гудением ворота открылись, потом также неторопливо закрылись, а навстречу Ананасову спешил приветливый молодой человек, раскланялся и пригласил за собой. Они прошли через большой холл первого этажа. Поблескивал рояль, одна стена была сплошь зеркальная, перед ней поправляла прическу молодая женщина. Ананасов с некоторым смущением провинциала заметил, что женщина хороша собой, но в целом его мысли были не о том.
– Как доехали, Виктор Андреевич? – Евдокимов оказался человеком крупным, с широким рабочим лицом, но улыбался совсем по детски. Может быть потому, что привык улыбаться, и улыбка была естественной, не приклеенной.
– Нигде еще не остановились? Родственников у вас в Москве нет? – Расспрашивая, Евдокимов кому-то звонил, искал какого-то Васю и договаривался с ним насчет машины. – Для одного хорошего человека. – Евдокимов еще раз глянул в ананасовские бумаги и кивнул, как если бы они были давно знакомы, И Ананасов понял, хороший человек – это он сам.
– Сейчас придет машина. – Пояснил Евдокимов. – Наши объекты разбросаны, сами не найдете. Подождите пока. Или еще лучше – в буфет. Вам пригодится с дороги. Буфет у нас неплохой. – И отправил Ананасова в буфет, с тем же молодым человеком в качестве провожатого.
Если по местным представлениям буфет считался неплохим, то для Виктора Андреевича оказался вовсе невиданным. Конечно, большинство продуктов, кроме нескольких ярких банок, были ему знакомы, но сочетание всех одновременно, и не просто доступность, а несомненная обыденность этой доступности, делали содержимое буфета почти неправдоподобным. – О, уже клубника появилась. – Обрадовался ананасовский спутник. – Непременно возьму в обед. Елена Ивановна, накормите, пожалуйста, нашего гостя.
Ананасов позавтракал, что оказалось очень кстати. Причем несколько прозаически. Неловко было набрасываться на деликатесы, и трудно было выбрать вот так, с хода. Честно говоря, глаза разбегались. Перед клубникой он взял сосиски, которые оказались не наши, а какие-то немецкие, из банки, в горчичном соусе, сливки из холодильника в приятно запотевшей баночке. А его спутник выпил за компанию апельсиновый сок. И все это удивительно дешево, какие-то копейки.
Потом отправились назад по широкому коридору с ковровыми дорожками, мимо высоких белых дверей совсем не официального, а домашнего вида. Без всяких табличек, а с изящными бронзовыми номерками, и такими же, в тон, ручками-шишечками. Дружное цоканье пишущих машинок раздавалось из-за дверей, негромкие телефонные звоночки, пару человек мелькнуло при костюмах и галстуках. Ананасов ничем от них не отличался, разве только некоторой помятостью после проведенной в поезде ночи. А навстречу уже спешил Евдокимов.
– Ну как, поедем? Очень хорошо. И машина готова. – Евдокимов искренне радовался, что все выходит ладно, проводил Ананасова к черной волге, которая дожидалась у ворот, крепко пожал ему руку. Кожа на шее Евдокимова была стянута сплошным багровым рубцом – последнее, что успел заметить Ананасов.
– Погодка какая. Класс! Ну, с Богом. – Напутствовал Евдокимов, а водителю распорядился строго. – Отвезете товарища на четырнадцатый и назад. Поедем в наше хозяйство. – Потом глянул на часы и передумал. – Нет, не успеем. Завтра, прямо с утра. А вам, Виктор Андреевич, удачи.
И покатили. Езда была долгой, но очень приятной, как и должно быть, когда едешь с комфортом, чуть развалясь, на переднем сидении, по бесконечному малознакомому городу. С легким сердцем, не нужно ничего искать, сами подвезут, доставят, куда нужно, в лучшем виде. Промелькнули центральные районы, бесконечный проспект вывел в район новостроек, проехали мимо какого-то завода, свалки ржавого металла, мимо пустынного водоема, затянутого разноцветными масляными пятнами и синим дымком, преодолели железнодорожный переезд, промахнули березовую рощу и огромное хранилище бочек, составленных горой, не меньше чем по тысяче штук. Наконец, вырулили к каменному забору в два человеческих роста, с колючей проволокой поверх, и еще долго ехали вдоль него, пока, наконец, не свернули к закрытым наглухо воротам, выкрашенным в зеленый цвет, без всяких других вывесок или номера.
Шофер проводил Ананасова к малозаметной дверце, вслед за которой оказалась проходная, почтительно с ним распрощался и отбыл. Охранник был молодой, в какой-то странной форме. Видно, что это именно форма, а вот какая – военная или гражданская – не разобрать. Темно-коричневая рубашка с короткими рукавами и множеством металлических пуговиц, причем из нагрудного кармана торчала фасонисто сигаретная пачка. Черные брюки перепоясаны широким ремнем с кобурой. Охранник долго листал ананасовский паспорт, сравнивал с командировочным удостоверением, внимательно разглядывал фотографию, а потом неоднократно самого Ананасова, как бы не доверяя первому поверхностному впечатлению и закрепляя его повторным, более глубоким. Заглянул даже в прописку, еще раз сверил информацию со своей книгой, куда, нужно полагать, Ананасов был внесен заранее. Работал неторопливо, можно сказать, трудился над документами, наконец, спрятал паспорт и командировку к себе в сейф, а Ананасову выдал жетон – большую бляху оранжевого цвета, на котором значилась цифра «7». Ананасов счел это хорошей приметой, на седьмое приходился день его рождения. И вообще, он уже ничему не удивлялся, такой выдался день. С обратной стороны жетона была булавка, можно было приспособить к пиджаку или рубахе. Но главное, не потерять. Ананасов сунул жетон во внутренний карман пиджака и застегнул сверху на пуговицу. Так надежнее.
– Документы мы пока у себя оставляем, вам не понадобятся. А командировку отмечу. – Несмотря на въедливость процедуры, охранник обращался к Ананасову уважительно, подчеркивая его старшинство. Ананасов, наверно, некстати вспомнил наглого Козодоя, который фамильярно звал его Андреичем и норовил всюду сунуть свой любопытный нос. Теперь казалось, все это в далеком прошлом. Охранник долго звонил, многократно набирая номер, но без раздражения, как делал и все остальное, механически. Ананасов пока отдыхал в углу, уже, как свой, за журнальным столиком. На предплечье у охранника была выцветшая татуировка с изображением солнца, садящегося в морскую пучину. В ананасовской голове всплыли слова старого танго. Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви… Когда-то танцевали они с Валей под эту мелодию.
– Стрекоза, стрекоза. – Связался, наконец, охранник. – Мы готовы. Ждем.
Охранник надел фуражку с коричневым верхом, запер наружную дверь и пригласил Ананасова внутрь. На околыше фуражки и на пряжке пояса были две скрещенные молнии, идущие зигзагом, как и положено молниям, раскалывающим небо. Сразу за проходной был навес, под ним несколько скамеек и вкопанная в землю урна. На стене красной краской значилось Место для курения, а ниже еще более категоричное: Курить только здесь! Охранник оставил Ананасова дожидаться дальнейших сюрпризов (похоже, они только начинались) и вернулся к себе. Было безлюдно. Стояла жаркая сонная тишина. Перед Ананасовым лежал, холодно поблескивая, длинный цилиндр ангара. Сверху огромными буквами значилось: ОГНЕОПАСНО. Больше ничего со скамейки не было видно. Совсем издали доносились шумы большого города. Ни души. Потом вдоль ангара протопала фигура, толкая пустую тележку. Ананасов так и не заметил, откуда фигура взялась и куда исчезла. Тишина и заброшенность стали действовать, Виктор Андреевич попытался дремать, впечатлений было уже слишком. И задремал. Не слышал, как подъехала машина. Пришел в себя, когда встряхнули за плечо. Двое в такой же непонятной форме пригласили за собой в открытый газик или джип, или вроде того. Сами запрыгнули молодецки, второй, уже на ходу.
– Погодка какая. – Водитель прокричал Ананасову в ухо и выставил большой палец. – Во, погодка!
Объехали ангар, покатили напрямик, через поле, оттуда на асфальтовую дорожку, потом на бетонку. Ясно, были они на аэродроме. Самолетик уже ждал. За ним был зеленый холмик с распахнутыми дверцами в торце. Только что его выкатили.
– Что, полетим? – Прокричал водитель с легкостью человека, ежедневно занимающегося приятным делом. Подкатили к трапу, прямо из машины поднялись. Втянули за собой трап, закрыли дверцу. И взлетели.
После некоторого числа следующих друг за другом неожиданностей, они перестают восприниматься, как собственно неожиданности, а обозначают некие закономерности или даже новый порядок вещей, которому не следует удивляться. Из всей цепи странных событий и перемещений этого дня, пожалуй, более всего удивился Ананасов буфету с его невиданным изобилием. И тем самым подготовил себя для других неожиданностей, которые сыпались как из мешка. Потому и воспринимал их сейчас без удивления и опаски. Чего, спрашивается, зазвали бы его в такой буфет? Какие неприятности? Чушь! Виктор Андреевич даже в иллюминатор смотреть не стал. Лететь, так лететь.
Час примерно были в воздухе, приземлились на небольшом пустынном аэродроме. Пересели в такую же машину и отправились дальше. Проехали насквозь единственную улицу, вдоль которой стояли видавшие виды деревянные дома русской провинции. Совсем пустая была улица, прямо, декорация (Ананасов бы не удивился), без людей, домашней птицы, котов и собак. Некоторые дома были заколочены наглухо, ставни закрыты. Встретилась велосипедистка. Водитель посигналил, девушка махнула в ответ рукой. По улице съехали к реке, к вытянувшемуся вдоль нее длинному каменному дому, тоже старой постройки. Что внутри? Все в этой истории смешалось, и угадать было невозможно. От дома к реке шла маршами деревянная лестница, у воды торчало несколько пляжных грибков, у мостков приткнулись лодки. И, как везде, не было ни единой души, а сам вид навевал сладкую тоску, вроде находишься уже не на земле, а где-то в месте неблизком, но еще доступном игре воображения. Впрочем, времени на поэзию не оставалось.
Внутри здание не страдало от запущенности, привычной для таких помещений, чудом сохранившихся с тех пор, когда было попросту не до них, растащенных наполовину на дерево и кирпич, а затем скромно восстановленных под местный дом отдыха, краеведческий музей или училище механизаторов. Здесь было не так. При входе был охранник, Ананасов предъявил ему свою бляху. Внутри оказалось сухо, чисто, казенно горели лампы дневного света, вообще, вид был деловой, официальный. Прошли по длинному коридору, никого не встретив. Провожатый постучал в крайнюю дверь, но перед этим замешкался, оправил форму. Видно, не к простому человеку шли.
– А вот и вы, Виктор Андреевич, – сказал хозяин кабинета. – Будем знакомиться.
Вечеринка
Разговор с Ананасовым огорчил Леночку. Творилось что-то неладное, пугающие перемены, даже не перемены, а мимолетные признаки, которые способно уловить бескорыстно любящее сердце. Нужно было что-то делать, предпринимать, не сидеть, сложа руки. Действовать, двигаться, как должен двигаться путник, чтобы не замерзнуть в пути. Но что делать? Что? Этого как раз Леночка и не знала, как вообще не понимала, откуда могла свалиться напасть. И ощущала (совсем необоснованно) свою вину, желая разделить с любимым тяжесть бед и огорчений. Ведь это ее хотел рассмешить Ананасов своей глупой шуткой. И рассмешил. В тот день, когда Ананасов совершал неожиданные перемещения по земле и воздуху, Леночка получила приглашение на вечеринку от ближайшей подруги. Той самой, которая ловко и бескорыстно устроила ее встречи с Ананасовым, предоставив квартиру. И предоставляла бы впредь, если бы не определилась сама, выйдя замуж за итальянца и став от того, вроде бы, итальянкой. Ясно, что встречаться у нее стало нельзя, и все, чем смог отплатить Ананасов за гостеприимство, – снести вниз рояль, который Люсьена продала совсем недорого. Сама она сидела на чемоданах, дожидаясь визы на поездку в Италию, сначала погостить у родителей мужа, а дальше, как знать… Теперь, наконец, разрешение было получено, куплены билеты на самолет до Вены. Ах, красавица Вена! Что за город! А оттуда, после краткого осмотра достопримечательностей, дальше, вглубь итальянского сапога, по голенищу которого текла речка Тибр, а на ее берегу ждал молодоженов Вечный город Рим. Здесь, вернее, не в самом городе, а чуть поодаль (что еще лучше) жили, как древние патриции, родители Марио, и ждал рояль, взамен проданного у нас за бесценок.
По случаю отъезда собрала Люсьена друзей. Как было Леночке не пойти, вопреки благоразумной воздержанности от общения с иностранцами, которые, может, и не сделают плохого, но и до хорошего вряд ли доведут. И Леночка отправилась, провожаемая ворчанием мамы Руфь Бернардовны, формулой категорического табу, не имеющего рационального объяснения. Нельзя, значит, нельзя. Просто и понятно.
Дверь в квартиру была распахнута. Стеречь было нечего. Мебель вывезена, немецкая вязальная машина – ценнейшая вещь продана вместе с роялем. Остался никому не нужный кухонный стол (после отъезда соседи заберут на дачу) и раскладушка, на которой молодожены коротали медовый месяц. Зато стол был заставлен бутылками, завален свертками с колбасой, сыром, тарелками с салатами и прочей приготовленной на скорую руку едой, в частности, картошкой в мундирах и солеными огурцами (свежие тоже были). Под стенами сидели Люсьенины друзья – консерваторская братия, собравшаяся проводить ее в непоследний, дай Бог, путь.
– Пай, пай, – пел Челлентато и женский голос сладко мурлыкал в ответ, – пай, пай…
Подруги обнялись. – Едешь? – Леночка тыкалась носом в воротник Люсьениного свитера и утирала заодно глаза. Грустно было.
– Еду. – Люсьена тоже грустила, но более светло. Ведь какое будущее открывалось. – Представляешь, Ленка. – Оторвалась от подруги, заглянула ей в лицо, как бы ища подтверждения близкой реальности. – Представляешь, через неделю в Вене. Ах, это сон. Ой, ты плачешь? Мы увидимся. Я буду приезжать. И ты к нам… Правда, Марио.
Марио плохо понимал по-русски, и потому выражение лица имел постоянно напряженное, каку тугоухого. – Едем. – Подтвердил Марио. – Родители будем жить.
– Приеду. – Леночка всхлипывала, смеясь.
– Приедет она, как же. Жди. – Вставил от стены длинноволосый музыкант. – Как Фимка. Разорялся чувак, без меня они гамму не сыграют. А поехал тот лох. Рояль, как гвоздями набит. Но катается. Шмотья навез. Они там две недели колбасу жрали, а еще две – собачьи консервы. Потом здесь месяц желудок лечили всем оркестром. Забашляли, их в Ессентуки на гастроли кинули. Терпимо, говорят. Собачьи терпимо. Там еще для котов есть, из рыбьих голов. Вот там круто, полный капец. Но дешевые, почти даром. Как раку ногу оторвать. Все трухали, а ударник хавал. Нормально, говорит, я рыбное люблю. Нужно только хорошо запивать.
– А чем запивать? – Вопрошала аудитория.
– Из-под крана. Погоди, съездишь, сам узнаешь.
– Фимка не поехал, – Люсьена объясняла, – потому что у него графа.
– А у Лены что?
– Леночка считается украинкой.
– Кончай, Колян, – сосед толкал длинноволосого в бок, – при иностранцах разговоры разводить.
– Да, они не догоняют. Слышь, Карузо. Дружба. Как там у вас? Аморе? Си?
– Си, си. – Кивал Марио, радуясь взаимопониманию.
– Перестань. – Утешала подруга Леночку. – Я тебе писать буду – Тут слезы Леночки высохли при мысли, что скажет ее мама, Руфь Бернардовна, когда увидит конверт со зловещим иностранным штампом и успеет ли еще что-то сказать при ее гипертонии. Но подругу поддержала. – Пиши, конечно, пиши.
Обнявшись, подошли к окну. Отсюда были хорошо видны светящиеся в ночном небе огромные буквы: СЛАВА ТРУДУ Как раз на здании, где работала Леночка.
– Я, когда гляжу вечером, всегда тебя вспоминаю. – Сказала Люсьена.
– У них такого нет. Мрак и безработица. – Поддакнули сзади.
Комната, даже без мебели была заполнена до отказа. Челентано допел, крутили рок. Вино разогревало кровь, табачный дым плыл волнами. Тянуло сквознячком. В коридоре, проникнувшись итальянским легкомыслием, целовались. Леночка прислонилась к стене и понемногу пила портвейн. Сейчас алкоголь был кстати. Вот и глаза прошли, кожу стянуло от высохших слез. Люсьена исчезла к гостям, рядом неумолкающий Колян вел очередную историю.
– Был один чувак. Кликуха – Лея. Известный катала. Картежник, значит. Одна компания: Лея, Баран и Шапочка. По вагонам, а летом – от Юрмалы до Сочи. Жил, не тужил, и тут приезжает из Канады дядя миллионер. Отсюда отбыл незнамо когда, а теперь обнаружился. Бездетный. И выходит, Лея его единственный племянник, большое счастье, что нашелся. Можете такое вообразить? Слушайте, слушайте. В общем, добрался старикан, нашел сестру и, значит, Лею. Лея ему, конечно, залил, что он инженер, хоть он техник по каким-то машинам, которые в глаза никогда не видел. Как? Откуда я знаю, как. Дядя оказался малограмотный. Блин буду, там такое бывает. Всю жизнь пропахал, а сам ни ухом, ни рылом. Закопался в бабки и капец. Лея для него умный, как Эйзенхауэр. Дядя им всего понакупал, отбыл к себе, и пишет. Старый стал, устал от бизнеса. Решил купить на Гаваях скромную виллу, а дело передать племяннику, то есть, Лее, в память о дорогой сестре. Мать у Леи как раз скончалась от горя, что сын такой охламон. Лею ничего не держит, и такое счастье. Он в ответ телеграмму. Молнию. Не возражаю. А сам гуляет, не просыхая. Через год, говорит Барану с Шапочкой, точно буду на Гаваях. Там телки с шоколадной кожей, я их отсюда чую.
