Курмахама
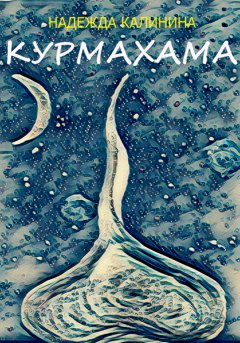
Никогда такого не было! И вот опять!
Виктор Черномырдин
Глава 1
Порой у некоторых людей в возрасте «хорошо за 45» случается так, что жизнь, до этого бегущая гладко и незаметно, подобно электрическому току в проводах, вдруг обрывает свой привычный бег и замирает в одной напряжённой точке, потому что где-то в сети произошёл обрыв, и ток сразу кончился. И тогда прежний человек, который, казалось, обладал огромным запасом энергии и радостно, бездумно тратил её на всякую всячину, обнаруживает себя бессильным и безвольным, как брошенный где-то в чистом поле троллейбус. Он выпал из всеобщего потока, потерял свою движущую силу, участь такого индивидуума незавидна.
Почему случился злосчастный обрыв – неизвестно, где – непонятно. Впрочем, того, кто внезапно обнаружил себя замершим в напряжённой точке, волнуют вовсе не эти вопросы, а совсем другой – как теперь жить дальше? К сожалению, многие на этот вопрос отвечают просто – да никак!
Именно так отреагировал на свой «внутренний обрыв» Геннадий Григорьевич Домакин, муж Елены Ивановны Домакиной, в девичестве Распоповой. Елена Ивановна хорошо запомнила глаза супруга, когда однажды он вернулся с работы вот таким, «оборванным» – впервые за долгие годы совместной жизни при виде неё взгляд Геннадия не блеснул радостным узнаванием, не замерцал обычной лёгкой иронией, ставшей для семейства Домакиных своеобразным культурным кодом в совместном общении. Вместо этого глаза Геннадия казались сделанными из чистого зеркала – они отражали всё: прихожую дома, разваленную на коврике обувь, стены, потолок, саму Елену, застывшую в дверном проёме кухни, но ничто и никого не пускали внутрь, к обладателю этих глаз.
– Что с тобой? – испугалась Елена при виде отстранённого лица мужа, – Ты заболел?
– Нет, – ровным тоном ответил жене Геннадий, без труда удерживая взгляд на прямой линии, упёртой куда-то в чёрную дыру в соседней галактике, – у меня всё хорошо.
Он неторопливо снял верхнюю одежду и обувь, прошагал к дивану, никак не реагируя на остальные вопросы Елены, которыми та в тревоге засыпала мужа, лёг на диван, да так там и остался на весь вечер. А потом и на все последующие вечера.
– Скажи мне, ну, ответь, пожалуйста, ты заболел, да? – бесконечно терзала Геннадия Елена, пытаясь найти рациональное объяснение произошедшим у него тектоническим сдвигам в поведении.
Она знала – у мужа больное сердце. Утвердительный же ответ на её вопрос объяснял всё. Или почти всё. Но Геннадий сперва лишь морщился да иногда закатывал глаза, показывая, как надоели ему Еленины приставания. А потом, видимо, сочтя за благо согласиться с женой, чтобы его, наконец, оставили в покое, и явно выбрав при этом меньшее из двух зол, неохотно подтвердил – да, всё дело в больном сердце.
Со временем Геннадий почти полностью вернул себе весь спектр привычных эмоций, пусть и стал разговаривать с Еленой более раздражительно и капризно, но зеркальности в его глазах от этого нисколько не убавилось. И самое главное – так и не вернулись к Домакину его былая лёгкость на подъём, готовность на поступок, которые во многом и привлекли к нему в своё время Елену.
А ведь сколько времени в самом начале знакомства Елена и Геннадий проводили вне стен, днями напролёт гуляя по Питеру, выбираясь порой в пригороды или даже посещая соседние регионы. Геннадию нравилось быть активным, позитивным, знающим, внимательным, в общем, настоящим лидером. И Елена охотно уступала ему пальму первенства, наслаждаясь тем, что – едва ли не впервые в её немаленькой к тому моменту жизни – кто-то вот так запросто брал на себя все заботы о том, чтобы ей было хорошо.
Во время прогулок Домакин расцветал и бесконечно нагружал любимую историческими фактами, запросто сыпал известными фамилиями прославленных архитекторов и прочих знаменитостей, имеющих отношение к тому или иному месту. И даже если Елена была в курсе каких-либо имён или событий, ей все равно нравилось слушать заливающегося соловьём Геннадия, потому что ко всем известным и неизвестным фактам он всегда добавлял собственное видение и отношение. И именно это делало его рассказы много интереснее, чем у самого лучшего экскурсовода.
«А ты знаешь» в девяностый раз за прогулку начинал разговор Геннадий избитой от многократного употребления фразой, останавливаясь около очередного архитектурного шедевра и вдохновенно заглядывая во внимающие, доверчивые глаза Елены, распахнутые настолько широко, что лишь полный глухарь мог не заподозрить в них готовность слушающего поверить в любую чушь, только бы дать говорящему насладиться своим рассказом. Вне зависимости от степени интереса к самому повествованию.
– А ты знаешь, как еще называют Эрмитажный мост, перекинутый через Зимнюю канавку? Ну, ну! Смелее! Знаешь? – вопрошал сияющий Домакин свою спутницу немного назидательным голосом.
– Нет. А как? – и Елена, собрав всю отпущенную ей Богом наивность, таращилась в лицо супруга, словно пытаясь прочитать на нем подсказку.
– Его стали называть мостиком Лизы, после того, как состоялась премьера оперы Чайковского «Пиковая дама». По сюжету героиня оперы Лиза сиганула с этого моста в Зимнюю канавку… В общем, как говорили в известном фильме, «все умерли». Но, как по мне…. В общем, я сторонник оригинальных названий. Мало ли кто и в каком произведении упомянет этот мост, что каждый раз дополнять его название именами героев чьих-то произведений. Глупо и не рационально.
– Ну, да, наверное, – покорно соглашалась с Геннадием Елена, – и откуда, Генек, ты все это знаешь?!
– Книжки читать надо, Ленточка моя! – не без законной гордости провозглашал Домакин с интонациями резонёра из провинциального театра. – Там так много всего интересного. Было время, я в метро пока ехал на работу много всякой литературы прочитал. Читал все, что под руку попадало.
– А ты знаешь, что в старину на Поцелуевом мосту было принято целоваться с каждым, проходящем по этому сооружению? – задавал он следующий каверзный вопрос, когда они трогались с места, чтобы продолжить путь.
– Ничего себе! – восклицала Елена, но тут же спохватывалась, – Ой! Ладно, если с приличным человеком. Но ведь там и нищие могли проходить, всякие грязные или больные! Фу, антисанитария полная. Кошмар!
– А ты не ходи по мосту, если не нравится, иди до следующего. Ишь, какая чистюля, – и Геннадий, обняв жену за талию, прижимал ее к себе и нежно целовал, – а со мной стала бы целоваться? А?
– С тобой – всегда только с тобой, любимый!
– Тогда в путь, к Поцелуеву мосту. Там хочу с тобой целоваться. Это, к слову, самое любимое место у молодоженов. Идём туда сейчас, немедленно!
– Слава Богу, подальше от мостика Лизы, – не без кокетства бросала Елена, лукаво посматривая на мужа, – а то, кто тебя знает, вдруг заставишь меня с этого мостика прыгать, а я плаваю плохо.
– Ленточка, не мели чепуху, не притягивай лихо, пока оно тихо. Помереть всегда успеем, – не на шутку пугался Геннадий.
И сердце Елены пело от счастья.
Новая же версия Геннадия Домакина предпочитала всё свободное время проводить дома. И даже – немыслимое прежде дело! – минимизировала своё пребывание на работе, где Геннадий трудился в должности главного специалиста и, как он сам признавался, давно был в роли этакого гуру, обладателя «самого верхнего мнения» по наисложнейшим вопросам технического характера. А потому мог себе позволить весьма многое, в том числе, свободный график посещения. Но если раньше его свободный график выражался в том, что нередко Геннадий работал по выходным дням или задерживался на заводе допоздна, то сейчас, даже когда его по нескольку раз вызывало начальство, ездил на службу с выраженной неохотой и часа на два-три в день, не более.
Увольнять Геннадия, несмотря на участившиеся капризы, тем не менее, не спешили. Более того, судя по тональности и отдельным выражениям из телефонных разговоров, которые в последнее время регулярно, не вставая с любимого дивана, вёл Геннадий со своим руководством, борясь за право оставаться дома как можно дольше, ему прощали всё, только бы не бросал родное предприятие. И чем больше ворчал и капризничал по телефону Геннадий, тем более велеречивыми и ласково-уговаривающими становились интонации абонентов с завода.
Всё это было так не похоже на того Геннадия, которого знала и любила Елена, что женщина не выдержала и заставила-таки мужа сходить к хорошему кардиологу, которого до этого придирчиво выбирала сама, по рекомендациям знакомых. Геннадий долго ломался и согласился на поход к врачу только в сопровождении жены. Чтобы ждала в коридоре, пока он будет в кабинете. Елене пришлось взять отгул – и это в самом конце отчётного периода, когда её начальство рвало и метало, потому что с финансовой дисциплиной в Елениной конторе было не очень, и только одна Елена могла свести концы с концами, но ради своего Генека она была готова и не на такие жертвы.
После того, как муж вышел из кабинета, Елена лично бросилась к кардиологу и забросала его вопросами: Что с моим мужем? Это вообще лечится? Что нужно делать в ближайшей и отдалённой перспективе?
Кардиолог как мог, старался успокоить нервную посетительницу, уверив Елену, что в самое ближайшее время её мужу ничто не угрожает, хирургическое вмешательство не требуется, хотя следует признать, динамика, увы, негативная.
Именно словосочетание «негативная динамика» так расстроило бедную Елену Ивановну, что она разрыдалась прямо на плече у испуганного этой вспышкой и неуклюже пытающегося её хоть как-то успокоить кардиолога. Она плакала до тех пор, пока в кабинет не заглянул истомившийся в коридоре Геннадий. Пришлось потом Елене фальшиво бодро уверять мужа, что рыдания её были вызваны вовсе не состоянием его, Геннадия, а ответом кардиолога на вопрос о её собственном самочувствии. И что расстроилась она лишь из-за того, что врач объявил ей о начале постклимактерического периода жизни.
– Сам же знаешь, – вдохновенно врала Елена мужу по дороге домой «святой ложью», – что значит для полной силы, чувствующей себя абсолютно молодой женщины заявление доктора, мол, у неё самая взаправдашняя старость! Выходит, я уже дряхлая рухлядь, графские развалины, только не сладкие, как в торте, а с карболовой кислотой.
Елена старалась иронией заглушить подозрения мужа, но по зеркальным глазам Геннадия трудно было понять, верит он в искренность слов жены или нет.
Сразу же после визита к кардиологу изменилось и поведение Елены – она стала любыми способами оберегать мужа, поклявшись себе сделать всё, чтобы он жил. И жил как можно лучше и дольше.
«Я не дам тебе умереть, Генек, даже не думай», – шептала Елена под нос свою клятву, когда до рези в глазах вглядывалась в лицо спящего мужа во время бессонных ночей. А таких ночей становилось в её жизни всё больше – каждая вторая, если уже не первая.
Генеком, с ударением на первый слог, Елена звала Геннадия с самого первого года знакомства. С тех самых пор, как он сочинил для неё имя Ленточка.
– Понимаешь, – объяснил тогда Домакин Елене, – для близких мне людей я всегда придумываю только им свойственные имена. Так повелось с самого детства, в нашем дворе все имели клички, по именам никто никого не называл. Я привык.
– И как ты называл свою бывшую? Просто интересно! – как бы между прочим бросила Елена, испытав при этом заметный укол ревности. Ей уже тогда не хотелось ни с кем делить своего, тогда ещё не Генека, а Геночку. Даже с бывшими.
– Ну, зачем ты… – смешался Геннадий, – это всё в прошлом. Я забыл уже.
– Врёшь! – не поверила Елена Геннадию, но настаивать не стала.
Вот тогда и возникли новые имена – Генек и Ленточка. Точнее, Ленточка и Генек, потому что первым новое имя для жены придумал Геннадий. Правда, со временем эти уменьшительно-ласкательные прозвища в общении Домакиных звучали всё реже. Но про себя Елена звала мужа почти исключительно Генеком.
– Ну что ты так нервничаешь? Тебе надо беречься. Помнишь, что врач рекомендовал? – говорила Елена мужу, в параллель провожая его глазами, в то время как он мрачно бродил из угла в угол.
– Да если слушать все, что эти врачи говорят, уж лучше умереть сейчас! – пробурчал в ответ Геннадий, наконец, упав на дальний стул.
– Милый мой, ты только послушай себя. Как тебе не стыдно такое вслух произносить? Мы постараемся сделать всё, чтобы ты поправился, – Елена подошла к мужу сзади, обняла его за талию и прижалась щекой к спине.
– Ай, Лен, как ты не понимаешь. Ну, не могу же я вечно на этом чёртовом диване сидеть! Я привык к активной жизни, я даже во сне всё ещё бегаю, а тут…, – и Геннадий, сбросив руки жены со своего живота, устремился на кухню.
Елена предпочла не заметить нелогичность мужа, который зачем-то сам приковал себя к дивану, а теперь пытается представить дело так, словно он жертва обстоятельств, она предпочла последовать за мужем, громко выговаривая ему свои опасения:
– А вот на кухне я бы тебе посоветовала бывать реже.
– Это почему еще? – вскинулся Геннадий, который уже взялся за ручку двери холодильника.
– Малоподвижный образ жизни, плюс частые перекусы и ожирение гарантировано, – начала перечислять Елена, – А с твоим больным сердцем – это явная погибель. К тому же…
– Ну вот, опять двадцать пять, – с раздражением перебил жену Геннадий, – Скажи, а зачем тогда жить-то? Для чего? Есть много нельзя, быстро ходить, а тем более бегать нельзя. Даже секс противопоказан. Вдруг помру прямо на тебе. Для чего тогда жить? На работе набрали целый полк молодёжи, все шустрые, все всё знают. Всё, никому не нужен. Кончился я!
И Геннадий, так и не открыв холодильник, бухнулся на стул, картинно положив руку на сердце, словно проверяя, не остановилось ли, пока он спорил с женой.
– Ну, что ты такое говоришь, – Елена не выдержала и тоже повысила голос, – Скажи мне, куда это ты бегаешь? Или от кого? На работу, так вообще – не то, что не бегаешь, не ходишь. А ещё говоришь, никому не нужен, молодых полно. Ты же незаменимый работник. Тебя не вышвырнули на улицу. Напротив, имеешь свободный график, у тебя хорошая зарплата. Значит, уважают, ценят. Что тебе еще нужно? Ты же понимаешь, что уже не сможешь работать, как раньше. Я вон каждый день трясусь, чтобы меня с работы не выперли, а ты с начальством свысока разговариваешь, ломаешься даже, и тебе всё сходит с рук. Каждый день трубки обрывают, только приди хоть сегодня на работу, дорогой ты наш Домакин!
Елена осеклась, увидев, как от её слов помертвело лицо Геннадия, и тотчас поспешила исправить ситуацию.
– Генек, милый, ну посмотри по-хорошему, все ведь неплохо у нас складывается. Грех жаловаться, – попробовала Елена умаслить мужа.
– Ты хочешь, чтобы я опять сутки напролёт на заводе торчал? – зловещим шёпотом начал тираду Геннадий, понемногу усиливая звучание и переходя на крик, – Ты это имела в виду, когда мне тут вставляла про малоподвижный образ жизни?
– Перестань! – взмолилась Елена со слезами, – Я же совсем о другом тебе говорю!
– Надоело всё! – неожиданно тональность речи Геннадия сменилась на минор, а громкость снова рухнула почти до шёпота, – и завод этот, и дорога до завода. Даже дом наш, всё надоело!
Елене показалось, Геннадий сейчас заплачет, настолько уныло, даже безнадёжно прозвучали его слова. Сердце Елены дрогнуло от жалости, ей захотелось немедленно, любым способом подбодрить мужа, её любимого Генека.
– Тогда тем более надо дома посидеть, чтобы дом наш в новом свете увидеть! Мне кажется, торча на работе, ты многое здесь пропустил, – немного подначила она мужа, надеясь, что ироничный тон, как всегда, поможет.
– Эх, мне бы кто позволил на работу пореже ходить. Уж я-то бы с удовольствием дома посидела! – добавила она мечтательно.
– Да хоть совсем уволься! – прервал эти мечты резкий возглас Геннадия, – ты мне, что, решила претензию предъявить?
– Что ты, милый, успокойся, – Елена не на шутку испугалась, что своей злостью Геннадий доведёт себя до приступа и мысленно дала себе слово не раздражать его, – Это я сказала, чтобы тебя слегка поддразнить, всего-то!
Геннадий хмыкнул и обиженно отвернулся. Елена подумала и предложила:
– Слушай, а если тебе порисовать, Генек? Ты же говорил, что кисть в руках никогда не держал, а вдруг у тебя талант, и тебе понравится? Будешь картины писать, здорово же! Мне подруга по работе рассказывала, у неё мать пристрастилась к рисованию, так за одну её картину даже деньги заплатили. Это я не к тому, что нам денег не хватает, а к тому, что многие хотят заняться рисованием, но у них нет времени. А у тебя оно есть. Так порисуй. Ну, не хочешь рисовать, давай я тебе гитару куплю, и самоучитель. Или даже репетитора наймем. Пару раз в неделю, а остальное время сам потренируешься. Хочешь?
– Зачем? – ворчливо отреагировал на предложение Геннадий, – Рисование, гитара! Ну, зачем мне это все на старости лет? Живописец настоящий из меня всё равно не выйдет. Да и в ансамбль уже поздно наниматься!
– Порисуй просто так. Для себя, для меня, – с жаром продолжила Елена, которая сочла свою мысль весьма удачной. Действительно, чего от безделья маяться, когда вокруг столько всего интересного?!
– Некоторые вон всю жизнь мечтают начать рисовать или петь, да у них возможности нет, а у тебя есть, но ты ничего не хочешь. Что, лучше, что ли телевизор без конца смотреть? Там ведь примитив один для бабушек и дедушек дремучих. Им простительно эти сериалы смотреть, у них умственная активность пониженная, в силу возраста. А у тебя только сердце больное. С головой все в порядке. Уж лучше книги читай. Хочешь, накачаю из интернета что-нибудь современное или наоборот классику? Может, хочешь что-то перечитать?
Геннадию, который и вправду после своего «обрыва» только и делал, что с дивана часами пялился в телевизор, смотря всё подряд, в том числе и все популярные сериалы, которые сам же до этого всегда ругал, сказанное Еленой пришлось совсем не по нраву. Как любому человеку, впавшему в пагубную зависимость, но стыдящемуся это признавать.
– Ай, вечно ты со своими нотациями лезешь! – он обреченно махнул рукой и вновь отвернулся от жены, давая ей понять, он не желает продолжать этот неприятный, а главное бессмысленный разговор.
Елена подумала-подумала и начала разогревать ужин, а заодно стала прикидывать, что приготовить на завтрашний день. На Геннадия, как на помощника по кухарским делам, она больше не рассчитывала. Это раньше супруги вместе радостно суетились на кухне, Геннадий брал на себя более грубую работу – нарезал мясо и овощи, а Елена возилась у плиты. Теперь же ей приходилось всё делать самой.
Геннадий возлежал у телевизора в вечной апатии своей и намёки, что было бы неплохо помочь жене на кухне, старательно игнорировал. Если же Елена прямо просила его о помощи, Геннадий тотчас начинал жаловаться на собственную немочь и всякий раз заканчивал одинаково: «если я помогу тебе с ужином, этот ужин точно станет для меня поминальным». Правда, иногда эта фраза трансформировалась в «что-то мне есть сегодня не хочется. Приготовь что-нибудь для себя, а я лучше поголодаю. Голод, как известно, лечит».
В результате все домашние дела полностью легли на плечи Елены, которая вздыхала, но терпела, надеясь, что скоро всё наладится, ее милый взбодрится и жизнь, наконец, вернётся на круги своя. Но избавленный от хлопот по дому Геннадий только отстранялся, закрывался и ещё больше погружался в свой внутренний мирок.
Но, что делать, Елена всё чаще позволяла мужу оставаться наедине со своими мыслями, потому как буквально разрывалась между основной своей работой, работой по дому, плюс заботами о здоровье ненаглядного супруга, которые также требовали немалых сил и времени.
Не наступало у Елены отдохновение и ночью. То ли от усталости, то ли от беспокойства за Геннадия, но у неё развилась настоящая бессонница. Раз за разом Елена ловила себя на том, что опять в самый глухой час не спит, а ловит дыхание мужа, сопящего рядом. Или прокручивает бесконечные ролики воспоминаний. И особенно часто – ролик про ангину. Елене казалось, что именно с той ангины и начались проблемы Геннадия с сердцем. И хотя Домакин не раз уверял жену, что нелады с сердцем у него уже давно, просто он старается не акцентировать ничьё внимание на этом, только после ангины Елена всерьёз испугалась за жизнь мужа. Она точно наяву помнила посеревшее до цвета оболочки осиного гнезда лицо Геннадия, провалившиеся куда-то вниз, под кожу его глаза, как тяжело и страшно он дышал тогда, когда притащился домой из командировки в полночь, поддерживаемый своим сослуживцем, по фамилии Бурко. Как мгновенно испарял всю воду с влажного полотенца горячущий лоб Геннадия. И как металось внутри его грудной клетки неровно, натужно бьющееся сердце.
И вновь, и вновь Елена последними словами корила себя, что пошла на поводу у привыкшего бравировать своим здоровьем Геннадия, который любил с усмешечкой приговаривать «болеют одни бездельники. Тот, кто занят делом, всегда здоров и цел» и не позвонила тогда врачу. Хотя в то время болезнь только начиналась, всё ещё можно было изменить. А потом, проснувшись как-то ночью, обнаружила своего Генека сидящим на кровати с плотно прижатой к левой стороне тела ладонью. И как испугалась тогда, когда накрыла своей рукой ладонь мужа, чтобы успокоить его, и обнаружила в его груди то самое натужное мечущееся движение сердца.
«Дура, я дура! Зачем я повелась на его браваду? Почему не вызвала врача? Если б только было можно всё вернуть. Ах, если б только всё вернулось. Уж я бы тогда не мешкала! – повторяла про себя Елена одни и те же заезженные, истёртые до потери смысла, но пропитанные отчаянием и болью слова.
Эти воспоминания постоянно заканчивались одним и тем же. В порыве чувств Елена переворачивалась на другой бок, и сразу же слезы, будто до того затаившиеся и выжидавшие в засаде, бросались из её глаз как струи из пожарного гидранта и в пять секунд заливали всю подушку. «Если б только можно было ещё раз вернуться в тот злополучный день! Ни за что не пошла бы у Генека на поводу, вызвала бы скорую и отправила его в больницу. Ах, если бы можно было все вернуть вспять!» – опять и опять повторяла несчастная Елена.
И уже почти засыпая, она всякий раз представляла себе эту чёртову ситуацию, но совершенно в ином свете. Ах, если бы всё случилось так, как ей хотелось, как должно было случиться! Вот Геннадий возвращается из командировки с ангиной. Поддерживаемый Бурко, или как там его. Генек болен, измучен, но из последних сил старается держать фасон. А она, Елена, такая внимательная и прозорливая, моментально оценивает обстановку, решительно наклоняет голову мужа к себе, целует его в лоб, измеряя тем самым температуру. Всплескивает руками: «Да у тебя жар! Срочно нужно вызывать скорую!». Бурко тут же куда-то испаряется, аннигилирует. А Генек открывает было рот, но даже не пытается спорить с супругой, покорно укладывается в постель и безропотно ждет приезда доктора.
И вот уже через пять минут в квартире появляются врачи. Они бестолково суетятся у постели больного, но никак не могут поставить точный диагноз. И тут на первый план выходит она, Елена –решительный и умудрённый опытом человек, не теряющийся даже в самых сложных ситуациях – и без обиняков заявляет молодому доктору: «Да это же ангина! Что тут непонятно? Вы только гляньте на его гортань, доктор. Видите пробки в горле или принести вам очки? Это точно ангина. Моего мужа нужно срочно доставить в больницу, а то возможно осложнение на сердце. Вы же понимаете, о чем я?». «Да, конечно вы правы, – во всём соглашается с нею доктор скорой, довольный, что самое трудное уже позади, диагноз поставлен, – конечно, это ангина. Разве можно здесь сомневаться? Немедленно госпитализируем!». И вот Елена уже навещает мужа в стационаре. Увидев жену, Геннадий в буквальном смысле оживает, на его щеках сразу расцветает такой здоровый румянец, что розовеет подушка под головой. Теперь она спокойна и счастлива – все самое худшее уже позади.
На этом месте удовлетворённая Елена неизменно проваливалась в сон, по-ребячески веря, что теперь дело сделано, Геннадий спасён. К сожалению, утром всё начиналось сначала.
В последнее время Елена всё чаще стала прибегать к подобной практике ухода от реальности. Ей нравилось перед сном моделировать в голове возможности развития тех или иных событий, которые, в случае своевременной и правильной настройки или корректировки, были способны целиком изменить ход их с Геннадием семейной жизни. Причём, все эти настройки и корректировки отнюдь не выглядели в воображении Елены как нечто невероятное, требующее магических знаний или сверхусилий – вовсе нет. Всё, что нужно претворить в жизнь, это возвратиться в прошлое и кое-что немножко там подправить. Чуточку, капельку – вовремя разглядеть очевидное, то, что лежало на поверхности, маячило перед глазами, но почему-то тогда ускользнуло от восприятия.
Глава 2
Геннадий и Елена встретились, когда за плечами у каждого уже были неудачные браки. Встретились совершенно случайно – оба пережидали в вестибюле станции метро страшную грозу, бушующую на улице, и волею судьбы оказались рядом. В вестибюле было душно и многолюдно. Как всегда в конце дня на подъём работали три эскалатора, которые везли в ограниченное пространство станции всё новых и новых прибывающих. Люди сходили с эскалаторов, бросались к выходу, доходили до дверей на улицу, да так и оставались внутри вестибюля, смыкаясь телами всё плотнее. Между поездами людской поток слегка слабел, но потом снизу накатывала новая волна, до предела тесня пережидающих непогоду. Под ливень выходить отваживались считанные единицы.
Постепенно Елену, тоже не рискующую воевать со стихией, людским потоком прибило к Геннадию, который не растерялся и нашёл для себя крохотный закуток между театральным киоском и стеной здания станции. Елена тоже заскочила в этот закуток и вынуждена была встать совсем вплотную к Геннадию, настолько мало места там оставалась. Вынужденный терпеть её соседство, он сперва морщился и силился отстраниться от навязчивой незнакомки, но потом вдруг глянул ей прямо в глаза и улыбнулся какой-то смущённой детской улыбкой. Его улыбка всё и решила, в груди у Елены резко потеплело, и она сама первая заговорила с этим мужчиной. Они перекинулись парой фраз о жуткой непогоде, потом еще говорили о какой-то ерунде. А когда гроза кончилась, Геннадий вызвался проводить Елену до дома. Но Елена жила далеко от «Комсомольской» – станции, где они встретились. А на «Комсомольскую» прибыла по делу – записалась к стоматологу. Узнав об этом, Геннадий только рукой махнул, мол, какая разница, куда провожать.
Во время этой недолгой прогулки вдруг выяснилось, что родом они из одного города и у них даже есть общие знакомые. А дальше разыгрался до боли банальный сценарий – обмен телефонами, потом поход в кино, затем в кафе. И в какой-то момент Геннадий и Елена просто не захотели расставаться. Говорят, браки заключаются на Небесах. Небеса к нашим героям оказались благосклонны, и уже спустя какие-нибудь полгода после первой встречи новоиспечённые супруги жили в совместной квартире. Их любовь разгоралась настолько стремительно, что немногочисленные родные Геннадия и Елены оказались поставлены перед фактом в полном смысле этого выражения.
Сын Елены от первого брака Владимир, что вполне естественно, запоздалое увлечение матери не приветствовал. Ворчал, мол, «сдурела на старости лет, что ли». Но будучи поглощённым своей собственной личной жизнью в отношения матери с Геннадием влезал лишь от случая к случаю. А дочь Геннадия от первого брака и вовсе с отцом не общалась, поэтому с этой стороны никакие проблемы вообще не возникли. Владимир, впрочем, новый брак матери так и не одобрил и в доме Домакиных не появлялся, хотя приглашали его туда довольно часто. Особенно по первости, но со временем, разумеется, приглашать перестали.
Впрочем, вынужденное одиночество Геннадия и Елену вообще не напрягало. Жили они с первого дня душа в душу. Геннадий всегда был таким правильным и очень умным, спорить с ним было бесполезно, он все равно поступал по-своему, даже если аргументы были не в его пользу.
Да Елена практически и не спорила, она отдала право первенства в семье Геннадию почти без боя и быстро привыкла к тому, что ее муж всегда прав. Ну как же, ведь это у Геннадия несколько запатентованных изобретений, шкаф ломится от почётных грамот, множество статей в авторитетных журналах, а созданного им научного материала хватит на докторскую диссертацию, причём, не одну. И предположить трудно, что подобного рода человек может где-то уступить главенство женщине, даже дома. Несмотря на то что Елена уже лет пять занимала должность главного бухгалтера в солидной организации, да и вообще имела удачную в целом карьеру, она не роптала. Её и так всё устраивало.
Но с появлением у Геннадия «зеркальных глаз» в семье Домакиных всё разом изменилось. Ленточкин Генек теперь лидировал разве что по количеству часов, проведённых на диване и перед телевизором. А остальное бремя лидерства пришлось нести на своих плечах Елене.
Как назло, и на работе в последнее время всё стало складываться не очень гладко. Руководство компании, где работала Елена, несколько раз в кулуарных беседах намекало, что неплохо бы «обновить кадры», а то фирма «отстаёт от конкурентов, причём, с каждым месяцем всё больше». Вроде бы всё говорилось абстрактно, не конкретно и не очень серьёзно, но пугала нарастающая частота таких разговоров. Так как Елена была лет на пять с хвостиком старше самого возрастного из остальных работников, она легко догадалась, кому были адресованы эти послания и внутренне напряглась. Не желая сдаваться без боя, Елена смогла полностью перестроить свою деятельность. Для этого пришлось постараться на совесть. Она взяла за привычку приходить на работу в числе первых, а уходить одной из последних. И при этом досконально проверять и перепроверять всё, что делала бухгалтерия, не давая себе поблажки.
Видимо, это возымело своё действие, потому что постепенно разговоры об обновлении кадров стихли, но смутная тревога с тех пор не покидала Елену ни на миг. Да ещё этот новый, безучастный ко всему Генек!
Вот и приходилось Елене после работы нестись в магазин, потом кормить ненаглядного мужа, переделывать все домашние дела, чтобы рано утром опять спешить на работу, которой, кстати, с каждым днём всё прибавлялось. Видимо Еленина фирма таки начала догонять конкурентов. А может просто начальство хотело знать больше, Елена особенно не вникала – некогда было ей.
Как-то утром Елена проснулась позже обычного. Проснулась от того, что Геннадий тряс ее за плечо.
– Ты чего не встаешь? Будильник уже второй раз звонит, – недовольно проворчал он, как только жена разлепила веки.
Елена моментально перевела взгляд на часы и тотчас пулей соскочила с кровати. Десять минут потеряно, да еще с утра – это же катастрофа! Тем более что не далее как позавчера директор на планёрке особо предупреждал, больше опозданий он не потерпит. Дескать, в соседних офисах работа давно кипит, а в нашем даже свет ещё не включили. Как обычно после пробуждения мысль о том, что она может не успеть на работу вовремя, была особенно острой, почти невыносимой.
– Почему не разбудил сразу? Ты же знаешь, как мне важно вовремя встать. Ну, милый… – как ни старалась Елена смягчить недовольные интонации, раздражение всё же явственно читалось в её голосе.
К ужасу Елены Геннадий мгновенно среагировал именно так, как она больше всего боялась. В последнее время на любой реальный, а чаще всего воображаемый упрёк в свой адрес Домакин первым делом картинно морщился, потом каким-то театральным, словно неоднократно отрепетированным жестом прижимал левую ладонь к груди. А потом начинал – даже не говорить, а вещать – жестяным голосом записного ворчуна:
– К твоему сведению, я спал! Да-да, я тоже сплю. Иногда. С каждым днём всё хуже, кстати. А знаешь почему? Потому что мне мешают! Я вообще не видел, что ты ещё не встала, пока будильник второй раз не запел. И нечего орать на меня!
К концу тирады в тоне Геннадия зазвенели гневные нотки, выкрикнутые почти фальцетом, так не похожим на привычное баритональное звучание его голоса.
– А если не можешь встать утром, во сколько нужно, – легко перебил Геннадий, открывшую было рот для робкого возражения Елену, – так ложись пораньше, не торчи у телевизора всю ночь-полночь.
– Это я-то сижу у телевизора? – не выдержала и вскричала Елена в ответ на столь несправедливое обвинение.
– А кто еще? – Геннадий будто ждал именно такую реакцию жены и, судя по всему, завёлся не на шутку. Елене даже показалось, что она расслышала в словах мужа нотки откровенной ненависти. Как же всё это было не похоже на её прежнего любимого Генека!
– Кто вчера новости допоздна смотрел, папа Карло, что ли? – язвительно осведомился Геннадий напоследок и, кажется, начал понемногу возвращаться в спокойное состояние, словно исчерпал заряд своей злости.
Но теперь завелась уже Елена.
– Да если бы не ты, милый, я этот телевизор вообще не включала, мне некогда! И не отвлекай меня своей болтовней, я и так опаздываю! – выкрикнула она и, глотая слёзы, как была в ночной сорочке, помчалась на кухню варить кофе.
Это стало её ошибкой. Успокоившийся было Геннадий, сразу вспомнил о только что нанесённой ему обиде и снова начал говорить сварливым саркастическим голосом:
– Ну да, она опаздывает! Только я, бездельник, никуда не спешу. Мне идти некуда, мне можно спать, лежать и смотреть новости. Это же надо, настроение с самого утра испортила! Теперь весь день буду нервничать.
Спохватившись, что жена его может не услышать, суетясь на кухне, Геннадий повысил громкость и загрохотал тоном низкосортного общественного обвинителя на громком судебном процессе:
– Ты же знаешь, что мне нельзя волноваться, чего опять начинаешь? Смерти моей хочешь?!
Чтобы не слышать этот раздражающий ворчливо-капризный голос, Елена, включив кофе-машину, поспешила скрыться в ванной комнате и врубила оба крана на полную. А сама села на унитаз и заплакала горькими слезами незаслуженной обиды. «Ну, почему, почему с Генеком стало невозможно нормально разговаривать? Почему он вечно намекает на своё больное сердце, прекрасно зная, как мне больно это видеть? Как ранят меня его обвинения, которые я, кстати, вообще не заслуживаю», – горестно думала Елена, слушая безразличный рокот льющейся воды. Потом спохватилась и закрыла краны и с некоторым страхом прислушалась к тому, что происходило за дверью.
Судя по шорохам, шарканьям, клацанью и прочим шумовым эффектам, Геннадий кончил ворчать, встал с кровати и в данный момент находился на кухне. Елена опять напряглась. По настоянию врачей кофе мужу был категорически противопоказан, как и крепкий чай. Поэтому Елена жадно ловила звуки из кухни, страшась услышать звяканье кувшина с кофе. Впрочем, страхи её оказались напрасны, судя по всему, Геннадий к кофе не прикасался. Елена различила хлопанье двери холодильника, потом скрип стула под тяжестью тела Геннадия. Немного придя в себя и успокоившись, Елена умылась, накинула халат и отправилась завтракать.
Когда она вошла, Геннадий в расстёгнутой пижаме неподвижно сидел за кухонным столом, уставившись глазами в одну точку. Взгляд его казался пустым, бездонным, но при этом натянутым как тетива от какого-то внутреннего напряжения, незримо присутствовавшего в нём, несмотря на внешнее спокойствие. Елена на миг замерла в дверях, но тут же спохватилась, вспомнив о цейтноте, и ринулась к кофеварке. Пока она суетилась, Домакин не проронил ни звука. И лишь когда Елена сделала из кружки первый глоток, Геннадий вдруг тихо спросил её:
– Лен, как ты думаешь, там ведь, наверное, холодно?
– Где холодно? – не поняла мужа Елена, которая уже мыслями была на работе.
– Ну, там, – и Геннадий показал глазами на пол.
– Да где?! – Елена никак не могла понять намёки Генека и снова начала злиться.
Но голос Геннадия зазвучал с такими трагическими интонациями, что от её злости не осталось и следа.
– Мне сегодня сон приснился, – слегка нараспев, артикулируя каждое слово, проговорил Домакин, удерживая взгляд всё в той же отдалённой точке пространства, – будто я уже в земле. И, знаешь, там так спокойно, хорошо. Только холодно. Вот сейчас вспоминаю и думаю, неужели там действительно всё время холодно?
С этими словами Геннадий перевёл взгляд на Елену, которая поперхнулась горячим кофе и, ошарашенная, сидела, глупо приоткрыв рот, с тёмной влажной пенкой от кофе на нижней губе.
– Не хочу, чтобы было холодно, – через паузу произнёс Геннадий, резанув глазами жену.
И тотчас, будто и не было сказано всех этих страшных слов, напугавших Елену до беспамятства, уже обычным, будничным голосом сказал жене:
– Ленточка, опять ты слишком горячий кофе пьёшь! Сколько раз говорить, нельзя так делать. И не поела ничего. Давай, вот, хоть печенье возьми.
И Геннадий аккуратно пододвинул жене вазочку с печеньем.
Внутри Елены всё бушевало, слёзы жгли веки, сердце билось как разъярённый старый будильник во время трезвона. Но она ценой невероятных усилий постаралась взять себя в руки и решила подыграть дорогому своему Генеку.
– Некогда мне ждать, когда кофе остынет, дорогой! – притворно радостным тоном откликнулась Елена, безуспешно сотворяя на устах улыбку, – А то я не успею сварить тебе кашу на завтрак.
После злополучного похода к кардиологу Геннадию строго-настрого запретили любые напитки кроме слабо заваренного чая, да отваров некоторых трав. И наложили существенные ограничения в плане еды.
От «кардиологического» чая Геннадий отказался сразу. Едва заглянув под крышку заварочного чайника, где Елена приготовила напиток согласно выданному рецепту, тут же со злостью захлопнул её обратно и заставил Елену вылить всё содержимое в унитаз. Сопровождая этот процесс язвительными комментариями, типа «пусть сами пьют эту поносную лабуду», «это гнойно-помойное пойло», «эту жидкость для протирки канальи».
Поворчав, Геннадий со временем приспособился пить отвары из сушеных или засахаренных ягод. Ягоды отдавали воде все самые сочные, яркие, терпкие и кислые на вкус нотки. Эти напитки были достойны настоящего мужчины, хотя после них непременно хотелось чего-нибудь съесть. И это было второй головной болью бедной Елены. Потому что из еды утром дорогому мужу было позволено есть лишь овсяную да манную кашку на воде.
Для Геннадия, который как истинный рационал, всегда питался правильно, до своей болезни съедая по утрам половинную норму дневного рациона, эти кашки оказались явно поперёк горла. Даже если Домакин и поглощал утреннюю порцию овсянки, делая это с гримасами нескрываемого отвращения, уже к полудню его одолевал такой голод, что он, подобно тому, как медведь разоряет улей, опустошал холодильник, запихивая в себя всё подряд. И тем самым, сводя на нет всё оздоравливающее действие завтрака в виде диетической кашки.
Всё же, исключительно благодаря неустанной настойчивости жены, недели через три Геннадий смирился с утренней овсянкой и даже стал рыться в холодильнике гораздо реже. Объяснялось это просто – хитрая Елена научилась готовить мужу дневной перекус, который был вкусным и полезным одновременно. Но варить себе кашу по утрам Геннадий отказывался из принципиальных соображений.
– Ладно тебе, я сам сделаю себе кашу, – судя по голосу, Геннадий всё же отвлёкся от мрачных мыслей и перешёл на привычные в последнее время интонации классического мизантропа.
– Знаю я, как ты делаешь. Затолкаешь в рот все, что в холодильнике не приколочено, потом желудок болеть будет, – затараторила Елена, чтобы не дать мужу ввернуть ещё что-нибудь трагическое. Уж лучше пусть поворчит.
– Да ну, сделаю, правда, Лена, – на этот раз Геннадий говорил спокойное и деловито, почти как раньше, и это чуть успокоило Елену. Но только чуть.
– Помоги мне лучше, крупу достань и поставь чайник на плиту, а я побегу сушить волосы, – распорядилась Елена, вновь исчезая в ванной комнате.
Когда волосы были наспех высушены и кое-как уложены, времени у Елены оставалось так мало, что остальное приходилось доделывать на бегу. Она хаотично носилась по дому, роняя вещи и появляясь то в ванной, то в комнате, то на кухне. Тем временем, Геннадий, удобно устроившийся на диване, наблюдал за перемещениями супруги, словно смотрел по телеку захватывающий триллер, в параллель давая ей «ценные» советы:
– Ленточка, да не носись ты так. Подумаешь, опоздаешь немного. Неужели у вас остальные вовремя приходят? Ведь нет. Вот и ты разок опоздаешь.
– Кому-то может и можно опаздывать, но только не мне. Ты забываешь, что я – лицо ответственное. Материально ответственное. К тому же самая старая в конторе, – буркнула Елена, досадуя про себя не толстокожесть мужа, который никак не мог взять в ум, как страшно ей давать руководству даже малюсенький повод для увольнения.
– А ты вали все на меня, Скажи, мол, муж болен, ему требуется уход. Должны же они это принять во внимание!
Геннадий точно ждал, что Елена отреагирует именно таким образом. Сколько раз она твердила мужу, что руководство её компании к сантиментам вообще не склонно. И только и ждёт, когда же у него будет шанс отделаться от старого неповоротливого главбуха. А уже примерно с год в спину ей дышат аж трое более молодых и расторопных бухгалтериц, к которым начальство намного более благосклонно.
– Вот мне и укажут на дверь! – в сердцах возопила Елена, потому что Геннадий попал в самое больное место, – Скажут, сиди дома, ухаживай за мужем. Дай дорогу молодым. Ты же понимаешь, потерять работу легко, а найти трудно, тем более в моем возрасте!
– Ну и ладно, проживем без твоей работы. Мне же платят пока, – похоже, Геннадию была приятна мысль, что без него жена пропадёт.
– Вот именно – пока. А вдруг это «пока» кончится уже завтра? Сколько денег только на лекарства уходит! Да ещё диета твоя. Нет, мы с тобой к пенсионной жизни пока не готовы. Давай-ка оставим всё как есть, успеем ещё побыть «чистыми» пенсионерами.
Упоминание о диете стало ещё одной ошибкой Елены. Геннадий моментально взвился будто ужаленный:
– Опять намекаешь, что я обуза?
– Генек, милый, не начинай, прошу тебя, мне некогда спорить, – примирительно сказала Елена, в такт словам яростно помешивая кашу, будто от этих ее усилий она могла быстрее приготовиться.
– Да я не спорю, – по-сержантски гаркнул Геннадий, – чего тут спорить?! Просто констатирую. И кстати, можешь не варить эту кашу проклятущую, я её есть не буду! Вообще ничего есть не буду, и так сыт по горло твоими упреками!
– Да какими упреками? Когда я тебя упрекала? Чего сочиняешь, – несмотря на все свои попытки сохранять ровный тон, Елена тоже возбудилась не на шутку. Хотя времени на перепалку у неё совсем не осталось, но сдерживаться более она уже не могла.
К её изумлению, как только она перешла на крик, Геннадий внезапно сбавил тон, в его голосе зазвучали примирительные интонации:
– Я ничего не сочиняю. С тех пор как я заболел, ты при всяком удобном случае мне намекаешь на мою несостоятельность. Да, я сейчас немощен. Но не всегда же так было. И я не виноват, что это случилось именно со мной. Да и необязательно тебе всё хозяйство на себе тащить. Давай будем продукты с доставкой оформлять, чего с полными сумками таскаться! Хочешь?
– Ешь завтрак, приятного аппетита, вечером договорим, – Елена второпях бухнула перед ним тарелку с дымящейся готовой овсянкой и заспешила к выходу.
– Убегаешь? Конечно, зачем со мной разговаривать. Кто я такой? Так, домовенок Кузя. На, ешь кашку, Кузя, чтоб ты сдох! – прокричал ей вслед Геннадий, но Елена его уже не слушала.
Она с максимально возможной в её возрасте и физическом состоянии скоростью спускалась по лесенкам, на ходу застегивая пальто. «Господи, это становится невыносимым! – вихрились в голове Елены унылые, горестные мысли, – Каждое утро одно и то же. Капризы Геннадия, его брюзжание, давно вошедшее в стадию сварливости. Да ещё и эти похоронные намёки, которых с каждым днём всё больше. Они же просто разрывают мне сердце! А ещё выматывающее постоянное ощущение, что кто-то из начальства на работе непрестанно сверлит мою спину недовольным взглядом и только и ждёт малейший повод, чтобы меня уволить. А увольнение в нынешнем положении – это конец всему. На Генека надежды нет, его в любую секунду могут попросить с работы. Шутка ли сказать, за последнюю неделю он не появился на заводе ни разу! Как же я от всего этого устала!»
Глава 3
На работе Елену ждал неприятный сюрприз. Когда она за минуту до начала рабочего дня, запыхавшись, влетела в свой кабинет, её уже ждали. Рядом с рабочим столом главбуха сидели двое – генеральный директор, немолодой уже мужчина нездорового от долгого сидения в кабинете вида. Директор хмурился, потому что не любил, когда сотрудники приходили впритык. А рядом с ним, развалясь на стуле, устроился лощёный розовощёкий красавчик лет тридцати в дорогом костюме. При виде Елены лицо его приобрело улыбчивое выражение, но почему-то улыбка эта не вызвала у Елены желание улыбнуться в ответ.
– Знакомься, Елена Ивановна, – пробурчал генеральный директор, воткнувшись в Елену сердитым взглядом как ножом, видимо всё же посчитал её приход вовремя за опоздание, – это наш новый сотрудник Николай Петрович Гореньков. Очень опытный специалист, прекрасно зарекомендовавший себя на прежнем месте работы. Николай Петрович, хоть и является работником планового отдела, специально взят в помощь главному бухгалтеру как связующее звено между двумя этими службами. А то в последнее время у нас тут бо-о-ольшие проблемы.
С этими словами директор замолчал и сотворил на лице ещё более неприязненное выражение. Будто попробовал плохую работу бухгалтерии на вкус и мимикой выразил своё недовольное к ней отношение. Зато Николай Петрович, услышав о плохом взаимодействии подразделений, ещё шире засиял понимающей улыбкой. Точно намекая, что с его приходом ситуация выправится сразу. И исключительно от одного его присутствия.
– В общем, вводи нового сотрудника в курс дела. Оказывай ему любую посильную помощь. И поручи всем своим девочкам предоставлять Николаю Петровичу, по его просьбе, любые цифры, какие бы он ни попросил. Скажи своей замше, чтобы она занималась текучкой, ну, а у тебя в приоритете – наладить взаимодействие с плановиками. Это понятно? – последнюю фразу директор бросил, уже поднимаясь со стула и явно не ожидая какой-либо ответ от Елены.
Вслед за ним поднялся и направился к выходу Гореньков. У дверей новый сотрудник на минуту замешкался, обернулся и произнёс, судя по всему заранее заготовленную реплику:
– Надеюсь, мы сработаемся. Я с любым умею найти общий язык. Проверено!
И негромко, но начальственно хлопнул дверью. Елена осталась в кабинете одна – оглушённая, ошарашенная, с бьющимся сердцем. Она рухнула в кресло и закрыла лицо руками. В этот момент снова хлопнула дверь. Елена отняла руки и увидела своего зама. Замом у Елены Ивановны была Ольга Александровна – лет на десять моложе Елены, исполнительная, добросовестная, пунктуальная. В общем, помощница, о которой только может мечтать любой руководитель. Она бесшумно подошла к столу начальницы и замерла, молча, ожидая от неё хоть какие-то комментарии. Разумеется, в бухгалтерии уже знали о новом назначении и жаждали новостей. Елена секунд десять тупо пялилась на рисунок в крупную клетку на кофточке Ольги Александровны, точно пытаясь разглядеть в этой геометрии какие-то скрытые символы, а на самом деле, заставляя себя хоть немного приблизиться к норме, но безуспешно.
– Оля, не сейчас, – в конце концов, взмолилась Елена, чувствуя, ещё миг и она расплачется навзрыд, – дай мне минутку.
Ольга Александровна исчезла так же беззвучно, как и появилась. Она умела не досаждать начальству и никогда открыто не шла наперекор воле главбуха. Но сейчас даже в привычной покорности своего зама Елене почудился какой-то вызов. Причём, вызов открытый, демонстративный. «Ишь как вышагивает, шалава! Задницей, вон, виляет, словно намекает, скоро эта жопа будет сидеть уже в моём кресле. И то сказать, ведь едва не расхохоталась мне в лицо, когда зашла, мол, что взять со старой сопливой дуры?! Которая не умеет постоять ни за себя, ни за вверенный ей отдел. Любой шелудивый шпендик о неё ноги вытрет, а она сказать в ответ ничего не может, только кудахчет курицей, да размокает будто старая швабра в общественном сортире», – эти шершавые горестные и абсолютно несправедливые слова, пронёсшиеся в голове Елены, слегка отрезвили голову. Она выхватила из сумки косметичку и принялась с остервенением пудрить лицо, пытаясь скрыть под густым слоем грима возможные следы так и не вылившихся слёз.
Минут через пять Елена постаралась взять себя в руки и нацепить обычный деловой вид. Но удержать фасон она смогла лишь на полчаса, потому что ровно через полчаса к ней заявился новый сотрудник Гореньков.
Коротко стукнув в дверь кабинета, Николай Петрович, не дожидаясь приглашения, вразвалочку протопал к столу Елены и бухнулся в кресло напротив. По-хозяйски повозившись в нём, Гореньков, наконец, устроился с максимальным удобством и только после этого поднял взгляд на хозяйку кабинета. С издевательской, как показалось Елене, улыбочкой. В присутствии людей подобного типа – нагловатых и уверенных в своей безнаказанности – Елена как всегда стушевалась.
– Что вам угодно? – вырвалось у неё.
– Мне угодно, – с ударением на «мне» и всё той же ухмылкой не проговорил, а почти продекламировал, Гореньков, – получить у вас все отчёты за прошедший месяц. Нет, даже за прошлый квартал. Сможете? Сколько времени вам понадобится, чтобы предоставить требуемые цифры? За день управитесь? Или понадобится неделя?
Елене очень хотелось сказать лощёному Николаю Петровичу, в какое место его тела она бы с радостью засунула все нужные ему «цифры». А также доходчиво, с помощью ремня для пущей понятности, объяснить, что на носу новые квартальные отчёты, и тратить драгоценное время на сбор запрошенных данных, это непозволительная роскошь, а если ещё более точно – откровенное издевательство над бухгалтерией, настоящее вредительство. Но вместо этого она сбивчиво забормотала, ненавидя себя за неспособность ответить как должно этому нахалу:
– Цифры, то есть, квартальные отчёты в полном порядке. Часть данных лежит на сервере. Но часть придётся собирать с компьютеров работников…
Услышав последние слова, Николай-мерзавец-Петрович радостно осклабился, показывая набор идеальных зубов, словно хотел этим оскалом своим показать, мол, «я так и знал, работать в бухгалтерии не умеют!» И тут Елену прорвало:
– Да, Николай Петрович, или как вас там, извините, не запомнила. Часть сведений отсутствуют в открытом доступе. Это сделано по соображениям безопасности. Некоторые отчёты хранятся на специальном защищённом компьютере. А также в бумажном виде. А вы, как я помню, потребовали ВСЕ отчёты за квартал. Так что придётся вам подождать. И ещё, для работы с рядом документов вам нужно получить допуск, подписанный генеральным директором. Форму допуска вы можете уточнить у секретаря директора, она в курсе.
Николай Петрович вылез из издевательской улыбочки своей, как вылезает змея из старой кожи. Теперь глаза его влажно блистали непритворным гневом. Было видно, как разозлили его последние слова Елены. Он поднялся с кресла и процедил:
– Что ж, спасибо за разъяснения, Елена-или как вас там.
С этими словами Гореньков покинул кабинет главбуха. Чтобы ещё минут через пятнадцать триумфально ворваться в него обратно, потрясая перед носом Елены подписанным допуском.
– Директор приказал, чтобы вы предоставили всё, что мне нужно, сегодня к 16-00. Он проверит лично, – проворковал Николай Петрович, лёгким движением кисти роняя лист на клавиатуру компьютера Елены.
– Хорошо, – сдалась Елена, ощущая скользнувшее по сердцу холодное облако усталости и страха, – к 16-00 вы получите то, что нужно. А теперь мне пора работать.
– Не-е-т, – с притворной ласковостью протянул Гореньков и победоносно выпрямился во весь свой прекрасный рост, – мы сделаем по-другому. Вы прямо сейчас дадите мне отчёты, находящиеся в открытом доступе. И выделите человека из вашего отдела, который мог объяснить мне значения тех или иных показателей и рассказать методику их расчёта.
– Если вы не поняли, – добавил он, отвесив лёгкий издевательский поклончик в сторону Елены, – это тоже приказал вам генерал. Ну, генеральный директор.
И началось. Не проходило получаса, чтобы Николай Петрович, за которым смущённо семенила бухгалтер Ниночка, не врывался в кабинет Елены, потрясая зажатыми в руке распечатками принт-скринов со своего компьютера. И всякий раз вид у нового сотрудника был такой, словно он только что отыскал клад не менее чем четырёх капитанов-Флинтов сразу.
– Вы только посмотрите! – с порога бросал Гореньков всё более и более мрачнеющей Елене, – это же просто ужас!!!
Когда после десятиминутного разбирательства выяснялось, весь «ужас» заключается вовсе не в том, что какой-либо показатель или расчёт были выполнены бухгалтерами с ошибкой, а в том, что, по мнению Николая Петровича, данные действия были произведены «не оптимально». Гореньков не сдавался и начинал сыпать красивыми фразами про эффективный тайм-менеджмент, сокращение невынужденных ошибок, оптимизацию временных издержек, чем скоро довёл главного бухгалтера до белого каления.
– Что вы от меня хотите? – не выдержала и взорвалась Елена после четвёртого такого набега Николая Петровича, – чтобы я переделала все эти отчёты или в дополнение ещё и памятную табличку к входной двери прикрутила со словами благодарности в ваш адрес?
– Ну, я же показываю вам, что здесь можно было сделать намного проще, видите? Надо было так, вот смотрите. Так меньше времени бы затратили. Вот эту цифру излишне было заносить в эту графу, только время потратили зря… – не ожидавший от рохли-главбуха такой отповеди Николай Петрович ощутимо опешил и начал заметно мямлить.
Приободрившаяся Елена краем глаза отметила для себя поднятый вверх большой палец, который украдкой показала ей Ниночка.
– Ну, дайте предложения, как вы считаете, это надо делать. Вам поручили оптимизацию, вот и оптимизируйте, дайте нам новую методику. От меня-то сейчас чего вы хотите? – продолжила наступление Елена, но Гореньков уже успел овладеть собой и вновь был готов к бою:
– Я хочу, чтобы вы донесли полученные замечания до своих сотрудников. А для этого записывали бы то, что вам говорят. А потом внесли правки в соответствующие документы. И сделали это немедленно, а то у вас систематическая ошибка. Я ясно выразился? – отчеканил он, прожигая глазами Елену.
Та с трудом, но вынесла этот взгляд.
– Это не систематическая ошибка, вы путаете понятия. Это просто другой способ, может быть немного длиннее, но это совсем не ошибка, – поняв, что с наскока Горенькова не одолеть, Елена перешла к позиционной защите и решила взять врага измором, включив своё занудство, поэтому говорила предельно чётко и с холодком, – Вам поручили оптимизацию сделать, а не ошибки выискивать. Вы не аудитор, чтобы заниматься поиском ошибок. И, кстати, аудит мы прошли в прошлом месяце. Ошибки, коих кстати сказать почти не было, а те что были, оказались чисто технического характера, мы исправили. И получили соответствующий документ. И до тех пор, пока вы лично не представите мне в письменном виде все свои предложения по оптимизации, причём, в скомпонованном виде, чтобы не отрывать меня по десять раз на день от основной работы, я больше никакие ваши предложения обсуждать не намерена.
В кабинете набухла зловещая тишина. Гореньков, который всё терзал главбуха тяжёлым взглядом, стоял, как готовая в любую секунду взорваться мина, но Елена, внутри которой клокотал вулкан из страха и сомнений, решила не уступать и в свою очередь сохраняла молчание. Потянулись томительные секунды, потому что уступать никто не хотел.
Ситуацию спасла Ольга Александровна. Как всегда, впрочем. В самый напряжённый момент она просунула голову в дверь и отчётливым голосом произнесла:
– Елена Ивановна, подойдите к моему компьютеру, пожалуйста. Это срочно.
И тотчас захлопнула дверь. Елена поднялась с места и облегчённо зашагала к двери.
– Я вынужден доложить о вашем поведении директору, – прошипел ей вслед Николай Петрович, – о том, что вы открыто саботируете оптимизацию и не желаете даже слушать мои предложения.
– Николай Петрович, – на ходу откликнулась Елена, не поворачивая в его сторону голову, – вы подобрали для своей деятельности по выискиванию мнимых ошибок бухгалтерии слишком пафосное слово – оптимизация.
Она задержалась, взявшись за ручку двери и только там, у выхода, глянула, наконец, на не прошеного гостя:
– У нас в бухгалтерии все давно уже оптимизировано, а вы пытаетесь изобрести велосипед. Вас же просили наладить оптимизацию во взаимоотношениях МЕЖДУ службами, а не искать ошибки лишь у нас. Если вы решили взять на себя функции аудитора, то вам банально не хватает фундаментальных знаний. Любой бухгалтер уже давно бы справился с проверкой того, что решили проверить вы. А вы зависли на полпути. И тратите рабочее время на пустое, выискивая ошибки там, где их нет. Вам следует для начала разобраться в том, как работает плановый отдел, какие данные он нам передаёт. И только потом говорить, что кто-то что-то делает неправильно.
Во время всей этой тирады Гореньков стоял и слушал, играя желваками, покачиваясь с пяточки на носок, но не возразил ни слова, только периодически окатывал главбуха злым напряжённым взглядом, будто в лицо плевал. И только когда Елена уже готовилась окончательно уйти из кабинета, вдруг сказал тихо, почти шёпотом:
– Ну, мы ещё посмотрим!..
На что собирался смотреть Николай Петрович, Елена так и не узнала, потому что, не дожидаясь окончания его фразы, выскочила из кабинета, хлопнув дверью. Несмотря на то что последнее слово осталось за ней, победительницей себя Елена вовсе не чувствовала, что-то ей подсказывало – настырный Гореньков просто так сне сдастся. И чутьё её не подвело. Буквально через десять-пятнадцать минут в бухгалтерию ворвалась Света, секретарь директора и, кокетливо округляя густо накрашенные глазки, затараторила:
– Еленочка Иванна, вас САМ к себе срочно требует. Там этот, ну, новенький, у него. Видимо сказал про вас что-то такое… В общем, САМ минут через пять выскочил из кабинета и ка-а-ак гаркнет: «срочно ко мне главбуха!» И мгновенно шмыг обратно за дверь. Я сразу к вам….
Елена дослушивать Свету не стала и, стараясь держать спину ровно насколько это было возможно в такой ситуации, побрела в кабинет директора. Как только она вошла, директор, не любивший долгие разборки, выпалил:
– Значит так, с этого часа, нет, даже с этой секунды передаёшь все дела своей Оле, заместителю. А сама поступаешь в полное распоряжение Николая Петровича и делаешь всё, что он скажет. Можешь считать его слова моими приказами. Всё, можешь идти.
Но, хотя слова руководителя прозвучали резко, почти грубо, сама неуверенная интонация, с которой они были сказаны, а также, то обстоятельство, что за время их произнесения директор ни разу не посмотрел Елене в глаза, выдавали его крайнее смущение и нежелание открыто идти на конфликт. Любой на месте Елены воспринял бы эту тираду скорее как показательное выступление, призванное в большей степени произвести впечатление на нового сотрудника, нежели как реальную угрозу ограничения своей самостоятельности. Любой, но только не Елена. Видимо слова директора каким-то непостижимым образом срезонировали внутри женщины с безжалостными словами, сказанными утром её мужем.
Слёзы обиды выплеснулись из глаз Елены столь обильно и стремительно, будто внутри неё сработал некий зловредный насос.
– Ну, что ты, Елена Иванна, не надо… – директор как заправский иллюзионист вмиг сменил командный тон на утешающий и даже заискивающий, но было поздно. Елена, ненавидя себя за проявленную слабость, уже голосила навзрыд и никак не могла совладать с проклятыми рыданиями, которые вырывались из груди независимо от её воли и желания.
Оба мужчины неуклюже засуетились вокруг впавшего в истерику главбуха, плохо представляя, что можно сделать в такой щекотливой ситуации. Выручила всех секретарь Света, которая по собственному почину проникла в начальственный кабинет и деликатно, но настойчиво утащила Елену в дамский туалет. Где первым делом как маленькой умыла главбуху зарёванное лицо, а потом бесшумно испарилась.
К этому времени Елена уже закончила с рыданиями и какое-то время стояла, тупо пялясь в зеркало на стене на собственные красные набухшие глаза. Зрелище было неприятным и она, чертыхнувшись про себя, решила посетить близлежащую кабинку. Принялась расстёгивать брюки, но молнию как на грех заело, и чем больше усилий прилагала Елена, тем туже заедал проклятый замок. Полурасстёгнутые брюки неудобно елозили по бёдрам, больно врезаясь в тело. Всё сильнее ныл пережатый мочевой пузырь, и Елена в сердцах рванула замок что было сил. На этот раз молния расстегнулась как по маслу, но посланный импульс оказался настолько велик, что штаны тотчас слетели до колен сами собой. И тут Елена услышала громкий плеск. Она глянула вниз и ахнула – на дне унитаза покоился её мобильный телефон, который она по привычке носила в заднем кармане брюк.
Мысль о том, что ей придётся лезть голой рукой вглубь унитаза в общественном туалете заставила Елену содрогнуться, но делать было нечего. С отвращением она погрузила пальцы в холодную воду и со второй попытки смогла выудить из унитаза проклятый телефон. Потом долго вытирала бедолажный аппарат носовым платком, платок выбросила тут же в кабинке и понеслась скорее мыть руки. Сердце Елены бешено колотилось – только сейчас до неё дошёл весь ужас положения. Ведь приближался час, когда она созванивалась со своим Генеком! А что если телефон её после «водных процедур» вообще не заработает? Как воспримет мнительный Генек тот факт, что его жена, которая всегда оставалась с ним на связи, ему не отвечает? А вдруг его сердце не выдержит?
И трясущимися от волнения руками Елена включила мобильник. К её облегчению экран аппарата ожил, возникла обычная картинка. Но только начала Елена искать в контактах знакомый номер, как подлый аппарат моргнул и погас. На этот раз окончательно. Напрасно Елена жала все кнопки подряд и стучала по экрану пальцами, а затем и кулаком, мерзкая машина работать не желала.
Пришлось Елене нестись обратно в бухгалтерию, в надежде позвонить Генеку со стационарного телефона. Она схватила трубку аппарата, стоящего на столе у своего зама, но внезапно поняла – она не может вспомнить номер своего мужа. Елена по-детски, умоляюще смотрела на Ольгу Александровну, губы её тряслись.
– Что с вами, Елена Ивановна?
– Надо мужу позвонить. Сотовый утопила, а номер не помню.
Ольга Александровна лишь сочувственно сморщилась и поцокала языком. И в этот момент в комнату бухгалтеров по-хозяйски вплыл Николай Петрович. И с порога громко объявил, обращаясь к Елене:
– Предлагаю немедленно начать вносить озвученные мною изменения.
В бухгалтерии возникла жуткая, неестественная тишина. Все сотрудники застыли как актёры в финальной сцене «Ревизора», с каким-то суеверным ужасом взирая на своего начальника. А Елена некоторое время хватала губами воздух, словно ошалевшая рыба в знойный полдень, не в состоянии воспроизвести ни единый звук. И вновь на помощь ей пришла Ольга Александровна:
– Николай Петрович, – проговорила она спокойным деловитым голосом, – Елена Ивановна должна срочно уйти с работы по семейным обстоятельствам. А я как её заместитель полностью в вашем распоряжении.
А затем, повернувшись вокруг собственной оси едва ли не на 360 градусов, обвела всех сотрудников внимательным взором и коротко, но очень чётко произнесла всего одно слово:
– Работайте!
Такая сила прозвучала в голосе Ольги Александровны, что все присутствующие поневоле ощутили её волшебное воздействие. Бухгалтеры моментально уткнулись в свои мониторы, Гореньков точно загипнотизированный пододвинулся вплотную к заместителю главбуха и застыл будто школьник в ожидании, когда его вызовут к доске – глаза едят «учителя», рот чуть приоткрыт. А Елена опомнилась лишь тогда, когда обнаружила, что уже оделась и идёт по направлению к входной двери, зажав неработающий телефон в ледяной ладошке. Она поневоле сравнивала собственное сегодняшнее суетливо-истеричное состояние, свою дёрганую пластику движений с рассудительным и уверенно-командирским поведением своей замши и с огорчением нашла это сравнение далеко не в собственную пользу.
В ближайшей к офису мастерской ремонтник, бывший, судя по виду южных корней, сказал Елене с акцентом:
– Давай тыщу, всё сдэлаю. Зайди через час.
– А нельзя пораньше? – охнула Елена и зачем-то заторопилась объяснить свои слова, точно это могло на что-то повлиять, – у меня муж болен, очень волнуется…
– Ещё тыщя давай за срочность, – легко согласился мастер, – сдэлаю за полчас. Быстрей никак.
Елена покорно отдала ему две тысячи и со слезами попросила:
– Пожалуйста, умоляю, сделайте побыстрее.
Мастер только отмахнулся, получив деньги, он потерял к клиентке всякий интерес. Елена побрела от мастерской, куда глядят глаза. Глаза её явно глядели не туда, потому что, сделав несколько шагов, Елена смачно шлёпнулась на колени, угодив левой стопой в плохо различимую в мякоти первого снега наполненную водой колдобину. От неожиданного удара у неё перехватило дыхание, левую ступню обожгло от холодной влаги, проникшей в ботинок, где-то сзади возникла острая резь. Машинально Елена дотронулась рукой до источника этой рези, и уже который раз за этот проклятущий день ужаснулась. На сгибе в верхней части бедра пальцы её нащупали огромный разрыв ткани, и один из краёв сильно врезался в тело, вызывая ту самую острую боль.
Но физические страдания Елены не шли ни в какое сравнение со страданиями душевными – пылкое воображение женщины уже нарисовало картинку того, как она сейчас выглядит со стороны: стоя на четвереньках в мутной жиже, заляпанная грязным снежным месивом едва ли не до груди, с абсолютно мокрыми коленками, а главное – с зияющей дырой под самой ягодицей, из которой наверняка должно проглядывать нижнее бельё!
Елена поспешила встать на ноги, выдернула стопу из ямы и бросила вороватый взгляд вокруг себя, чтобы понять, видел ли кто её позор. Правой рукой она удерживала края дыры совсем как Шурик из «Операции Ы» после схватки с собакой. К счастью, питерские прохожие как обычно торопились по своим делам и, кажется, не обратили на неё никакое внимание, тем более что падение Елены произошло очень быстро и так же стремительно завершилось возвращением её в нормальное положение.
Но теперь возникла другая проблема – как, а главное, где можно зашить порванные брюки. О том, чтобы показаться в таком виде в офисе не могло быть и речи. Телефона у Елены не было, и вызвать никого на подмогу она не могла. Ехать домой в рваных штанах – тоже не вариант, сгоришь со стыда, да и на работе придётся как-то объясняться, а это ещё больший стыд. «Что делать? Что мне делать?» – металась в голове бедной женщины зациклившаяся от безысходности глупая фраза. И Елена не нашла ничего лучшего, как вернуться в мастерскую по ремонту телефонов. В сущности, у неё просто не было иного варианта.
– Ещё нэ готово, – встретил её недовольный голос мастера, – я же говорыл, полчас надо. Только пять минут прошёл.
– Простите, – залепетала Елена, – может у вас есть иголка с ниткой? Очень надо, понимаете?
Ремонтник пару секунд задумчиво рассматривал сконфуженную фигуру Елены, одной рукой зажимающую сзади порванные брюки, потом, наконец, сказал:
– Есть. Прынесу, – и тотчас скрылся за какой-то занавеской.
Потом снова возник перед Еленой, протягивая ей катушку белых ниток с огромной иглой, торчащей из неё.
– А можно мне где-нибудь сесть, чтобы зашить брюки, – немного осмелев, попросила Елена мастера.
Тот вновь немного помолчал, затем кивнул на занавеску:
– Там.
Елена бочком протиснулась между стеной и прилавком, потом шагнула за занавеску и очутилась в тесном и душеном пространстве, где не было ничего, кроме старого топчана, кое-как застеленного грязноватым цветастым одеялом. Елена плотно задёрнула замызганную ткань, отделяющую её от «зала» мастерской и, тревожно косясь на этот ненадёжный барьер, отделяющий её от ремонтника и посетителей, с усилием стащила с себя порванные брюки, брезгливо присела на краешек топчана, принялась шить.
«Вот бы удивился мой Генек, – пронеслось у Елены в голове, – обнаружив, что его жена сейчас сидит без штанов, в одном белье, на кровати незнакомого восточного мужчины. Интересно, что бы он сказал или подумал?»
Но воспоминание о муже тут же вернуло Елену в тревожно-беспокойное состояние: «наверняка, он сейчас себе места не находит, волнуется. Скорее всего, сам мне позвонил несколько раз, а ему в ответ – абонент, не абонент»!» Она яростно заработала иголкой, и через несколько минут шов был готов. Одевшись, Елена выскочила из-за занавески и пробралась обратно в «зал».
– Вот, – сунул ей телефон в руки мастер, – готов.
Елена вскрикнула от радости и поторопилась включить мобильник. Тот мигнул экраном и сразу отключился.
– Не работает, – растерянная клиентка протянула погасший аппарат ремонтнику.
– Значит, кирдык ему, – без тени смущения отреагировал мастер, даже не глянув на неработающий мобильник.
– Как кирдык? – не сразу поняла Елена, в растерянности стараясь глазами призвать ремонтника к состраданию.
– Что хочешь? – нехотя откликнулся тот, – когда телефон плавал, половина случаев он заработает после этот, а половина – нет. Не свезло тебе.
– Что значит, не повезло? – начала закипать Елена, вы же деньги за ремонт взяли, обещали починить.
– Почему не понимаишь? – теперь мастер говорил с Еленой отстранённым неприязненным тоном с различимыми нотками раздражения, – я делал-делал, но не повезло. Вода попал корпус, замыкание произошёл. Потому что сутка надо ждать, а тебе полчас нужно.
– За что же я вам заплатила аж две тысячи рублей?! – вскричала Елена, – за вот этот пшик?
– Я работаль, работаль, деньги честно отработаль. Даже тебя пустиль, когда тебе надо было, – в свою очередь заорал мастер, – и что-то зло добавил на неизвестном Елене языке.
– Что мне делать? У меня муж болеет, срочно позвонить ему нужно, а я номер не помню! – из глаз Елены вновь полились слёзы.
– Ладна, – ремонтник неожиданно прекратил кричать и заговорил обычным тоном, – дай телефон сюда. Контакты восстановить могу. Номер скажу. Звони с моего телефона. Бесплатно.
Елене не оставалось иного выхода как подчиниться. Слишком велика была её тревога за Генека. Когда мастер протянул ей собственный замызганный мобильник и клочок бумаги с каракулями цифр, она вцепилась в аппарат как утопающий хватается за спасательный круг.
– Алло, кто это? – после десятого гудка, когда Елена уже начала терять терпение, прозвучал в трубке родной голос.
– Милый, – затараторила Елена, опасаясь, как бы Генек, не любивший отвечать на звонки с неизвестных номеров, не отключился бы, не дослушав, – это я. У меня телефон испортился. Утонул, в общем. Ты мне не звони, мой телефон сдох окончательно. Я его в воду уронила.
– И ты его, конечно, сразу включила, своего утопленника? – саркастически поинтересовался Генек в трубке.
– Ну, да, – откликнулась Елена, – ты же мне должен был звонить. Я волновалась…
– Поздравляю! – на другом конце линии связи Геннадий даже и не скрывал свой сарказм, – теперь мы ещё и без связи.
И он тотчас отключился.
Елена на нетвёрдых ногах потащилась в офис. Она немного успокоилась по поводу своего мужа, но одновременно внутри неё нарастала тревога, связанная с работой. «Этот Гореньков точно не успокоится, пока не добьёт меня. Вот увидит сейчас главбуха, грязного и с порванными штанами, и совсем уважать перестанет», – копошились в мозгу невесёлые мысли.
Зайти в таком виде в бухгалтерию она не могла, поэтому осторожно пробралась в приёмную директора и жестами вызвала секретаря Свету в коридор.
– Светочка, милая, помоги. Мне надо срочно привести себя в порядок, – прошелестела Елена трагическим шёпотом.
Света ахнула и с энтузиазмом бросилась помогать несчастному главбуху. Секретарь достала из стола ключи и открыла пустой и гулкий актовый зал, притащила нормальные нитки и ножницы, влажные салфетки и горячий чай в дымящейся кружке. Минут через пятнадцать Елена снова ощутила себя нормальным человеком, даже настроение поднялось. Следы уличного происшествия были, если не ликвидированы окончательно, то по крайней мере незаметны внешне. Горячий чай словно чудодейственный бальзам вернул силы и румянец на щёки.
Но весь этот оптимизм мигом улетучился, когда она, подойдя к двери своего кабинета и взявшись за ручку, услышала оттуда голоса. Первый голос, мужской, Елена узнала сразу – разумеется, это был новый сотрудник Николай-чёрт-его-подери-Петрович. Эти барственные, немного тягучие интонации за утро уже успели хорошо врезаться в память главбуха. Правда, теперь они звучали не властно, а скорее игриво. Слова не разобрать, но, судя по тону, Гореньков пребывал в отменном настроении. Как и его невидимый партнёр, женщина. «Чей же это откровенно кокетливый голос?» – гадала Елена, которая никак не могла соотнести собеседницу Николая Петровича ни с одной из своих сотрудниц. Ей даже в голову никак не приходило, кто может вот так недвусмысленно раздавать авансы и вертеть хвостом перед незнакомым мужчиной. «Неужели это Ниночка?» – спросила саму себя Елена и осторожно, дабы не вспугнуть воркующих, приоткрыла дверь кабинета и заглянула внутрь.
Её усилия оказаться незамеченной не понадобились, двое в кабинете были настолько увлечены друг другом, что вряд ли заметили перед собой стаю несущихся от пожара жирафов. Ноги Елены подкосились сами собой – в кресле главбуха, уютно устроившись, сидела… её заместитель Ольга Александровна. Ольга Александровна раскраснелась, одна прядь из всегда безукоризненной причёски выбилась и легла на лицо, а улыбку широты, подобной той, которая блуждала на её лице, до этого момента Елена видела разве что у клоунов в цирке. Гореньков сидел на краешке стола, близко склоняясь к собеседнице, одна рука его лежала на спинке её кресла очень близко к спине, поэтому издалека казалось – Николай Петрович обнимает Ольгу Александровну, а та исключительно рада его вниманию и почти положила голову Горенькову на плечо.
Елена так же тихо как зашла, затворила дверь в свой кабинет и осталась стоять около косяка, ноги её не слушались. «Так вот оно что! Теперь понятно, почему Оля столь быстро меня отослала. Такими темпами она займёт кресло главного бухгалтера раньше, чем я брюки зашить успею. А я-то, пустомеля, всегда ей доверяла, а оно вон как оказалось на поверку. После этих объятий она не иначе, в гору пойдёт! Вот бы сейчас завалиться в собственный кабинет и отчитать Олю, которая без спроса там расположилась, поставить её на место. Да как это сделаешь, когда сзади дырка, а руки трясутся?!» – мысли беспорядочно скакали в голове Елены, бессистемно перепрыгивая с одного на другое. Она закрыла глаза руками детским жестом, будто эти «прятки» могли изменить реальность.
Глава 4
Но этот жуткий день был ещё далёк от своего завершения. По вечерам супруги Домакины ходили гулять перед сном. Точнее Елена заставляла своего ненаглядного оторвать седалище от любимого дивана и хоть немного, но подвигаться, чтобы укрепить сердечную мышцу. Обычно Геннадий, пусть и ворчал, тем не менее, всегда поддавался на уговоры жены пройтись знакомым маршрутом и «размять конечности». Но в этот вечер вернувшаяся домой Елена застала благоверного на кухне с какой-то бутылочкой в руках. Взгляд Геннадия в этот день прямо-таки сверкал зеркальностью. Услышав шаги в коридоре, Геннадий засуетился и, направившись к одному из кухонных шкафов, торопливо сунул туда бутылочку. И вид у него при этом был какой-то виноватый. Уж это Елена за годы жизни научилась определять безошибочно.
– Что у тебя там? – вырвалось у Елены, прежде чем она смогла осознать всю неуместность подобного вопроса в новом зеркальном состоянии мужа. Уловив намёк на упрёк в словах жены, Геннадий, разумеется, тут же встал на дыбы:
– А тебе какое дело? Ты теперь каждое действие моё контролировать собираешься? Вообще мне личное пространство оставлять не хочешь?
– Генек, милый, я просто спросила… – заторопилась сгладить напряжение Елена, но этой репликой лишь плеснула бензинчика на призадумавшиеся угли.
– Давай-давай, – язвительно произнёс Геннадий, бухаясь на стул, и зло уставившись на Елену, – не стесняйся. В унитаз вон ещё загляни, или лучше прямо мне в зад, чего время зря терять! Может, найдёшь что ценное. Я там много чего спрятал от тебя.
Поняв, что лучшей стратегией в данной ситуации будет не дальнейшая эскалация напряжённости, а напротив, демонстрация разгневанному мужу расстроенного молчания, Елена прибегла к ней, и всё же показное смирение далось ей путём напряжения всех сил. Когда она садилась на диван рядом с супругом, пальцы её ощутимо дрожали от с трудом сдерживаемых эмоций. Тем не менее, её нехитрый трюк сработал, и печально-покорный вид жены постепенно успокоил Геннадия:
– Ты прямо как моя матушка, – нарочито усталым тоном проворчал он, – она так же отца шпыняла вечно. Вроде бы всё гладенько так, без ругани, никаких бранных слов, но после её выступлений отцу буквально жить не хотелось. Так и сгинул в итоге, доела она его. Ты, видимо, такую же участь мне готовишь!
Елена внутренне ахнула, но вместо немедленного опровержения этой явной несправедливости решила зайти с другого бока и для начала решила увести своего Генека подальше от опасной темы.
– Геничек, что-то я запамятовала про отца твоего, – сбивчиво забормотала она как можно более мягким, успокаивающим тоном, – помню, ты мне рассказывал раньше, но, я, балда такая, всё забыла. Он ушел от вас с мамой, что ли?
Перевод разговора на тему родственников был отнюдь неслучаен. Елена давно заметила, что её Генек, как всякий, кто вырос единственным ребёнком в семье и не имел разветвлённую сеть родственных связей, очень любил поговорить о родне. Причём, в подробностях. И опять её план сработал блестяще.
– Странный вопрос, поговорить, что ли, больше не о чем? Не понимаю я тебя, то любой ценой на прогулку меня тащишь, а тут вдруг допросы вместо этого устраиваешь, – несмотря на недовольство, выраженное в словах, интонация, с которой эти слова были произнесены, недвусмысленно показывала – Генек просто набивает себе цену и банально ждёт, чтобы его поуговаривали.
– Ну, Геничек, ну расскажи… – Елена встала с дивана, подошла к мужу, прижалась телом, положила ему руку на грудь, – Ну, пожалуйста…
Геннадий взял очень долгую паузу. Елена уже решила сдаться и начала убирать руку с груди супруга, как вдруг услышала его тихий голос.
– Я так редко вспоминаю про родителей. Уж очень много лет прошло без них. Полжизни почти. Понимаешь? Это так долго…
– А кем работал твой отец? Ну, кто был по профессии? Так он ушёл от вас или всё же я неправильно поняла? – Елена сыпала вопросами, не давая Геннадию снова погрузиться в себя, да так там и остаться надолго.
– На заводе работал, – на этот раз Геннадий ответил жене почти без задержки, – сначала рабочим, потом мастером. Он умным был, способным, только вот образование не получил. Не все раньше могли позволить себе образование, сама ведь знаешь. Семья у него была большая, а он старшенький, вот и пришлось ему помогать родителям младших детей поднимать. Десятилетку уже в вечерней школе заканчивал. Это мама моя в институте училась, из интеллигентной семьи была. Всю жизнь с нее родители пылинки сдували. Всё для своей доченьки делали. Пять лет, пока в институте была, никто ее работать не заставлял. Берегли её. Да только всё равно после учебы пришлось в школу пойти учителем начальных классов. А это нелёгкий хлеб.
– Где же твои родители познакомились? И как? Они же из разных социальных слоев, получается. Почему твоя интеллигентная мама за простого рабочего замуж вышла? Неужели среди своих однокурсников не нашла себе кавалера? Странно как-то, ты не находишь? Такой неравный брак получается. Мне кажется, им не очень интересно было вместе. Ну, твоей маме, во всяком случае, – Елене и самой уже стало интересно узнать историю семьи Домакиных.
Но обилие вопросов дало эффект, обратный тому, на который рассчитывала Елена. Геннадий снова смолк, в очередной раз погрузившись внутрь себя. «Ну и ладно, – подумала Елена, не стараясь вывести мужа из очередной задумчивости, – пусть окунется в прошлое, может это не так и плохо. Может он вспомнит, что-то позитивное, приятное. То, что способно помочь ему в это непростое время». По искреннему убеждению Елены, подкреплённому личным опытом, детские воспоминания о родителях у подавляющего большинства людей остаются яркими и незапятнанными как кадры цветного диафильма. И эти воспоминания хранят только радостные светлые моменты. А обиды, недопонимания, прочий негатив полностью растворяет, смывает время. Именно в таком ключе Елена всегда вспоминала собственных родителей. Но то, что она услышала от Геннадия, оказалось далеко от её собственной идеальной картинки.
– Раньше, после окончания вуза, в советское время, было распределение. Помнишь? – Геннадий начал издалека, и Елена, всё ещё находящаяся в плену своих мыслей, не сразу поняла, о чём её спрашивают. Она недоумённо таращилась на мужа.
– Ну, вспоминай! Мы же с тобой тоже это застали, – по всем признакам, Геннадий начал раздражаться, поэтому Елена стряхнула оцепенение и быстро ответила:
– Да, помню, помню. И что?
– А то, что матери моей после окончания института тоже грозило распределение. Училась она, несмотря на весь свой ум, не ахти. Видимо, была озабочена более интересными нежели учёба делами, – в этом месте Геннадий отчётливо хмыкнул, похоже, не одобряя поведение матери, – И к началу последнего курса занимала место лишь в третьем десятке претендентов на хорошие места. А такое низкое место не сулило никаких шансов остаться в городе. Более того, с вероятностью 101% обещало распределение в сельскую школу, где нужно было оттрубить не менее трёх лет, живя в хибаре с деревянным сортиром и колодцем вместо водопровода. Так себе перспективка для избалованной городской девушки, видевшей деревню до этого только в кино!
– И что она?
– Что-что. Решила срочно выйти замуж, что ж еще? Отказ ехать по распределению грозил лишением диплома. Тут-то мать и вспомнила про отца. Они зимой на катке познакомились. Как рассказывала мама, батя мой выпендривался перед девчонками, конькобежца крутого строил из себя, достал откуда-то подержанные, но настоящие норвеги к зависти окрестной детворы, и накручивал круги с горделивым видом. Так высоко голову задрал, что не заметил мать перед собой, ну и врезался в нее со всей дури. Потом, понятное дело извинялся за неуклюжесть, утешал бедную девочку, которая разревелась – больше от обиды, чем от боли. В качестве компенсации отец пригласил маму в кино. В общем, познакомились, но без продолжения. Моя мать как узнала, что он на заводе работает, сразу интерес к парню потеряла. Видимо другие кавалеры были на примете. Если и пересекались иногда их пути – городок наш несильно большой, трудно увернуться от встречи – дальше приветствий дело не шло. Но когда перед матерью замаячила сельская школа, она вспомнила про пацана с катка. Рассудила так. Ну и что, что рабочий? Главное в армии отслужил, зарабатывает неплохо, да и внешностью Бог не обидел. Он, правда, ростом невысок был, но вполне себе приятной наружности. Да и выбора у неё другого просто не оказалось. В институте, где мать училась, нормальных мужиков не было. На их курсе, как рассказывала она с насмешкой, всего трое представителей мужского пола учились, альбинос, почечник и коротыш. Да и кавалеры из других вузов вдруг как-то подрассосались в самый ответственный момент, а действовать нужно было быстро.
– Неужели она по чистому расчету замуж вышла, без любви? Разве такое возможно? С ним же целоваться надо, в одну постель ложиться, фу! – Елена представила себя на месте Генековой матери и невольно содрогнулась от отвращения всем телом, ей даже показалось, что к горлу подступила тошнота.
– Так, а я о чём тебе и говорю, глупышка! Конечно расчет, чистый, без примесей! Мать у меня была женщина продуманная. Каждый вечер стала прогуливаться у заводской проходной после окончания трудового дня. С таким видом, дескать, случайно проходила мимо. Уже на второй день увидела отца. Заговорила с ним первая. Ну, он и растаял. Ещё бы – такая девушка! Все очень просто. В общем, замуж она выходила, уже беременная мной. Чтобы на сто процентов гарантировать себе распределение в город. Не пошлешь же семейную, да ещё и беременную женщину к чёрту на рога! Вот такие дела, – сказав это, Геннадий замолчал, закрыл глаза, словно утомившись от столь долго рассказа.
– Геничек, Генек, ну не спи… Что дальше-то? – Елена тихонько толкнула мужа в бок.
– Ну что ты, в самом деле? Какой прок в этих воспоминаниях? – не открывая глаза, Геннадий состроил устало-недовольную физиономию, но потом всё же разлепил веки и продолжил свой рассказ, – Ну, что дальше? Дальше, насколько я понимаю, они попытались объединиться.
– Что значит объединиться? Что ты имеешь в виду?
– Что-что… Друзей своих решили познакомить. У каждого ведь своя компания была, свой круг. Вот и стали приглашать на праздники, отец своих мужиков, мать своих подружек. Только из этого ничего хорошего не вышло. Не сумели они перемешаться, не получился коктейль. Подружки мамины все фыркали, недостаточно хороши для них были заводские ребята. Как же, они, девушки из пединститута, все такие образованные, такие начитанные, такие правильные. А заводские ребята простые, им водочку подавай, да побольше, чтобы расслабиться. А когда градус доводил до состояния расслабления, в ход пускались шаловливые ручки, коими они маминых подружек начинали лапать. Другие методы ухаживания работяги просто не знали. То обнимут в танце покрепче, то под юбку норовят залезть, коленки потрогать, а кто и подальше, а то в коридоре зажмут и поцелуют взасос.
– А ты откуда про это знаешь? Кто тебе обо всём этом рассказал? – изумилась такой осведомлённости мужа Елена.
– Да уж, конечно, не мать, – хмыкнул Геннадий со значением, – и не отец, тем паче. Бабка рассказывала, когда я подрос уже и сам к девчонкам интерес стал проявлять. Когда учила меня выбирать себе подружек. Чтобы не получилось, как у родителей. Так вот, короче говоря, мамины подружки все реже стали появляться в доме родителей, придумывая разные причины, зато отцовские дружки никогда не отказывались от праздника и все чаще мероприятия эти стали походить на обычные мужские попойки, из-за отсутствия женщин порой переходившие в драки.
– А знаешь, почему люди дерутся, ну в принципе? – неожиданно спросил он Елену.
– Нет, не задумывалась как-то. Почему?
– Потому, что люди интеллигентные, образованные, любые конфликты стараются разрешить конструктивно – обсудить, разобрать, проговорить, словесно достучаться до оппонента, выложить ему все аргументы, блеснуть интеллектом. А те, у кого словарный запас ограничен, пускают в ход кулаки. У них на подбор слов слишком много времени уходит, а тут дал по роже пару раз, и всех делов. Кто сильнее, тот и прав. Как в дикой природе, выживают самые сильные. Примитивно, но в то же время безотказно.
– Ну да, наверно так и есть, – легко согласилась с мужем Елена. Слава Богу, теперь Геннадий говорил ровно так, как её прежний милый Генек – иронично, интересно, с нотками лёгкого превосходства и покровительства. Всё как она любила.
– Ну и что было дальше? – добавила она, чтобы вернуть Геннадия к рассказу о его семье.
– А дальше, после этой нелепой попытки найти общие интересы, друзей и тем самым сблизиться, родители начали отдаляться друг от друга. Каждый жил сам по себе. Мать своих подружек собирала отдельно. Отец к своим друзьям похаживал, в общем, не получилось у родителей семья. Понятное дело, мое появление на свет на некоторое время удержало их вместе. Пока были хлопоты, заботы о младенце, бессонные ночи, пеленки… Но и это закончилось, как только я пошел в детский сад. Мама вышла на работу, меня передали в руки заботливых бабушки и дедушки – её родителей. Отца же потихоньку оттирали от семейных обязанностей. От него ничего не ждали и ничего не хотели, кроме денег.
– Ну и что он, твой отец?
– Что он? Он дурак был, просто дурак, вот и все. По-хорошему, ему бы надо было как можно скорее развестись, начать с начала, найти другую женщину, что мало что ли хороших девчонок на свете?! Так нет, ему, упрямому, только мать была нужна. Любил ли он её? Сейчас об этом никто не скажет. Может, просто самолюбие взыграло. Вот и сгорел молодым.
– Что значит сгорел? Это ты образно или на самом деле в огне сгорел? – насторожилась Елена, что-то в словах Геннадия заставило её внутренне сжаться от неприятного предчувствия.
– Да уж какой тут образ, не в огне, конечно, но сгорел точно. Уксусную эссенцию выпил, внутренности ему выжгло. Умер в больнице, на следующий день.
– Ой, мамочки, какой кошмар! Вот беда. Как же это?!– ужаснулась Елена, на глаза её навернулись слёзы.
– Да ладно тебе выть, – грубовато прикрикнул на жену Геннадий, – зачем я только рассказал тебе эту дурацкую историю?! Теперь полночи будешь ворочаться, хныкать и причитать. Подумаешь, уксус выпил! Дурак – да, но сколько таких случаев, пруд пруди! Говорю же, надо было ему уйти от своей жены.
– Что же его заставило такое с собой сделать, что-то ужасное увидел или поругались? Должна же быть какая-то весомая причина. Не просто же так человек с утра встает и вместо чашки кофе замахивает бутылочку уксуса. Что-то должно было случиться. Что? – принялась допытываться у мужа Елена.
– Поругаться! Ха! Да ты что! Мой отец с матерью вообще разговаривать на повышенных тонах боялся, не хотел лишний раз показывать свою неотёсанность. А уж ругаться! Да у матери для отца всегда наготове был быстрый и чёткий ответ на любое его грубое слово. Она его одной фразой сразу на лопатки укладывала, после чего тот ни встать, ни отмыться уже не мог. Умела ударить в самое больное место. А ударить мать в ответ отец никогда бы не посмел. Надо отдать ему должное, ни разу руку на женщину не поднял. От этого и сгорел. Ревновал отец ее сильно. Она в начальных классах работала. На родительские собрания там иногда и отцы детей приходили. Вот один такой положил на мою мать глаз, что называется. Стал захаживать чаще необходимого, то поговорить, то спросить, потом и просто проводить. Отец быстро понял, что-то произошло, и стал следить за матерью. И конечно наткнулся на этого горе-ухажера. Я помню, как в тот день ругались мои родители, вот веришь, ничего другого не помню, а это помню. Наверное, потому что до этого почти никогда не слышал в доме ругань, а тут как прорвало. Отец орал: «Шлюха, дрянь», по дому летали разорванные школьные тетрадки на утро не осталось ни одного целого стула, помню, что завтракал я в большой комнате, сидя на диване. А мать лишь улыбалась, да смотрела на отца, как знаешь, смотрят люди очень высокого роста, на тех, кто копошится где-то внизу у самых ног. Не снисходительно даже, а так, чтобы случайно не раздавить, брезгливо. Стулья, конечно, купили потом – дурацкие какие-то, неудобные скрипучие, дед в них потом все время шурупы подкручивал. Ничего ведь в магазинах тогда не достать было. Потом у отца начались запои, но все происходило очень тихо. Придет домой, упадет на диван, а на утро опять в магазин. Но об этом мне уже дед рассказывал. А в один прекрасный день он на глазах моей матери просто выпил уксус и умер в больнице. Вот и все.
– А что же мама твоя? Как она потом жила с этим? – Елена утирала рукавом стремительно льющиеся по лицу слезы, – Жалко-то как отца твоего. Ну, зачем он так? Неужели это он от любви? Как же можно? Как же можно? Так нелепо, так глупо!
– Что глупо-то? Есть же поговорка «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас». Раз, два и готово. Всё равно ничего уже не исправить.
– Не говори так, Геничек! Нельзя даже думать так, не то, что делать. Это неправильно. Жизнь дана нам, чтобы прожить ее до конца, столько, сколько отмерено, – Елена не на шутку всполошилась, вдруг вынырнув из истории, рассказанной мужем и вспомнив про болезнь Геннадия.
– Кем отмерена? Почему кто-то отмеряет нам жизнь? Мы сами себе творцы. Хочу – живу, хочу – нет, – теперь голос Геннадия звучал тихо, но интонация…
Интонация Елене не понравилась. Было что-то натянуто-звенящее в последней, сказанной им фразе. Будто Геннадий что-то тайно уже решил для себя и сейчас невольно проговорился. Сердечко Елены тихонечко ёкнуло и заныло. Из прежних разговоров с мужем Елена знала, что мать Геннадия ненамного пережила отца, но был ли причиной её смерти тоже суицид или она умерла по какой-то иной причине, не ведала и не хотела докапываться до истины – уж слишком опасной казалась ей эта тема.
Елена уже неоднократно пожалела о том, что затеяла этот разговор, да еще на ночь глядя. Надо подождать пока муж заснет и узнать, что за бутылочку спрятал Геннадий в шкафу. Не дай Бог, ещё натворит дел!
«А вдруг склонность к суициду передается по наследству? Этого страха мне только и не хватает. Думай, вот, теперь о дьявольской эссенции и день, и ночь. И так голова лопнет скоро от многочисленных проблем, связанных с болезнью Генека. И ведь я сама, сама виновата! Сама всю эту муть со дна подняла. И кто только за язык тянул? – горестно размышляла Елена, лёжа на кровати рядом с Геннадием.
Как только дыхание мужа стало глубоким и размеренным, она осторожно пробралась на кухню, включила малый свет, чтобы не дай Бог не разбудить супруга и принялась изучать содержимое шкафа, к которому подходил Геннадий. Разумеется, злополучная бутылочка с уксусной отравой стояла именно там. Но рядом с бутылочкой с льняным маслом точно таких же габаритов. Сказать наверняка, какую из них изучал Генек, Елена не смогла.
Руководствуясь принципом «береженого Бог бережет», она переставила бутылочку с эссенцией в самый дальний угол шкафа и забаррикадировала другими банками и коробочками так, чтобы случайным образом наткнуться на неё Геннадий не смог.
Правда, уже на следующий день Елена благополучно забыла про чёртову эссенцию, поглощённая борьбой с Гореньковым и слежкой за Ольгой Александровной на работе. И выгуливанием Генека после работы. А также его рационом.
Прошло какое-то время, Геннадий, хоть брюзжал и капризничал не меньше, чем прежде, ни словом, ни жестом не выдавал желание воспользоваться эссенцией не по прямому назначению. И Елена совсем успокоилась на этот счёт. Пока однажды, открыв тот самый шкаф, не наткнулась на бутылочку с крепким уксусом, стоящую прямо перед её носом на самой ближайшей полке так, что не заметить её было невозможно.
Постояв несколько секунд в созерцании эссенции, Елена зачем-то открыла бутылочку и понюхала её. В нос шибануло таким резким кислым амбре, что все остающиеся слабые сомнения пропали – это был именно крепкий уксус. В сердцах Елена с силой завернула крышку бутылочки и постаралась спрятать её в самом дальнем шкафу, где хранились преимущественно бесполезные, но годные для использования вещи, которые повседневное применение в доме не находят, а выбросить жалко. Закидала бутылочку какими-то пакетами, тряпочками и только тогда перевела дух.
Но теперь выбросить из головы эссенцию Елена уже не могла. Даже в ежедневных стычках с Гореньковым, которые со временем становились только жарче, она неизменно помнила про отраву, и взяла за правило звонить с работы своему любимому едва ли не каждые два часа. Первые два дня такой сверхопеки Геннадий ворчал, но терпел. А на третий просто перестал брать трубку, когда звонила жена.
Когда муж таким образом не ответил на три звонка за час, Елена скрепя сердце пошла на поклон к Ольге Александровне, чтобы та заменила её на время отсутствия, а сама, даже не докладывая директору – ей было не до соблюдения формальностей, да и вообще ни до чего, кроме дорогого супруга – вызвала такси и помчалась домой, опасаясь худшего.
Когда она в растрёпанных чувствах влетела в квартиру, то застала Геннадия мирно устроившимся на кухне и попивающего свой чаёк.
– Ты чего в такую рань? – как ни в чем не бывало, поинтересовался он, невинно хлопая глазками, – работа на работе кончилась?
– Геничек, ну, почему ты не отвечал на мои звонки? – выдохнула Елена, прислонившись к косяку кухонной двери, чтобы не упасть от внезапно накатившей усталости.
– Так я в телефоне звук выключил, чтобы поспать днем спокойно, наверно забыл включить. А ты что подумала? А… Ты все ждешь, когда? Извини, не сегодня.
– Как тебе не стыдно, милый. Как ты можешь? Я не понимаю.
– И не поймешь. Никогда не поймешь. Это вообще трудно понять. А для некоторых невозможно. Наверно ты из их числа, – Геннадий сделал погромче бубнящий какую-то ерунду телевизор и отвернулся от жены.
А утром Елена опять увидела бутылку с уксусом. Та снова красовалась на самом видном месте. Но на этот раз Елена не стала прятать отраву. В конце концов, какая разница, где стоит эссенция? Если человек задумал сотворить какую-то глупость, он всегда найдет способ это сделать, и уберечь его не в силах ни один человек на земле. Перестала Елена и докучать благоверному частыми звонками. Но тревога в её душе всё ширилась и ширилась, настойчивая и глубокая. Глубже неё была лишь собственная усталость.
А потом однажды вечером, когда Елена уже вернулась с работы, на её телефон позвонили с незнакомого номера.
– Не бери. Это, наверное, спамеры, – посоветовал Геннадий, на миг оторвав взгляд от телевизионного экрана и бросив его на Елену.
Но Елена уже нажала на кнопку «Ответить».
– Леночка Ивановна, привет, моя дорогая! Я уж думала, не возьмёшь мобилу, – раздался из динамика громкий и визгливый женский голос. Его Елена узнала сразу. Звонила Мария Антоновна, мать жены сына Елены Владимира.
Услышав знакомый тембр, Геннадий картинно сморщился – после неудачных попыток сближения, всё, что было связано с Владимиром, вызывало у него раздражение. И особенно Мария Антоновна. В отличие от Владимира и его жены Светланы, мать Светланы звонила Елене с настойчивой регулярностью и непременно выливала на ту целый поток недовольства. Марию Антоновну, кажется, напрягало всё на свете – сложные отношения Елены с сыном, не менее запутанные отношения Владимира со Светланой, которые с годами лишь ухудшались, не говоря уже об отношениях Елены с Геннадием, которые «отрывают мать от сына и тем самым настраивают его против неё». И даже отношения самой Марии Антоновны с собственным телом. На последнюю тему она могла вести монологи часами, живописуя многочисленные свои болячки и особенное внимание уделяя описанию трудностей в работе кишечника и мочевого пузыря.
– Что ты слушаешь эту курицу? Замучила уже своим кудахтаньем бесконечным, – недовольно проворчал Геннадий и демонстративно прибавил звук телевизора. Елене пришлось выйти на кухню, чтобы продолжить разговор со сватьей.
– Почему ты звонишь с нового номера? Что-то случилось? – спросила она Марию Антоновну, борясь со жгучим желанием последовать совету мужа и послать «эту курицу» подальше. Только её сейчас не хватало!
– Симку мне подруга дала. У неё две, ну и поделилась, – с готовностью пустился в объяснения в трубке голос Марии Антоновны, – там ещё денег чуток оставалось, вот я и решила их потратить. А чего звоню… Да, Светка моя загуляла, зараза такая. Вовка, сын твой, вчера на вахту отчалил, и она сразу хвост распушила и ф-фить, нет её. Подружка Светкина мне сейчас звонит, заберите, мол, Антошку, что он у меня ночевать будет, что ли? А я не могу его забрать, я же только после операции, из дома никуда не выхожу. Ещё и слабительное выпила, а то заперло после наркоза так, что хоть отбойным молотком пробивай. В общем, от туалета отойти не могу. Я же Светку предупреждала, что еще недели две мне дома сидеть, с моими-то ногами. Что же делать? Иди, выручай, ЛенИванна. Сходи за внуком. Светка моя на телефонные звонки не отвечает, а парень ревет, домой просится. А я вся на нервах!
И в трубке надсадно загудело от басовитых рыданий.
– Ничего не поняла, да объясни ты толком, – Елена повысила голос, дабы вернуть Марию Антоновну в чувство, – что значит, загуляла? Почему Антон у какой-то подружки, а не дома у себя? Ему время спать уже. Разве у Вовки со Светой проблемы какие-то в семье? Почему я ничего про это не знаю?
Антоном звали четырёхлетнего внука Елены. Внука она видела всего несколько раз – Владимир считал, что ребёнку достаточно и одной бабушки.
– Да мы старались тебе ничего не рассказывать. Думали, может, наладится еще всё. А у тебя с твоим Геной и без нас проблем хватает. Я бы и сегодня тебе звонить не стала. Но, понимаешь, операцию я на ногах сделала. Ступни мои помнишь? Косточки выпирающие совсем замучили. Вот я их и убрала. Ходить далеко пока не могу, я дочь свою предупреждала ведь. А она, дрянь такая… Вовка за дверь, считай недели две или три его не будет. А Светка намылилась и ушла, непонятно куда. А Антошку подружку свою попросила к себе после садика забрать, она там, рядом живет, дескать, вечером приду и домой отведу. А сама не идет и не идет. И трубку не берет, а ребенок в истерике, не ест, не пьет, только воет, маму хочу. Вот эта подруга Светкина мне и позвонила. А я не могу туда поехать. Съезди, Леночка Ивановна, забери Антошку. Или к себе возьми, или домой к ним отведи, подожди там шалаву эту. Дома-то он хоть спать ляжет, ребенок маленький, жалко ведь, – Мария Антоновна смачно швыркнула носом, потом громко высморкалась и заканючила как ребенок, – Леночка Ива-а-новна, Леночка Ива-а-новна, ну пожалуйста, твой ведь внук тоже …
– Да-да, я, конечно, сейчас же поеду, заберу Антошечку. Только он меня совсем не признает за бабушку, вечно ревом встречает. Ты же понимаешь, мы с сыном так редко встречаемся, вот Антошечка меня все время и забывает. А, впрочем, что же теперь делать? Ладно, говори адрес, – выдала Елена в трубку.
А про себя подумала: «Только этого еще не хватало! Мало того, что у Вовика разваливается семейная жизнь, так ещё и с внуком возникли проблемы. Куда же его теперь деть? Взять к себе, конечно, можно, но что с ним прикажете делать завтра? Я уйду на работу, а Геннадий вряд ли будет в восторге провести целый день с маленьким мальчиком. А Светка может и вообще не прийти ночевать. А-а-а, ладно, сейчас главное, забрать его от этой самой подружки».
Елена записала адрес на клочке бумаги и понуро поплелась в комнату. Ей предстояло самое сложное – объясниться с Геннадием. Мужа Елена обнаружила ровно в той же позе, в какой оставила, когда ушла на кухню. Разве что телевизор больше не орал, а бубнил на нормальном уровне громкости.
Елена присела в ногах Геннадия, тот даже не посмотрел на неё, продолжая внимательно изучать картинку на экране.
– Генек, мне надо к сыну домой съездить, там проблемы какие-то с Антошкой, я быстро. Такси возьму, – наконец, решилась она отвлечь супруга.
– Что за спешка? Завтра съездишь. Куда переться на ночь глядя? Совсем уже, что ли? Пусть баба-Маша с внуком побудет, она же там рядом живет, – так и не отведя глаза от телевизора, проворчал Геннадий.
– Да, не может она, операцию на ступнях сделала, еще недели две из дома не будет выходить. Некому больше, понимаешь? – Елена ощутила прилив слёз жалости к себе, но усилием воли сдержалась. Слёзы в данной ситуации только всё испортили бы.
– А Вовка где? – в тоне Геннадия прибавилось желчи, – опять на Север свой уехал? Все за деньгой большой гоняется? Ну-ну, доездится. Сын, вон, скоро узнавать перестанет. Да и какие такие проблемы могут там случиться, если Светка не работает? Она же дома сидит, вот пусть и разруливает все сама, не вмешивайся ты в чужую семью. Что за мода? Чуть что не так, сразу родителей на помощь звать. Мы сами детей растили, не было у нас мамок-нянек. Ничего, никто не помер. А эти чуть, что – караул, помогите!
Выпалив всё это, Геннадий наконец соизволил глянуть на жену, после чего добавил безапелляционным тоном:
– Не езди никуда, пусть сами справляются.
– Я так не могу, – сказала Елена тихо, но твёрдо, – даже кошку у чужих людей оставлять грех, а тут мой собственный внук. Я его не брошу.
– В общем, привезу Антошку к нам, посидишь с ним, пообщаетесь. Вдвоем повеселее вам будет, – добавила она быстро, чтобы не дать Геннадию опомниться.
Но тот отреагировал моментально:
– Да ты что, дорогая? В своем уме? А если со мной что случится? Это при ребенке-то! Делать что потом будешь с ним? У него же травма будет на всю оставшуюся жизнь. Да и не могу я с малышом, за ним глаз да глаз нужен. Мне бы с собой справиться!
Видя, что Елена никак не реагирует на его слова, а вместо этого собирается в путь, Геннадий вскипел и почти прокричал:
– Не надо сюда никого привозить! Если тебе так приспичило, езжай, да там и оставайся, я как-нибудь без тебя обойдусь. Хоть вообще не возвращайся, там и живи!
Он соскочил с дивана, порывисто выключил телевизор, бухнулся на кровать, отвернулся от жены и сделал вид, что собирается спать.
«Господи, опять я меж двух огней! – с горечью подумала Елена, выходя на улицу, – А я, между прочим, вовсе не горю желанием тащиться на другой конец города. Я устала за день и очень хочу спать, но кто спрашивает мои желания? Все считают меня роботом безропотным. Который имеет единственную функцию – другим прислуживать. Одни обязанности у меня. Я всегда всем что-то должна – направо и налево. А где же я? Где, спрашивается? Меня давно нет… Меня нет, а то что есть – это уже не я.
До дома, где находился Антошка, Елена добралась быстро. Вечером на такси ездить по городу одно удовольствие. Ни тебе пробок, ни аварий, ни прочих препятствий. Она подошла к тускло освещённой парадной, набрала на домофоне нужный номер квартиры, через пару секунд ей ответили.
– Кто там? Вы за мальчиком? – в трубке, помимо женского голоса, раздавался детский плач.
– Да-да, я за Антошкой, я бабушка, скажите ему, что пришла бабушка, скажите, – как всегда от детского плача сердце Елены забилось в бешеном ритме.
– Слышь, ребенок? Бабушка прикатила, слышишь? – плач на том конце прекратился и послышался детский голосок – Бабаська, бабаська пвисла…
– Всё, услышал, – снова обращаясь к Елене, манерно протянул женский голос, – поднимайтесь на шестой этаж, только пешком, сегодня лифт выдрючивается, тетка у нас одна, сердечница кстати, пса выгуливать повела, села в лифт и застряла. Просидела там два часа, пока достали. И пес обгадился весь, и тетку потом на скорой с приступом увезли. Пешком поднимайтесь.
Дверь парадной открылась с неприятным лязгающим звуком. Елена вошла в узкое пространство лестничной клетки старой панельки, едва освещенное одинокой подслеповатой лампой, прикрытой почерневшим от грязи и пыли абажуром. Несмотря на усталость, она довольно прытко взлетела на шестой этаж, обходя по дороге вонючие лужи и мусор, рассыпанный по ступенькам, позвонила в нужную квартиру. Дверь отворилась незамедлительно. Невысокого роста приземистая женщина, открывшая ей, отошла вглубь маленькой прихожей, давая возможность Елене войти. Посредине небольшого коридорчика, видимо, ведущего в комнату, стоял маленький мальчик, весь чумазый и зареванный. Как и полагала Елена, Антошка в ней бабушку не признал. Он ждал вовсе не её, а Марию Антоновну. Поэтому на щеках мальчика опять заблестели слезы, скатывавшиеся вниз, словно дождинки по стеклу.
– Нет, нет, а-а-а. Бабаську надо, бабаську-у-у…, – ребенок плюхнулся на живот, уткнулся головой в руки, сплетенные в локтях, и зарыдал безутешно, содрогаясь всем телом и подвывая осипшим от долгого плача голосом.
– Антошечка, маленький мой! – кинулась к нему Елена. Она встала на колени перед малышом и постаралась взять его на руки, но тот лишь сильнее зашелся в плаче, усиленно отбиваясь от неё.
– Ну, хорошо, хорошо, я не буду тебя поднимать, так с тобой посижу, – и Елена стала поглаживать ребенка по спинке приговаривая, – Я бабушка, бабушка Лена. Ты просто меня не узнал. Бабушка Маша заболела, и прийти не может, а я могу. Вот и пришла за тобой. Антошечка, милый, ну посмотри на меня, посмотри. Помнишь я к вам в гости приходила, мишку белого, Умку тебе подарила. Помнишь Умку? Он у тебя на кровати все время сидит. Помнишь.
Мальчик внезапно сел и недоверчиво уставился на Елену. Та, воспользовавшись этим моментом, продолжила.
– Ну, посмотри на меня, Я баба Лена. Пойдем, я тебя домой отведу, к Умке. А то он заждался тебя там, спать не ложится, ждет Антошечку, когда же он придет. А там дома мы маму подождем, должна же она вернуться к своему сыночку, любимому. Иди ко мне, иди, сладенький мой.
Мальчик неуверенно поднялся на ноги, сделал шаг к Елене и кулем свалился в протянутые к нему руки.
– Мама, мама? – спросил он, показав пальцем на все еще открытую дверь.
– Да-да, – Елена поднялась с нечистого пола прихожей и взяла внука на руки, – пойдем домой, к маме, к папе, к Умке. Пойдем.
Антошка вцепился в бабушку руками, прижался мокрой щекой к ее шее, оставляя на ней следы своих слез и соплей. Заплаканный, измученный долгой истерикой ребенок не желал отцепляться от Елены, боясь, что та уйдет, забыв прихватить его с собой.
Колготки Антоши были мокрыми и грязными от плохо вытертого или вовсе не вытертого зада. Слезы и сопли, размазанные по лицу, частично высохли, образовав отливающий на свету панцирь, волосы, намокшие от слез, прилипли к щекам. От мальчика плохо пахло и вообще, весь его облик выдавал печать страданий и нервного истощения. Елена достала из сумки влажные салфетки, вытерла лицо и руки ребенка, надела на него ботинки, куртку и только тогда спросила у хозяйки квартиры про мать Антошки:
– А что, Света сказала, когда она придет за Антошей?
Услышав её слова, Светина подруга, стоявшая в тени коридора и молча наблюдавшая за всей этой картиной, наконец проявила признаки жизни.
– Да я уже все Марье Антоновне говорила, – заявила она, со значением закатывая глаза к потолку, дав тем самым понять, что устала повторять одно и то же, – Светка позвонила мне днем и попросила забрать Антоху из садика. Меня там воспитки уже знают, я его забирала раз пять уже за последнее время. Она, видать, с ними уже договорилась, что я зайду за её отпрыском. Знаете, ведь как сейчас, кому попало, детей на руки не дают, только родственникам. Вот, сказала, вечером заберет. И не пришла.
Елена без слов продолжала смотреть на женщину. Та нехотя отлепилась от стены, к которой привалилась и сделала шаг по направлению к гостье. Увидев это, Антошка сразу спрятался за спину Елены и теперь с опаской поглядывал оттуда на подругу Светланы.
– А этот, – женщина неприязненно кивнула на мальчика, – как бешенный сегодня, никакого сладу, капризничает, нервничает. И если вы думаете, это я ему в туалет вовремя не дала сходить, так вы не правы. Я сколько раз ему предлагала, так нет, уперся, как осел, вот и нафурил в штаны, а потом чуть не обосрался, а зад вытереть не дал, так и натянул штаны на грязную жопу. Теперь вот и воняет ходит, говнюк такой. Ой, простите. А Светка трубку не берет, что мне было делать? Я и позвонила ее матери. Что мне, больше всех надо, что ли? В конце концов, у ребенка родственники есть.
И девица, скрестив в тугой узел руки на груди, опять прислонилась всем телом к стене и принялась смотреть в противоположную от Елены сторону. Стало понятно, что говорить больше не о чем, пора уходить. Елена коротко поблагодарила хозяйку за помощь, взяла ребенка на руки и двинула к выходу. Антошка, прильнув головой к плечу бабушки, мирно засопел, видимо успокоившись и поняв, что теперь у него все будет хорошо.
Дом, где жил Владимир с семьей, находился на этой же улице и идти до него было недалеко. Но с четырехлетним карапузом на руках этот путь показался Елене в два раза длиннее. Слава Богу, ключи от своей квартиры сын матери всё же доверил, и это многое упрощало, потому что вести Антошку к Геннадию после его демарша было немыслимо.
На полпути к дому Антошка засопел у бабушки на руках. Кое-как Елена доволокла ребенка до нужной двери, втайне надеясь, что Света, мать Антошки, всё же окажется дома. С третьей попытки открыв неуступчивую дверь, Елена с надеждой заглянула внутрь. Квартира оказалась пуста и темна. Выбившаяся из сил Елена, крепко сжимая спящего внука, не раздеваясь и не разуваясь, прошагала прямо в детскую. Она чуть не грохнулась по дороге, запнувшись о разбросанные на полу игрушки. В детской Елена раздела спящего мальчика, обтерла смоченным в теплой воде полотенцем, надела пижамку и уложила в кровать. Измученный, он так и не проснулся.
Всё ещё надеясь, что невестка вот-вот появится, Елена разделась, прибралась в детской и пошла в ванную, чтобы бросить в стиральную машину снятую с ребенка грязную одежду. Но оказалось, что машинка битком набита выстиранным, но не развешанным бельем.
– Так торопилась, даже некогда было белье развесить, – подивилась неопрятности своей снохи Елена. Сама она такие вольности себе никогда не позволяла.
Пришлось искать сушилку, устанавливать её и развешивать мокрое белье, которое от долгого лежания в закрытой машине уже начало терять свою свежесть. А потом запускать быструю стирку, чтобы привести в порядок снятые с Антошки вещи. Только включив стиральную машинку, Елена глянула на часы и ахнула – шёл первый час ночи. Она хотела было позвонить Геннадию, но тотчас оставила эту мысль – будить мужа, который по привычке ложился спать рано, было небезопасно.
Борясь со сном, Елена просидела ещё полчаса, не оставляя мысль дождаться загулявшую сноху. Ведь, как ни крути, она была непрошенной гостьей в этой квартире, мало ли что. Но угодила в сон почти мгновенно, хотя сразу вынырнула оттуда. А затем, поняв, что ждать более бесполезно, махнула рукой и пристроилась на диване в детской, положив под голову диванную подушку и прикрывшись пледом. До подъема ей оставалось чуть более трёх часов. Потому что утром перед работой ей не только нужно было завести Антошку в садик, но и позвонить-таки мужу, чтобы узнать как у него дела, как он провел без нее ночь. Если, конечно, Генек соизволит взять трубку.
Елене представлялось, что она рухнет в сон, едва коснётся головой подушки, но не тут-то было. Улегшись, она ещё долго ворочалась, так как не любила спать на новом месте. В голове продолжали мелькать разрозненные картинки, стремительно сменяющие друг друга. Елена увидела зеркальные глаза Геннадия, потом бутылочку с эссенцией, далее перед мысленным взором предстал Гореньков, что-то жарко шепчущий на ухо Ольге Александровне. Потом эту парочку сменило заплаканное личико Антошки.
При виде несчастного внука слезы подступили к глазам Елены. Не в силах с ними бороться, она всплакнула, но недолго, потому что вся тяжесть этих безумных дней накрыла её чернильной волной и понесла куда-то вниз, в преисподнюю, где вырубила, погрузив, наконец, в беспамятство. В пустоту без мыслей и сновидений.
В глубине души Елена надеялась на утреннее возвращение домой Светланы, но тщетно, сноха так и не появилась. Да и вообще всё пошло наперекосяк с самого утра. Сначала проснувшийся Антоша устроил истерику, требуя маму:
– Мама, мама-а-а… – ребёнок заходился в плаче, и успокоить его у Елены никак не получалось. Не помогали ни уговоры, ни лёгкие угрозы, ни лесть.
– Ну что ты, хороший мой, улыбнись, посмотри, какое замечательное утро! А мама наша ушла в магазин, за молочком. Антошка любит молочко? Любишь? – от безысходности Елена пустила в ход прямую ложь, и это сработало.
Мальчик кое-как успокоился, перестал плакать и утвердительно качнул головой.
– Ну вот, мама пошла за молочком, для Антошечки. А мы с Антошечкой пойдем в садик, потому что в садике всегда есть молочко, и повар на кухне для всех девочек и мальчиков, которые рано придут в группу, уже варит вкусную-вкусную кашу-малашу, – дальше Елена несла всякую чушь, всё, что могла придумать на ходу после полубессонной ночи, только чтобы отвлечь ребенка от мыслей о родителях и побыстрее собрать его в садик.
Тем паче, времени у неё оставалось так мало, что до садика им пришлось практически бежать. Елена переживала, как она сможет найти нужную группу, но на помощь ей пришёл сам Антошка, который, увидев родной детский сад, оживился и уверенно довел бабушку до нужной двери. Сдав ребенка, что называется, с рук на руки, Елена заспешила домой. Нужно было узнать, как дела у Геннадия, как он провел ночь без нее, что-то приготовить ему на завтрак и успеть на работу. Пришлось опять вызывать такси.
– Так и разориться не долго, – размышляла она про себя, садясь в машину, но другого выхода Елена не видела.
Глава 5
Следующие три дня очень напоминали день минувший. Светлана дома так и не объявилась. Не отвечала она и на телефонные звонки. Но когда Елена в разговоре с Марией Антоновной, которая звонила ей по четыре раза на дню, заикнулась, что пора бы уже в полицию обратиться, а то, мало ли что могло случиться, Светина мать лишь многозначительно хмыкнула в ответ. Из чего Елена сделала неутешительный вывод: Мария Антоновна в курсе, где находится её дочь, но посвящать в это Елену не считает нужным. Разумеется, можно было закатить матери Светланы скандал и умыть руки, но такое искушение у Елены пропадало сразу и начисто, как только она перехватывала грустный взгляд Антошки, который мальчик нет-нет, да и бросал в сторону входной двери. Для четырёхлетки в этом взоре было чересчур много боли, и сердце Елены захлёстывала сумасшедшая всепоглощающая жалость. Выхода не было, оставалось только ждать, когда Светлана нагуляется и вернётся к сыну.
Каждое утро Елена тащила зарёванного Антошку, который всё сильнее тосковал по маме, в садик. Потом на такси мчалась домой, кормить мужа. Геннадий встречал её красноречивым и мрачным молчанием, да ещё и всем видом старался выразить жене своё неудовольствие от сложившейся ситуации. Впрочем, Елена была ему благодарна хотя бы за то, что супруг не капризничал, не устраивал сцены и даже самостоятельно мыл посуду – дело, невиданное после появления у Геннадия «зеркальных глаз». Было заметно, что ему жалко измученную жену, и всё же Геннадий ни на йоту не изменил собственное мнение – во всех бедах виновата сама Елена. Ведь это она пошла на поводу у Марии Антоновны и взвалила на себя бремя ухода за внуком, который и бабушку-то в ней не признаёт. Вот, пускай теперь и расхлёбывает, раз такая дура.
Войдя в дом, в кухонные шкафы Елена старалась не заглядывать, но всякий раз проходя мимо, непроизвольно ёжилась от холодного липкого страха. И всё же молчание Геннадия как-то успокаивало Елену, ей отчего-то казалось, что, если Генек всё же решится выпить уксусную эссенцию, обязательно устроит из этого нечто вроде шоу, такая уж у него натура. Втихую же травится не будет. Поэтому молчание мужа являлось для неё залогом отложенности угрозы.
Ещё хуже обстояло дело на работе, где Николай-чёрт-Петрович исподволь, но весьма целеустремлённо делал так, чтобы руководство всё больше ответственных решений переводило на Ольгу Александровну. И заместитель главбуха радостно прибирала к рукам власть в бухгалтерии. Когда же Елена пробовала сопротивляться, Ольга Александровна спокойно и твёрдо выдавала ей фразочки, типа «ну, я ведь уже начала это делать, дайте мне довести дело до конца» или «вы же сами хотели заниматься текучкой, а эти отчёты к ней не относятся». Елена чувствовала, как вокруг неё образовался и отныне лишь ширился вакуум, но, измотанная переживаниями за Геннадия и Антошку, была не в состоянии придумать, как вернуть себе ускользающее влияние.
Всё чаще рядовые бухгалтеры для решения возникающих вопросов обращались не к ней, а к её заместителю. Хуже всего, что и директор, похоже, начал больше доверять Ольге Александровне. По крайней мере, она зачастила в его кабинет, в то время как Елену в эти дни туда не позвали ни разу. Даже если большая часть этих подозрений не соответствовала действительности, являлась лишь выдумками Елены, глубже и глубже погружающейся в стремительно разрастающуюся депрессию, ей от этого было не легче.
После работы издёрганная, мучимая всевозможными подозрениями, она мчалась к Геннадию, чтобы проверить его самочувствие. Елена выслушивала оглушающее неодобрительное молчание мужа, убеждалась, что с ним всё в порядке, затем неслась в садик за Антошкой. И получала порцию недовольства уже от внука, потому что мальчик ждал не её, а маму. В эту порцию щедрую ложку желчи добавляла и Мария Антоновна, которая каждый вечер распекала Елену за то, что та так поздно забирает внука из садика. А ночью, вертясь на неудобном диване в чужом доме, Елена долго не могла уснуть и ворочалась, всем существом ощущая отупляющую беспросветность своей нынешней жизни.
Но в жизни всё имеет конец, даже самая мрачная беспросветность. В один из вечеров Елена, возвращавшаяся из садика с Антошкой, не смогла открыть дверь в квартиру сына. Она едва ключ не сломала, пытаясь провернуть его в скважине, пока до нее медленно не дошло, что дверь закрыта изнутри, на щеколду. Елена уже собиралась нажать на кнопку звонка, как внезапно дверь стремительно распахнулась, на пороге стояла Светлана. Елена даже не сразу узнала мать Антошки – в домашнем халатике, вся такая свежая и ухоженная, Светлана в полумраке лестничной клетки казалось неожиданно юной и прекрасной как ангелочек.
– Антошечка, лапа моя! – увидев сына, как ни в чём не бывало пропела Светлана приторным голоском.
Потом присела на корточки и развела руки для объятья, словно это не она шаталась четыре дня неизвестно где, а Антошка от неё уезжал куда-то, но теперь вот вернулся, наконец.
– Мама! – каким-то осипшим, будто на выдохе, голосом прохрипел Антошка, вырвал лапку из Елениной ладони и бросился к своей непутевой мамаше.
Света подхватила Антошку, прижала к себе. Потом встала на ноги вместе с прилипшим к ней ребенком и исчезла в глубине квартиры, даже не сказав свекрови какие-либо приветственные слова. Помешкав на пороге, Елена зашла в коридор и остановилась в нерешительности, не зная, проходить ей в комнату или нет. Решив всё же поговорить со снохой, чтобы выяснить её планы на будущее, она прикрыла за собой дверь и осталась стоять на месте, лишь устало прислонилась боком к стене. Спустя какое-то время Света появилась в коридоре, все так же с Антошкой на руках, только ребенок был уже раздет. Изо рта его торчала палочка от Чупа-чупса, а в руке красовалась небольшая пожарная машинка.
Довольный Антошка покрутил перед носом Елены красной машинкой, хвастаясь подарком, потом достал изо рта леденец и тоже продемонстрировал его бабушке, чтобы через мгновение опять отправить конфету в рот. Много ли нужно четырёхлетнему ребёнку, чтобы полностью забыть о непонятном отсутствии матери и полностью простить её? Слёзки высыхают быстро, а подарки с лёгкостью компенсируют любые невзгоды. Да и вообще, дети любят маму не за конкретные поступки, они любят её просто так, просто потому, что она есть. И неважно, какая она и какие ошибки совершает в жизни. Дети любят маму всякую и всегда.
Но Елена, в отличие от наивного ребенка, прекрасно знала – подобная ситуация, если уж случилась хотя бы один раз, скорее всего, повторится снова. Причём, довольно скоро. И она, как человек взрослый и ответственный, не могла уйти просто так, не удостоверившись, что Антошка не будет снова брошен на произвол судьбы.
– Здравствуй, Света, – выдавила Елена из себя, неприязненно глядя на мамашу-кукушку.
– Здрасьте, Елена Ивановна, – равнодушно откликнулась Светлана.
– Ты надолго вернулась? Или завтра опять в путь?
– Ой, ну не начинайте, пожалуйста… – Света театрально закатила глаза, – подумаешь, посидели немного с внуком. Какие-проблемы-то?
– Правда, Антошечка? – обратилась Света к сыну и слегка пощекотала мальчишку по животу, отчего тот радостно завизжал и заизгибался, чуть не свалившись с рук матери.
– Как это, какие проблемы? – опешила Елена, – Ты ребенка бросила у подружки, на звонки по телефону не отвечаешь, муж твой вообще знает, где ты была?
Она всё же старалась до поры сдерживать эмоции. «В конце концов, Света и Владимир уже взрослые люди, сами могут разобраться. Негоже лезть в чужую жизнь, даже если эта жизнь моего сына. Но внук, маленький Антошка, он не должен стать заложником ситуации. Я не могу не беспокоиться о нем», – рассудила Елена про себя и потому не стала выступать с обвинениями, хоть ей и очень хотелось сказать Светлане что-нибудь обидное.
– Я со своим мужем как-нибудь сама разберусь, без вашей помощи, – отрезала Света, голос её моментально стал неприязненным и раздражённым, – посидели с Антошкой, и спасибо. Не мать бы моя со своей операцией, так ничего бы вообще не знали.
– Ладно, Бог тебе судья, не я. Живите, как хотите. – у Елены на глаза навернулись слезы при одном воспоминании о том дне, когда она забирала от Светиной подруги зареванного Антошку.
Она помешкала немного и печально добавила:
– Только я тебя попросить хочу об одном. Если тебе надо будет отлучиться куда-то, а Антошу оставить не с кем, позвони мне заранее. Не бросай его просто так. Я побуду с ним, и упрекать тебя не стану. Слышишь?
Легкая тень сочувствия скользнула по лицу Светланы, и она серьезно произнесла:
– Я постараюсь…
– Не надо стараться, просто сделай, как я прошу, – Елена пристально посмотрела в глаза невестки, пытаясь понять, насколько та искренне с ней.
– Хорошо, – Света без колебаний выдержала этот взгляд, – Антоша, помаши бабушке Лене, она торопится домой.
Антоша помахал Елене, та подошла к мальчику и поцеловала его в щеку, он на миг прижался к бабушке, но покидать мамины руки не захотел. Видимо все еще боялся, что та опять исчезнет и не возьмет его с собой.
Итак, с возвращением Светланы одной проблемой у Елены стало меньше. Она ехала домой в состоянии какого-то щемящего томления. Сначала всё ещё мысленно вела диалог со снохой, выговаривая ей то, что наболело у нее за эти сумасшедшие дни. Вываливала воображаемой Светлане все, что хотела, но не рискнула сказать ей в глаза. Но постепенно мысли о муже вытеснили сноху и внука куда-то на периферию сознания. Потому что дома Елене предстояло непростое объяснение с Геннадием. К счастью, с чего начать Елена знала.
Несмотря на то что внешне Геннадий не выказал к жене хоть какой-то интерес к её особе, когда та вошла в квартиру, нисколько не удивился столь раннему её появлению и даже не поздоровался, Елена быстро поняла, супруг рад её появлению дома. Поэтому, не дожидаясь ответной реакции, она с самого порога принялась рассказывать Геннадию обо всех событиях последних дней. О том, что Света наконец-таки вернулась домой, и что она, Елена, не стала докапываться до причин внезапного исчезновения снохи, а лишь попросила больше не оставлять Антошку одного. Потом плавно перешла на рассказ о Горенькове и предательстве своего зама.
Елена говорила и говорила, пытаясь вылить из себя скопившуюся и распирающую сознание информацию, которой она ни с кем не могла поделиться в эти дни, а также показать мужу, как тяжело далось ей всё это. И заодно объяснить Геннадию, что ей, Елене, вся эта ситуация нравилась не больше, чем ему. Но она ничто не могла поделать, так как маленького ребёнка просто не с кем было оставить.
Геннадий весь этот поток сознания выслушал спокойно, не перебивая. Со стороны даже могло показаться, что ему до лампочки все эти разглагольствования, и он пропускает их мимо ушей. Но Елена точно знала – её слушают, причём, с вниманием. Потому что за всё время её монолога Геннадий даже не притронулся к телевизионному пульту, верный знак интереса с его стороны.
А уже лежа в кровати, Елена прижалась к плечу мужа, вдохнула запах его кожи и тихо заплакала. Геннадий повернулся к жене, обнял ее, пристроил ее голову у себя на плече и начал успокаивать:
– Ну, ладно, хватит тебе, не реви. Знаешь ведь, что я не выношу женских слез. Ну, успокойся, все ведь уже прошло, кончилось. И Антоха при матери, и ты свободна. Скоро и я тебя освобожу.
Елена заревела навзрыд, всхлипывая и содрогаясь всем телом.
– Опять ты за свое, – сквозь рыдания осипшим голосом прохрипела она.
– Да вовсе нет, – поторопился успокоить ее муж, – Это так, вырвалось. А ты слово волшебное произнеси, все к завтрему и развиднеется.
– Какое еще волшебное слово? – Елена приподняла голову и заглянула мужу в глаза, – Опять издеваешься?
– Даже и не думал. Тебе надо такое слово собственное придумать. И наделить его волшебными свойствами, тогда оно будет помогать тебе в трудных ситуациях всю жизнь. Проверено. Давай, попробуй прямо сейчас. Ну? Разве ты не хочешь, чтобы неприятности исчезли?
Несмотря на необычность предложения и недоверие к вечно иронизирующему над ней Геннадию, Елена покорно зашевелила извилинами, но ничего кроме избитой фразы: «Господи, помилуй» ей на ум не пришло.
– У меня не получается придумать, – уныло просипела она зарёванным тоном. И вдруг спохватилась:
– А у тебя, что, есть это волшебное слово? Неужели и вправду помогает?
– Было, с детства, – отозвался Геннадий с какими-то даже торжественными интонациями, – я его называл «ключ-слово». Могу поделиться. Мне оно уже без надобности. Жизнь все равно к концу подходит.
– Опять ты за свое. А что за слово такое?
– Курмахама, – Геннадий произнес это слово тихо, но со значением, и как показалось Елене, уважительно и бережно, что ли.
– Как? – на всякий случай переспросила Елена.
– Курмахама.
– Курмахама, – повторила Елена тихонько, – Да я и не запомню даже!
– Если оно твое, то завтра вспомнишь. А теперь спи.
– А ты расскажешь мне, откуда оно взялось у тебя, это слово?
– Если завтра вспомнишь его, то, так и быть, расскажу, а теперь спать. Отчаливай на свою половину кровати и дрыхни себе спокойно. Спи, Ленточка, спи…
Глава 6
О том, что существует ключ-слово, которое, будучи произнесено в нужный момент, может практически всё, Генка знал с пяти лет. Как-то летом его друг Борька Морковин по прозвищу Бруква затащил Генку в промежуток между сараями в детском саду, который находился неподалеку от их двора и был для местной детворы чем-то средним между игровой площадкой, ареной для ристалищ и испытательным полигоном. Аккуратно переступив через вечную кучку в проходе, друзья очутились в тесном пространстве, надежно укрытым от посторонних взоров. Именно здесь давались самые страшные клятвы и раскрывались вселенские секреты, поэтому по спине Генки непроизвольно пробежал холодок.
Холодок этот усилился до дрожи, когда Бруква уставился на него немигающим серьёзным взглядом, настолько многозначительным, что Генке действительно стало страшно.
– Чё, – одними губами просипел он, непроизвольно сглатывая слюну.
– А ты никому не скажешь? – зловеще прошипел Бруква, не отводя свои светлые глаза от Генкиных, словно пытаясь просветить ими все внутренности тела своего друга.
– Никому, чтоб мне с места не сойти, – побожился Генка, замирая от предвкушения Великой тайны. Он уже точно знал – сейчас Бруква расскажет такое!..
– Слушай, – торжественно прошептал Бруква, засунув губы трубочкой в Генкино ухо. Это было щекотно и немного мокро, поэтому Генка деликатно отстранился, виновато потёр ушную раковину и затем осторожно приблизил свой слуховой орган обратно к Бруквиному лицу, всё же стараясь держаться на безопасном расстоянии.
Бруква сердито посмотрел на Генку, сделал паузу, дабы продемонстрировать неуместность столь несерьёзного отношения к Великой тайне, потом скривил рожицу, показывая, мол, «а-а-а, ладно, что возьмешь с убогого» и продолжил, ещё более понизив голос и оттого заметно подвывая:
– У каждого человека есть ключ-слово!
– Какое слово есть? – не понял Генка, который ждал от друга совсем другие откровения. Типа, чем занимаются взрослые, когда вдруг неизвестно от чего хохочут в темноте и мешают спать.
– Ключ-слово! – выдохнул Бруква со значением. Ему казалось, всё предельно ясно, и никакие комментарии тут не нужны. Но, посмотрев на кислое Генкино лицо, с явным отпечатком разочарования на нём, спохватился и пустился в объяснения.
– Бандаж ты, Генка, – начал Бруква, чтобы настроить собеседника на верный лад. Неизвестно почему слово «бандаж» в среде дворовой мелюзги считалось очень обидным, почти матерным. За него можно было запросто схлопотать по шее, поэтому им старались не разбрасываться. Сказанное в нужное время, слово «бандаж» должно было означать – речь далее пойдёт о вещах серьёзных. Генка оценил сказанное и приготовился слушать.
Довольный произведённым эффектом, Бруква прислонился спиной к прохладной шершавой стене сарая, который был поменьше и, более не понижая голос, заговорил с жаром, давясь и захлёбываясь словами, чтобы скорее вытолкнуть наружу то, что жгло его изнутри.
– Мне бабка моя об этом рассказала. Когда я спать ложиться не хотел. Сначала всё уговаривала меня, а потом ка-а-ак замолчит. На краешек кровати присела и зырит на меня, а у самой улыбочка такая. Мне аж не по себе стало! Сразу под одеяло забился, лежу и жду, что сейчас будет. А она мне так тихонечко вдруг и говорит, ты, мол, Боречка, сейчас больше капризничать не будешь и всё сделаешь, как я скажу! Я ей: «Это ещё почему?» А она в ответ: «А я только что ключ-слово сказала, так что, милок, теперь ты мой. Теперь не забалуешь!» Я её спрашиваю, нарочно так насмешливо: «какое-такое ещё слово?», а сам уже чувствую – боюсь её, хотя до этого никогда не боялся. А она мне: «ключ-слово, вот какое!» И поднимается уже, чтобы из комнаты выйти. Только я уйти ей не дал, давай допытывать, что это ещё за ключ-слово.
Тут Бруква на миг остановился, чтобы оценить впечатление, произведённое его рассказом на Генку. Судя по всему, осмотром он остался доволен, потому что придвинулся ближе к другу, едва не порвав майку о бугристую стену, и забубнил скороговоркой дальше, всё более распаляясь от собственного рассказа:
– Понимаешь, Генка, оказывается у каждого человека есть ключ-слово. Ну, волшебное слово, которое всё-всё может. Если скажешь его, у тебя всё всегда получится, поэтому и называется оно «ключ-слово»!
– Всё-всё не может всегда получаться! – авторитетно заявил Генка, – Даже в сказках так не бывает!
– А вот и получается! – победно взвизгнул Бруква, шлёпнув Генку по плечу от возбуждения.
– Правда, есть один секрет – прибавил он, хитро поглядывая на собеседника. Всем своим видом Бруква давал понять, расскажет этот секрет своему друг он всенепременно, но только после того, как тот поуламывает его минут пять-десять.
Генка ждать себя не заставил. Несмотря на ощущаемый им скептицизм, какая-то частичка внутри него отчаянно хотела верить в существование волшебного «ключ-слова», которое «всё-всё может». Тем более что это была Великая тайна, а какой пятилетка откажется от знания Великой тайны, даже если это лишь выдумка?!
– Ну? – спросил Генка Брукву.
– Чё? – притворился, что не понял вопрос Бруква.
– Какой секрет?
– Самый страшный секрет! – продолжил набивать себе цену Бруква.
– Сейчас дам по затылку, – попробовал испытанное средство Генка.
– Отскочит! – не прекратил выделываться Бруква.
Генка вздохнул и картинно замахнулся, давая возможность своему другу избежать оплеухи, тот воспользовался шансом и отскочил в зону недосягаемости.
– Говори давай, – сердито сказал Генка, интерес которого угасал на глазах.
Бруква ещё раз вздохнул и, поняв, что через миг его друг просто уйдёт, а он останется ни с чем, снова заговорил, постепенно входя в раж:
– У каждого это ключ-слово своё, и никто-никто о нём не должен знать! Иначе оно не заработает, вот!
– Ну и чё? – не понял Генка, – откуда оно тогда берётся, это ключ-слово, если никто его не знает?
– От бестолочь! – как-то по-взрослому произнёс Бруква. Было видно, теперь он абсолютно серьёзен и искренне грустит от непроходимой тупости Генки.
– Смотри, – принялся разжёвывать он со снисходительным видом, – ты должен его НАЙТИ!
– Как я тебе найду СЛОВО? – разъярился Генка, которому совершенно не нравился тон Бруквы. Он чувствовал внутреннее превосходство своего друга и уже жалел, что не отвесил ему леща взаправду.
– В этом-то всё и дело! – ликующе воскликнул Бруква, – трудно его найти, поэтому ни у кого ВСЁ-ВСЁ и не получается.
– Чепуха! – презрительно процедил Генка. Но не потому, что не верил Брукве, а просто решил сменить тактику и зайти с другой стороны.
– Врёшь ты всё, – присовокупил он для убедительности, хотя при этом был само внимание.
– Вру, да? – легко попался на эту незамысловатую удочку Бруква. Тут он внезапно замолчал, а потом что-то пробормотал себе под нос, опустив глаза к земле.
Когда он вновь поднял взор на Генку, вид у него был довольный и торжественный.
– И чё? – презрительно выговорил Генка.
– А ни чё, иди-иди домой, – вкрадчиво предложил Бруква всё с тем же странным выражением лица.
– Так ты скажешь мне слово?
– Так я же вру!
– Конечно, врёшь!
– Тогда иди домой!
– Когда захочу, тогда и пойду!
– Ну и иди!
– А чё ты мне приказываешь?
– Я не приказываю, просто говорю: иди!
– А вот возьму и не пойду!
Так друзья пререкались ещё пару минут, пока разозлённый Генка наконец не стукнул-таки по затылку Брукву, после чего тот расплакался и ушёл домой. Генка послонялся по двору ещё с полчаса, но настроения у него уже не было, и он тоже потащился к себе в квартиру.
Когда Генка открывал дверь в подъезд, что-то остренькое больно впилось ему в бедро, он ойкнул, инстинктивно дёрнул ногой и сердце его тотчас ушло в пятки – раздался зловещий треск, левая штанина свежекупленных зелёных шорт его, зацепившаяся за непонятно откуда взявшуюся и почему-то торчавшую из двери железяку, порвалась прямым углом. Вырванный кусок некрасиво висел спереди, обнажая сочившуюся каплями крови бледную кожу.
Это был конец всему – взбешенная мать запретила сыну гулять во дворе целую неделю, плюс рану на бедре каждый день прижигали зелёнкой, которая больно жгла кожу, доводя всякий раз Генку до слёз. Тут не захочешь, так поверишь в ключ-слово!
Наконец, домашнее заточение закончилось, и Генку выпустили на улицу. Разумеется, первым делом он принялся разыскивать Брукву. Если в первые дни сидения дома единственным желанием Генки было проучить проклятого Брукву, который, конечно же, подло наколдовал все свалившиеся на его голову, а точнее – ногу неприятности, то теперь он жаждал совсем другое. С каждым днём Генкина уверенность в существовании волшебного ключ-слова росла, и он хотел обладать таким словом. Даже не хотел, а страстно желал, буквально жаждал.
При виде Генки бедный Бруква сначала заметался по двору, страшась возмездия, но потом вдруг покорно присел на край песочницы и стал угрюмо созерцать сандалии, видимо, уверовав в неотвратимость наказания. Пришлось всё-таки съездить ему по затылку, но не сильно, а для порядка. Бруква стоически перенёс подзатыльник, лишь нахохлился ёжиком.
– Ты наколодовал? – поинтересовался Генка у Бруквы.
– Ни чё я не колдовал, надо мне больно! – не глядя на Генку, мрачно пробубнил несчастный Бруква.
– Но как ты это делаешь? – Генка больше не пытался играть в обиженного, а начал искательно заглядывать в глаза своего друга, но тот упорно отводил взгляд, – ну, скажи. Ну, пожалуйста! Борик! Мы же друзья, скажи мне, ну, пожалуйста!
Подлизываться Генка умел. Когда ему было надо, он называл Брукву Бориком. Правда, это бывало только когда друзья оставались вдвоём. Во дворе все звали Морковина Бруквой, и Генка не был исключением. Откуда пошло это прозвище, и почему оно было не брюква, а именно бруква, никто уже не помнил. Скорее всего, когда-то маленький Морковин что-то такое сказал некстати. И, рифмуясь с его довольно редкой фамилией, прозвище за ним закрепилось. Кстати, друзей кроме Генки у Бркувы тоже не было – все вокруг, включая старших ребят и родителей дворовой детворы, считали его странным.
Генка тоже старался не демонстрировать свою дружбу с Бруквой – вместе с другими ребятами со двора дразнил и даже откровенно высмеивал его. Но при этом, когда во дворе никого не было, всегда играл с ним и даже ходил к Брукве в гости. Бруква, у которого больше никого близкого не было, очень ценил эти непростые взаимоотношения. Вот и сейчас он поломался для порядка, а потом оттаял и стал поддерживать разговор.
– Когда тебе надо, просто скажи ключ-слово – тихонько, чтобы никто не услышал, но обязательно вслух – и всё! – выпалил он, уступая Генке, который выведывал и выведывал про волшебное слово.
– Да откуда оно берётся, ключ-слово? – допытывался Генка, глаза его горели жадным блеском.
– Не знаю, – неожиданно Бруква смешался, начал мяться, он явно не знал, что сказать.
– А ты его откуда взял? – не отступал Генка, – бабка твоя сказала? Говори, давай!
– Не бабушка, нет, – прошептал Бруква и снова смолк.
– Тогда как?
– Понимаешь, я его придумал. Но не придумал, – забормотал Бруква, опустив глаза. Уши его горели как кремлёвские звёзды. Он вообще краснел на редкость цветисто.
Генка не на шутку разъярился, ему представилось, что Бруква намеренно дурачит его, поэтому он больно пнул его под зад и проорал:
– Хватит мне тут! Говори!
Бруква ещё больше съёжился на краю песочницы, с глаз его закапали обильные слёзы, последним усилием воли он сдерживал подступивший рёв. Генкин гнев мгновенно высох. Ему стало очень жаль бедного маленького Брукву:
– Прости меня, – раскаянно проговорил он и искренно предложил, – хочешь, пни мне тоже. Давай!
Он даже наклонился, чтобы Брукве было удобнее пнуть его попу, но Бруква даже не шевельнулся.
– Ну, мир? – Генка протянул Брукве замирительный мизинец. Так мирились у них во дворе – сцеплялись мизинцами, некоторое время раскачивали руки, а потом разрывали соединение, закрепляя вновь созданный союз.
Бруква глянул мокрым глазом, шмыгнул носом, отвернул голову, но всё же протянул Генке влажный мизинец. Генка с жаром потряс его своим мизинцем, расцепил захват и бухнулся рядом с Бруквой:
– А как надо придумывать, не придумывая? – после тщательно выверенной паузы поинтересовался он.
– Ну-у-у, у меня в голове вдруг появилось слово, и я понял – это и есть ключ-слово, – туманно пояснил Бруква.
– Когда появилось? – Генка даже чуть привстал от интереса.
– Когда бабушка в тот раз от меня ушла, – промямлил Бруква, которому, похоже, было очень стыдно, – я… Понимаешь… Я проснулся среди ночи… В общем, в туалет захотел, стал вставать с кровати, а она мокрая.
Голос Бруквы скатился до почти неразборчивого шёпота, лицо налилось краснотой:
– Ты только не говори никому, ладно? – попросил он, мазнув лицо Генки смущённым взглядом.
– Никому не скажу! – поклялся Генка, сразу же забыв не только об этой клятве, но и вообще обо всё на свете. Он предчувствовал – сейчас произойдёт что-то очень важное.
– Я тогда испугался очень, – признался несчастный Брюква, – я же не писаюсь в кровать. Ни разу до этого. Ну, когда большой стал. А тут…
Он вновь затих. Генка усилием воли подавил жгучее желание сказать что-то типа:
– Ну, давай-давай, дальше что!
Он начал мелко трясти правой ногой, чтобы унять нетерпение. Бруква бросил взгляд на его ногу, легонько так вздохнул и произнёс:
– Тогда я загадал. Или попросил, не знаю. В общем, сказал про себя: «пусть кровать завтра утром будет сухой и чистой!» И когда сказал это, понял, что чего-то не хватает. Вот этого ключ-слова. И стал его придумывать. Только оно никак не придумывалось. И, кажется, я заплакал. Мне стало так горько, что я забыл и про мокрую постель, и про ключ-слово. Вообще всё забыл, просто было горько, обидно и уныло. Тут я ключ-слово и услышал.
– Как это, услышал? – не понял Генка.
– Не знаю, как. Будто кто-то его произнёс, хотя было тихо. Я даже не понял, что это и есть ключ-слово, просто проговорил его машинально. А потом на мгновение светло стало. Или это мне тоже показалось, но я уже знал – это оно. Только я тебе его не скажу. Нельзя!
– Почему? – выкрикнул возбуждённый Генка и сам испугался своего крика.
Друзья осторожно осмотрелись по сторонам – к счастью, всё было спокойно. Они придвинулись друг к другу ближе.
– Ну и? – выпалил Генка.
– Лёг я в мокрую постель, зажмурился и сказал ещё раз тихо-тихо «пусть кровать завтра утром будет сухой и чистой!» а потом добавил своё ключ-слово, – Бруква замолчал.
– И чё?
– Чё-чё, – уже привычным, будничным голосом сказал Бруква, – утром проснулся, а постель как новенькая!
– Врёшь! Или тебе приснилось, – не поверил Генка.
– Не веришь, не надо, – Бруква явно не хотел продолжать разговор.
Он поднялся с песочницы и неторопливо побрёл в сторону дома. Генка проводил его взглядом, догонять друга ему не хотелось.
В эту ночь Генка твёрдо решил попробовать получить своё ключ-слово. Забравшись в постель, он зажмурился, стал придумывать разные волшебные словечки, но случайно провалился в сон и проснулся лишь утром. На следующий день история повторилась. На третью ночь Генка щипал себя под одеялом, чтобы не заснуть и вертел на языке разные «волшебные» слова. Но ни одно из них не вызывало какой-то свет и вообще звучало как обычное. Раздосадованный, он уснул.
Днём он подкараулил Брукву во дворе, затащил его в тот самый проём между сараев и начал снова допытывать, как получить ключ-слово.
– Ну, какое он должно быть, это слово? – в отчаянии вопрошал он Брукву.
– Необыкновенное, вот какое! – отвечал ему Бруква, но в дальнейшие детали не углублялся, несмотря ни на уговоры, ни на «бандажи», ни на подзатыльники.
Зато он с удовольствием рассказывал, как помогает ему его ключ-слово. Как с помощью него он добился от родителей подарка в виде самой чёткой (так в те времена звучал эпитет «крутой») во всём дворе игрушечной машинки. Или как задружился с самым известным дворовым хулиганом, который с тех пор совсем перестал его обижать. Это было чистой правдой – задира и драчун со смешным прозвищем Бантик действительно с некоторых пор не только не докучал Брукве, но даже иногда защищал его, отгоняя прочих обидчиков. Правда, всякий раз это выглядело так, словно Бантик просто решил отыграться не на Брукве, а на ком-то еще, выбрать себе добычу повесомей безобидного Бруквы. Но факт оставался фактом, именно от Бантика друг Генки более не страдал.
Поняв, что больше он от Бруквы ничего не добьётся, но ключ-слово при этом реально существует и работает, Генка продолжил свои попытки получить своё слово, правда, до поры безуспешно.
Однажды к ним в квартиру пришли гости. Было довольно шумное застолье. Родители отправили Генку в свою комнату спать, но звуки голосов из соседнего помещения легко проникали в окружающее его пространство. Генка не очень вслушивался в этот гомон, потому что не любил подвыпивших, и вообще считал взрослых скучными и надоедливыми. Считал небезосновательно – выпив, многие тёти и дяди начинали тискать его, иногда женщины тянулись мокрыми губами, пахнувшими чем-то резким и душным, к его щеке и слюняво лобызали, отчего Генку всякий раз ощутимо передёргивало. Эту дрожь пьяные тёти принимали за боязнь щекотки и, глупо хихикая, принимались совать острые пальцы ему под рёбра, усиливая Генкины мучения. А ещё они разговаривали с ним как с полоумным придурком, задавая дурацкие вопросы, типа, «кого ты больше любишь, маму или папу?» и глупо сюсюкая с ним, называли «Геня», чего Генка терпеть не мог.
Обычно он быстро засыпал в такие вечера, но в этот раз всё пошло наперекосяк. Виной тому был один из гостей с резким, пронзительным точно циркулярная пила голосом и странной манерой к месту и не к месту добавлять фразу «мах на мах». Пронзительный гость весь вечер солировал в общем гаме, поэтому «мах на махи» сыпались один за другим.
– Я, мах на мах, не понимаю вот, – вещал гость, с лёгкостью перекрывая все остальные речи словно солирующий тромбон нежные трели скрипок, – что, мах на мах, сейчас происходит. Куда, мах на мах, мы идём!
Генка старался не вслушиваться, но это «мах на мах» бухало у него в ушах кузнечным молотом.
– А я вам говорю – дурь, мах на мах! Точно, дурь, мах на мах! – возопил Пронзительный в какой-то момент. Очевидно, это не понравилось не только Генке, который вжался в подушку, чтобы заглушить этот вой. Потому что один из гостей с сарказмом переспросил:
– Ты говоришь, «дурь, мах на мах»?
Видимо он, наивный, надеялся, что Пронзительный устыдится своего косноязычия, тем более что и остальные явно не были от в восторге его манеры говорить. Но Пронзительного было не просто взять голыми руками. Ничтоже сумняшеся, он загрохотал в ответ:
– Да, именно дурь, мах на мах. Дурь мах на мах!
Окружающие захохотали в голос, но дальше Генка уже не слушал. Утром он проснулся и первым делом поинтересовался у отца:
– Пап, а что такое курмахама?
– Какая-такая курмахама? – не понял отец.
– Ну, вчера за столом дядя всё время повторял: «курмахама», «курмахама» – неохотно пояснил Генка, чувствуя, что сказал глупость.
– Да это твой Трофимов, который «мах на мах», – догадалась Генкина мать, подмигивая отцу, Домакину-старшему.
– Как ты сказал, «кур мать на мах»? – развеселился отец, – обязательно Трофимычу скажу, как его дети называют!
– Не надо, пап, – смутился Генка, – ну, пожалуйста!
Но отец уже бушевал от хохота, повторяя:
– «Кур мать на мах», это же надо придумать!
– Не «кур мать на мах», а «курмахама» Гена наш сказал, – вмешалась Генкина мать, с укоризной поглядывая на отца.
– Беги, сынок, не бойся, папа никому ничего не скажет, – добавила она, выпроваживая Генку из кухни.
К счастью, история с непонятным словом забылась быстро.
Наступила зима. Генка давно забыл и про ключ-слово, и про злосчастную курмахаму. Пока не пришла беда. В тот вечер Генкин папа купил бидон пива в соседнем ларьке. Это было большой удачей, потому что большую часть времени ларек или был закрыт, или торговал папиросами и прочей табачной продукцией. Пиво в нём появлялось редко, и если это таки случалось, его мгновенно разбирали мужики из соседних домов, выстраивающиеся в очередь с трёхлитровыми эмалированными бидонами, а те, у кого бидона не было, стояли с полиэтиленовыми пакетами. Пива завозили мало, и заканчивалось оно уже через час после начала торговли. В этот раз Генкин отец успел.
Бидон, со стекающими по бортам пенными потёками, был торжественно водружён на кухонный стол, папа налил кружечку и замахнул её залпом. Генка вертелся рядом, чувствуя, что настроение у всех праздничное. И тогда отец, глядя на его сияющее лицо, налил ему в стакан немного пива. Дескать, пусть привыкает малец к настоящей мужской жизни.
Пиво оказало на Генкин организм поистине магическое действие. С отвращением допив несусветную горечь, только чтобы не обидеть родителя, Генка поднялся со стула. Точнее, попробовал подняться, но это ему не удалось, Сделав единственный шаг, Генку тотчас повело боком, он зашатался, едва не упал и был быстро уложен в постель, где буквально рухнул в сон без сновидений. Проснулся наш герой среди ночи и сразу понял – что-то не так. А когда пришло осознание, жуткий ужас сковал его члены: постель была отчаянно мокрой.
И бедный Генка горько зарыдал от обиды и стыда. Ну, как он покажет эту описанную постель завтра утром?! Лучше умереть. Вне себя от отчаяния мальчик пробормотал: «пусть постель завтра утром будет сухой и чистой!» А потом вдруг добавил «курмахама».
Проснувшись утром, Генка обнаружил, что простыня и пододеяльник высохли, но зловещие жёлтые пятна на них никуда не делись. Он начал почти неслышно хныкать себе под нос, когда услышал, как мать позвала из ванной комнаты:
– Генка, вылезай из постели. Сейчас бельё стирать будем.
Это было то самое долгожданное спасение. Генка закричал в ответ:
– Я сам, я сам. Давно хотел сам кровать застелить!
– Ну, давай, помощник, – легко согласилась из ванной мать, – если не справишься, позови, приду на помощь.
И Генка с сопением стащил жёлтое бельё с кровати. Это было нелегко, но он старался изо всех сил. Потом он скомкал простыню так, чтобы пятна не было видно, и кое-как запихнул её в стиральную машину, пока мать стояла к нему спиной. Затем, так же поступил и с пододеяльником. Немного отдышался и, вернувшись в комнату, со страхом глянул на матрац – тот был сухой и без пятен. Мать так и не узнала о его конфузе. Так слово «курмахама» стало ключ-словом Генки Домакина.
Глава 7
В Серпске было много заводов. Очень много заводов. Один из них периодически насылал на жилые дома тошнотворный запах сероводорода разной степени концентрации, но от этого не менее дурной и затхлый. Впрочем, местные, многие из которых работали как раз на этом заводе, давно уже не замечали это амбре и даже удивлялись, когда кто-то из посторонних, случайно оказавшийся здесь по какой-либо надобности во время очередного выброса, начинал страдальчески морщиться и озираться по сторонам, безуспешно силясь найти источник жуткой вони.
Другой завод столь же регулярно тренировал барабанные перепонки внезапно возникающим из ниоткуда рёвом моторов, тужащихся на испытательных стендах. Рёвом мощным и надсадным, подобно скрежету-визгу бормашины в больном зубе. К счастью, грохот этот никогда слишком продолжительным не был, зато почти всегда заставлял звенеть на кухнях стеклянную посуду и дребезжал стёклами окон.
Третий завод «озонировал» какой-то неорганической химией и вечно полоскал на небосводе зловещий хвост ядовито-рыжего дыма. К счастью, завод этот стоял на отшибе, и последствия его жизнедеятельности были не столь заметны для серпчан, хотя, что такое «лисий хвост» и где его искать, все знали с младых ногтей.
Были в Серпске и другие промышленные гиганты, которые тоже «радовали» окрестных жителей светозвуковыми эффектами, а также соответствующими запахами, но все они были расположены дальше от Генкиного дома. Но и без них гудело и воняло окрест столь часто, что среди дворовой ребятни сложились и крепли целые легенды о жутких взрывах, разрушительных пожарах, самопроизвольно взлетающих прямо со стендов моторах и прочей зловещей фантастической ерунде, которую так ценят мальчишки в возрасте от пяти до четырнадцати лет. Обо всём этом рассказывалось взахлёб, искусственно пониженным голосом, глаза рассказчика при этом пылали ярче самого пожара.
Жизнь в Генкином микрорайоне была тусклой. Хотя сам микрорайон по тем временам считался едва ли не самым современным во всём Серпске – ещё бы, ни одного древнего деревянного дома, коих в избытке даже в центре города, ни одного здания с коммуналками, все дома построены в пределах десятилетки. И среди этих домов – небывалое дело! – есть даже несколько девятиэтажек с настоящими лифтами. Тем не менее, развлечений для детворы – почти никаких. Вывалят раз в лето в один из дворов кучу песка, причём, почему-то всегда мимо песочницы, и всё, выкручивайтесь, пацанята, как можете. И пацанята выкручивались – обследовали и обжили все подвалы и чердаки, облазали все пожарные лестницы. Зимой в сугробах рыли «штабы», где непонятно зачем сидели до посинения. Летом столь же регулярно устраивали в ветвях деревьев площадки и торчали там дни напролёт. Разумеется, когда не были заняты исследованиями и освоениями подвалов, чердаков, крыш и гаражей, к неудовольствию их владельцев. В общем, жизнь детворы проходила на улице.
В шестом классе Генка впервые влюбился. Объектом его нежных чувств стала одноклассница, созревшая раньше остальных девочек класса. Конечно, о том, что причиной его влюблённости стало именно раннее созревание, Генка так никогда и не догадался. Альбина, как звали Генкину любовь, выделялась на фоне остальных девчонок словно первый распустившийся цветок в царстве бутонов. По школьным узким коридорам она не неслась со всех ног, громко топая, как остальные шестиклассницы и прочая мелочь, а шествовала плавными движениями, покачивая оформившимися бёдрами. Если у остальных девчонок икры и бёдра были одной толщины, соединённые как шарнирами бомбошистыми коленками, то Альбина уже имела ножки-рюмочки: где надо потолще, где надо – потоньше. И пусть она часто забывалась и вела себя бесполо, в ней всё отчётливее угадывалась какая-то тайна. И именно эта тайна влекла к ней Генку будто лампочка ночного мотылька.
Каждый урок, вместо того чтобы сосредоточиться на занятиях, Генка украдкой разглядывал Альбину, слушал звучание её голосочка и вдыхал её запах. Девочка сидела через ряд чуть наискосок от него, поэтому при желании он легко мог увидеть часть её профиля и выразительную, немного сутулую спину. Спина эта тоже поражала его воображение – она была настоящей женской. Точнее, спиной молодой созревшей девушки, со всеми её правильными взрослыми пропорциями, всеми нужными впадинками и выпуклостями. Как не похожа была Альбинина спина на спину её соседки Ленки Сухоруковой! У Ленки спина – как спинка стула, который на одной ножке и колёсиках – вертлявая и плоская. Какую бы позу ни приняла Ленка, ничего кроме скуки или желания треснуть по ней учебником, эта спина не вызывала. То ли дело спина Альбины! На неё Генка мог пялиться часами.
Вот Альбина чуть скривила позвоночник вправо, левое плечико грациозно пошло вниз, правая рука взлетела вверх, девушка очень хотела ответить на вопрос учителя, пальчики её трепетали в воздухе точно крыло бабочки. Вот Альбина полуобернулась назад, к Витьке Сухорукову, брату-двойняшке Ленки. Ах, какой это был поворот! В полученном ракурсе скромные пока что бугорки Альбининой груди смотрелись упругими и налитыми как настоящие, Генка даже глаза прикрыл, чтобы лучше запечатлеть в памяти сей сладкий миг.
Как и все дворовые мальчишки, он уже давно, где-то с первого класса знал, чем занимаются мужчина и женщина, когда остаются ночью наедине. Правда, знание это было сугубо теоретическим. Кроме скабрезных, но абсолютно абстрактных и потому кажущихся надуманными историй, передающихся от мальчугана к мальчугану, про секс дворовые пацаны реально ничто не знали. Но, разумеется, каждый давал понять, уж он-то в сексуальных вопросах дока.
Как только любовь поселилась в Генкином сердце, из сердца она тотчас перекочевала и в другие части его тела. Ночью он представлял, как Альбина приходит к нему ночью в комнату, они целуются, как же без этого! Но на этом Генкино воображение, сверкнув напоследок сигнальной ракетой, перегорало от переизбытка возбуждения, и он просто внутренне улыбался, чувствуя себя совершенно счастливым, хотя и понятия не имел, от чего именно он так счастлив.
На деле же всё было совсем иначе – Генка теперь вообще не мог встречаться взглядом со своей любовью. Если это всё же происходило – ненароком, случайно – он сразу же наливался по самую маковку густым вишнёвым цветом, отступал в сторону и мгновенно отводил глаза. Впрочем, казалось, Генкина любовь, как и остальные его одноклассники, пока не подозревала, как глубоко и серьёзно он втюрился, а если и подозревала, то никак это не проявляла. Генку такая ситуация полностью устраивала – стать мишенью насмешек в собственном классе, а только такую реакцию и могли вызвать его чувства – в Генкины планы не входило. Он изо всех сил пытался контролировать поведение в классе, вести себя естественно, но стило Альбине всего лишь повернуть лицо в его сторону, как всё начиналось по новой.
А ещё Генка начал рисовать на задней обложке тетради спину Альбины. Рисовать он толком не умел, но упрямо наносил линии, которые складывались во вполне похожий на оригинал набросок. А когда рисунок приобрёл законченный вид, часто украдкой разглядывал его, хотя живая Альбинина спина почти всегда была в пределах прямой видимости. Но, перенесённая на бумагу, спина эта волновала Генку гораздо сильнее. На рисунке она была ближе и как-то роднее. Хотелось изучать её пристально, буквально под микроскопом, с замиранием сердечка, выискивая самые мельчайшие детали. Особенно те, которые отсутствовали у самого оригинала. Кроме того, рисунок Альбининой спины ещё больше укреплял ту самую Великую тайну, которая окутывала всю эту первую любовь и делала её особенно сладкой и томительной, до мурашек на затылке. Ведь всякий раз открывать его нужно было осторожно, скрытно от посторонних глаз! Так Генка в первый раз ощутил великую силу искусства.
Глазастый Бруква первым заметил метаморфозы, происходящие с Генкой, но высмеивать друга не стал, а наоборот активно сочувствовал. Видя, как мается Генка, Бруква и предложил ему «снизить любовный градус» и для начала выяснить, а как сама Альбина относится к нему.
– Как же я это выясню? – буркнул недовольный Генка, услышав Бруквино предложение.
– Тут нужен тонкий подход, – вдохновенно зашептал начитанный Бруква. К шестому классу он полностью превратился в книжного мальчика и все знания о жизни получал из многочисленных книг, которые читал всегда и везде. Даже ночью, под одеялом при свете маленького фонарика, чтобы мать не ругалась, что он засиживается за чтением допоздна, – тебе нужно сделать так, чтобы вас посадили за одну парту. Это самое главное.
При мысли о том, что он будет сидеть рядом с Альбиной, Генкино сердце рухнуло в пятки, но не задержалось там, а продолжило движение куда-то к центру Земли. Ладони у него стали влажными, а в горле напротив пересохло.
– Ерунда! – вызванное страхом раздражение бурлило в Генкином голосе, – кто же меня пересадит посреди четверти?! Думай, что предлагаешь, бандаж рваный!
– Есть способ, – как ни в чём не бывало, продолжил Бруква, пропустив ругательство мимо ушей, – тебе нужно поссориться с Машкой-Букашкой. Тогда она сама за тебя всё сделает, сама классную уговорит тебя пересадить.
Машкой-Букашкой звали Машу Буканскую, соседку Генки по парте – бесцветную тихую девочку. На Генкино счастье, Машка-Букашка и Ленка Сухорукова были подругами, и Ленка давно и публично ныла, что хочет сидеть только с Машкой. Но классная до поры старалась не сажать их вместе, потому что хорошо знала – посадишь подружек рядом, и они будут болтать все уроки напролёт. Но в последнее время Ленка постоянно ссорилась со своим братом, который сидел сразу за ней, да так ссорилась, что порой летели пух и перья. Чем замучила не только учителей, но и своих соседей по партам. Поэтому физичка – их классный руководитель – уже не раз вздыхала, мол, пора бы тебя, Леночка, посадить подальше от братца.
Поломавшись для порядка, Генка сдался и как бы нехотя поинтересовался у Бруквы:
– И как же я с Букашкой поссорюсь?
– Да хоть как, – начал было Бруква, но быстро остановился, заметив, как суровеет лицо пылкого влюблённого. Природное чутьё ему как всегда не изменило – Бруква на уровне безусловного инстинкта чувствовал, когда следует менять тактику. Действительно, «правильно», то есть без пагубных последствий, поссориться с тихоней Букашкой можно было, только придумав нечто нетривиальное.
Бруква задумался, поднял взгляд вверх, потом скосил зрачки в сторону окна, Генка уныло топтался рядом, ощущая себя полнейшим болваном. Ссориться на глазах у любови всей своей жизни – это безусловный и решительный крах. Нет, об этом не может идти речь, это немыслимо! Об этом Генка прямо заявил хитроумному Брукве. Тот спорить с влюблённым не стал, продолжил раздумья. Генке очень хотелось уйти, но после ключ-слова его вера в Бруквины возможности многократно возросла.
– Тогда надо поссорить Альбинку с СухоЛенкой! – после десятиминутного размышления нашёл блестящий выход Бруква.
– Ещё не легче, – уныло пробурчал Генка, – и как ты себе это представляешь?
– Уже придумал, – похвастался довольный Бруква, – надо написать Альбинке записку, что СухоЛенка свои козявки ест! Вот ты бы захотел сидеть с тем, кто ест свои козявки? Да ещё совсем рядом с тобой?
– А она правда их ест? Козявки? – не поверил Генка, внутренне содрогнувшись от отвращения, Ленку Сухорукову он никогда не любил, но всё же ТАКОЕ!
– Ест, – авторитетно заявил Бруква, – сидит, ковыряет в носу, а потом, рррраз, и в рот! Пока никто не видит.
То, что брат и сестра Сухоруковы постоянно ковыряют в носу знали все. Им не раз делали замечания, но всё было напрасно. И всё же есть свои козявки – это даже для Сухоруковых было чересчур.
– Если никто не видит, ты-то как узнал? – Генка чувствовал смутное сомнение, СухоЛенка ему никогда не нравилась, но наговаривать на неё напраслину он не желал.
Да и вообще, всё это дурно попахивало, как бы не пострадать в этой истории больше всех.
– Видел. Собственным взглядом, чтоб мне провалиться! – Бруква был сама убедительность. В его распахнутых светлых глазах застыло выражение искренней праведности, – Ест! Точнее, ела. Один раз. Как минимум.
– Ну, хорошо, – сдался Генка, которому очень хотелось сесть за одну парту с Альбиной, – но как мы об этом Альбине сообщим? Если записку напишу я, она сразу догадается, кто писал.
– Записку напишет СухоВитька, брат СухоЛенки! – с чувством провозгласил Бруква, победно поглядывая на Генку.
– И зачем ему это? – не понял Генка.
– Так он сколько раз говорил, что сестра его допекла.
– Тогда вообще не нужно записку писать! – вдруг осенило Генку, – он это Альбине скажет, когда та снова с Ленкой поцапается. А ты ему об этом под большим секретом заранее сообщишь, понял?
– Понял, не дурак, был бы дурак – не понял, – подмигнул довольный Бруква. Как и все книжные мальчики, не пользующиеся в классе авторитетом, он обожал разного рода интриги. Помочь другу и насолить заодно и Ленке Сухоруковой, которая вечно задирала Брукву, это же предел мечтаний!
– Будь спок, я всё организую в лучшей виде, – добавил он и важно удалился.
Пока Бруква претворял в жизнь коварный план, Генка страдал по Альбине даже больше чем раньше. Он, похоже, научился краснеть не столь рьяно и радикально, но всякий раз цепенел и ощущал себя деревянным Буратино, лишь случайно коснувшись объекта своих чувств любой частью тела. Последний раз это случилось на уроке физкультуры, когда пробегающая мимо Альбина внезапно свернула в его сторону, но поскользнулась, покачнулась и схватила его за руку, чтобы удержать равновесие. Потом быстро выпрямилась, мазнула его улыбчивым, шальным взглядом и умчалась прочь. А Генка стоял, как в сказке про Конька-Горбунка, чувствуя, что его сперва окунули в кипяток, так горячо стало его телу, а потом швырнули в прорубь, настолько побелели и похолодели все члены, а кожа пошла пупырышками.
По дороге в раздевалку Генка завернул в туалет, закрылся в кабинке, которые были только в туалете спортзала – все остальные туалеты не имели даже перегородок между унитазами – и понюхал ту руку, которая только что побывала в объятиях Альбининых пальчиков. Несмотря на туалетную вонь, ему показалось, рука пахнет чем-то лёгким, душистым, волнующим сердце. Вытянув губы трубочкой, Генка поцеловал тронутое место и зарделся от смущения.
После этого он всё время ловил запах Альбины, пристраивался в её спутный след, когда она шла по школьному коридору. Притворялся, что завязывает шнурки в тот момент, когда она проходила мимо, а сам жадно ловил шелест подола её платья и тот самый сладкий запах – аромат девичьего пота, с ощутимыми вкраплениями оттенков глубоко спрятанных желёз, уже начавших свою незримую таинственную работу.
Запах Альбины так будоражил его, что Генка стал принюхиваться и к другим девчонкам, по-прежнему для отвода глаз завязывая вечные свои шнурки в проходе. Украдкой он перенюхал множество ног – голых, в чулках и колготках, – но никакие из них не пахли так, как Альбинины. От кого-то разило едой, от кого-то почему-то несло духами, а от кого и чем похуже, вроде несвежего белья. Запахи были грубыми и обыденными, они не волновали.
А потом сработал их с Бруквой план. Генка смутно осознавал развитие ситуации, его мозг выхватывал отдельные фрагменты, целое же ускользало от него. Вот резкий смешок СухоЛенки, которая произнесла что-то обидное в адрес ненавистного братца, вот резкий ответ Витьки Сухорукова и повисшая после этого звенящая тишина. Вот окрик учителя и огромные глаза Альбины с застывшим в них ужасом и брезгливостью. Вот резкий пистолетный хлопок крышки парты СухоЛенки, вытаскивающей свой портфель. Вот она ракетой мчится к нему и цедит сквозь зубы:
– Пошёл отсюда, я тут буду сидеть!
Вот он покорно бредёт в сторону Альбининой парты, та съёжилась и не смотрит на него. Вот ощутимый тычок в спину от Витьки и его: «Ну, привет, Домоген!», когда Генка, наконец, присел за парту.
Домогеном во дворе звали Генку с детства, хотя кто первый придумал это прозвище и почему, осталось загадкой. Всё это время, казавшееся Генке вечностью, уложилось в пять минут.
На следующий день Генка пришёл в класс загодя, сел за новую парту и уткнулся взглядом в учебник, но сделал это лишь для вида, а сам обратился в слух, а ещё точнее – в слух и обоняние плюс осязание. Но Альбина в этот день вообще не пришла в школу. Все уроки Генка непрестанно ёрзал по сидению, получил трояк по математике, хотя всё знал. Просто не мог сосредоточиться. И получил бы двойку, но математичка сжалилась над ним.
Ещё через день мальчик и девочка, наконец, встретились и провели рядом всё школьное время. Молча. Вплоть до последнего урока. На последнем уроке потерявший к концу дня бдительность Генка случайно открыл тетрадь на том месте, где была нарисована Альбинина спина и по тому, как мгновенно замерла Альбина рядом с ним, сразу понял – он попался. Попробовал было закрыть тетрадь, но вместо этого уронил её на пол. Бросился поднимать и буквально носом упёрся в ногу своей соседки, даже слегка пробороздил эту ногу. Почувствовал, как снова густо вишневеет, поднял тетрадь и тотчас открыл крышку парты, притворяясь, что ищет нечто загадочное в своём портфеле и, стараясь нагнуться как можно ниже, чтобы никто не увидел цвет его лица.
«Зачем я только послушал этого глупца Брукву! – метались в Генкиной голове скорбные мысли, – теперь Альбина точно всё поймёт, и как мне жить дальше? Что теперь делать?»
И в этот миг Генка вспомнил про курмахаму. Он зажмурился для пущего эффекта и пробормотал еле слышно под нос: «Курмахама!» К его счастью – то ли подействовало ключ-слово, то ли просто так случилось само собой – последний урок закончился, Альбина поднялась со своего места, и сказав непонятно кому: «Пока», поплыла к двери, а Генка остался на месте. К нему постепенно возвращались утерянные на время ощущения. И первым среди них было ощущение шлейфа запаха, тянущегося за Альбиной.
Наутро Генка почти успокоился. Он даже сумел как можно беззаботнее сказать Альбине при встрече: «Привет», всё же стараясь при этом смотреть мимо девочки.
– Привет, – эхом откликнулась Альбина. Она смотрела на Генку странным взглядом, будто прежде никогда его не видела вот так, очень близко. От её взгляда что-то щёлкнуло внутри мальчика – он почувствовал это физически, короткий сухой щелчок, словно от старого сучка в лесу, – а потом его окатила волна облегчения. Генка понял, отныне у них с Альбиной есть своя тайна. Что-то произошло в этот миг.
Целый урок он наслаждался этим новым ощущением. И в завершении – словно вишенка на торте – Альбина вдруг легла грудью на парту, заговорщицки глядя на Генку, и доверительно шепнула ему:
– Я так в тубзик хочу!
Когда девочка сообщает тебе о столь интимных, секретных делах, это уже серьёзно. Генка сразу понял и оценил значение её поступка. Теперь у него с Альбиной были не какие-то там детские секретики, а всамделишная, Великая тайна! Дама Генкиного сердца не просто приняла своего кавалера, она фактически посвятила его – если не в рыцари, так в хранители. И Генка ощущал себя на верху блаженства.
Отныне наши влюблённые на каждом уроке старались сесть за парту так, чтобы, будто невзначай, соприкоснуться локтями. А для конспирации минут через десять такого упоительного сидения начинали почти всерьёз пихать руками друг друга, демонстрируя одноклассникам и учителю свою нормальность. Потому что в те годы и в том возрасте дружбы между мальчиком и девочкой не могло быть по определению.
К сожалению, эйфория эта закончилась уже в следующей четверти – их попросту рассадили. А ещё через полгода первая Генкина любовь окончательно канула в Лету. Его охватило новое чувство, столь отличное от предыдущего.
Глава 8
Время, которого так не хватало Елене, когда она жила на два дома, ночуя с внуком Антошкой, после её возвращения к Геннадию стало тянуться невообразимо медленно. На работе Николая Петровича отправили на какой-то семинар и в бухгалтерии всё пошло привычным чередом, даже Ольга Александровна поумерила свой пыл и старалась как можно реже попадаться на глаза начальнице. Директор тоже перестал говорить об оптимизации и дёргать бухгалтерию, требуя повышения эффективности.
Елена проводила рабочие дни, бесцельно пялясь в экран монитора и никак не могла сосредоточиться и включиться в работу по максимуму. Она перекладывала бумажки, силясь убедить, прежде всего самою себя, что занимается делом, но при этом остро чувствовала всю тщету этого занятия. И чем больше времени Елена посвящала перекладыванию бумаг, тем сильнее поднималась изнутри неё волна страха. Будто она – шулер в карточной игре, и в любой миг может быть поймана за руку, и тогда увольнение станет неминуемым.
Не приходило успокоение и дома. Бутылочка с эссенцией продолжала своё движение по дому, возникая то там, то тут, будто действовала по собственной воле. Да и поведение Геннадия снова вошло в ворчливо-депрессивную фазу. На работе муж Елены не появлялся уже очень давно, это тоже вносило свою лепту в разлитое вокруг нервное напряжение. Елена отчётливо чувствовала, что-то грядёт. Что-то очень неприятное, даже жуткое.
И тут снова позвонила Мария Антоновна. Елена, которая только что пришла с работы, слегка замешкалась, уныло рассматривая экран надрывающегося телефона, на котором чётко виднелось имя сватьи и, решая, отвечать ей или нет. Моментально в голове пронеслись воспоминания об Антошке, о невозмутимо-спокойной во время последней встречи Светлане, об уехавшем куда-то сыне Вовике.
– Неужели опять, всё сначала?.. – с ужасом подумала Елена, но все же сняла трубку.
– Алло.
– Алло, алло, Лена Ивановна, ты? – зарокотало на другом конце линии.
– Ну, конечно я. Кто же еще? – в сердцах брякнула Елена.
– Да что-то слышно как-то плохо. Здравствуй, Елена Ивановна.
И после недолгого молчания, которое Елена прерывать первой не хотела, Мария Антоновна продолжила:
– Вовка твой из командировки вернулся. Он тебе уже звонил? Ты с ним разговаривала? – в голосе сватьи слышалось плохо скрываемое раздражение.
– Нет, – спокойным голосом ответила Елена, хотя внутри у неё похолодело, – а что, должен был? Он вообще мне редко звонит, ты же знаешь.
– Так, значит, про Светкино отсутствие не ты ему доложила? – тон Марии Антоновны не составлял сомнений, что она попросту не верит Елене.
– Я повторяю еще раз, с Володей я не созванивалась, и что он вернулся из командировки, не знаю. А что случилось то? Опять поссорились?
– Если бы… – в трубке раздался тяжёлый вздох, – разводиться наладились. Кто-то Вовке твоему доложил про то, что Светки несколько дней дома не было. Вот он домой вернулся, вещички собрал и сквозонул, только его и видели.
– Что, просто вещи собрал, ничего не объяснил и ушел? – зная характер сына, Елена поверить не могла, что Вовик может такое проделать молча.
– Да, прямо, молча! – фыркнула Мария Антоновна, – такой фингал под глазом Светке засветил, мама не горюй! Орали они так, что соседи полицию вызывали, только те ехать отказались: «Не убили никого, дескать, значит, повода ехать нет».
– А что, ждать надо, когда он ее убьет, что ли? – в голосе сватьи стали проявляться надрывные нотки, – ну, не было девки несколько дней дома, и чё? Это еще не повод кулаками махать. Ладно, Антошка в садике был. А если бы у него на глазах?
Елена молчала в трубку, не зная, что можно возразить на эти аргументы. Вспомнила лишь своего бывшего мужа, отца Вовика, который тоже в последние годы их совместной жизни семейные распри пытался урегулировать при помощи кулаков. Владимиру, похоже, подобные методы воздействия на жену тоже совсем не чужды.
– Так что, позвонишь сыну-то, поговоришь с ним? – вывела из задумчивости Елену Мария Антоновна.
– Я? Ну да, конечно, позвоню. Только боюсь, слушать меня он не станет. Упрямый, весь в отца. К нему, наверно и ушел.
– Не знаю, куда он ушел, он Светке не сказал. А может, давно себе другую нашел, кто знает, что за командировки у него там? Может, давно на две семьи живет? Скажешь, такого не бывает? Да сколько угодно! Мне вот тут рассказывали про одного, в доме у нас жил пару лет назад… – затараторила в трубке Мария Антоновна, явно собиравшаяся продлить рассказ минут на двадцать, не меньше.
– Не хочу я ни про кого слушать, своих проблем хватает, – торопливо обрезала её Елена, которой вовсе не улыбалось быть посвящённой в чужие сплетни.
– А… Ну ладно, – обиженно отозвалась Мария Антонова, но тут же изменила тон на напористый, даже угрожающий, – только запомни, Елена Ивановна, если Вовка на развод подаст, Антошку вы не увидите. Никогда! Светка моя, обозленная донельзя. А она, если чего удумает, фиг свернешь. Так ведь и сделает. Я, конечно, это не одобряю, но мне с ней не сладить. Вот такие дела.
И сразу добавила уже с просительными, заискивающими интонациями:
– Ты уж позвони ему, а, ЛенИванна? Может, еще можно семью сохранить? Жалко же Антошку, он-то, чем виноват!
В трубке отчётливо захлюпало, похоже Мария Антонова начала плакать. Елена брезгливо отодвинула трубку от уха и, повысив громкость, быстро проговорила, чтобы вернуть сватью в нормальное состояние. Она терпеть не могла чужие слёзы, хотя сама частенько злоупотребляла рыданиями:
– Я попробую, позвоню, конечно. Но и ты меня пойми. Владимир – взрослый мужчина. Он от меня отдалился сразу после школы. Я для него не авторитет. Вряд ли слушать меня станет. Но я попробую.
После этого Мария Антоновна, буркнув краткое «до свиданья», к облегчению Елены, отключилась.
Но Вовик с матерью не то, что говорить не стал, даже трубку не поднял в ответ на её звонок. Лишь спустя полчаса написал СМС-ку: «Я подал на развод. Уговоры твои слушать не хочу». Вот и все общение. Елена подумала, погоревала, но биться в закрытую дверь не стала и попробовала зайти с другого конца. Она позвонила Светлане.
– Что вы хотите от меня услышать? Что я раскаиваться стану и умолять вас о чем-нибудь? – с места в карьер начала Светлана, едва заслышав в трубке голос Елены, – Да ни за что! Мужиков на свете мало что ли! Мы с Антошкой на раз другого папу найдем. Свет клином на вашем сыночке долбанном не сошелся!
– Подумаешь, нервный какой. Синяки мои пройдут. А он пусть остаётся со своими закидонами, придурок природный! – Света кричала в трубку так, что Елене пришлось убавить звук телефона, – Я развод ему подпишу, только ни квартиру, ни сына ему не отдам. Ещё алименты будет мне платить как миленький. Тоже мне, нашелся … (тут Света грязно выругалась). А вы тоже, мамаша херова. Сына научить вести себя по-мужски не могли, руки на женщину распускает. Небось, папаша Вовкин тоже вам прикладывал? То-то вы развестись поспешили. Надо было мне на это внимание обратить, когда я с вашим сынулей-хреноплётом встречаться начала. А я, дура, все о любви думала!
– Света, не спеши, может еще все образуется… – попробовала урезонить невестку Елена, но та её не слушала.
– Я ничего ждать не стану. Все и так образовалось уже. А к Антоше даже близко не подходите, ни вы, ни ваш муж, ни ваш сын, чтоб он подох! – и Светлана швырнула трубку.
Как говорится, ни здравствуйте, ни до свидания.
«Вот ведь, как бывает, – горестно думала про себя Елена после разговора с невесткой, – мне казалось история с брошенным у подруги Антошкой, страшнее не придумаешь. А, оказалось, может быть и еще хуже. Оказалось, даже дно, ниже которого падать некуда, имеет свои ступени. Можно упасть на дно, но и оно не будет пределом, потому что там есть свои глубины, которые сложно представить, пока не погрузишься во всё это с головой».
Второй ступенью в этом нескончаемом процессе погружения во мрак для Елены стало то обстоятельство, что после развода с женой Владимир решил вообще оставить Питер и переехать на Север, поближе к месту своей основной работы, в поселок с жутким названием Стужарики. Как с неохотой сообщил сын матери, когда та в конечном итоге дозвонилась до него после долгих попыток, у него в этих Стужариках уже давно есть женщина с соответствующим стылой местности именем Снежана.
Узнав о Стужариках и таинственной Снежане, Елена взмолилась:
– Господи, Володенька, сыночек, зачем тебе это надо? Едешь в какую-то снежную Тмутаракань, к женщине с именем, подходящим только для Снежной королевы. Ты ведь не Кай, вышел уже из подросткового возраста. Мало тебе здесь девчонок, вон, целый город, зачем тебе все это? А как же я? Почему ты обо мне не подумал, я же волноваться буду! И вообще, ни поддержки от тебя, ни опоры. Где я тебя там, на Севере искать буду?
– Позвонишь, я встречу. Все путем, не дуй в муку, не делай пыли… – и Вовик тотчас отключился.
А через неделю Елену ждала еще одна ступенька спуска во тьму. Геннадия внезапно и срочно вызвали на работу, вернулся он оттуда сам не свой. Нервный, можно даже сказать психованный. На расспросы встревоженной Елены он сперва никак словесно не реагировал, зато вдруг стал крайне суетлив – хватал то одно, то другое, разбил чашку, порвал тапок, который умудрился перед этим засунуть под ножку дивана. Но где-то спустя час этих беспорядочных метаний, Геннадий вдруг приземлился на диван и стал болтать без умолку, чересчур громким голосом. Говорил сам с собой о какой-то ерунде, не слушая отклик Елены, и при этом производил вокруг себя резкие движения, гипертрофированно жестикулируя.
Лишь на следующий день Геннадий признался жене, его попросили уволиться, и он написал заявление по собственному желанию. Несмотря на все прошлые бравады, увольнение стало для Домакина настоящим шоком. Он давно и искренно уверовал в собственные исключительность и незаменимость на заводе, и тут такой поворот! Естественно, нежданное событие немедленно сказалось на самочувствии Геннадия, почти сразу после признания Елене пришлось вызвать ему скорую помощь.
Домакина увезли в стационар, и Елена, которая, разумеется, поехала в больницу с мужем, всю ночь провела у его постели, пока к утру Геннадию не стало лучше. Врач уверил ее, что это не конец, всего лишь очередной приступ, но предупредил, что нужно по возможности избегать подобных рецидивов, а то это может плохо кончиться.
А утром, придя на работу, Елена обнаружила у себя в кабинете Горенькова, который в ультимативной форме потребовал от неё переделать последний квартальный отчёт, упирая на неполноту собранных для отчёта данных, и сделать это срочно. В идеале, до конца дня.
Спорить с Николаем Петровичем она не стала – после бессонной ночи не было ни сил, ни желания. Елена просто вызвала к себе Ольгу Александровну и попросила, чтобы та начала переделывать квартальный отчёт. Даже не дослушав главбуха до конца, её зам с улыбочкой заявила, что ей всё понятно и не дожидаясь разрешения, покинула кабинет, оставив Елену сидеть с глупым видом.
«Ну что, что еще может случиться? Меня с работы уволят? Могут! Вполне! Если буду постоянно отпрашиваться в больницу, нервничать и ошибаться на работе, точно выгонят. Гореньков вон с Ольгой Александровной только об этом и мечтают, – лёжа в темноте в пустой квартире, вела сама с собой невесёлый диалог Елена перед отходом ко сну, – Вот ведь до чего я дошла, даже и поговорить не с кем, приходится разговаривать с самой собой. А кому еще я могу пожаловаться? Генек в больнице, Вовик со мной не разговаривает…»
Елене представлялось, что в своей усталости она дошла до края, и как только смежит веки, тотчас заснёт. Но сон никак не приходил. Уже часа два прошло с тех пор, как она легла в постель, а в голове продолжали бушевать мысли, одна тоскливее другой. Уставшая, измученная физически и морально, Елена блуждала по закоулкам сознания, не в силах отрешиться от всего произошедшего с нею, чтобы провалиться в забытьё и хоть слегка отдохнуть. К счастью, завтра была суббота, так что можно было с утра поспать подольше. Но сон не приходил и не приходил, доведя Елену до исступления. Она уже и молока теплого выпила с медом, и капли приняла успокоительные. Ничто не помогло. И тогда Елена стала вспоминать волшебное слово, про которое ей рассказывал Геннадий.
А что, если это слово, при условии, конечно, что она его вспомнит, поможет остановить это дикое, неудержимое падение в бездну? Потому что другой надежды у неё уже просто не осталось. Елена напряглась, обшаривая память. Но ключ-слово никак не хотело всплывать на поверхность. Тоже видать куда-то провалилось, ушло куда подальше. Ведь и правда, это же не её спасительный круг, а Генека. Это его волшебное слово! Она ведь тогда, наутро, про ключ-слово даже не вспомнила, и Геннадий так ничего про его везучее свойство не поведал. И даже не рассказал, откуда это слово взялось и как им пользоваться.
«Всё это блажь, – уговаривала себя Елена, – никакие слова мне сейчас не помогут». Но голова её, не переставая, уже перебирала и перебирала всевозможные варианты, пытаясь натолкнуться на нужную комбинацию букв. Елена даже всплакнула для надежности, но и это не помогло. Ключ-слово никак не приходило. Но она упрямо продолжала свои попытки. Вероятно, потому что сон всё равно не шёл. А ещё более потому, что какой-то голос внутри Елены неустанно твердил «не сдавайся, это твой шанс!»
«Ах, если б только можно было начать жизнь с начала! Я никогда бы не посмотрела ни на одного мужчину, кроме Генека. И детей бы родила только от него, – с отчаянием поклялась себе Елена и как по наитию попросила мысленно в пространство, – хочу, чтобы мои дети были точной копией отца, такие же умные, талантливые, добрые. Не то, что Вовик, который для меня совсем чужой, что уж греха таить! Хоть бы что-то взял от меня, своей матери, так ведь нет, копия его отец. Ужас! Поэтому я хочу всё изменить!»
В комнате внезапно стало совсем тихо, точно звуки испугались мыслей Елены, ушли в другое измерение. Лишь негромко стучала в висках пульсирующая кровь. Елена на миг замерла, но сразу в мозгу у неё возникли новые слова:
«Если бы время вернулось вспять, я всё-всё в жизни сделала бы по-другому. Все тучи развела бы руками, как пелось в какой-то старой песне. Всё предусмотрела и никогда бы не допустила сегодняшнюю ситуацию!»
– Боже! Ну, помоги мне вспомнить это ключ-слово волшебное, Помоги-и-и… – уже вслух заскулила Елена с таким отчаянием, что даже сама удивилась.
И моментально, как по щелчку, в её голове раздалось: КУРМАХАМА!
– Конечно, курмахама. Вот оно! – с благоговением прошептала Елена.
Она спряталась с головой под одеяло и шепотом опять произнесла ключ-слово, потом для надежности еще раз: «Помоги мне, Курмахама. Я хочу всё исправить. Помоги мне начать сначала! Курмахама!» Слёзы потекли из глаз Елены, только она не ощутила их. А затем пришёл сон.
Глава 9
Проснулась Елена, когда сумерки еще не покинули пределы комнаты. Было немного душно, в воздухе присутствовал странно знакомый, не совсем приятный оттенок. Сквозь окно пробивался свет одинокого уличного фонаря, и на потолке плясали тени слабо колышущихся от сквозняка портьер.
– Откуда на двадцатом этаже фонарь? – подумала Елена, – Непонятно. Что-то я не помню его. И почему открыто окно? Вроде бы перед сном я закрыла створки.
Она повернула голову в сторону окна и поразилась тому, что увидела. Окно оказалось несуразно маленьким, да ещё и занавешенным какими-то простенькими льняными шторами, которых в доме Домакиных отродясь не было. Никогда бы в жизни эстет Геннадий не позволил купить вещь настолько аляповатую – с разбросанными по ткани огромными, преувеличено розовыми цветами с чересчур чёрной, практически чернильной сердцевиной. Этот незатейливый безвкусный рисунок напомнил Елене узоры, покрывавшие шторы, которые когда-то очень давно висели в её комнате в родительском доме.
– Какой чудесный сон! – обрадовалась Елена, рассматривая портьеры, – Давно мне не снилось детство.
Она сладко потянулась, снова закрыла глаза и повернулась на другой бок. Пошарив рукой по кровати, Елена поняла, что Геннадия нет рядом. Неужели встал в такую рань? Вдруг она вспомнила, что муж лежит в больнице, а также то, что сегодня суббота, можно поваляться в постели подольше. Но чувство долга уже настойчиво стучало в мозгу: «Поднимайся, не время разлёживаться, нужно собрать еду для Генека, а перед этим эту еду ещё требуется приготовить».
Елена рефлекторно напрягла мышцы, чтобы встать с кровати. И в тот же миг расслабила их, потому что внутри неё ожило какое-то детское непослушание, отогнавшее назойливый голос совести. Она опустила голову на подушку и пробормотала себе под нос:
– Полежу ещё чуть-чуть. В конце концов, я так давно не отдыхала.
Елена повернулась в постели, ложась поудобнее, и от этого движения тяжелая прядка длинных волос оказалась на ее лице. Волосы попали в ноздри, защекотали в носу. Елена непроизвольно хихикнула, окончательно открыла глаза и откинула пряди с лица.
– Чьи это такие длинные волосы? – опять пронеслось у нее в голове, – я сто лет назад состригла свою косу и с тех пор ношу короткую стрижку.
Елена приподнялась на локте, сгребла длинные пряди в кулак и с силой потянула их от себя. Голова её резко дернулась. Сомнений не было, длинные волосы принадлежали ей.
– Вот так штука! – удивилась Елена, – Какой странный сон, никак не проходит, хотя я чувствую себя как наяву!
Она снова крепко зажмурила глаза, полежала ещё несколько долгих минут, втайне надеясь то ли уснуть, то ли проснуться окончательно, затем, когда сон так и не пришёл, для верности ущипнула себя за руку ногтями. Боль пронзила конечность так, что Елена едва не вскрикнула. Она резко открыла глаза, села на постели и стала более пристально оглядывать комнату, где проснулась. Это была совсем не та комната, в которой Елена вчера легла спать!
Во-первых, сидела она вовсе не на двуспальной кровати, а на разложенном шатком диване. Во-вторых, рядом с диваном у окна притулился старенький письменный стол, на котором громоздилась старомодная настольная лампа с огромным, установленным чуть набекрень, абажуром. Рядом со столом стоял стул, с брошенным на его спинку цветастым летним платьем. На противоположной от дивана стороне комнаты обнаружились платяной шкаф и кровать, на которой Елена различила силуэт спящей девушки, даже, скорее, девочки. Девочка лежала, широко раскинув руки и ноги, лицом к стене. Елена ахнула – ей показалось, что на кровати спала её сестра Иришка. Причём, на вид сестрёнке было не больше десяти лет.
– Как это может быть? – заметались в голове Елены торопливые, беспокойные мысли, но раздумья не принесли ей и малейшей доли понимания, где она находится и что вообще с ней происходит. Она хорошо помнила больничную палату, где находился драгоценный её Генек. А также последние свои разговоры с Гореньковым и со Светланой, женой сына Владимира. Всё это было только вчера, воспоминания ещё не успели остыть. И в то же время сейчас реальностью для неё стали: определённо знакомая и всё же непривычная обстановка вокруг, собственные длинные волосы и вот эта девчушка, сопящая рядом… Сон это или не сон?
Чтобы обрести почву под ногами Елена осторожно поднялась с дивана и подошла к спящей девочке. Она присела на корточки и поправила сбившееся на пол одеяло. Девчушка завозилась, повернулась лицом к Елене, но так и не проснулась. Без сомнений это была Иришка, сестра Елены, которую она не видела, Бог знает сколько времени. Причём, именно десятилетняя версия Иришки. Точно повинуясь неведомому импульсу, Елена на цыпочках отошла от кровати сестрёнки и выглянула из окна.
На дворе занималось раннее летнее утро. Окно, у которого замерла Елена, было совсем низко над землёй – этаж третий, не более. Где-то на горизонте маячили заводские трубы, довольно много труб, из некоторых валил разной густоты дым. Встающее навстречу новому дню солнышко освещало частично поросший травой пустырь под сенью большого раскидистого тополя. На пустыре прямо на его середине стояла песочница, сколоченная из грубых, плохо окрашенных досок, песка в ней не было, зато из центра торчал поломанный накренившийся грибок, действительно напоминающий трухлявый мухомор. Рядом с песочницей Елена обнаружила сломанную лавку, состоящую из двух бетонных, неровно стоящих боковин, некогда соединённых между собой деревянными брусками.
К настоящему моменту от всех брусков на лавке оставались всего две жердочки, одна наверху, на ней сидели, другая внизу, туда ставили ноги. Наверно потому подростки и не доламывали окончательно эту лавку, потому что привыкли собираться и сидеть на ней вечерами, как курицы на насесте.
«Не помню, чтобы я когда-то играла в песочнице или сидела на лавке, – припомнила Елена, с волнением изучая милый сердцу, пусть и убогий заоконный пейзаж, – мы с подружками всегда играли около тополя. За неимением в моём родном Серпске других мест для времяпрепровождения, прорыли под корнями бедного великана кучу всевозможных ямок, оголив при этом толстые корни. Помню, как к этому тополю летом чуть ли не каждый день девчонки приносили старые детские одеяльца, кукол, игрушечную посуду и самозабвенно играли, представляя себя родителями или принцессами. Боже, как давно это всё было! Но вот он, старый тополь, жив и здоровёхонек. И даже не выглядит очень древним. А трубы за окном – это завод, на котором трудятся родители. Совсем близко от дома, поэтому в квартире нередко пахнет какой-то гарью».
И тотчас мысли растерянной Елены потекли совершенно в ином направлении: «Но всё же, что со мной происходит? Неужели я не сплю и действительно нахожусь сейчас в прошлом? Как можно проверить, что всё это мне не снится? Надо срочно посмотреть на себя в зеркало!»
Она на цыпочках, чтобы не разбудить девочку на кровати, подошла к двери и выглянула в коридор. Сомнений быть не могло – перед нею действительно был коридор знакомой с детских лет родительской квартиры. Тихонько, держась рукой за стенку, чтобы не наткнуться в темноте на препятствие, Елена пробралась к ванной комнате, нащупала на стене выключатель. Щелкнула им, вошла в тесное пространство между стеной и краем ванны и остановилась точно вкопанная напротив зеркала.
Из зеркала на неё недоумённо таращилась совсем юная девушка, почти ребенок. Елена с удивлением изучала изрядно подзабытый собственный облик многолетней давности. Спутанные после сна длинные волосы пепельного цвета без намека на седину, тонкая и оттого кажущаяся невероятно длинной шея, почти как у молодого жирафа. И при этом не менее тонкие руки, а главное – юная кожа, чистая, упругая, без единой морщинки. Елена как можно ближе прильнула к зеркалу, погладила себя по голове, собрала волосы в кулак, пропустила прядь между пальцами и повинуясь возникшему внутреннему импульсу, заплела косу. Потом открыла воду, плеснула в лицо несколько пригоршней, и снова глянула в зеркало, втайне надеясь, что наваждение рассеется.
Вода не помогла, на неё по-прежнему смотрело юное создание – она сама, только много-много лет назад. Тогда Елена сделала шаг назад, чтобы в зеркале отразилось не только её лицо, но и туловище, провела руками по бокам, собрала сзади в ладонь лишнюю ткань ночной рубашки, чтобы четче просматривался силуэт фигуры. Девушка, отразившаяся в зеркале, была худенькой и немного угловатой, что ли. Она провела рукой по груди и нащупала две маленькие упругие выпуклости.
– Я и забыла уже, какой бывает девичья грудь! – прошептала себе под нос Елена.
И вдруг подобно молнии в голове возникло и взорвалось одно единственное слово: «Курмахама!»
«Неужели сработало?! – ахнула про себя Елена, – Не может быть! Ещё один шанс? Мне? Не может быть! А мама? Она тоже тут и живая?!»
В нетерпении, но всё же соблюдая осторожность, чтобы не перебудить спящий дом, Елена выбралась из ванной комнаты, выключила свет и прокралась к закрытой двери в комнату родителей. В доме не было ни звука, только негромкий скрип половиц под её пятками. Она на пару сантиметров приоткрыла дверь и уже без прежнего удивления увидела в проёме родительскую кровать. Да-да, ту самую – старую металлическую полутораспальную кровать с высокими спинками и большими никелированными шариками на боковинах, которые в детстве Елена так любила крутить. Мама спала, отвернувшись к стенке и почти уткнувшись носом в небольшой ковер бордовых оттенков, а отец спал на краю, свесив руку почти до пола. Родители были здесь, и они ещё живы! У Елены перехватило дыхание, закружилась голова и подкосились ноги. Она стояла, беззвучно переминаясь с ноги на ногу и смотрела, смотрела… Но, видимо ощутив её присутствие, отец вдруг открыл глаза, присмотрелся и шепотом произнёс:
– Ленусик, ты чего соскочила в такую рань? Сегодня же суббота, иди, ложись, поспи еще. Иди-иди к себе.
– Или случилось чего? – видя, что Елена замешкалась в дверях, отец встревожился и начал стаскивать с себя одеяло, чтобы подняться.
– Нет, ничего не случилось. Я так… Просто показалось, спи, не вставай, – поспешила успокоить папу Елена. Затем прикрыла дверь в родительскую комнату и поспешила к своему дивану.
«Может, если сейчас уснуть, а затем проснуться, всё встанет на свои места? Ведь сюда, в прошлое, меня «привёл» тоже сон! Надо попробовать», – пришла на ум Елене внезапная мысль. Она шмыгнула в постель и натянула одеяло по самую макушку. Спать не хотелось, но Елена сделала над собой усилие, улеглась на подушку поудобнее, стащила одеяло до уровня подбородка и постаралась ни о чем не думать. Сильно зажмурила глаза и держала их в напряжении, пока под веками не стали вспыхивать и расплываться разноцветные пятна. Уцепившись за самое яркое лиловое пятно, она расслабила веки. Пятно запульсировало, наполняясь и разливаясь большой лиловой лужей, которая подобно воронке затягивала и уносила девушку в свою глубину.
Проснулась Елена от монотонного шума проснувшейся квартиры. Кто-то шаркал по полу босыми пятками, где-то, вероятно, на кухне, негромко переговаривались, чем-то громыхали на плите, шипел закипающий чайник. Она потянулась и открыла глаза. В комнате кроме нее никого не было, яркий солнечный свет проникал через все еще задернутые шторы. На соседней кровати, на месте, где недавно спала ее сестра Иришка, валялась лишь смятая пижама. Елена встала с дивана, взяла со стула цветастое платье, оказавшееся, впрочем, не платьем, а халатом, накинула его и вышла из комнаты в коридор. И только там осознала – она по-прежнему в прошлом!
Странно, но после кратковременного утреннего сна это никоим образом не огорчило Елену. Напротив, где-то внутри неё шевельнулся азарт исследователя. «Ну и пусть! – решила она, – Будь, что будет, а пока поживу-ка я молодой жизнью. Даже, если это всего лишь сон, который скоро закончится».
Из кухни, находящейся в конце коридора, раздавались негромкие голоса домочадцев, пахло чем-то жареным и удивительно вкусным. Елена замерла в дверях в нерешительности, пытаясь распознать, определить, понять свои новые ощущения. Главное, что она чувствовала – жуткий голод. А ещё желание немедленно повторно умыться. Где-то на периферии сознания Елена помнила Геннадия, его болезнь, но воспоминания о муже были какими-то расплывчатыми, приглушёнными, хотя и вполне различимыми. Гораздо ярче она воспринимала текущий момент – запах еды, прохладу от половиц, на которых стоят её босые ступни.
Вообще всё казалось ей обыденным, привычным в том дне, где она сейчас находилась. Елена даже без труда вспомнила, как смотрела вчера с родителями по телевизору какое-то унылое кино, в котором герои, вместо того чтобы просто вести себя как нормальные люди, пафосными, никогда не употребляемыми в разговорной речи словами бесконечно дискутировали о партийном долге, а также часами обсуждали планы партии на текущую пятилетку. Будто больше поговорить им было не о чем. Иришка заснула, не дождавшись конца фильма, и отец вынужден был тащить великовозрастное дитятко на руках до кровати. Взрослые же, включая её, Елену, досидели до конца картины и только потом разошлись ко сну. А еще перед сном, уже лежа в кровати, она читала «Воскресение» Толстого.
«Какое ещё «Воскресение»?! – возопил в голове голос разума, – ты же весь вечер проторчала в палате Генека и уснула вчера почти мгновенно! Курмахама, а не воскресение было у тебя!»
От этого внутреннего окрика Елена вздрогнула, напряглась, ощутила острую растерянность. Но юный здоровый организм не стал ждать, когда умный ум расставит всё по местам. Ноги уже сами несли Елену на кухню, навстречу дивному запаху маминых блинов. И все же при виде родителей, которые в её «настоящей» жизни умерли много лет назад, она не могла сдержать эмоции. Дыхание перехватило, на глаза навернулись слезы, уже готовые политься по щекам в несколько ручьёв. Только недюжинным усилием воли Елена смогла взять себя в руки. Пока никто не заметил, она быстро смахнула непролившуюся влагу с ресниц и выпалила:
– Доброе утро всем.
– Доброе, доброе, – пробурчал отец с набитым ртом, потом, сглотнув плохо пережеванный блин, шутливо скомандовал, – быстро умываться и за стол!
Елена кивнула, подбежала к отцу, чмокнула его в щеку, а потом прильнула к спине матери, которая, несмотря на то что пора было переворачивать подрумянившийся блин, томящийся на сковороде, сгребла старшенькую в охапку и поцеловала в лоб.
– Выспалась, доченька? Давай, Алёшик, беги умываться, и за стол, пока блины не остыли.
И опять Елена вздрогнула. Алёшик, точно Алёшик, так называла ее только мама! Когда Елена появилась на свет и родители придумывали ей имя, то никак не могли сойтись в едином мнении. Ребенок родился смуглым с копной тёмных волосиков на голове, отчего больше походил на мальчика, чем на девочку. Поэтому мама склонялась к имени, подходящем как мальчику, так и девочке, типа Жени или Саши. Но папа был непреклонен: Лена, Леночка, Алёнушка и никак иначе.
– Да какая Алёнушка, разве ты не видишь? Скорее уж Алёшенька. Но Алёшенька мужское имя, пусть уж лучше будет Алёшик, – мама гладила ребенка по чернявой головке и приговаривала, – Лёшик- Алёшик, Лёшик-Алёшик.
Чем, собственно, Алёшик был лучше Алёшеньки, Елена никогда не могла понять, логика матери оказалась для нее непостижимой. Но все в доме привыкли к странному имени – Алёшик, так Алёшик. Правда, пользовалась им только мама. Иришка обычно звала сестру «Ленка», а именем «Алёшик» пользовалась исключительно с добавлением разных эпитетов. Отец же, в зависимости от настроения, называл старшенькую Ленусиком, Леной или тоже Ленкой, если за что-то сердился.
От маминого поцелуя Елену вновь охватили чувства, она готова была разрыдаться от счастья снова видеть своих родных. Поэтому чмокнула ещё разочек мать, а затем не удержалась и потрепала по кудряшкам Иришку. Та, конечно же, сразу взбрыкнула, отмахнувшись от Елены как от назойливой мухи. Иришка вечно конкурировала с Еленой за родительское внимание и терпеть не могла все эти «телячьи нежности» от старшей сестры, улавливая в них тайное чувство превосходства. Кстати, не без оснований.
Свою зубную щетку Елена вычислила без труда. Она единственная оказалась сухой. Девушка долго крутила в пальцах этот странный предмет для чистки зубов. Массивная, неестественно жёлтая щетка с натуральной щетиной буроватого цвета, такую современному человеку даже в рот засунуть страшно. А тут ещё и зубная паста с давно забытым названием «Поморин» в жестяном тюбике, с резким солоноватым вкусом, долго во рту не подержишь. Но ничто не могло испортить впечатления Елены об этом, поистине волшебном утре.
Мамины блины оказались такими же вкусными, как и запах, исходивший от них. А потом все пили чай, который отец заварил, вытянув словно величайшую драгоценность пару щепоток чего-то мелкого и темноватого из маленькой пачки со слоном и наездником на этикетке. И, несмотря на то, что заваренный чай имел бледноватый оттенок и почти не обладал никаким вкусом, он тоже не ухудшил настроение Елены. Внутри неё всё пело и трепетало, отчего девушке хотелось пританцовывать и кружиться по маленькой квартире. Она бездумно летала по комнатам, бесконечно переставляла предметы, попадающие ей под руку, как будто это могло помочь ей вспомнить давно ушедшее время, куда она только что чудесным образом вернулась.
Но эйфория Елены стала потихоньку покидать её, потому что в дело вмешались бытовые проблемы. После завтрака не прошло и полчаса, как мама попросила старшую дочь помочь ей по хозяйству. «Точно! – вспомнила Елена, – Каждую субботу в доме проводилась еженедельная приборка». Сначала надо было помочь матери выстирать белье, которое предварительно собиралось по всему дому и складывалось в коридоре в одну большую кучу. После этого из кладовки извлекали предмет гордости всей семьи – стиральную машину «Ока». «Ока» была цилиндрической формы, унылого зеленоватого окраса и по виду очень напоминала жестяную бочку, которую ставят под водосточную трубу. Весила чудо-машина немало и занимала почти всё пространство ванной комнаты. Сливной шланг, отходивший от «Оки», приходилось бросать прямо в ванну. Ни отжима, ни полоскания у этого агрегата не было, но хозяйки были рады и такой помощнице.
В бак «Оки» наливалась горячая вода, далее засыпали стиральный порошок, а потом небольшими порциями закладывали грязное белье. Стирали так: вначале бросали в «Оку» самые светлые вещи, затем более темные и в конце уже стирали то, что имело черный цвет. Каждая порция белья крутилась в машинке минут пятнадцать, постепенно освобождаясь от грязи. Если что-то не отстирывалось, приходилось дополнительно шоркать вытащенные из машины вещи руками.
Но и это ещё не всё. После стирки в «Оке» бельё нужно было ещё раз прополоскать – машина оставляла на вещах слишком много стирального порошка. В семье Распоповых приспособились полоскать в старой детской ванночке, которую помещали в большую ванну и промывали там всё бельё под струёй прохладной воды. Счетчиков на воду в те времена не было, поэтому влага могла литься из крана хоть целый день.
Неудивительно, что со всеми этими процедурами стирка растягивалась на несколько часов. Когда вещи были наконец выстираны, по всей квартире натягивали веревки, чтобы развесить бельё для сушки. И вся семья вынуждена была пробираться под свисающими мокрыми тряпками, согнувшись – потолки в квартире родителей Елены были низкими. Правда, если погода позволяла, вещи развешивали на балконе.
Чтобы успеть переделать все домашние дела, мать семейства в параллель со стиркой варила на обед суп, перебегая из ванной комнаты на кухню и обратно. А Елену после стирки отправили в магазин за свежим хлебом и молоком. Для этого похода отец выдал дочери алюминиевый трёхлитровый бидон и сплетённую из сизоватых довольно толстых верёвок сетку-авоську, Елена уже забыла, что бывают такие.
Размахивая авоськой с засунутым в неё бидоном, она покинула квартиру и начала спускаться по лестнице. Но молодое тело требовало движения, и уже к середине первого пролёта Елена поняла – она не чинно шествует по ступенькам, как делала ещё вчера, в прошлой жизни, а сломя голову несётся вниз. К концу спуска девушка бросила все тормоза и буквально вылетела наружу. Но сделав пару шагов, резко замедлила темп, на улице сердце ее замерло. Всё вокруг было непривычным: люди в странных и довольно нелепых по современным меркам одеждах, преимущественно блёклых тонов; звуки улицы, где шум машин оказался заметно меньше гомона голосов во дворе; перечный запах нагретой пыли, пряный и острый; низкие силуэты домов, каждый из которых был максимум пять этажей.
Видимо восприятие Елены опять переключилась по собственной воле, и она снова смотрела на всё глазами жителя XXI века. «Где же у нас ближайший супермаркет?» – промелькнуло в голове девушки, но она тотчас поняла свою ошибку, во время её юности в Серпске не было ни одного супермаркета, только продуктовые магазины со скудным выбором, но имеющие пышное название «Гастроном». Правда, хлеб и разливное молоко покупали не там, а в специализированных маленьких магазинчиках, чаще всего расположенных в подвалах или на первых этажах жилых домов.
Ближайший хлебный магазин, или булочная, был в квартале от дома Распоповых. Это Елена помнила хорошо. Выходным днём за свежим хлебом в эту булочную стекался весь микрорайон, и желающим что-то купить приходилось выстаивать длинную очередь. В магазине хлеб никто не упаковывал, его просто совали в руки прямо вместе со сдачей, чтобы сразу обратиться к следующему покупателю.
В молочном магазине очередь оказалась не короче, чем в хлебном. Только получив в руки пару влажных от конденсата пакетов молока треугольной формы и бутылку кефира с широким горлышком и зелёной пробкой из фольги, Елена поняла свою ошибку – после укладки в авоську хлеба места там почти не оставалось. И чтобы упихать все покупки Елене пришлось, держа в одной руке буханку, батон и тяжеленный бидон, где уже плескалось купленное разливное молоко, втискивать другой в дурацкую сетку чёртовы пакеты и бутылку. И всё это среди толкотни молочного магазина! Чудом не разбив стекло и не разлив молоко из бидона, она вынуждена была пристроить хлеб прямо поверх далеко не стерильных пакетов с молоком. У неё просто не было иного выхода, банально не хватило рук. Оглянувшись по сторонам, Елена обратила внимание на то, что основная масса покупателей поступает таким же образом. Продукты, в упаковке и без, вперемежку упихивались в такие же дырчатые сетки, как и у Елены. И никого не смущало полное несоответствие расположения продуктов элементарным правилам гигиены.
– В следующий раз возьму несколько сумок, – пообещала себе самой Елена, – надо приучать семью к цивилизованной жизни, а то так и до дизентерии недалеко. И как хорошо, что мне поручили купить только хлеб и молоко, а то я до вечера бы простояла в очередях!
Впрочем, эти мысли исчезли из её головы так же стремительно, как и появились, Елена снова ощущала себя молоденькой девушкой, и очереди были для неё столь же привычны, как каменный топор для пещерных людей. Советский человек, без преувеличения, проводил в них не менее трети своей жизни.
Вечером мама, к тому времени закончившая все дела и в очередной раз накормившая семью, присела в кресло отдохнуть. Елена, которую до сих пор переполняли чувства, пристроилась на пол возле нее и положила голову маме на колени. Теплые и мягкие, мамины колени были самым удобным, самым надежным укрытием на земле. Мамина рука погладила Елену по волосам, а та в свою очередь привстала на коленях и уткнулась лицом в ее живот. Она втянула носом знакомый с детства запах, запах дорогого, самого родного человека на свете. На глаза Елены навернулись слезы. Как здесь, в объятьях этих мягких рук тепло, безмятежно, спокойно, надежно! А этот чудный мамин запах! Запах нежности и любви – безвозмездной, всеобъемлющей. От переизбытка эмоций у Елены защипало в носу и слезинки покатились из глаз. А мама гладила и гладила длинные, спутавшиеся волосы дочери, расчесывая пальцами, как гребнем непослушные струящиеся пряди.
«Неужели всё это вернулось ко мне, чтобы опять уйти? А вдруг я вечером усну, и проснусь уже там, на сорок лет вперед? Опять останусь совсем одна, только я и мои проблемы, и никакой возможности прильнуть к этим теплым коленям? Где сон, где явь? Что вообще происходит?» – в голове Елены бродили одни безответные вопросы, жгучие и безжалостные точно слепни в жаркий день.
Эти «слепни» разлетелись, когда мама внезапно перестала гладить волосы.
– Пойдем-ка, Алёшик, платьем твоим заниматься, – мама подняла голову Елены со своих колен и начала устало подниматься с кресла, – а то через неделю в школу, а форма не дошита ещё….
– Какая форма? – не поняла Елена.
– Как это, какая? – шумно удивилась мама, – ты же сама не захотела новую школьную форму в магазине покупать. В старую уже не влазишь, вот новое платье и шьем. Кто мне всё лето талдычил, что хочет в последнем классе модницей побыть? Замучила меня совсем! Чё, память напрочь отшибло? Странная ты какая-то сегодня, однако. Не с той ноги что ли встала?
– Но ты же устала за день, мамочка… – заканючила Елена, которой ужасно не хотелось покидать родные колени.
– Да ладо, чё устала-то? Пойдем, пойдем… – потянула её за собою мать.
Они направились прямиком в комнату сестёр, где в углу, прикрытый кружевной накидкой, стоял ещё один предмет настоящей гордости семейства Распоповых – старая ножная швейная машинка. В советское время такой механизм мог себе позволить далеко не каждый. Мама откинула накидку, на рабочем столе лежало недошитое школьное платье Елены.
В этот момент Иришка, сидевшая за письменным столом и выводящая полузасохшими фломастерами какие-то каракули на линованном листе бумаги, с вызовом воскликнула:
– Опять громыхать будете драндулетом этим поганым, ну мама-а-а! Фу-у!
С этими словами Иришка, сделав вид, что психанула, бросила своё занятие, и даже не закрыв перо фломастера, которым рисовала, вылетела из комнаты, громко хлопнув дверью.
– Ну, что ты так нервничаешь? Сидела бы и рисовала, Иришечка, милая. Кто тебе не дает? – крикнула ей в спину мама, а потом с минуту неотрывно смотрела на захлопнутую дверь в ожидании, когда младшая дочь сменит гнев на милость и вернётся в комнату.
Кажется, это возымело толк, потому что вскоре в коридоре раздались быстрые шаги, дверь приоткрылась. Из неё выглянула обиженная рожица младшей сестры Елены.
– Конечно! –раздражённо выпалила рожица, – Все для Ленки, как всегда! А мне ничего, обёртку от фантика и ту не даёте! Фломастеры даже, вон, все засохли. Новые никак не купите.
– А этой, – и Иришка яростно мотнула подбородком в сторону Елены, – всё, что только захочет! Она же стар-ша-я!
Последнее слово Иришка для мрачной убедительности произнесла по слогам.
– Я бы купила тебе фломастеры, да только, где? – миролюбиво вздохнула мама, привыкшая к Иришкиной ревности к старшей сестре, – Не горюй, милая. Вот Дядя Женя в Москву поедет, я ему закажу. Хорошо?
Мама виновато улыбнулась кривой рожице, торчащей из двери.
– Ладно, – Иришка наконец сменила гнев на милость, состроила Елене злобненькую гримаску и со словами «Алёшик-выпендрёжик», окончательно исчезла за дверью, вероятно удовлетворившись данным матерью обещанием.
В зависимости от настроения младшая сестрёнка дразнила Елену то «Алёшик-выпендрёжик», то, будучи не в настроении, «Алёшик-ублюдошик». Услышав последний эпитет, мама всегда сурово хмурилась и просила Иришку никогда не произносить подобные выражения. Иришка с честными глазами вдохновенно клялась, мол, с этого момента больше никогда. Но хватало этой клятвы лишь до следующего раза.
Тем временем Елена по просьбе матери уже натягивала недошитое платье, чтобы портниха вспомнила, на чем остановилась прошлый раз. Когда платье было надето, Елена подошла к зеркалу и долго смотрела на свое отражение. И услужливая память моментально воскресила всё, что было связано с этим нарядом.
Глава 10
А дело было так. Первого сентября в десятом классе, где училась Елена, произошёл бунт локального масштаба. Перейдя в выпускной класс, наиболее продвинутые ученицы решились посягнуть на святая святых советской школы – школьную форму. В те годы школьная форма для девочек не менялась с возрастом и представляла собой тёмно-коричневого цвета платье до колен и передничек, который в зависимости от ситуации имел или белый (по праздникам), или чёрный стандартный окрас. В таких платьицах и передниках щеголяли все – от зелёных первоклашек до вполне оформившихся девушек, учениц выпускного класса. Менялись только размеры, фасон оставался незыблемым как смена времён года. Ничто не могло нарушить привычный ход вещей. По крайней мере, в той школе, где училась Елена Распопова. До тех пор, пока в дело не вмешалась эта самая Елена.
Ещё в конце девятого класса она, которую одноклассники все годы учёбы небезосновательно считали обыкновенной серой посредственностью, неожиданно почувствовала прилив неведомой доселе силы. Словно сработал внутри какой-то тайный переключатель, о существовании которого Елена даже и не догадывалась, поскольку на протяжении всей её прошлой жизни он не действовал ни разу. И вот, на тебе! В общем, Елена внезапно ощутила себя взрослой. Первой из всего класса.
Она помнила, как в то незабываемое утро вдруг увидела одноклассников в новом свете – они дурачились, галдели, носились по классу, в общем, вели себя так же, как прочая школьная мелкота. А Елене захотелось чего-то большего. Чего именно она тогда и сама не ведала, но уже чувствовала, чего ей точно не хочется – вести себя как маленькая, как ребёнок. Она не спеша прошествовала к своей парте и села, спокойно и отстранённо созерцая царящий вокруг шурум-бурум. Когда кто-то, пробегая мимо, случайно толкнул Елену, она не стала говорить обидчику ругательные слова или гоняться за ним с учебником, чтобы треснуть нахала по башке, а лишь брезгливо сморщила носик в его сторону. Весь день она продолжала в том же духе, интуитивно подстраиваясь под новую свою внутреннюю реальность. А через неделю «взрослое» поведение Елены вошло у неё в привычку.
Произошедшая с Еленой метаморфоза не прошла незамеченной. Сначала её оценила соседки по ближайшим партам, которые с лёгкой руки Елены тоже стали вести себя рассудительно и даже степенно, потом перемену заметила и их классная руководительница, обронившая после уроков что-то типа «молодец, Распопова, кажется ты наконец повзрослела». В общем, к концу учебного года Елена – абсолютно неожиданно для себя – стала неформальным лидером девочек класса, и даже записные заводилы, ранее бывшие в классе особой кастой, начали копировали её поведение.
Именно в ту пору на девчоночном совете, состоявшемся однажды после уроков и проходившем вокруг парты Елены, и было решено – в десятый класс все придут без ненавистных передников. А главное – каждая в новом платье. Дескать, пора уже показать себя во всей красе – не дети, чай. Даже обоснование для столь нахальной выходки придумали, чтобы всё действительно выглядело по-взрослому. Решили на все наезды учителей и прочего начальства отвечать, мол, так и так, фасон новых платьев не предусматривает ни стандартные накладные белые воротнички – ещё один извечный атрибут школьной, – формы, – ни дурацкие одинаковые манжеты. И уж тем более не сочетаются с ним какие-то примитивные фартуки.
– Хватит как домохозяйки в дурацких тряпках, приделанных спереди, по школе щеголять. Мы выросли уже! – под общее ликование вынесла вердикт самая бойкая из Елениных одноклассниц Танька Дериглазова.
Елена промолчала, но в душе её пели соловьи. В кои-то веки она захватила пальму первенства. Она – вечный середнячок, ничем не примечательная девочка со средними способностями и скромными внешними данными. И вдруг к её мнению стали прислушиваться все! Или почти все.
Разумеется, первого сентября в новых платьях пришли лишь некоторые девчонки. Кто-то побоялся, кто-то послушался родителей, а кому-то просто было всё равно. И всё же, к радости Елены, отступниц набралось человек шесть. Перед началом уроков «взрослые» девочки сбились в стайку, точно зная, что этот, объявленный системе образования вызов, непременно принесёт бурю негодования со стороны учительского состава и потребует от них сплоченности и мужества. Они ждали нападение, они готовились отразить натиск и знали, что вместе им будет перенести это легче.
Но поначалу всё шло как обычно, только кто-то из мальчишек присвистнул, озирая модниц весёлым взглядом, но и это прозвучало как одобрение, а не порицание. Да и те из девочек, кто пришёл в передниках, бросали в сторону Елены сотоварищи завистливые взоры.
Начался первый урок, который традиционно не предполагал излишней умственной активности и проходил, скорее, как классный час – всё-таки первое сентября, первая встреча после долгой летней разлуки. Даже для учителей встреча с обновленным и повзрослевшим классом тоже явление трепетное и любопытное. Поэтому пол-урока пролетели стремительно, с шутками-прибаутками, и классная руководительница, учитель русского языка и литературы, никак не могла успокоить перевозбужденный класс. Все наперебой старались блеснуть остроумием, накопившимся за лето и не находившим выхода до сегодняшнего дня.
Тем не менее, к концу урока дисциплина была восстановлена, и учащиеся прослушали небольшую лекцию о том, что ждет класс в ближайшее время. А перед самым звонком Римма Петровна, как звали классного руководителя десятого «А» класса, поимённо перечислила фамилии всех бесфартучных десятиклассниц и попросила их зайти на перемене в подсобку. Подсобкой называлось маленькое помещение, где хранились учебники и наглядные пособия, и которое, за неимением в школе другой территории для приватных бесед, учителя использовали как кабинет для переговоров с глазу на глаз.
Елена с присмиревшими подружками не без трепета переступили порог маленькой комнатушки и тесным кружком обступили единственный стул, на котором восседала Римма Петровна. Выждав многозначительную паузу, учительница ровным, спокойным голосом сделала модницам внушение, порекомендовав уже завтра прийти в школу «как положено» и впредь «неукоснительно соблюдать правила, установленные системой общего образования, и привести свой внешний вид к утверждённому министерством образования единому стандарту, иначе им точно придется разговаривать с директором школы».
– Поймите меня правильно, мои дорогие, – в конце изрекла Римма Петровна, со значением посверкивая очками в толстой оправе в сторону нарушительниц, – вас все равно заставят пришить белые воротнички, манжеты и надеть фартуки. Да, вы взрослые. Правда, взрослые. И это видят все – будете вы носить фартуки или нет. Но поверьте мне, противостоять системе – пусть даже когда вас так много, целых шесть человек – это всё равно бессмысленно и бесперспективно. Уж поверьте мне, давно уже взрослому человеку. Вам осталось потерпеть всего один год. Уже следующим летом вы сможете одеваться без оглядки на мнение учителей и сверстников. Послушайтесь меня и потерпите. Иначе всё это кончится скверно.
Девочки молчали, потупив глаза в пол. Потом самая болтливая из одноклассниц, Юлька Говорова, открыла было рот, чтобы что-то возразить, но Римма Петровна, не дав Юльке даже начать, властно остановила её рукой, точно припечатала ладонью рот ученицы.
– Я не вступаю с вами в дискуссию, – отчеканила она совсем другим, совершенно начальственным тоном, – я даю вам совет. Совет, можно даже сказать, дружеский. Всё, я пошла, у меня уроки.
Девочки печально побрели в коридор, подпираемые сзади Риммой Петровной. У дверей класса учительница оставила их.
– Подумаешь, совет! – прошипела в прямую спину удаляющейся Риммы Петровны Танька Дериглазова, – не собираюсь я ничего пришивать, да и фартук давно выбросила. Пусть Римма сама год терпит, если ей надо!
Сказав это, она обвела подружек глазами, ища поддержку. Но остальные задор Таньки не поддержали. Только Елена, испытывающая чувство вины – всё же инициатива изначально исходила от неё – быстро закивала в ответ и пробормотала:
– Я тоже, я тоже. Пусть родителей вызывают в школу, я не сдамся!
Вышло не очень-то убедительно. Девочки потащились обратно в класс, настроение у них упало, и всё же они из последних сил пытались держать бодрый вид. И постепенно хорошее расположение духа вернулось к нашим бунтаркам. Буквально вся школа в этот день смотрела только на них.
Кто-то разглядывал модниц с нескрываемым любопытством и даже восхищением. Кое-кто поджимал губы и неодобрительно качал головой. Куда бы ни пошли бесфартучные десятиклассницы, они постоянно слышали, как за их спиной шушукаются, их обсуждают.
Больше других недоумевали, разумеется, мальчишки-одноклассники, которые никак не могли взять в ум, как же им теперь общаться со своими повзрослевшими товарками. Прежние панибратские отношения, очевидно, канули в прошлое, а к новым мальчики, созревающие не так быстро как девочки, просто ещё не были готовы.
На протяжении всего этого дня Елена регулярно ловила на себе быстрые взгляды, которые украдкой бросали на неё мальчишки. И в каждом из них ощущалось удивление, смешанное с восхищением и даже благоговением. Уж больно она, как и остальные бунтарки, не походила на ту бесцветную салажку, с какой они расстались совсем недавно, только в конце весны! Словно новое платье – не то коротенькое, с подолом чуть ниже попы, в котором она щеголяла в девятом классе, а новое, красиво приталенное, удлинённое, ниже колена – наделило её некоей манящей загадочностью, отстранённостью и притом желанностью. Ощущая это перегретое внимание, Елена чувствовала себя на седьмом небе. Судя по лицам, остальные бесфартучницы испытывали сходные эмоции.
Естественно, на следующий день все бунтарки с видом триумфаторов явились в школу без фартуков. Недолгой оказалась их радость. Прямо с первого урока девушек, не внявших уговорам классного руководителя, вызвали к завучу школы.
Правда, на этот раз «взрослая шестёрка» шла на ковёр с другим чувством. Воодушевлённые пусть и не высказанным вслух, но хорошо читаемым одобрением школы, девочки переступили порог кабинет завуча с гордо поднятой головой. Каждая была готова к битве, каждая смотрела в лицо противнику гордо и независимо. Все как одна считали, что отступать уже поздно, да и некуда. Но противник оказался их достоин.
Завучем школы в те годы была Элеонора Викторовна Бурова – одна из тех советских женщин, которые вместо личной жизни имели лишь биографию. Причём, всю эту биографию пытливый глаз мог легко считать непосредственно из облика Буровой. Элеонора Викторовна неизменно появлялась в школе в строгом, блёклых тонов костюме, с юбкой из скучной плотной ткани, и в тяжёлых туфлях, напоминавших по виду солдатские башмаки. Это была рослая, дородная женщина неопределённого возраста с вечно брюзгливым выражением лица, которое свойственно людям, подмечающим в жизни одни недостатки. От тяжёлого сумрачного взгляда, которым Элеонора Викторовна удостаивала тех, кто вёл себя неподобающим, по её мнению, образом, вздрагивали не только ученики, но и учителя с родителями.
Разумеется, Элеонора Викторовна никогда не была замужем и своих детей не имела, потому что, «не жалея сил и здоровья, всю жизнь свою отдала делу воспитания подрастающего поколения», как неоднократно высказывалась о Буровой на школьных линейках директор школы, после чего обязательно всхлипывала, личным примером призывая присутствующих проникнуться широтой души завуча. Преподавала Бурова самую нудную, по мнению Елены, науку – историю, с её бесконечным заучиванием дат революций и съездов, имён предводителей народных восстаний и вечным обличением проклятых эксплуататоров. Последнее в устах Элеоноры Викторовны вообще звучало устрашающе. А ещё Бурова была членом партии, о чём любила упоминать при любом случае.
Вот какой грозный противник ждал Елену и её одноклассниц. Однако, войдя в кабинет завуча на этот раз, девочки ничуть не стушевались под немигающим пристальным взглядом Буровой. Упоение от собственной пробудившейся силы вмиг разрушило все бастионы страха перед Элеонорой Викторовной, возведённые девочками за долгие годы учёбы. Елена с вызовом выставила чуть вперёд ногу, Юлька Говорова заложила руки за спину и задрала подбородок, Танька Дериглазова так вообще стояла слегка подбоченясь. Горделивая осанка учениц не осталась незамеченной завучем, но, к удивлению вызванных на ковёр десятиклассниц, которые уже были готовы к бою и жаждали постоять за себя, за свой новый облик, Элеонора Викторовна не разоралась как обычно. Более того, она ни мимикой, ни жестом не выдала своё неудовольствие этой фрондой. А напротив, смягчила взгляд и заговорила благожелательно, почти ласково:
– Присаживайтесь, девушки, на диван. Мне бы хотелось с вами немного поговорить. Все там не поместятся, поэтому вы, Елена, сядьте, пожалуйста, в это кресло. А вы, Татьяна и Юлия, возьмите стулья у стены и пододвиньтесь поближе. Так будет удобно всем.
Обескураженные необычным поведением завуча, а также непривычным обращением на «вы» в свой адрес, девочки сразу потеряли в задиристости и послушно устроились: кто на диване, кто в кресле, а кто на стуле. Пока все усаживались, Бурова внимательно изучала каждую из пришедших, будто видела впервые. Затем на какое-то время в кабинете стало тихо, наконец, Танька не выдержала и выпалила:
– Элеонора Викторовна, зачем вы нас вызвали?
И тотчас покраснела, стыдясь собственной ребяческой несдержанности. Бурова ещё помолчала секунд десять, а потом всё тем же ласковым голосом, совершенно не сочетающимся с вросшим в её кровь и плоть грозным имиджем, ответила:
– Я хочу обратиться к вам с просьбой. Просьбой не простой, а особенной – как к взрослым людям. Видите ли, милые мои барышни. Вы начинаете последний учебный год в школе в ранге самых старших учеников. Отныне все классы младше вас, поэтому вы являетесь для других ориентиром, примером для подражания. На вас теперь смотрят почти как на нас, учителей. Кстати, и мы, учителя, тоже смотрим на вас немного по-другому, нежели на всех остальных. Вы в шаге от взрослой жизни, вы практически наши помощники в деле воспитания, особенно младших классов. Те на вас вообще с восторгом смотрят. Не заметили ещё?
Девочки быстро переглянулись, но хором отрицательно закачали головой. В этом кабинете гордиться своей взрослостью им казалось неуместным.
– Понятное дело, где вам на мелочь внимание обращать! – неправильно истолковав это поведение, хмыкнула завуч, – Эх, молодость! Всегда эгоистична, ничего вокруг себя не замечает.
Бурова повозилась в своём кресле, затем продолжила уже другим, менее сахарным тоном:
– Ну, тогда просто поверьте мне на слово. Смотрят. Я понимаю, вам не терпится стать взрослыми, и вы решили подчеркнуть это своими нарядами. Мне нравятся ваши платья, правда-правда. Они вам идут и даже на школьную форму очень похожи, но все же это не форма. Есть заведенный порядок, и пренебрежение этим порядком может привести к самым печальным результатам. Известно, что всё начинается с малого, но постепенно эта малость разрастается и приводит к гигантским последствиям. Ничтожное нарушение может перерасти в самые пагубные проступки. Верю, что вы, надев свои платья, об этом просто не подумали. Знаю, вы все хорошие советские девочки. Поэтому я хочу вас попросить уже завтра привести форму к установленному образцу. Очень прошу. Надо пришить белые воротнички, манжеты и надеть фартуки. Я всё понимаю, но это необходимо.
Девочки начали переглядываться между собой. Никто не хотел так просто уступать завучу, но и желающих высказать это вслух не находилось. И тут Юлька Говорова выпалила.
– Зачем нужны эти воротнички и манжеты? И особенно фартуки? Мы что, кухарки? Если бы от них польза какая-то была, то ладно. Так ведь нет же никакой.
– Вот-вот, – поддержала Юльку Танька Дериглазова, – к моему платью вообще ни один фартук не подходит. Платье длинное, а фартуки все короткие. Я же не официантка.
Видя, что остальные девочки готовы предъявить свои аргументы, Элеонора Викторовна взяла инициативу в собственные руки и на полтона повысила голос, напомнив себя прежнюю:
– Тихо-тихо!
Но тотчас спохватилась и продолжила уже более доверительно:
– Только, прошу, не все сразу. Давайте поочерёдно. Я готова выслушать каждую из вас.
И Элеонора Викторовна уставилась прямо на Елену, видимо, ей уже сообщили, кто стал заводилой «фартучного бунта».
Елена не заставила себя ждать, и откуда только смелость взялась?! Она сама себя не узнавала.
– Элеонора Викторовна, вы только гляньте, у моего платья вообще некуда манжеты пришивать, видите? – Елена ткнула рукой почти в лицо завуча, – Здесь расклешённый рукав, для такого рукава манжеты не предусмотрены в принципе, ну, куда я должна нашить белую тряпку? И воротник у моего платья – стоечка. На такую модель не шьют белые воротнички. А если я надену фартук, буду выглядеть как дурочка.
К несчастью, от переизбытка эмоций на глаза Елены навернулись предательские слёзы. Она хлюпнула носом и отвернулась. Почуяв брешь в рядах соперников, Элеонора Викторовна ринулась развить успех:
– Не будете вы, Елена, выглядеть нелепо, уверяю вас. Ну, если вам некуда пришить воротничок, что ж, разрешаю не пришивать. Но фартук придется надеть. Каждой.
– Зачем? И так платья коричневые пошили, почти как форма, мы же почти ничем от других не отличаемся, чего же еще? Зачем фартуки? попыталась перехватить инициативу Танька Дериглазова.
Но было уже поздно. Бурова как заправский шахматист уверенно вела эту партию к своему выигрышу.
– Если хотите знать, я попробую вам объяснить, – голос завуча приобрёл нотки назидательности, и девочки, привыкшие, что таким тоном к ним обращаются учителя во время урока, покорно притихли, забыв о спорах. Тем более что, проговаривая последнюю фразу, Элеонора Викторовна встала.
– Видите ли, милые барышни, – Бурова вышла из-за стола и принялась расхаживать по кабинету, ненадолго останавливаясь около каждого посадочного места, будто адресуя свои слова каждой из девочек , -лично, – хочу вас спросить. Знаете ли вы, почему в СССР придумали единую школьную форму? Думаю, что не знаете или даже не хотите знать. А придумали ее вот по какой причине. Вам всем известно, что достаток в каждой семье разный. Мы коммунизм ещё не построили, поэтому есть у нас в стране семьи победнее, есть побогаче. И чтобы в школе все ощущали себя одинаково, не отвлекались на наряды, и была придумана единая для всех форма. Стоит она не дорого, всем по карману. А вы не задумывались, что будет, если всем ученикам позволить ходить в том, в чём им нравится? Получится тогда, что кто-то будет каждый день наряды менять, а кто-то, у кого денег меньше, в одном и том же годами ходить. Зависть начнется. Некогда будет об учебе думать. А в школе у нас главное – успеваемость, а не одежда. И вы своим поведением хотите сломать все то, что выстраивалось годами! Вы же понимаете, что мы не можем это позволить. Я готова разрешить вам некоторые послабления, которые уже озвучила, всё же ваши семьи потратились на эти платья, но не более того. И прошу вас понять главное. Своим пренебрежением к общепринятым нормам вы ставите себя выше всех других учеников в нашей школе. А это недопустимо, не по-советски, не по-комсомольски. Я надеюсь на вашу сознательность, и еще раз прошу всех привести в соответствие свои школьные платья. Ну, что? Договорились?
Все девочки согласно закивали. Капитуляция была безоговорочной и тотальной. Удивительно было другое – Элеонора Викторовна, которую все боялись и обходили стороной, зная ее крутой нрав, неожиданно показала себя истинным дипломатом, проявив терпение, мудрость и умение быстро и эффективно решить проблемные вопросы. Видимо учитель истории хорошо знала биографию А.В. Суворова и применяла на практике его девиз «удивить – значит, победить».
Глава 11
Воспоминания о хитроумном завуче и первой проверке на взрослость вспыхнули в голове Елены, едва только она увидела себя в зеркале в еще не дошитом, но безусловно том самом злополучном школьном платье, настолько ярко, что девушке невольно вскрикнула.
– Что? – всполошилась мать, неверно истолковав возглас дочери, – иголка где-то попала? Укололась?
– Нет- нет, – поторопилась успокоить маму Елена, – не обращай внимания, это я так.
Она замялась, не зная, как объяснить матери, что вся затея с платьем – пустая трата времени, всё равно носить его в школу в том виде, в котором мечталось, не получится.
– Мамочка, понимаешь, это платье… Ну, в общем, я передумала. Точнее, я передумала уже давно, но всё не знала, как тебе сказать… – Елена мямлила, чувствуя, как безнадёжно вязнет в словах, теряя смысл того, что хотела сказать.
Мама выпрямилась на стуле за швейной машинкой и пристально глянула на дочь:
– Какая-то ты сегодня странная, Алёшик. Будто с луны свалилась. Что за капризы? То месяц канючила, всё уговаривала меня пошить это платье. Мол, не буду старую форму носить, вообще тогда в школу не пойду. Заставила меня-таки за машинку сесть, а как дошло до примерки – бац, а платье-то тебе не нравится!
– Мамочка… – затараторила было Елена, ощущая новый прилив слёз раскаяния к глазам.
Ей совсем не хотелось обижать мать, чудесным образом воскресшую из мёртвых. Но мама остановила её жестом и продолжила уже более спокойным тоном:
– Ты же сама такое захотела, Алёшик. Все уже раскроено. Можно, конечно переделать, но немного, в рамках кроя. Ну, что? Что делать будем?
– Мамочка, – повторила Елена, не без труда совладав с нервами, – давай, чуточку исправим. Капелюшечку, совсем-совсем немножечко.
– Ты же сможешь, правда? Мамочка… – в конце этой тирады Елена вышла на такие приторные льстиво-просительные интонации, что самой стало противно, и она остановилась, так и не закончив последнюю фразу.
Мама снова внимательно посмотрела на дочь, с лёгким недовольством пожала плечами и вздохнула:
– Что ж, настаивать не буду. Тебе носить. Но могу поправить только в пределах кроя. Что ты хочешь поменять?
– Я хочу укоротить платье до колена, рукава сделать с манжетой и воротник отложной, чтобы пришить белый воротничок, – загибая пальцы, затарахтела Елена, радуясь тому, как быстро согласилась мать на переделку практически готовой вещи.
– Вот тебе раз! – выслушав торопливые указания дочери, проворчала мама, – Ну, точно с луны шмякнулась ты у меня, Алёшик! То едва дырку в моей башке не протёрла, всё талдычила как заведённая, хочу, дескать, платье без дурацких воротников и манжет. А сегодня требуешь обычную школьную форму! И зачем, скажи на милость, было весь этот огород городить? Купили бы в магазине, да и всё. Только время у меня отнимаешь!
– Ну что ты, мамочка! – с воодушевлением воскликнула Елена, прекрасно знавшая отходчивый мамин характер, а также, как нужно вести себя с матерью, когда та делает вид, что сердится, – у меня будет самое лучшее платье, ты ведь у меня такая рукодельница,
И она, подбежав, крепко обняла маму, а потом точно маленький ребенок повисла у неё на шее.
– Ну ладно тебе, кобылка великовозрастная моя, – как и рассчитывала Елена, льстивые слова и объятия моментально сделали своё дело, мать больше не ворчала, пусть и изо всех сил старалась не сбросить с себя рассерженный вид слишком быстро.
– Ну-ка, пусти, задушишь меня совсем, – и мама со смехом осторожно попыталась освободиться от объятий дочери.
Елена тоже захохотала вслед за мамой, ей было так хорошо сейчас, так радостно и спокойно. Как же ей не хватало этой невинной радости последние месяцы! Внезапно дверь в комнату приоткрылась, в неё вновь просунулась любопытная голова Иришки.
– Чё это вы? Хи-хи словили? А чё смеетесь? А? – забормотала сестрёнка, стремительно перебегая глазами с матери на Елену и обратно, пытаясь разгадать причину этого внезапного выплеска эмоций. Очевидно Иришка решила, что взрослые подсмеиваются над ней, а это она стерпеть, конечно же, не могла.
– Не твое дело, иди отсюда, принцесска на , -горшке, – с неожиданным для себя раздражением прикрикнула на сестру Елена, сама не понимая почему.
Видимо сработал многолетний стереотип отношений старшей и младшей сестёр Распоповых, или как принято было говорить тогда – автопилот. Елена и Иришка редко жили, душа в душу, постоянно задирали, подначивали и критиковали друг друга, соревнуясь за родительское внимание и лидерство в семье. Впрочем, до серьёзных стычек доходило редко, как правило, всё ограничивалось короткими бойкотами друг друга, декламированием обидных прозвищ, придуманных ещё в сопливом детстве, да жалобами в адрес матери. Елена в зависимости от настроения, дразнила Иришку принцесской на горшке или, когда та слишком доставала, дурындолеткой.
Первое прозвища родилось, когда трёх-четырёхлетняя Иришка не садилась на горшок иначе, как требуя от матери бесконечно читать ей во время деликатного процесса любимую сказку «Принцесса на горошине». А второе – когда уже шестилетняя в то время сестрёнка, услышав от отца слово «драндулет», переспросила под общий хохот «какой такой дурындалет»?
А Иришка в ответ обыгрывало данное Елене матерью имя Алёшик, добавляя к нему рифмующиеся обидные эпитеты.
– Ну, что ты опять на неё огрызаешься?! – с укоризной глядя на старшую дочь, отреагировала мама.
Эта фраза тоже была стандартной для подобного рода случая, поэтому получившая поддержку Иришка, отреагировала предсказуемо. Она покрутила у виска, сердито посматривая на сестру, а затем стремительно выпалила «Алёшик – в жопе ёжик» и была такова.
Елена едва сдержалась, чтобы не расхохотаться во весь голос, настолько всё это казалось ей милым, привычным, бесконечно родным.
Весь оставшийся вечер мама дошивала Еленино платье согласно последним требованиям дочери, и делала это со свойственными ей тщательностью и терпением. Почему терпением? Да потому что старая машинка через каждые 15-20 минут взбрыкивала и отказывалась шить. То рвала нить на самом видном месте, то начинала пропускать стежки. В такие минуты Елена в бешенстве выбегала из комнаты, бормоча под нос тихие ругательства. А мама со вздохом поднималась с места и начинала настраивать подлый агрегат. А когда человеческие пальцы оказывались бессильны перед бездушной техникой, в ход шли словесные уговоры. Мама беседовала с машинкой словно с живым человеком, мягко увещевая её и призывая к послушанию. И – о, чудо! – как правило, уговоры срабатывали, и швейная машина продолжала работу.
Раз мама занялась платьем, ужин готовить пришлось отцу. Для порядка он поворчал, мол, пора бы уже старшей дочке освоить швейное дело и самой заняться собственным платьем. Но сразу сменил гнев на милость, когда лиса-Елена, чтобы умаслить папу, вызвалась ему помочь. В этот вечер в семье Распоповых на ужин были запланированы макароны с сосисками.
Узнав «меню», Елена хмыкнула про себя – подумаешь, сварить макароны! Но, глянув на пачку желтовато-бурых, длинных как водопроводные трубы макарон, осознала свою ошибку. Она уже и забыла, что такое советские макароны! На вид вроде бы похожи на нормальные, но как только опускаешь их в воду они, вместо того чтобы вариться, начинают раскисать, даже растворяться в воде. Из-за чего вода в кастрюле становится мутной и вязкой, как клейстер.
От вида этой неопрятной жижи Елену передёрнуло, и она на автомате выпалила:
– Надо было бросить в кастрюлю масло, а потом уж вываливать макароны!
– Это ещё зачем? – насторожился отец, – Какой дурак масло в воду бросает? Вот сварятся макароны, тогда и бросим прямо в тарелки. Как всегда.
– Ну, если бросить масло в воду перед тем, как опустить туда макароны, на поверхности образуется тонкая масляная пленка. Это удержит макароны от разваривания или точнее сказать от растворения… – с жаром начала просветительскую деятельность Елена, вдохновенная, что сейчас откроет глаза родителям на то, как правильно следует готовить.
Тут она случайно бросила взгляд на вытянувшееся от удивления лицо отца и поняла свою ошибку – прежняя Елена такими знаниями никогда не блистала. Пришлось срочно исправлять ситуацию:
– Нам на домоводстве как-то рассказывали. Вот только что вспомнила. Впрочем, это вариант для нормальных макарон, а не для этого клейстера.
– Надо же! Звучит разумно, – изумился Елениным познаниям отец, который, к счастью, не заметил подвох, – никогда бы сам не догадался. Давай попробуем.
В результате Елена с отцом в четыре руки вывалили в дуршлаг то, что не растворилось в кастрюле. Это нечто было начисто разварено снаружи, но оставалось твердым внутри.
– Не доварила, Ленусик. Надо было еще пару минут подержать, – попробовав одну из макаронин, заключил отец – ну да ладно. Тащи чайник, промоем их.
– Макароны? Промывать? Зачем? Да еще холодной водой из чайника! – снова не сдержалась Елена.
– Ну, не нравится тебе в холодной воде палькаться, давай откроем кран с горячей и тёпленькой промоем, – легко согласился отец и принялся открывать кран с горячей водой.
– Стой, не надо! – завопила Елена, богатое воображение которой уже нарисовало жуткую картину макарон, плавающих в той субстанции грязновато-бурого цвета, которая в те годы нередко лилась из горячего крана, – тогда давай лучше из чайника.
После промывания осклизлых, потерявших форму макарон, Елена предложила отцу пожарить их на сковородке, чтобы это месиво хоть как-то можно было есть.
– Да чего так морочиться, масло кинуть сливочное, перемешать и все! – уже в который раз удивился предложению дочери отец, – чего мудрить-то? У нас в столовке всегда так делают. Придумала же, жарить макароны!
Но Елена умела быть убедительной, и отец быстро уступил. Несмотря на её тревоги, блюдо вышло на славу. Макароны, поджаренные на сливочном масле, пусть и бесформенные, но покрытые сверху золотистой румяной корочкой, с аппетитом съели проголодавшиеся члены семейства. Даже Иришка, обычно не жаловавшая это блюдо, слопала двойную порцию, хоть и недовольно морщила при этом носик. А сама Елена, как заправский кулинар, была награждена дружной похвалой родителей за удавшийся ужин.
– Подумаешь! – проходя мимо старшей сестры, прошипела Иришка, – Тоже мне, подвиг, лапшу сварить, Алёшик-выпендрёжик.
– Шагай-шагай, дурындалетка! – начала было Елена, но едва открыв рот, подумала, «зачем же так сурово?» И сказала миролюбиво:
– Рада, что тебе было вкусно, Иришка!
Иришка так и застыла в дверях, затем медленно повернулась к сестре и уже менее непреклонно и даже слегка растеряно бросила:
– Ну, точно больная.
Родители сделали вид, что не заметили Иришкину резкость. Впрочем, как обычно.
В эту ночь Елена никак не могла заснуть. Мысль о том, в каком времени она проснется утром, не давала ей покоя. Она лежала на своем диване. Все кругом давно уже спали. Сквозь незашторенное окно в комнату задумчиво уставилась яркая луна, от чего обстановка в комнате словно плыла по призрачным жёлтым волнам. Елена смотрела в потолок, который странным образом кренился под её взглядом, то проваливаясь тёмным концом своим в чернильный омут в районе шифоньера, то всплывая белой спиной гигантского кита, когда взгляд возвращался к окну. Веки девушки периодически закрывались сами собой, и когда усилием воли Елена возвращала их в открытое состояние, всё казалось волшебным, сказочным, нереальным. «Кстати, а что вообще считать реальностью – прошлый день, который на самом деле был в будущем, или день настоящий, но по факту уже однажды прожитый? Где я буду завтра? В прошлом или в будущем?» – с этими мыслями подлые веки Елены снова рухнули, чтобы уже не подняться.
Пространство между веками оказалось вне времени и пространства, в нём не было ничего, только спокойное тепло. Да вдобавок к нему еле уловимое томление молодого тела – странное, вновь обретённое ощущение. Елена ещё попыталась о чём-то подумать, зацепиться сознанием за ускользающую явь – безуспешно. Сон уже накрывал её, глубокий и крепкий, какого у Елены не было, кажется, целую вечность.
Проснулась Елена потому, что кто-то, пройдя совсем близко, в паре сантиметров от её лица, как из лейки окатил кожу свежей прохладой потревоженного воздуха. Она открыла глаза и с трудом сфокусировала взгляд. Расплывчатая фигура у окна приобрела знакомые очертания. На миг Елене показалось, что она видит немного сутулую спину Геннадия, но нет, конечно же, это была мама, которая поливала герань на подоконнике из небольшой жестяной лейки.
– Мама-а-а, – не без удивления прохрипела Елена сонным голосом.
– А-а, разбудила тебя, да? – откликнулась мама, поворачивая к дочери улыбающееся лицо, – Ничего, пора-пора, вставай. Там отец кашу манную варит, твою любимую. Просыпайся, давай. Сегодня в ЦУМ поедем, надо обувь тебе купить сменную. Может, в детский мир по дороге заедем.
– Сегодня же воскресенье. Разве магазины работают? – на автомате выпалила Елена, потому что ей очень хотелось ещё с часок беззаботно поваляться в постели, – Выходной же!
– Школьная ярмарка! Забыла? – усмехнулась мать, – раз в году в воскресенье магазины открыты. Понятно, не все. Но эти точно работают. Вчера по телевизору в новостях местных сказали. Вставай, нечего валяться. И диван собери, не пройти тут у вас.
– Щас, – Елена потянулась с громким выдохом, – Уа-а-х.
– Не щас, а немедленно, – мама легонько шлепнула дочь по оголившейся оттопыренной попочке и направилась к выходу.
– Ну, мам! – возмущенно выкрикнула Елена, торопливо прикрывая одеялом свою пятую точку.
Мама ещё шире улыбнулась и вышла из комнаты. Елена оглянулась – Иришки уже и след простыл, только простыня свисает до пола. Что поделаешь, пришлось подниматься и заправлять диван, так как в разложенном виде он занимал слишком много места. Пройти между ним и кроватью Ирины можно было лишь боком, и то не каждому. Заправлять кровать сестры Елена не стала – пусть сама занимается, не маленькая. Впрочем, в отличие от старшей сестры, младшая могла вообще не убирать свое гнездышко. Ей все сходило с рук. Поздний ребенок, любимый родителями, избалованный и беззаботный. Поэтому в лучшем случае Иришка лишь накидывала поверх смятого одеяла покрывало, а в худшем, и вовсе не удосуживалась заправлять кровать. Отдуваться за неё приходилось Елене, но чаще уборкой постели занималась мама.
Манная каша у папы получилась выше всяких похвал. Сей факт не стал сюрпризом, именно это блюдо удавалось у отца всегда, сколько Елена себя помнила. И сейчас, уплетая дымящуюся, горячущую кашу ложку за ложкой, Елена откровенно наслаждалась завтраком, попутно пытаясь вспомнить, когда ела её в той, прошлой, взрослой жизни, последний раз. Но так и не смогла припомнить. Наверно манная каша в её жизни закончилась сразу после того, как Елена навсегда покинула родительский дом.
После завтрака Елена подошла к шифоньеру и принялась придирчиво исследовать свой гардероб. Впрочем, изучение продлилось буквально несколько секунд, потому что, и исследовать-то было особенно нечего. Одни тряпки – назвать то, что висело на плечиках вещами, язык не поворачивался. «Да-а-а, – вздохнула про себя Елена, – носить такую рухлядь нельзя. Придётся с этим что-то делать. Наверняка и с обувью дела обстоят не лучше, а скорее всего даже хуже».
Итак, ни нормальной одежды, ни обуви у нее не было в принципе. Елена приуныла и минорила ровно до тех пор, пока вдруг не вспомнила: мама же решила приодеть дочку к новому учебному году! «Это шанс – поняла Елена, – надо им воспользоваться. Не беда, если что-то придётся слегка перешить – мама просто волшебница в портновском деле, а уговаривать я умею».
Но её воодушевление закончилось, как только мать и дочь вошли в обувной отдел ЦУМа – фактически единственного в те годы магазина в Серпске, где был хоть какой-то выбор товаров для ног. Вместо привычного глазу изобилия цветов, форм и фасонов из прошло-будущей жизни Елены, полки с обувью в ЦУМе поразили её монотонностью своих моделей и полным отсутствием ярких оттенков. Громоздкие туфли, широкой колодкой больше напоминающие калоши, были представлены лишь в чёрной и белой цветовой гамме. Ботинки тёмно-коричневого цвета скорее походили на рабочую, чем на повседневную обувь. Ну и, конечно, больше всего места в отделе занимали нелепые войлочные сапоги, а также комнатные тапочки с сероватым рисунком – невзрачные и скучные.
– А где же нормальная обувь? – невольно вырвалось у Елены, которая не успела вовремя прикусить язычок.
К счастью, мама была занята определением полки с обувью нужного размера и не заметила нелогичность вопроса. Или сделала вид, что не заметила.
– Вон там твой тридцать шестой, Алёшик, – с облегчением в голосе сказала мама и потянула Елену куда-то в сторону панорамного окна, которое не мешало бы помыть.
За окном угадывались прямоугольники пятиэтажек под нависающими пузатыми тучами, готовыми окропить Серпск холодной влагой. Патина пыли на окне вполне соответствовала заоконному пейзажу.
Мать и дочь остановились рядом с полкой, на которой большими чёрными цифрами красовалась надпись «36». Обуви на этой полке было заметно меньше, чем на соседней, через проход, где было написано «39».
«Точно, тридцать шестой – самый ходовой», – со вздохом вспомнила Елена и начала изучение модельного ряда. Это не заняло у неё много времени, единственным доступным вариантом оказались какие-то жуткие башмаки грязноватого тёмно-серого цвета, из-за странной формы носка больше походившие на утюги, чем на туфли. Даже без примерки Елена знала – ходить в них будет ужасно неудобно. Ко всему прочему, туфли оказались на резиновом ходу, без малейшего намека на изящество!
– И из этого… – тут Елена чуть не сказала «дерьма», но вовремя осеклась, – я должна что-то выбрать, да, мама?
Последние слова Елены скорее напоминали стон.
– А я-то что могу сделать? – раздражённо ответила ей мать, которой, судя по всему, вовсе не понравился настрой дочери, – рожу тебе туфли, что ли?
Возразить Елене было нечего, нужно было как-то выходить из положения. Она растеряно побрела между рядами в надежде на чудо, но в этом магазине чудеса не случались, вероятно, с момента его открытия. Елена задумчиво сняла с полки тяжеловесный ботинок и почувствовала, что сейчас расплачется от отчаяния и бессилия. Ходить в такой обуви она не будет, не сможет, лучше уж босиком!
Елена зачем-то перевернула башмак и попыталась согнуть его подошву. Резина нехотя натянулась от её усилий, и тут в голову девушки пришла невероятная, отчаянная мысль. Она схватила маму, уныло наблюдавшую за мучениями дочери, за руку и потащила к стеллажу с кедами, который располагался у самого входа. На ее счастье на полке обнаружились единственные оставшиеся полукеды белого цвета нужного размера. Елена схватила кеды, быстренько примерила их и осталась довольна. Это было то, что нужно!
– Я не буду покупать тебе резиновые кеды, ноги испортишь, потом всю жизнь будешь мучиться, – отрезала мама, как только Елена подняла к ней сияющий взгляд.
Но у Елены уже был спасительный план.
– Мамочка, только не волнуйся, купим в мастерской новые стельки, нормальные, не резиновые. Значит, ноги болеть не будут. А кеды я покрашу марганцовкой в тигровый окрас и шнурки заменю на атласные узкие ленты – скажем так розового или желтого цвета, – затараторила она, не давая матери опомниться.
– Но так же никто не делает, Алешик! – с сомнением промолвила мать.
Уловив слабину в её голосе, Елена решительно перешла в наступление:
– А я сделаю, мамуля! Моду придумывают смелые и отчаянные люди. Увидишь, к концу года полшколы будут ходить в кедах. Мы с тобой еще бисером вышьем на них сверху что-нибудь или бусинки пришьем. Есть дома бусинки?
Мама отрицательно покачала головой.
– Тогда надо купить стеклянные маленькие разноцветные пуговицы. С этим, надеюсь, проблем не будет? Ну, пожалуйста, мамочка! – Елена стремительно выпаливала слова, хорошо зная, что уверенный напор в голосе оказывает на маму поистине магическое действие.
– Ффу, господи, заморочила меня совсем! – наконец, сдалась мама, отреагировав на монолог дочери в точности так, как рассчитывала лиса-Елена, – ладно, делай, что хочешь. Может, ты и права. Так и быть, помогу тебе.
– И когда ты у меня успела вырасти? Такая рассудительная, – добавила она, с изумлением разглядывая дочь, будто видя её в первый раз.
Елена сочла за благо скорее свернуть разговор с опасной темы и потащила маму к кассе, сжимая в руках спасительные полукеды. Уже на выходе из отдела ей пришла в голову еще одна блестящая мысль.
– Подожди-ка, нам нужно ещё кое-то посмотреть, – по-хозяйски распорядилась она и увлекла растерянную мать в отдел мужской обуви.
Уставшая удивляться, мама безропотно следовала за поймавшей кураж дочерью. На лице её прочно закрепилось выражение покорности и обречённости.
В отличие от отдела женской обуви, в мужском отделе на полках можно было встретить вполне приемлемые модели. Особенно маленьких размеров. Всё же в те годы модников среди представителей сильного пола было гораздо меньше, чем среди дам. Не обращая внимание на изумлённые взгляды посетителей и продавцов, Елена схватила мальчишечьи лакированные полуботинки и скоренько примерила их. На её счастье туфли сели точно по ноге, к тому же оказались лёгкими и даже с долей изящества.
Елена продефилировала по залу и остановилась перед матерью, чуть выпятив бедро.
– Ты это серьёзно? – тихо, одними губами вымолвила мама.
– А что? – с ликованием воскликнула Елена, – по-моему, очень даже неплохо!
Она подошла к зеркалу и поставила ногу на носок и слегка прогнулась в спине. Вроде бы не жмут, и выглядят прилично.
– Берём! – решительным тоном сказала она матери.
Та спорить не стала.
По дороге домой, сжимая в руках авоську с обувью, Елена вспомнила, как в те годы все или почти все советские девушки стремились побыстрее освоить туфли на каблуках. На каблуках ходили заправские модницы. Да что там, такие туфли носили вообще все женщины, кроме разве что дряхлых старушек. Девчонки же просто грезили высокими каблуками. Ведь чем выше был каблук, тем старше и увереннее в себе казалась девушка.
Но эта мода имела оборотную сторону. Неудобное положение ноги при хождении на каблуках приводило к страшным болям в непривычно изогнутой ступне. Хуже всего было, что боли продолжались даже после того, как злополучные туфли были, наконец, сброшены. Но, что не сделаешь ради моды! В советское время мода была единой, монолитной и незыблемой. Стандартные причёски-укладки, одинаково густо накрашенные ресницы, и, разумеется, каблуки – обязательные как военная форма для бойца.
Лишь спустя годы Елена поняла, как опрометчиво она поступала в юности, когда буквально не слезала с каблуков. Чем старше она становилась, тем хуже чувствовали себя её испорченные в юности ноги. Поэтому сейчас, умудрённая опытом, Елена вовсе не хотела наступать на те же грабли. «Буду надевать туфли на каблуках на конкретное мероприятие, но терпеть эту муку каждый день – нет уж, увольте! Ни за какие деньги. Пусть лучше я буду щеголять в мальчишеской обуви. К тому же на этих туфлях нигде не написано, что они мальчишеские», – так думала Елена, направляясь с матерью по дороге к дому.
Но прежде чем вернуться, они заглянули в соседний магазин, в галантерейный отдел, где накупили всякой мелкой всячины для предстоящего украшательства, благо стоило всё это совсем недорого.
Когда Елена начала раскладывать приобретённые сокровища на стол и примерять всё это к кедам и туфлям, мама, стоящая в стороне и довольно скептически наблюдавшая за манипуляциями дочери, не выдержала и тоже включилась в работу. И вскоре они уже в четыре руки подкрашивали, пришивали и приклеивали, колдуя над купленной обувью, чтобы туфли и кеды на выходе выглядели как можно более стильно. Иришка, которую мама хотела привлечь к совместному творчеству, только фыркнула и демонстративно отправилась смотреть телевизор, вывернув регулятор громкости почти до отказа. Но Елена и мама уже вошли в азарт и на надутые губы Иришки внимания не обращали. На всё про всё у них ушёл целый вечер.
Вечером домой вернулся отец, которого попросили выйти на работу в выходной день, да так в изумлении и застыл на пороге, глядя на красоту, стоящую на столе. Елена как раз наводила финишный глянец на кеды, покрывая их за неимением иного, лаком для волос «Прелесть».
– Что это? Где это вы такое отхватили? Ничего подобного не видел! – поразился отец, не сводя глаз с сияющих подобно ёлочной игрушке великолепных туфель невиданного тропического раскраса.
– Они же, наверное, кучу деньжищ стоят? – спохватившись, процедил он мрачно.
– Не переживай, мы сами сделали, – успокоила родителя довольная Елена, – так что обошлись они недорого.
– Туфли сами сделали? – не понял отец.
– Да не туфли, конечно, дуралей! – раздраженная непонятливостью отца, вмешалась мать, – Это вообще не туфли. Обычные кеды. А мы их сами покрасили, шнурки новые вставили, украшения разные приделали, теперь видишь? Это всё Алёшик придумала, вот какая у нас дочь! А кеды, сам знаешь, стоят копейки.
– Ха! Может, и мне чего придумаете? – услышав про копейки, отец вновь ощутимо приободрился.
Он постоял, затем почесал в затылке и с важностью изрёк:
– Хочу стать на своем заводе самым модным мастером, раз у меня такие женщины в доме! Из дерьма конфетку сделают. Ну, я в хорошем смысле. Ты, Ленусик, прям как Золушка – из пыли и пустяков всяких туфельки волшебные смастерила. Только я тоже как Золушек, тоже хочу на бал, сделайте мне, девочки, черевички, пока я окончательно в крысу не превратился!
Все, кроме Иришки, захохотали и веселились ещё долго. Елена с мамой радовались своим поделкам, тому, как ловко они справились с отнюдь не тривиальной проблемой. А отец пребывал в прекрасном расположении духа, потому что не любил тратить лишнюю копеечку и всегда был доволен, когда мог сэкономить. За ужином члены семьи наперебой придумывали всё новые и самые невероятные в исполнении варианты обуви. Елена не могла нарадоваться на этот день, показавшийся ей едва ли не самым лучшим в жизни.
Глава 12
Кирилл Запевалов. Вот кто стал объектом следующей страстной влюблённости Генки. Разумеется, не сексуальной, а просто обожательной, до одури. Запевалов всё делал красиво. Даже в школьной столовке, где все носились между столами и пихались, чтобы занять лучшее место, он, ещё будучи салагой-младшеклассником, безо всяких видимых усилий усаживался там, где мечтали сесть все, от мала до велика. Хотя быть может, дело обстояло иначе – куда бы ни сел Запевалов, там тотчас оказывался эпицентр школьной жизни.
Почему так происходило, не знал никто, тем более сам Запевалов. Он никогда не пытался привлечь к себе внимание – редко повышал голос, говорил, в сравнении с другими, мало и никогда ни к кому не подлизывался. Но каждое сказанное Запеваловым слово будто имело дополнительную силу, которая ощущалась и ребятнёй, и взрослыми. Этакий волшебный голос Джельсомино.
Генка хорошо помнил, как Запевалов впервые вошёл в помещение, где занимался их третий класс. Это было в четвёртой четверти, когда весеннее настроение вовсю разогревает ребячье озорство до градуса кипения. Поэтому новенький сразу же вызвал нездоровый всплеск всеобщего ажиотажа – девчонки зашушукались, обозревая экстерьер пришельца, а пацаны начали строить ему рожицы, демонстрируя свою зарождавшуюся маскулинность. Местный хулиган Бантик украдкой показал ему кулак, а другой забияка, СухоВитька, сидевший тогда один за партой, демонстративно поставил свой портфель на свободное соседнее место – мол, не сядешь со мной, новенький, здесь занято.
Учительница, было, открыла рот, чтобы начальственным словом своим заставить класс оказать более радушный приём Запевалову, но это оказалось не нужным. Потому что новенький без проблем справился сам. Для этого ему не понадобились ни слова, ни жесты, ни даже гримасы. Запевалов просто смотрел на всех спокойным ясным взглядом своих больших ярко-голубых глаз. На его лице царила парадоксальная безмятежность, словно не он впервые пришёл в новый класс, где ему явно не были рады, а сам класс был у него в гостях. Потом неожиданно для всех улыбнулся. Улыбнулся всем: учительнице, своим новым сотоварищам, просто пространству. Это была не победная улыбка завоевателя, уверенного в своих силах. Не робкая и заискивающая улыбка того, кто привык сразу всем уступать. Это была улыбка чистой радости – радости бытия, радости чему-то новому, свежему, предвкушаемому. Улыбка всем и никому по отдельности. И мгновенно стало тихо – смолк гвалт голосов за партами, застыла, приоткрыв рот, училка, воззрившаяся с удивлением на новенького. И тут Запевалов вдруг спокойно и чётко произнёс:
– Так я сяду?!
Это не было вопросом – несмотря на отчётливую вопросительную интонацию, сказанная фраза звучала как завершение театрального действия и, одновременно, разрешение всем продолжить урок. И тут же всё пришло в движение. Учительница, наконец, пришла в себя и торопливо закивала Запевалову:
– Конечно, конечно!
СухоВитька, повинуясь неведомому импульсу, убрал портфель со стула. Ирка Круглова, тоже сидевшая одна за партой, быстро отвернулась к окну, чтобы никто не заподозрил у неё желание сидеть с новеньким. Хотя вся её осанка недвусмысленно давала понять – она жаждет, чтобы Запевалов выбрал место именно с ней.
Между тем, Запевалов всё с той же потусторонне-лучистой улыбкой обвёл внимательным взглядом все парты. Он не торопился, но и не тормозил, он выбирал. И только сделав глазами полный круг, обойдя ими всех и каждого, спокойно зашагал к парте Ирки Кругловой.
Если бы на месте Запевалова был кто-нибудь другой, учительница, разумеется, не оставила бы ему свободу выбора и показала свою власть, посадив с тем, с кем ему хотелось сидеть менее всего. Пусть для этого пришлось рассадить на новые места всех учеников. Такое в младших классах было нормой в те годы. Да и пацаны сразу бы стали злорадствовать – «с девчонкой сел, значит, сам как баба», что считалось в их кругах грехом ужасным. Но в случае с Запеваловым все приняли его выбор как должное. А СухоВитька заметно пригорюнился.
С того самого дня Запевалов занял в классе, да что там в классе – во всей школе, центральное место. К нему не цеплялись местные хулиганы, его уважали учителя. Даже если Запевалов не выполнил задание, что, впрочем, случалось в редчайших случаях, они почему-то не ругали его как простых смертных, а словно извинялись перед ним и двойки никогда не ставили. Девчонки же – от самых мелких первоклашек и до вполне созревших десятиклассниц – подолгу провожали его взглядом, когда он шествовал по коридору. Да-да, Запевалов никогда не шёл, он шествовал, даже если куда-то спешил. Кстати, провожали Запевалова взглядом не только девчонки, но и многие парни, Генка не исключение.
В те годы мальчишки вынуждены были носить школьную форму, сшитую по единым для всей страны лекалам, и оттого сидевшую практически на всех нелепо и топорно. Форму не любили, поэтому почти все пацаны имели на ней «украшения» в виде оторванных пуговиц, разнокалиберных пятен и всевозможных дырок. Зато на Запевалове эта дурацкая форма вечно казалась безукоризненной и смотрелась элегантно, точно гусарский мундир. Хотя он никогда не чурался самых буйных мальчишеских забав: лазал, прыгал, ползал не меньше чем остальные, но при этом всегда оставался свежим и ладным как огурчик.
У Запевалова, как уже упоминалось, было имя – Кирилл. Имя в те годы весьма редкое, имя звучное. Тем не менее, по имени его никто не звал, только по фамилии – Запевалов. У других ребят были прозвища, так было принято. Почти у всех, но только не у Запевалова. Наверное, ему просто очень шла его фамилия, не менее замечательная чем он сам. Как раз в его фамилию сперва и влюбился Генка. «Ах, если б только я был Запеваловым! – мечтал он, плавая в сладостных грёзах перед отходом ко сну, – никто бы не смел называть меня глупым прозвищем Домоген! Запевалов – как же это звучит! Обладатель такой фамилии просто не может не быть лидером». Но тогда ещё сам Запевалов, как человек, не был Генке особенно интересен.
А потом однажды в школьной столовке Генке довелось обедать напротив того места, где ел Запевалов. Как все знают, школьные обеды придумали не для гурманов. Кажется, главным достоинством блюд, которые готовят школьные повара, является их скоропоедаемость. Генкина школа исключением в этом не была, поэтому ученики заглатывали свой обед стремительно, будто планктон синие киты. Ррраз, рот полон, а тарелка уже чистая. Всё, можно бежать по своим делам. И вот в этом суматошном вихре встающих из-за стола и садящихся за стол людей Генкин глаз выхватил странный островок стабильности. Он присмотрелся и ахнул про себя. Напротив него, удобно устроившись, расположился Запевалов.
Запевалов не швырял в себя ложку за ложкой, как уголёк в паровозную топку, он совершал трапезу! Размеренным и хирургически точным посылом столового прибора Запевалов не отламывал – отрезал от безликой школьной котлеты аккуратный кусочек, выверенным движением обваливал его в подливке, с удовлетворением осматривал и неторопливо отправлял в рот, не уронив при этом ни капли. Вся эта процедура была вполне уместна для изысканного блюда в дорогом ресторане, но не для детской столовки!
Генка смотрел на сотворяемое Запеваловым священнодействие словно завороженный. Он ещё ни разу в жизни не видел, чтобы люди ели так красиво, так аристократически! С этого момента он пропал, отныне Запевалов стал для Генки путеводной звездой, по которой он постоянно сверял свой курс. Они не стали друзьями – Запевалов вообще ни с кем не водил дружбу, был самодостаточен, дарил свой свет ровно и равно всем окружающим – просто теперь Генка, что бы ни делал, чем бы ни занимался, всегда обращал внимание, а как это же самое делает Запевалов. И по возможности копировал его действия, старался – молчаливо, издалека – соответствовать.
Сначала он учился у Запевалова острить. В отличие от других одноклассников, Запевалов даже в мальчишеском разговоре не употреблял матерные слова. Они ему были попросту не нужны. Он умел любого так припечатать невинной с виду фразочкой, что у бедолаги не оставалось ни единого шанса хоть что-то сказать в ответ. Только удалиться подальше, бурча под нос бессмысленные проклятия, под хохот свидетелей собственного унижения. Запевалов подбирал нужные выражения математически точно, с любого места попадая прямо в яблочко. При этом никогда не старался намеренно кого-либо оскорбить, тем более унизить, говорил всегда по делу. Но очень любил над всеми подтрунивать.
Девчонки его, конечно же, обожали. И это стало ещё одной причиной, почему Генка избрал Запевалова своим фаворитом. В старших классах Генкина влюблённость в Запевалова достигла своего апогея. Но параллельно с этой влюблённостью внутри Генки начало расти к Запевалову и чувство острой зависти и ревности, выплёскивающееся наружу приступами горькой обиды.
К тому времени Генкина любовь к Альбине уже полностью исчезла. Где-то в классе восьмом Альбина переключила своё внимание на других мальчишек, отдалилась и стала высокомерной по отношению к Генке. По крайней мере, так ему тогда казалось. В отместку он нашёл, что у неё лицо в прыщах и тем удовлетворился. Хотя продолжал посматривать в её сторону ещё долго. И мысленно представлял, как они с Альбиной лежат в одной кровати, правда, теперь его фантазии продолжались вплоть до закономерного финала. Причём финал этот заканчивался бурными рыданиями Альбины над поруганной им, Генкой, девственностью и его злобным, горестным удовлетворением от доведённого до конца отмщения за демонстративное им пренебрежение. И чем больше хохотала Альбина над шутками Запевалова, тем жёстче в воображаемой постели становился с ней Генка.
А один раз в этих мечтах даже заставил её на коленях ползать вокруг кровати, вымаливая прощение. Да так, чтобы колени эти были содраны в кровь и оставляли на полу отчётливо красный след. Это произошло, когда Запевалов, картинно разлёгшись на перемене на плоскости парты, собрал вокруг себя одноклассников, как обычно, выступая в разговорном жанре.
– У меня тут Сочи, – вальяжным бархатным баритончиком объявил он, щурясь как кот на весеннее солнышко за окном, – лежишь, загораешь…
Запевалов сделал выверенную паузу и продолжил, намеренно не глядя на публику:
– Вышел к доске, поплавал!..
Новая пауза, в расчёте на комплименты. Шутку, разумеется, сразу оценили. Со всех сторон раздались восхищённые смешки. Но самым громким оказался Альбинин. Генка посмотрел на девочку – та раскраснелась, глаза её сияли, она не сводила взгляд с великолепного Запевалова. Генке же веселиться мгновенно расхотелось. Он осторожно, чтобы не заметили, отошёл вглубь класса и пристроился за какую-то парту, уныло пялясь в спины почитателей Запеваловского таланта. Внутри его бушевал торнадо, затягивая в воронку гнева и обиды все Генкины страсти. Он даже не знал, кого ненавидел больше сейчас – Запевалова или Альбину. И кого больше из них любил.
А потом Генка вообще решил убить Запевалова. Убить своим презрением. «Никогда ему не прощу, – твердил он себе, – умолять меня будет, а вот фиг тебе, Запевалов! Не дождёшься!» И он сумрачно представлял, как спокойное и улыбчивое лицо Запевалова навсегда перекосится от такого горя – как же, Генка его простить не может! Причиной столь сурового Генкиного решения стало вероломное предательство Запевалова. Дело было так. Где-то в конце седьмого класса половое созревание дошло, наконец, и до Генкиного тела. И даже не дошло, а в полном смысле бросилось на него. У Генки начались приступы неконтролируемой эрекции, причём, спереди у него оттопыривалось прилично и не заметить это было никак невозможно. Ну, или Генке казалось, что невозможно.
Выразительное изменение геометрии Генкиного переда смущало мальчика так, что он готов был скорее умереть, чем позволить увидеть себя девчонкам или взрослым в подобном состоянии. И один из таких приступов как на грех случился прямо перед уроком физкультуры, когда на Генке не было брюк, хоть как-то скрадывающих очертания эрегированного органа, а вместо них были надеты тренировочные штаны, где видно всё, сразу и в деталях.
Как только подлая эрекция началась, Генка предусмотрительно бухнулся на лавку в раздевалке и задрал колени вверх. К его счастью, никто ничто не заметил, мальчишки заспешили к выходу в спортзал, но Запевалов всё же обратил на него внимание и с неизменной улыбкой своей поинтересовался:
– Почему сидишь?
Генка не нашёл лучшее, чем во всём признаться Запевалову, взяв с него честное слово, что тот никому не скажет о причине его странного поведения. И что-нибудь придумает для физрука, чтобы оправдать задержку. Запевалов легко согласился и действительно помог тогда Генке с физруком. Гроза грянула, когда Генка уже забыл об этом случае, но, однажды войдя в класс, с содроганием почувствовал мучительную и мощную эрекцию, едва миновав двери. Не зная, что делать, он сунул руки в карманы и встал на входе как вкопанный, ожидая, когда напряжение спадёт само собой. И тут вмешалась Ирка Круглова:
– Эй, Домоген, – звонко выкрикнула она на весь класс, – ты чё там застыл в дверях? Ждёшь кого-то или памятник себе изображаешь?
Генка, не зная что сказать, оглянулся на проходящего мимо вразвалочку Запевалова, а тот остановился и ответил Ирке насмешливым своим голосом:
– Глупая, он тебя приветствует. Салютует тебе, как на параде честь отдаёт!
– Да как он салютует, когда у него руки, вон, в карманах? – не поняла Ирка.
И тут Генка одновременно зажмурился и густо покраснел по обыкновению, он уже знал, что сейчас произнесёт Запевалов. Его ужасные предчувствия полностью подтвердились. Более того, всё вышло даже хуже, чем он думал. Запевалов нацепил одну из своих улыбочек и вкрадчиво выговорил:
– А ты не туда смотришь! Он тебе внизу салютует. У него сегодня нижний салют!
И глазами показал на выпирающие из карманов Генкины кулаки. Первым прыснул Жорка Рыбин по прозвищу РыбийЖор, а потом… потом глупо захихикала Альбина. Ирка Круглова продолжала хлопать глазами, пока кто-то из девчонок не прошептал ей на ухо. Теперь ржали все. А Генка вылетел из класса и уныло поплёлся домой, прогуляв последние два урока.
Но мальчишеское горе быстротечно. Уже через неделю про Генкин конфуз все забыли, переключившись на более животрепещущие события.
В девятом классе Запевалов снова отличился в Генкиных глазах. И заслужил от него жгучую зависть. В этом году Генкина и Запеваловская парты стояли рядом, на камчатке, но через проход. Запевалов сидел с Танькой Гарькавенко, которая с прошлого года получила звание «самая красивая девушка класса». Как раз в прошлом году она пришла в Генкин класс и сразу произвела фурор. Мальчишки хором шептались, какая она симпотная, девчонки неприкрыто завидовали. На школьных вечерах Танька была нарасхват. Генка не был исключением и тоже, как и все, мечтал о Таньке, правда, издалека. Но села Танька, конечно, с Запеваловым. И кажется, впервые в жизни, Запевалов обратил на кого-то внимание. Он часто и подолгу о чём-то приглушённо беседовал с Танькой. Но как ни напрягал уши, Генка так ничто и не мог расслышать из произнесённого им. Зато из реакции Таньки на эти слова явственно следовало – она подобно остальным не устояла перед Запеваловскими чарами.
Генка один раз тоже пригласил Таньку на танец, но, обхватив её талию, настолько оробел, что даже не смог заставить себя положить полностью левую ладонь на Танькин упругий бок. Так и топтался с девочкой рядом полтанца – правая ладонь на талии, но как приклеенная, абсолютно неподвижна от страха. А левая рука прислоняется к Таньке щепотью, точнее, тремя пальцами. А самое плохое – весь танец Генка молчал, стесняясь собственного косноязычия. Молчала и Танька, только в самом конце вдруг резко спросила его:
– Я что – заразная? Ты ко мне даже прикасаться не хочешь?
Но Генка лишь краснел и сопел, не зная, что говорить в подобном случае. Разумеется, после этого он вообще старался близко к Таньке не подходить и обожал её издали. Любовался и обожал, бросая на Таньку взгляды, когда никто не видел. Равно как любовался и обожал, при этом бесконечно ревнуя, Запевалова.
И вот случилась контрольная по математике. Генка математику знал неплохо, поэтому с заданиями справился быстро, когда большая часть класса ещё усиленно корпела над тетрадями. Он начал осторожно посматривать по сторонам, чтобы чем-нибудь занять себя до конца урока. Надо ли говорить, что первым делом его взгляд скользнул по соседней парте. И тут Генка увидел такое, что у него перехватило дух. События за Запеваловской партой развивались в двух измерениях – над партой, где располагались те части тел Запевалова и Таньки Гарькавенко, которые были выше груди, и под партой, где находились их попы и ноги. Сбоку Генке хорошо было видно, что происходило в каждой из локаций. В «верхнем» измерении оба ученика прилежно решали контрольную и даже не переговаривались. Но при этом почему-то периодически синхронно вдруг откидывались на спинки своих стульев и устремляли взгляды вниз. А там, внизу… Внизу Запеваловская левая рука ловко задирала подол платья Таньки, где, положенная на коленки, была спрятана тетрадь с примерами. Запевалов и Танька некоторое время смотрели в тетрадь, а потом Танька быстро задёргивала подол обратно. Они банально списывали.
Но Генка смотрел вовсе не на тетрадь, а на Танькины ноги, которые Запеваловской рукой оголялись вплоть до белых как летнее облако под ярким солнцем трусиков, ослепительно сияющих в полутьме подпартного пространства. Подумать только – Запевалов может вот так, запросто, смотреть на эти ноги, эти трусики. Ему позволяется задирать подол так же запросто, как завязывать шнурки собственных ботинок. Это было немыслимо! Это было невыносимо! Он, Генка, не мог даже ладонь свою на Танькин бок положить, а Запевалов, вероятно, может не только видеть, но даже и гладить, щупать самые интимные части женского тела. И какого тела!
Весь остаток этого адского дня Генка просидел точно на зажжённой конфорке. При мысли о Танькиных ножках и особенно трусиках внутренний жар становился особенно палящим и жгучим. Но думать о чём-то, кроме этих ножек, трусиков и по-хозяйски расположившейся на них руке Запевалова он не мог в принципе. На следующий же день Генка пересел на самую первую парту, которая всегда пустовала, потому что никто не хотел сидеть перед носом учителей. И никакие насмешливые вопросы языкастых одноклассников, первым среди которых был Запевалов, не поколебали его мрачной решимости остаться там вплоть до конца учёбы. Лишь бы подальше от счастливой парочки.
Последним школьным воспоминанием Генки, связанным с Запеваловым, был их выпускной экзамен по физике. Физики все боялись, потому что боялись физичку. Та была жёлчной немолодой женщиной, громогласной и вечно всем недовольной. В хорошем настроении она обычно лишь ругала всех подряд, да придумывала ребятам обидные прозвища, называя это юмором. Зато в плохом – орала так, что преподаваемый ею предмет забывали даже те ученики, которые хорошо его знали. И как на грех перед экзаменом в Генкином классе в хорошем настроении её давно никто не видел.
Но Запевалова настроение физички волновало слабо. На экзамен он явился как всегда ослепительный. Зашёл в кабинет в числе первых, отвечал на все вопросы с улыбочкой и был милостиво отпущен с пятёркой быстрее других.
– Всю арену покорил любимец публики Кирилл! – насмешливо продекламировала фразу из популярного тогда мультика Альбина при виде его довольного лица.
Саму её заметно потрясывало. В класс, где проходил экзамен, Альбина зайти пока не решалась, и чем дальше, тем сильнее нервничала. Тем более что после Запевалова из экзаменационного кабинета долго никто не выходил, а похожий на землетрясение рокот голоса физички из-за двери с каждой минутой только усиливался.
Альбина шла на золотую медаль и потому волновалась больше остальных. Она нервно комкала носовой платок, часто вскакивала со стула, на котором сидела и зеленела лицом всё гуще и болезненнее. Запевалов, который после экзамена остался в школе и устроился рядом с ней, наблюдал за девушкой с любопытством, но до поры молчал. Наконец, несчастная Альбина не выдержала и будто заклятье начала скороговоркой повторять вслух:
– Хоть бы меня пронесло, хоть бы меня пронесло!..
Запевалов выждал несколько секунд и радостно провозгласил:
– Дождешься, Альбина, сейчас тебя точно пронесёт!
Стоящие рядом грохнули от хохота, настолько точным было попадание очередной Запеваловской шуточки. Альбина с лицом зелёным, перекошенным и дикими глазами, словно действительно съевшая что-то несвежее, кажется, была готова последовать совету одноклассника немедленно. Она вдруг слабо вскрикнула и бросилась стремглав по коридору, чем лишь добавила веселья окружающим.
– А потом, мол, скажут – пророк, – смиренным голосом проговорил Запевалов, чем буквально добил аудиторию.
Ржали так, что из кабинета, где проходил экзамен, показалась голова физички и рявкнула:
– А ну, тихо!!!
Генке внезапно стало не по себе, он вспомнил как ловил запах Альбины в коридоре и подумал, что теперь от неё пахнет совсем иначе, а если Запевалов прав, то и вообще пахнет очень плохо… От этих дум его охватило раздражение. Раздражение на себя самого за глупые неподобающие мысли, и он, вздохнув, направился к двери, где сдавали экзамен.
Взяв билет, Генка сел за последнюю парту, начал готовиться. И тут в кабинет зашла Альбина. Девушка схватила первый попавшийся билет и ринулась к его парте. Бухнулась рядом и на какое-то время замерла, уставившись на вопросы билета. Генка краем глаза смотрел на Альбину, а та всё пребывала в ступоре.
Тут Генка ощутил дрожь, сначала ему показалось, что дрожит он сам, но быстро догадался – вибрация исходит от Альбины.
– Ты чего? – тихонько спросил он, но Альбина не ответила.
Генка присмотрелся, девушка уставилась в одну точку, туловище её содрогалось, а ноги просто ходили ходуном, будто хотели оторваться от тела.
– Альбина, ты меня слышишь? – уже громче спросил Генка и вновь не получил ответ.
«Надо что-то делать, – мелькнула в голове мальчика стремительная догадка, – а не то она сейчас, того и глядишь, грохнется в обморок».
Машинально, не осознавая что делает, Генка пододвинулся на стуле ближе к Альбине и незаметно для других положил руку на её вибрирующее колено. Начал поглаживать его, потом бедро, успокаивающими движениями. Залез под подол, стал гладить обе ноги попеременно.
– Это, что это такое ты там делаешь?! – вдруг взорвался воздух диким воплем физички.
Генка хотел было убрать руку с ноги Альбины, но та быстро накрыла её свои пальцами и чётко проговорила:
– Простите, Зинаида Пантелеймоновна, у меня судорога случилась, и я попросила Геннадия мне помочь. Размассировать. Сама бы не справилась.
Генка не верил своим ушам. Только после этих слов он внезапно, как по волшебству, ощутил всю восхитительную мягкость Альбининого бедра и сразу же вспотел от волнения. В абсолютном смятении Генка осторожно вытянул руку из-под пальцев Альбины и сел, уткнувшись взглядом в свой листок, уши его пылали, лицо тоже.
– Делом займитесь. И смотрите у меня! – уже спокойнее пробурчала физичка и приняла прежнюю позу.
Какое-то время Генка и Альбина сидели молча.
– Спасибо тебе, – вдруг услышал Генка шёпот Альбины.
– Да ладно, чего там, – вырвалось у него.
После экзамена Генка постарался поскорее улизнуть из школы. Он прокрался к лестнице, ведущей наружу – никого. С облегчением застучал пятками по ступенькам, сердечко его бешено колотилось. Но у самой выходной двери его ждали. Это была Альбина. Она оторвалась от стены вестибюля, подошла к нему близко, взяла за руку и сказала:
– Я сейчас тебя поцелую, ты меня просто спас!
Но не поцеловала, а просто постояла рядом. Обоим неизвестно отчего стало неловко, они ещё потоптались у двери и разошлись.
Надо отметить, что сексуальный опыт у Генки к тому времени уже был. Однажды мать познакомила его с дочерью своей подруги Софой. Точнее, он познакомился с Софой сам, когда мать взяла Генку с собой в гости к Камраям – такую фамилию носили мамины друзья. Пока Генкина мать вела беседы с родителями Софы, мальчика, чтобы не мешал взрослым, отправили в другую комнату. Там десятиклассник Генка обнаружил маленькую рыжеволосую девочку, которую вначале принял за шестиклассницу, настолько юной выглядела Софа внешне. Ни груди, ни попы у дочери Камраев не наблюдалось. Увидев это создание, Генка заскучал – проводить время с девчонкой, которой ещё в куклы играть, было определённо уныло. Он с тоской обвёл взором комнату – внимание мальчика привлёк книжный шкаф со множеством книг. «Ладно, буду читать, раз больше делать нечего», – решил Генка и направился к шкафу в поисках чего-нибудь интересненького.
– А хочешь, кое-что покажу? – раздался у него за спиной звонкий голосок.
Генка нехотя развернулся, девочка смотрела на него лукаво и улыбалась почти до ушей. По всему было заметно, Генка ей понравился, очень понравился, и наш герой растаял. Мало кто взирал на него вот так, неприкрыто восторженно, тем более из представительниц женского пола.
– Ну? – с притворной скукой, как и должен взрослый состоявшийся мужчина общаться с малолеткой, обратился к Софе Генка.
Софа радостно спрыгнула со стула, где сидела, и встав на коленки, залезла глубоко под свою кровать. Подол её платьица задрался, открывая взгляду мальчика тонкие, ещё лишённые женственной округлости бёдра и белые трусики Софы. Сердце его сразу заколотилось, набирая первую космическую скорость. Он вспомнил трусики Таньки Гарькавенко, запах Альбины. Между тем, Софа, нимало не смутившись, выползла из-под кровати с каким-то журнальчиком в руках. Надпись на обложке у журнальчика была на иностранном языке.
– Иди сюда, – похлопала Софа рукой рядом с собой, устраиваясь на низком диванчике.
С замиранием сердца Генка плюхнулся рядом с девочкой. От неё резко пахло потом и леденцами монпансье, но этот запах лишь усилил возбуждение Генки.
– Это Плейбой, – показав глазами на журнал, со значением сказала Софа и толкнула Генку локтем, типа, зацени, чувак! – у родителей стащила.
– Что? – не понял Генка, который до этого никогда про Плейбой и не слыхивал, равно как не видел ни одну фотографию с голыми женщинами.
– Ты что, не знаешь про Плейбой? – изумилась Софа, – ты вообще в каком классе учишься?
– В десятом, – буркнул смущённый Генка, теперь уже сам ощущающий себя шестиклассником в присутствии десятиклассницы.
– Большой уже мальчик, – развеселилась Софа, – так и быть, просвещу тебя!
И она стала показывать поражённому Генке фотографии из журнала. Эти фото Софа комментировала таким тоном опытной, искушённой женщины, что Генка не выдержал.
– Ты сама-то в каком классе? – как можно более небрежно поинтересовался он.
– В девятом, – не смутилась Софа.
– Ты? В девятом? – не поверил ей Генка.
– Да, я просто выгляжу молодо, – вздохнула Софа, – ты не первый. Никто не верит.
Было видно, что это для неё это больной вопрос.
– Врёшь! – не поверил и Генка.
– Ах, вру? – завелась Софа.
– Конечно, врёшь. Только не пойму зачем, – ещё поддразнил девочку Генка.
– А это ты видел? – и Софа безо всякого стыда задрала подол и спустила на ножки-спички свои белые трусики.
Лобок у неё был густо покрыт золотистыми курчавыми волосиками.
– Усёк? – надевая трусики обратно и поправляя подол, спросила она у Генки.
А Генка не знал, что и думать. Впервые в сознательной жизни он увидел запретный предмет вожделения так близко, на расстоянии вытянутой руки.
Прошла неделя.
– А про тебя Софочка спрашивала, – сказала однажды мать Генки, когда тот пришёл из школы, – и Камраи всё в гости зазывают. Хочешь сходить?
И снова Генкино сердце отправилось в забег. За прошедшее время он так и не смог определиться, чего ему больше хочется от Софы: заняться с рыженькой сексом или держаться от неё подальше. С одной стороны, Софа казалась такой доступной, с другой – эти ножки-спички, запах пота… Всё же запретный плод оказался настолько сладок, что Генка не выдержал и согласился на ещё один визит к Камраям.
В комнате Софы всё произошло именно так, как он представлял в своих самых смелых мечтах. Софа легко поддалась на Генкины ласки, первой полезла целоваться, без стеснения давала себя трогать во всех местах.
Но чем уступчивее была Софа, тем меньше желания было у Генки. Он вздрагивал от страха, что их могут застукать в любой момент. К тому же запах пота Софы, усилившийся в минуты страсти, на этот раз вызывал не притяжение, а отторжение. Генка разрывался между стремлением дойти до конца и искушением бросить всё и покинуть дом Камраев. В конце концов он сдался, и под предлогом нахлынувшей головной боли удрал от Софы. Но полностью расстаться с девочкой не спешил.
Влюблённая Софа упросила родителей пойти в гости к Домакиным, и тем пробила себе дорогу к Генке. Они ещё пару раз пробовали ласкать друг друга – безуспешно.
Глава 13
Первого сентября Елена шла в школу, заметно волнуясь, тому было несколько причин. Во-первых, ей предстояло встретиться с теми, кто в её «прошло-будущей» жизни, уже умер. В это число входили почти все учителя и некоторые одноклассники. Перспектива увидеть столько воскресших мертвецов сразу вызывала у Елены непроизвольный холодок по спине. Во-вторых, она знала – пусть и в общих чертах – как сложится жизнь большинства тех, с кем теперь ей предстояло учиться. И перед ней вставал непростой выбор – нужно ли предостеречь тех, кто совершил непоправимые ошибки, чтобы уберечь их от падений, или вести себя с ними как ни в чём не бывало?
Ответ на этот вопрос казался неоднозначным. С одной стороны, всегда хочется помочь человеку. С другой – следовало подумать об осторожности, чтобы не прослыть школьной сумасшедшей. Ведь вряд ли кто-то всерьёз будет обращать внимание на пророчества одноклассницы, невесть с чего решившей, что ей известно о будущем. Да и вообще, давать другим советы, дело неблагодарное. Если совет пойдёт на благо, получивший его все лавры обычно приписывает себе. А если кто-то советом не сможет воспользоваться, виноватым всегда оказывается тот, кто его дал.
Поразмыслив, Елена решила ничем не выдавать себя и соблюдать крайнюю осмотрительность в своих высказываниях. В конце концов, кто она такая, чтобы переделывать мир, пусть и из добрых побуждений?!
«Уж лучше я попробую уберечь себя от нелепых ошибок, многие из которых сказались на моей жизни годы и даже десятилетия спустя. Кстати, теперь-то я знаю, как надо было тогда поступать, – сказала себе самой Елена, но тут же осеклась, – хотя, стоп. Главное, это, уйдя от старых, не сделать новые, ещё более ужасные ошибки!»
«Что-то я совсем запуталась, – подвела невесёлый итог своим мыслям Елена и напоследок сделала единственно возможный вывод, – ладно, буду внимательна и осторожна, и будь, что будет!»
Как известно, грустные мысли недолго задерживаются в сознании молодого человека, уже через несколько минут после этих размышлений Елена вновь обрела душевное спокойствие и принялась с интересом изучать обстановку на улице. А по улице, вернее, по всем улицам двигались букеты цветов, сжимаемые ручонками школьников, а также ладонями сопровождающих их родителей. Последних, к слову, было немного. Как правило, в школу провожали только первоклашек. Даже второклассники, сопя, пёрли здоровенные букеты самостоятельно. И только некоторые старшие ребята, преимущественно мальчишки, позволяли себе прийти в школу без цветов. Не приготовила букет и Елена. Все цветы из дома сегодня забрала с собой четвероклассница-Иришка.
«По-моему, мы договорились с девчонками появиться в классе без цветов, – попыталась припомнить Елена и вдруг ахнула, – а платье-то! Я же забыла предупредить, что буду в фартуке!»
Она замерла, ощущая волну мелкого страха, потом бросила взор вниз и с облегчением увидела на ногах новенькие сверкающие лакированные туфли с яркими красными шнурками. Туфли модные, по-хорошему наглые, совсем не похожие на мужские. Именно они стали спасением для Елены.
– Скажу, на платье у родителей просто не хватило денег. Все ушли на новые туфли. Скажу, мне поставили условие – или новые туфли, или новое платье. Кто бы на моём месте устоял?! – мысленно решила Елена и уже уверенней зашагала к входной двери в здание школы.
Первого сентября коридоры там шумели и гудели, как пчелиный улей. Под ногами сновала малышня, отдельными островками кучковались ученики постарше, повсюду мелькали синие пиджаки, чёрные блестящие ранцы, нарядные передники, белые банты и разноцветные букеты. Странное дело, но Елена, перемещаясь в этой толпе, точно знала, на какой этаж ей необходимо подняться, в какую дверь зайти. Когда она вошла в класс, её появление не прошло незамеченным:
– О, Распопова явилась! – с иронией провозгласил местный хулиган Женька Зубов.
– Раз-пОпова, два-пОпова, – нараспев продекламировал Серёжка Бойко, явно рассчитывая на одобрение от старой дразнилки, но почти никто не обратил на него внимание. Всем уже до зубной боли надоели детские прозвища.
– Ты чего в фартуке? – подойдя к Елене, прошипела Танька Дериглазова, – Договорились ведь! Или ты сконила? Кто больше всех в прошлом году шум поднимал по поводу фартуков, а? Выходит, ты нарочно всё это затеяла, чтобы нас дурами выставить, а самой выпендриться перед Риммой? Вот и договаривайся с тобой!
Услышав резкий Танькин голос, остальные отступницы сгрудились вокруг Елены.
– Кто не с нами, тот против нас, – поддержала Таньку Машка Бушуева, ещё одна из бесфартучниц, – эх, ты! Мы тебе поверили, а ты сразу капитулировала, лапки в небо. Трусиха подлая!
– Я не струсила… – начала было оправдываться Елена, но вовремя остановилась.
Откуда-то из подсознания поднялась жгучая досада на себя – как же легко повелась она на обвинения в свой адрес, мгновенно взяв оправдательный тон! А ведь сейчас она – далеко не та безропотная Ленка Распопова, которую в прошлом легко можно было заставить стушеваться и замолкнуть, глотая слёзы, всего лишь кинув ей что-то обидное в лицо.
Елена коротко вздохнула, набрала в лёгкие воздух, потом со значением направила немигающий взгляд на Таньку и тоном главного бухгалтера, распекающего свою подчинённую, хорошо знакомым ей из прошло-будущей жизни, отчеканила:
– Я так захотела, понятно? Смогла допетрить за лето, что воевать с системой образования – все равно, что плевать против ветра. Хотите ходить оплёванными – ваше право, я же таким желанием не горю. Вас по-любому заставят носить форму, это всего лишь вопрос времени. Думаю, в вашем распоряжении пара дней, не больше. И придется вам, девочки, так же, как и всем нам, надевать фартуки и пришивать белые воротнички. А ещё – чувствовать себя откровенно глупо, потому что это не я, это вы решили выпендриться, но ничего у вас не выйдет. Я же лично заниматься глупостями больше не хочу и не буду.
Безапелляционный, с нажимом, голос Елены произвёл впечатление, на пару секунд в девчоночной компании воцарилось ошарашенное молчание, но тут Танька оправилась от потрясения и, не желая сдаваться так просто, запальчиво выкрикнула:
– Это мы посмотрим ещё, кто сможет нас заставить!
– А ты, Распопова, подлая предательница! – эти слова Танька почти плюнула в сторону сохранявшей внешнее спокойствие Елены, – Пойдемте, девчонки, подальше от этой дуры.
Последнее было адресовано остальным модницам, которые, чуть замешкавшись поначалу, но всё же побрели прочь от Елены, хотя некоторые из девочек уже не казались столь уверенными в своём наряде и даже бросали в сторону «предательницы» тоскливые взоры.
Елена же, довольная маленькой, но знаковой для себя победой, ухмыльнулась под нос, и пошла искать свободное место. Если в младших классах рассадка учеников по партам являлась прерогативой классного руководителя, то более старшие могли выбирать себе место сами – это была одна из негласных и крайне малочисленных привилегий для будущих выпускников. Правда, иногда учителя лишали ребят и этого права самостоятельного выбора, но делалось это редко.
Как и в предыдущие годы желающих составить Елене компанию не нашлось. Ну, не было в классе у нее закадычных подружек. Никогда не было. И даже окончание прошлого учебного года ничто в этой схеме не изменило. А те, с кем в разные периоды жизни она приятельствовала, нашли своё соседства за партой не с ней. Да и вообще, глупо было рассчитывать на благосклонность кого-либо из одноклассников после инцидента с фартуками.
Елена выбрала себе парту у окна поближе к доске. В надежде так и остаться одной, потому что ближние к учителям места в классе не жаловали. У окна было хорошо, нежаркое сентябрьское солнышко ласковыми утренними лучами пробивалось сквозь тонкие невесомые облака, просачивалось сквозь стекло, расчерчивая парту на четыре неравных прямоугольника нежно-охристого цвета.
Наконец прозвенел звонок на урок, и в класс вошла Римма Петровна. Знакомым Елене решительным шагом она проследовала к столу. На ходу лицо Риммы меняло выражение – от будничного, немного кислого до удивлённого и даже восторженного, когда классная увидела, что стол перед доской сплошняком завален разномастными букетами. Среди цветов преобладали астры и хризантемы, специально выращенные к этому дню на местных садовых участках. Кроме астр и хризантем, на столе лежали букета четыре с гладиолусами палевых оттенков. А в самом центре огненным световым пятном выделялся одинокий букет сказочных ярко-алых роз. На сдержанном общем фоне он невольно притягивал взор словно диковинная жар-птица в стае обыкновенных воробушков.
Елена заметила, как Римма непроизвольно потянула руку к розам, но вовремя опомнилась и сделала вид, будто хочет поправить ближайшие к ней букеты, чтобы те не упали со стола. Но Елену обмануть её жест не смог. Даже в щедрое осеннее время розы в северном Серпске были гостями нечастыми и потому далеко не каждому по карману. Понять учительницу можно было и без слов.
– Здравствуйте, мои дорогие ученики! – начала Римма Петровна, повернувшись к классу, но голос у неё прочувствованно дрогнул.
Она замешкалась, сделала небольшую паузу, стараясь как можно скорее овладеть собой. Это ей удалось.
– Ещё раз, здравствуйте, – и Римма глазами показала десятиклассникам, она ожидает, когда те поднимутся с мест в знак ответного приветствия. Вразнобой, но все встали.
– Поздравляю вас с первым днем нового учебного года, последнего для всех вас. Спасибо за цветы, мне очень приятно. – Римма Петровна говорила обычным своим монотонным голосом, так, будто заранее подготовила и выучила наизусть этот текст.
Впрочем, дальше её речь явно отклонилась от заготовленного плана, хотя это никак не отразилась на интонации классного руководителя:
– Похоже, мне придется стоять сегодня весь урок, ведь если я сяду на стул, из-за этой оранжереи вы меня не увидите.
– А вы стульчик отодвиньте от стола, тогда будет картина: «Римма Петровна возле личной оранжереи», – это выпалил классный балагур Илья Борискин – недалекий, но очень активный, вечно болтающий что-то невпопад.
Правда, на этот раз у Борискина получилось неплохо и даже смешно. Похоже, за лето у Ильюхи выросло не только тело, но даже мозги стали работать не в пример качественнее. Как и остальные, Елена оглянулось на Борискина и улыбнулась шутке, но тотчас вспомнила, что Ильюха, единственный из их класса, не дожил и до двадцати. Его путь прервался всего через год после школы, когда Борискина призвали в армию. С ним произошёл несчастный случай на стрельбище – какая-то мутная история, вряд ли даже родителям Ильи удалось узнать правду. При виде живого и довольного Борискина Елене стало горько и больно, на глаза навернулись слёзы. «Эх, предупредить бы его!» – подумалось ей на миг, но реплика Ильюхи уже утонула в выкриках с мест других учеников.
– Тише, тише! – пыталась успокоить Римма Петровна разошедшийся класс, но тщетно.
Все хотели блеснуть остроумием, старались перекричать остальных, лишь пригорюнившаяся Елена молча наблюдала за происходящим. И тут входная дверь распахнулась, раздалось «Можно войти?», и в классе появился Павел Розенблат. Шум моментально смолк, все глаза уставились на вошедшего.
– Здравствуйте, Римма Петровна. Извините за опоздание. Можно войти? – нимало не смущаясь, повторил Павел, затем, не дожидаясь разрешения, подошел к учительскому столу и аккуратно водрузил поверх цветов небольшую красочную коробочку, вероятно с какими-то конфетами. Пару мгновений постоял, оглядывая подарок, потом уверенным жестом слегка поправил коробочку и только после этого обернулся к учителю, улыбнулся и вкрадчиво произнес:
– С праздником вас, Римма Петровна, это от мамы.
– Спасибо, Павел. Проходи, садись на свободное место, – если бы такое позволил себе не Розенблат, кто-то другой, Римма вряд ли отреагировала подобным образом, вместо этого размазала нахала своим презрением, смешанным с раздражением, но Павлу всегда всё сходило с рук.
Розенблат на некоторое время замешкался, оглядывая класс в поиске свободной парты. Таких мест было немного. Одно с Борискиным, одно с Вовкой Чуговым, и последнее с ней, Еленой. Павел скользнул глазами по яростно и призывно машущему ему Ильюхе, по всегда невозмутимому Вовке и остановил свой взор на Елене. Лицо Елены мгновенно вспыхнуло, она отвернулась, но было уже поздно – Розенблат направился именно к ней. Подойдя ближе, Павел остановился и уставился с улыбкой на Елену. Потом коротко кивнул подбородком на портфель, занимающий свободный стул.
Что поделать, пришлось переставить портфель с сиденья на пол, освобождая место однокласснику. Павел тихо пропел Елене «Привет!» и уселся рядом. От его соседства сидеть за партой сразу стало неуютно. Освобождая место, Елене пришлось подвинуться на край, почти вплотную к холодной батарее, ведь её парта располагалась у самого окна. Но неуют в душе Елены возник вовсе не из-за физических неудобств. Просто она вспомнила.
Павел, ну конечно Павел! Она и думать забыла о нем, намеренно старалась убить самую память об этом человеке. И действительно стёрла все воспоминания той поры, которые только сейчас вспыхнули в её душе и вмиг засияли ярко и отчётливо точно сигнальный огонь в кромешную полночь.
До чего же странно устроена человеческая натура! Даже сейчас, когда она, Елена, проходит свой жизненный путь второй раз и многое знает наперед, встреча с Розенблатом вызвала внутри неё такой всплеск эмоций, что девушка едва не грохнулась в обморок. Как много в её жизни было связано с этим человеком. Как же плохо всё закончилось тогда. И всё же сейчас сердце Елены взяло с места в карьер, лицо вспыхнуло, пальцы задрожали. К счастью, Павел, кажется, ничто не заметил, сидел себе спокойненько и перемигивался с другими учениками.
Павел Розенблат был личностью исключительной, причём, не только в десятом «А» классе, но и во всей школе. Начать следует с того, что у Розенблата были известные родители, точнее, родительница. Его мать знал весь Серпск, она работала главным модельером в Доме моды. Работала хорошо, возила свои коллекции одежды на показ в Москву, Ленинград и даже была отмечена какими-то престижными наградами. Кроме того, мама Павла периодически мелькала на местном телевизионном канале, чаще всего в новостях. В неизбалованном знаменитостями Серпске она имела статус едва ли не главной звезды, тем более что мадам Розенблат, как и подобает модельеру, одевалась с шиком и умела себя держать перед аудиторией.
Её дети, Павел и его старшая сестра Бэлла, с малолетства участвовали в показах новинок одежды в Доме моделей и нередко позировали в нарядах, которые мастерила их мать, для журналов, где были разделы про новинки гардероба. А также снимались в телевизионных передачах про модную одежду, которые так любили серпчанки молодого и среднего возраста. Ведь исключительно благодаря Розенблатам их родной город гремел на всю страну как одна из столиц моды и вкуса, хоть даже близко не был столичным. Большая редкость по тем временам. Да и вправду сказать, внешностью брата с сестрой Розенблатов природа не обидела, особенно Павла.
С самого детства был Розенблат не по годам высоким и стройным. С возрастом он быстро возмужал, бедра имел узкие, а плечи широкие. С юных лет приобрёл умение держаться в кадре и голливудскую улыбку, которую использовал исключительно к месту. Всё это дополнялось изысканной грацией движений, как у молодого, готового к прыжку леопарда. Елене всегда казалось, что в любую минуту у Павла наготове новая картинная поза для жаждущей публики. Будто только и ждёт Розенблат, когда раздастся звук затвора фотоаппарата, чтобы поразить зрителей своей неотразимой красотой.
Да и одежда у Розенблата – спасибо матери! – соответствовала внешности. С младых ногтей щеголял Павел в костюмчиках, которые хоть и походили на школьную форму, отличались превосходным кроем и дорогой тканью. Да и оттенки ткани у костюмов были что надо. Вроде бы тоже синие, но с отливом, отчего казались поистине роскошными.
Вне же школьной жизни вещи на Павле были исключительно модные, стильные, а главное – яркие. На ногах он носил то настоящие импортные кроссовки, то заграничного образца остроносые туфли. Когда Розенблат шёл по улице, его замечали издалека, он привлекал внимание, точно тропическая бабочка, и как будто освещал собой стандартный и ничем не примечательный серпский пейзаж. Елена не сомневалась, что и букет роз для Риммы – это дело рук Павла Розенблата или его мамочки. Слишком хорошо он рифмовался с их характером и привычками.
Каким образом все эти дорогие шмотки попадали к Павлу, никто доподлинно не ведал. Видимо, что-то мать шила для детей сама, а что-то, например, кроссовки, доставали у фарцовщиков. Но факт оставался фактом. Даже на уроки физкультуры Павел являлся в таком шикарном спортивном костюме, каких Елена не видела ни на ком в Серпске.
Надо сказать, что в советские времена в провинциальном городе достать импортные одежду и обувь можно было лишь с большим трудом. И далеко не каждый мог позволить себе их купить. По-настоящему хорошие вещи чаще всего даже не доходили до прилавков –расходились среди тех, кто имел отношение к торговле, чтобы или носить самим, или подарить друзьям-знакомым, или с наценкой продать с рук. Этим занимались так называемые фарцовщики. На прилавки же попадало только то, что не имело большого спроса, например, очень маленькие или очень большие размеры.
Если же, на счастье серпчан, поступала большая партия импортного товара, настолько крупная, чтобы хватило удовлетворить спрос большого количества покупателей, то такие вещи появлялись в магазине. Об этом тотчас узнавал весь город, и за считанные минуты в магазин выстраивалась километровая очередь. Разумеется, купить что-то удавалось далеко не всем, завоз всегда был ограничен. Поэтому самые хитрые, чтобы отхватить что-либо ценное, взяли за привычку заходить в магазины по несколько раз на дню.
Постепенно привычка караулить дефицитный товар приобрела такие размеры, что многие серпчане выстраивались в очередь, даже когда дефицитные шмотки ещё даже не появились в магазине. В надежде быть первыми, если их всё же привезут и «выкинут» в продажу, как это тогда называлось. После подобных «выбросов» в свежекупленных куртках или туфлях начинал щеголять весь Серпск. Но вещи, в которые был одет Павел, в городе нельзя было увидеть более ни на ком.
Как и прочие серпчане, учителя с первого класса, отдавали должное семейству Розенблатов, и сквозь пальцы смотрели на частое отсутствию Павла на занятиях. Хотя в снисходительности Розенблат никогда не нуждался. Математика, русский язык, физика, химия– похоже, не было в школе предмета, который бы ему не давался. Причём, в любую новую тему Розенблат вникал стремительно, как будто бы знал её ещё до начала объяснений. Когда остальные ученики класса в недоумении только таращились на доску или с бестолковым видом тщетно пытались переварить сказанное учителем, Павел уже сидел с безмятежным видом и на все вопросы отвечал без запинки. Ну, а в формулах, схемах, законах и теоремах он всегда ориентировался свободно и легко, как в трёх соснах.
«Как же несправедливо устроено всё в этом мире, – частенько не без зависти рассуждала про себя Елена, исподтишка разглядывая великолепного Павла, когда ещё не прожила свою «главбухскую» жизнь, – кому-то всё, и внешность, и ум, и успешная, талантливая мама, а кому-то кругляшок от дырки… Дырка, это точно про меня. Что называется, ни рожи, ни кожи, эх!..»
И вот, этот самый Павел Розенблат, как и тогда, бесконечное число лет назад, в десятом классе сел за парту Елены.
«Ну, уж нет, дорогой мой, в этот раз ничего у тебя не получится, – подумала Елена, снова украдкой изучая греческий профиль красавца-соседа, – можешь сколько угодно распушать свой хвост павлиний, я тебе не курица, голову не потеряю. И вообще, на одни и те же грабли только дураки наступают. А я не дура!»
Невзирая на эти разумные, рациональные доводы, внизу живота у неё всё сладко заныло, а сердце затрепетало в груди. Просто от того, что Павел сейчас сидел с ней рядом. Но как бы ни ныло, ни трепетало внутри, Елена знала – она никогда не выйдет замуж за Павла. В худшем случае пофлиртует немного, но стать его женой – уж точно нет. Это дуракам надо несколько раз повторять, чтобы запомнили, а она, наученная горьким опытом, поняла с первого раза. И Елена стала вспоминать историю своего первого замужества.
Глава 14
Да-да, точно! Всё началось именно в это самое первое сентября, которое для нынешней Елены, созерцающей в данный момент Павла, в прошлый раз случилось 40 с хвостиком лет назад. Господи, как странно это звучит, но ведь так и есть, вернее так и было! И, как и теперь, началось всё с того, что Павел сел за парту Елены.
«Почему же я оказалась за партой одна? – предалась своему любимому занятию, размышлениям, Елена, – Вроде бы все девчонки, кто тогда пришёл в школу без фартука, готовы были сесть рядом. Ах, да! Я же до последнего момента ждала Ленку Штурманову, нашу отличницу, а она так и не появилась в тот день. Поэтому я отшила Машку Бушуеву, всё норовившую пристроиться со мной. Кстати Машка мне это долго не могла простить. А Ленка? Ленка оказалась самой умной из нас, пропустила почти всю первую неделю под предлогом какой-то болезни и пришла в класс, когда вся история с фартуками благополучно забылась. И сидела я в тот раз не у доски, а ближе к входной двери – там, где, по общему мнению, были лучшие места в классе. Может, потому Розенблат решил выбрать себе место рядом со мной?»
Елена снова скосила глаза на Павла, тот неспешно повернул голову в её сторону и одарил девушку своей очаровательной улыбкой, видимо, почувствовал на себе её взгляд. Елена ощутила, как неудержимо краснеет и быстро отвернулась к окну. От греха. Но перед тем, как упереть взор в грязноватое оконное стекло, глаза девушки нечаянно натолкнулись на красочную коробку, принесённую Розенблатом в подарок Римме Петровне.
«Точно, там были конфеты! – продолжала копаться в воспоминаниях Елена, – Какие-то прибалтийские, какие в Серпске и не видывали. Римма однажды, где-то месяц спустя, пила с этими конфетами чай в подсобке и выбросила фантик в мусорное ведро. А я втихаря выудила обёртку, чтобы дома как следует всё разглядеть. Обёртка была настоящим произведением искусства – шелковистая на ощупь, при этом точно светящаяся изнутри, она завораживала странным, удивительно элегантным отливом глубокого фиолетового цвета, а поверх струились оранжевые, какие-то инопланетные буквы. И отдавала обёртка сладким манящим ароматом, ассоциирующимся с не менее сладким запретным словом «заграница».
А ещё – да-да, точно! – Елену 40 лет назад сразила вот эта самая Розенблатовская улыбка. Ни разу до этого мига так никто не улыбался ей, ни один мальчишка в школе или во дворе никогда не одаривал Елену ТАКОЙ улыбкой. Ласковой, с оттенком восхищения, даже немного изумлённой, словно Павел увидел девушку впервые и сразу оценил по достоинству. Кстати, точь-в-точь как улыбнулся он ей буквально минуту назад. Правда, умудрённая опытом Елена, на этот раз легко разглядела то, что ускользнуло от неё тогда, сорок лет назад: Розенблат ни на мгновение не сомневался в своём успехе и сосредоточил внимание на соседке по парте исключительно потому, что справедливо полагал – она станет для него лёгкой добычей.
«Ещё бы! – сверля глазами проплывающие в небе облака, мрачно думала Елена, получая горькое удовлетворение от собственного ничтожества, – Для меня в те годы Розенблат казался прекрасным принцем из сказки. Как же – принести «почти заграничные» конфеты в дар простой училке мог только настоящий принц, у которого всё есть. А я, кто была я? Даже не Золушка, а так, простушка из рабочей семьи, серая копоть. Такую можно было поманить обёрткой от съеденной конфетки, и она сразу кинется тебе в объятия. Кто же не хочет попасть в сказку? Особенно, когда вместо принцев вокруг одни дурачки и разбитые корыта».
Между тем, появление Павла Розенблата рядом с Леной Распоповой вызвало в классе настоящий шок. Если в первые дни, когда битва за фартуки была ещё в самом разгаре, этот факт как-то отошёл на второй план, то после того, как бунтарки потерпели поражение в неравной битве со школьной системой и началась привычная рутина, внимание всего класса стало приковано только к этой паре.
– Ха! Помяните моё слово, скоро Розенблат бросит эту дуру Распопову, – услышала в одно сентябрьское утро Елена, входя в класс.
Реплика принадлежала, конечно же, Таньке Дериглазовой, которая после фиаско затеи с фартуками быстро отдалилась от Елены и всячески старалась именно её выставить главной причиной поражения. Дескать, не проявила Распопова достаточную твёрдость перед Буровой, вот и пришлось уступить. И не просто уступить – потерять лицо перед коллективом. А раз Елена не справилась с ролью лидера, значит, нечего выделываться и строить из себя звезду.
Разумеется, истинной причиной Танькиной злости на Елену было вовсе не стремление восстановить справедливость, а банальное желание перехватить в свои руки пальму первенства в среде девочек 10 «а». Увы, в то время Елена об этом даже не догадывалась и потому сильно переживала, пыталась оправдываться, указывая, что не одна она оказалась виновником поражения. Но все эти попытки лишь убавляли её авторитет – любое оправдание только ухудшает позиции того, кто оправдывается. Низвержение Елены с пьедестала оказалось не менее стремительным, чем её вознесение туда.
При виде вошедшей Елены, девчонки, обступившие кружком Таньку, демонстративно замолчали. Елена, стараясь ступать как можно естественнее, хотя после этих обидных слов ноги мгновенно перестали слушаться её, прошлёпала к своему месту и с замиранием сердца принялась ждать появление Павла, который, понятное дело, опаздывал. С каждой проходящей после начала урока минутой она склоняла голову всё ниже, а ехидненькая ухмылочка Таньки, сидевшей напротив, всё ширилась и ширилась, добравшись до крайних пределов, отпущенных природой. Но вот дверь легко распахнулась, и Павел, коротко извинившись за опоздание, появился в классе. А потом уверенно подошёл к своему месту рядом с Еленой и, сев туда, радостно и громко сказал ей: «Привет!»
Теперь сомнений не осталось почти ни у кого – Розенблат действительно выбрал Распопову. Хотя некоторые, например, Танька Дериглазова и Машка Бушуева, упрямо продолжали высказываться в том духе, что всё это не всерьёз и закончится уже очень скоро. Но прошло три недели, а Павел каждое утро исправно продолжал усаживаться за одну с Еленой парту. А самое главное, Розенблат стал оказывать девушке недвусмысленные знаки внимания. Например, регулярно помогал с домашками по физике и химии, которые Елена терпеть не могла, причём, делал это он по своему почину, без просьб со стороны своей соседки. Когда же в один из дней Павел вызвался проводить Елену до дома, даже самые недоверчивые из девчонок класса вынуждены были признать: Розенблат втюрился в Распопову.
Воскресив в душе события тех лет, Елена отвела глаза от окна и попыталась сосредоточиться на том, что в данный момент вещала у доски Римма Петровна, но воспоминания сорокалетней давности лились и лились в сознание непрерывным, мощным потоком.
Сейчас она вспомнила, как Павел впервые вызвался проводить её. Это случилось где-то в конце сентября, когда, выходя из школы после уроков, Елена обнаружила Розенблата, подпиравшего спиной один из столбов турника, расположенного как раз напротив выхода. При виде Елены Павел расплылся в лучезарной улыбке и своим красивым голосом громко объявил:
– А я тебя жду!
Не давая девушке опомниться, он лёгким шагом направился к застывшей от неожиданности Елене и потянул портфель из её рук. Разумеется, Елена и не думала противиться его напору. Переложив портфель в левую руку, Розенблат правой поправил собственную роскошную сумку на длинном ремне и, улыбнувшись, коротко бросил:
– Пойдём, что ли.
И тут же начал движение, взглядом заставляя Елену последовать своему примеру. Словно околдованная, Елена отправилась вслед за красавцем Павлом, всем телом ощущая, сколько видимых и невидимых глаз в данный момент жадно ловят каждую подробность, каждую деталь этой сцены. По сторонам смотреть она в тот момент не могла – было страшно. Но и не глядя, чувствовала, как буравят её глазами девчонки, как изучают в недоумении парни, задаваясь вопросом, что Розенблат смог найти в этой Распоповой, какая тайна скрыта в этой, доселе считавшейся совершенно невзрачной, девчонке. Вроде ничего с прошлого года в ней не изменилось. Тогда что? Челку обрезала? Ну, да, стала посимпатичнее. Но ведь и так вроде уродиной не была, но, чтобы обратил внимание такой как Розенблат, немыслимо! Что, что же изменилось-то в Ленке Распоповой?
Итак, Павел начал «ходить» с Еленой. Да-да, именно ходить, в те годы это называлось так. И они вправду много ходили – Розенблат часто провожал Елену до дома. Сначала до подъездной двери. Потом стал подниматься на этаж, но пока дальше томных взглядов и держания за руки дело не шло.
«Помню, как-то мы стояли перед моей дверью едва ли не десять минут кряду. Не целовались, не обнимались, просто стояли. Что делали? Держались за руки, смотрели друг на друга. Боже, какая святая наивность! – с оттенком умиления вспомнила Елена, но тотчас поправилась, – Хотя, нет, наивной в те годы была только я, Розенблат следовал своему плану, как я теперь понимаю»,
Тем временем, мир вокруг Елены, на которую обратил внимание САМ Розенблат, начал стремительно меняться. Всё чаще Елена замечала, как остальные мальчишки класса стали словно бы обходить её своим вниманием и вести себя с ней сдержанно-вежливо, всякий раз давая понять, что подтрунивания и разнообразные колкие шуточки, общепринятые в школьной среде, направлены на других девчонок. На любую, кроме неё. Правда первое время безбашенный Илья Борискин позволял себе, проходя мимо, озвучить старую дразнилку и перековеркать не очень звучную фамилию Елены:
– А, Трипопова! Или, может, ты сегодня Семипопова?
Но шутка эта никогда не находила продолжение. А однажды, услышав очередной Ильюхин перл, проходивший мимо Женька Зубов отвесил Борискину смачный подзатыльник. С Зубовым связываться никто не желал – себе дороже. С тех пор Борискин переключился на других девочек, а Елену предпочитал вообще не замечать. Отчего всем стало только лучше.
Поменяли к Елене отношения и девчонки. Первой на это решилась Ленка Штурманова. Ленка вообще оценивала обстановку лучше всех. Сначала принесла модный журнал с выкройками и принялась выспрашивать мнение Елены относительно моделей платьев. Потом пригласила к себе в гости. Глядя на Ленку, к Елене снова потянулись и другие девочки. Теперь даже в отсутствие Розенблата у парты Распоповой постоянно толпился народ. Мнение Елены опять стало весомым, с ней считались.
Волшебным образом перемены коснулись и отношений к Елене со стороны учителей. Если раньше, когда Распопова что-то не знала, её моментально усаживали на место с двойкой, то после появления рядом с ней Розенблата, даже грозная Элеонора Викторовна, когда спрошенная на её уроке Елена начинала мямлить что-то невпопад, вместо того чтобы привычно рявкнуть на невежду и влепить ей заслуженный кол, лишь картинно вздыхала и выдавала с грустинкой что-то вроде: «надо не просто лясы точить с соседом, а учиться у него понемногу, раз уж выпало счастье сидеть за партой с таким учеником». А заканчивала чем-то и вовсе невероятным из её уст: «ладно, чтобы к следующему уроку всё от зубов отскакивало. А пока подучи немного».
Если же кто-то из учителей забывался и всё же пытался поставить Елене двойку, в дело вмешивался Розенблат, который с улыбочкой вступал в полемику, защищая свою соседку и, как правило, легко выходил победителем из подобных схваток. Помогал он Елене и на контрольных, причём, практически открыто. И вновь все предпочитали делать вид, что не замечают это.
А затем, как-то вдруг, наступили новогодние праздники. Для десятых классов было решено организовать вечер с танцами или, как это тогда называлось, дискотеку. Впрочем, дискотекой мероприятие можно было назвать весьма условно. Аппаратуры для танцев в школе не было, один старенький усилитель, поэтому к организации вечера пришлось подключать самих учеников. Серёжка Бойко вызвался добыть нормальный магнитофон и записи. И не желал уступить это право даже самому Розенблату, под предлогом, что такой подборки музыки в Серпске ни у кого, кроме его друзей, нет. Розенблат оспаривать это не стал, остальные тоже.
Магнитофон, который добыл и торжественно водрузил на стол в актовом зале Серёжка, оказался с норовом. Как ни бились – сначала сам Серёжка, а вслед за ним и другие местные умельцы – музыка все время останавливалась, потому что подлый аппарат периодически зажевывал ленту и танцы прерывались. Кроме этого, Серёжка притащил преимущественно записи быстрых танцев. Поэтому десятиклассники сбились в одну большую кучу-малу и дрыгали руками и ногами, кто как умел. Красивые движения никто не знал, но радости это не убавляло.
Когда же музыка замедляла темп, Елена танцевала только с Павлом, который бросался пригласить её, игнорируя призывные взгляды других девчонок. Ей было неловко от того, что на фоне элегантного Павла она выглядит простовато в сшитой мамой белой блузке и тёмно-серой юбке в мелкую складку, доставшейся ей по наследству от двоюродной сестры. Но великолепный Розенблат вёл себя будто настоящий принц и ни словом, ни жестом, ни взглядом не выразил даже намёк на недовольство нарядом Елены. И та чувствовала себя на седьмом небе.
Когда же танцы закончились, Павел, как обычно, проводил Елену до дома, но заходить в подъезд не стал, а на пороге остановил девушку, притянул к себе и нежно поцеловал в губы.
«Как же я испугалась этого поцелуя! Точнее, не так – как же я хотела и одновременно боялась поцелуя, дурёха! – подумала Елена, – Мне тогда казалось это таким порочным, греховным!»
Так и было, когда Розенблат выпустил Елену из своих объятий, она опрометью ринулась вверх по лестнице, не помня себя, вбежала в дом и успокоилась только тогда, когда с головой забралась под одеяло, даже не раздевшись толком. Не слушая ворчание разбуженной Иришки, Елена пролежала так примерно полчаса, пока дома, наконец, не стало совсем тихо.
В эту ночь она долго не могла заснуть, потому что ее рот всё ещё ощущал легкое прикосновение теплых губ Павла, его горячее дыхание. Это было… Это было… ужасно! Или прекрасно? Ужасно в своей прекрасности, наверное, так правильнее.
Но прошло совсем немного времени, и Елена уже без смущения целовалась с Павлом при каждом удобном случае. И обнималась, тесно прижимаясь к его телу, а после, буквально вжимаясь в него. Да так, что было понятно, чего сейчас желает, нет, жаждет от неё возбужденный этой близостью Павел.
Правда сама она ещё к близости готова не была. Воспитанная в строгости и в лучших традициях советской семьи, Елена и представить не могла, как можно ослушаться родителей и допустить соитие до свадьбы. Кроме того, она, как и другие скромные советские девчонки, просто боялась последствий, – а вдруг сразу будут дети? Забеременеть в школе – это же просто ужасно!
К счастью, несмотря на объятия и поцелуи, с каждым днём становящиеся всё более страстными, вопрос о близости остро не стоял, ведь встречались влюбленные только на улице, в подъезде или в школе. Но однажды Павел позвал Елену к себе домой. Та завибрировала от страха, но пошла.
Войдя вслед за Павлом в квартиру Розенблатов, Елена в смущении замялась у порога. Сердечко её дрогнуло – внутреннее чутьё подсказывало девушке, Павел зазвал её к себе неспроста. А здесь, на пороге самое безопасное место – в случае чего можно сделать ноги. Но ноги Елены, похоже, приросли к полу.
Между тем, Павел словно бы и не заметил напряжённое состояние своей спутницы. А может быть, сделал вид, что не заметил, решив не смущать её ещё больше. Он расшнуровал свои кроссовки, выпрямился и глянул на Елену ясным безмятежным взором, приглашая девушку последовать его примеру. Судя по всему, Розенблат нисколечко не сомневался в желании Елены перейти на новую ступень отношений, к чему она пока была совсем не готова. По крайней мере, не сегодня, не здесь, не сейчас. В лучшем случае, когда-нибудь в будущем, которое даже не просматривалось на горизонте. От откровенного, приглашающего взгляда Розенблата Елене захотелось немедленно уйти, убежать из этой квартиры, но проклятые ноги не слушались.
Выручила её старшая сестра Павла, Бэлла, своевременно появившаяся в коридоре и разрядившая обстановку. Бэлла, которую до этого момента Елена видела пару раз, не больше, внешностью была под стать своему красавцу-братцу. Высокая и стройная, с породистым лицом и длинными, почти до пояса струящимися тёмными волосами, она выглядела просто сногсшибательно в элегантном полупальто молочного цвета с рукавами, отороченными белым мехом, вероятно из песца. Снизу на Бэлле были темного цвета джинсы, небрежно заправленные в голенища длинных черных замшевых сапог на высоченном каблуке.
Бэлла процокала каблучками и остановилась напротив Елены, оценивающе смерила её с ног до головы спокойным взглядом серых глаз и, видимо удовлетворившись увиденным, перевела взор на брата.
– Привет, Белка, – первым прервал молчание Павел, – ты куда?
– Здрасьте, – промямлила Елена, чувствующая себя замарашкой-маломеркой рядом с безукоризненной Бэллой.
– Привет, лапуля, – елейным голоском пропела Бэлла, только Елена не поняла, кому адресовано это «Лапуля», ей или Павлу, поскольку смотрела Бэлла во время приветствия куда-то между ними.
Затем Бэлла перевела глаза на Павла, и уже обращаясь точно к нему, всё так же слегка нараспев сказала:
– На Кудыкину гору. Сколько раз можно повторять, не закудыкивай мне дорогу, удачи не будет!
Елена плохо поняла сказанное Бэллой – и слова какие-то странные, да ещё и произнесены с интонацией, которую до этого она слышала только в театре: манерно, тягуче, будто читая заклинание. Она захлопала ресницами, ещё больше чувствуя свою неуместность здесь, потому что Павел отреагировал на слова сестры быстро и насмешливо, похоже ждал от неё именно такой ответ. Судя по всему, общение в подобном тоне было в семье Розенблатов нормой.
– Да ждет тебя твоя удача внизу, «Москвиченышем» своим попердывает, – мастерски передразнив манерный тон сестры, произнёс он, одновременно с озорством подмигивая Елене.
– Фу, кретин! Какой ты грубый! – Бэлла кокетливо надула подведённые губки, взглянула на себя в огромное зеркало, висящее на стене, и, оставшись полностью удовлетворена внешним видом, в свою очередь подмигнула Елене.
– Проходи, не стой в дверях, у нас не кусаются! – доверительно понизив голос, прошептала она, обращаясь к девушке, и сделала широкий приглашающий жест песцовым рукавом, – мой братец, хоть он – фу, и непочтителен к сестре, всё же девушек не ест. Особенно таких тихих.
Елена, наконец, сошла с коврика, на котором стояла с первого мига появления в квартире Розенблатов, на блестящий паркетный пол и тотчас пожалела об этом. Её ботинки оставили на глянцевой поверхности несколько отвратительных грязных отметин. Елена в смущении поторопилась снять проклятую обувь и, не зная, куда её деть, пристроила ботинки обратно на коврик около двери. На Розенблатов при этом она старалась не смотреть, потому что на глаза навернулись слёзы стыда, жгучего как перцовый пластырь. Но брат и сестра предпочли не заметить ни сами следы, ни смущение той, кто был в этом виноват. Павел как ни в чём не бывало помог Елене освободиться от пальто. А Бэлла прошествовала к двери, аккуратно обойдя оставленные грязные пятна и Еленины ботинки, и выпорхнула из квартиры, бросив Елене и Павлу короткое: «Пока».
Павел взял Елену за локоток и мягко направил в одну из комнат – гостиную, судя по отсутствию в ней кровати или иных спальных мест. Войдя в гостиную, Елена оробела и смутилась ещё больше. Было от чего! – ни у родителей Елены, ни у её друзей, вообще ни у кого из тех, кого она знала, в квартире не было, да и в принципе не могло быть комнаты, предназначенной исключительно для отдыха, приёма гостей. Комнаты, в которой не спал хотя бы один из членов семьи. А вот Розенблаты могли позволить себе подобную роскошь!
Правда, присмотревшись, Елена поняла, что слегка поспешила с выводами: часть гостиной оказалась отделённой от другой какой-то перегородкой, в которой был сделан проём в виде арки, занавешенный плотной плюшевой портьерой, выполняющей роль двери. Перегородка не капитальная, скорее она была из какой-то фанеры, но сделана настолько качественно, что с первого взгляда и не отличишь от настоящей стены.
Павел замешкался в коридоре – оттирал следы, оставленные Еленой, потом долго мыл руки – поэтому у девушки было время хорошенько рассмотреть квартиру Розенблатов. Вид с того места, где она стояла, позволял увидеть почти всё её внутреннее устройство. По сравнению с домом, где Елена жила с родителями, квартира Павла показалась ей просто гигантской. Своими высокими потолками, сверкающими полами, огромными окнами, декоративными карнизами, бегущими по стенам поверху, а также своим внутренним убранством она напоминала царский дворец.
Всего в квартире Елена насчитала три комнаты. Одна из них имела врезной замок – ещё одну диковинку в глазах девушки. Она даже представить себе не могла, кто, а главное зачем будет закрываться от своих домочадцев на ключ. «Наверное, мать не доверяет своим детям или их друзьям, частенько бывающим в доме в ее отсутствие», – предположила Елена. Дверь во вторую комнату, рядом с первой, оказалась чуть приоткрытой. Елена смогла различить сквозь щёлку большое зеркало и догадалась, что там обитает Бэлла. Далее шла дверь с дымчатым стеклом – не иначе, ведущая на кухню. «Где же живёт Павел? – подумала Елена, – неужели за перегородкой в гостиной?»
Её догадка подтвердилась, когда вошедший в гостиную Розенбалт, увлёк Елену за собой, отодвинув тяжёлую портьеру. В комнате Павла было немного тесновато, но вполне уютно. Напротив входа стоял двустворчатый шифоньер, у стены притулилась небрежно заправленная односпальная кровать, письменный стол расположился у окна, рядом с ним роскошное кресло с плюшевой обивкой горчичного цвета.
– Садись, Лен, я сейчас, – кивнув на кресло, сказал Павел и куда-то ушёл, оставив девушку в одиночестве.
Елена покорно бухнулась в кресло, отчего колени её взлетели едва ли не до уровня подбородка, настолько мягким и низким было сиденье. Пришлось срочно вылезать и садиться на краешек, чтобы соблюсти приличия. И без того Елене было не по себе, а тут ещё такая развратная поза!
К счастью, Павел не заставил себя ждать. Он притащил из кухни вазочку с дорогими шоколадными конфетами, стакан и бутылку газированной воды «Крем-сода».
– Пить хочешь? – спросил он Елену.
Та кивнула в знак согласия. Газировку «Крем-сода» в Серпске можно было купить только по блату – ещё один элемент роскошной жизни. Павел ловко открыл бутылку и налил Елене полный стакан.
– Куда столько? Мне это много, хватило бы полстакана! – попыталась остановить Розенблата Елена, но тот наполнил сосуд пенящимся ароматным напитком до самых краёв.
– Пей, сколько хочешь, – передавая девушке стакан, произнёс он, – а то, что останется, выпью я. Говорят, испить из одного бокала – все мысли другого выведать. Вот я и узнаю, о чем ты думаешь!
Последнюю фразу Розенблат даже не сказал, а промурчал как кот.
Елена покраснела, но приняла стакан, сделала несколько глотков и вернула его Павлу:
– Пей, а потом расскажешь мне, о чем я думаю. Мне даже самой интересно об этом узнать, – пробормотала она.
От волнения сердце Елены забилось точно сумасшедшее.
Павел, не сводя взор с гостьи, медленно допил оставшуюся газировку, потом поставил стакан на стол, присел на корточки перед коленями девушки, погладил их руками и легонько потянул Елену к себе. Затем уткнулся головой ей в живот, принялся целовать, трогать губами, продвигаясь все выше. Руки Павла заскользили по телу Елены, забрались под кофточку. Елена заерзала в кресле, пытаясь остановить настойчивость Розенблата, она не ожидала столь скорое развитие событий. Но тот уже вовсю тискал левую грудь девушки, с ловкостью заправского ловеласа сумев извлечь ее из чашечки лифчика.
Елена охнула и тщетно попыталась высвободиться из цепких рук Павла, но тот уже полулежал на ней сверху. И все-таки ей удалось выскользнуть из его объятий. Елена вскочила с кресла и устремилась к выходу.
– Совсем с ума сошел! – прошипела она, остановившись у самой портьеры, и зло поглядывая на Розенблата.
К её удивлению, тот вовсе не выглядел смущённым.
– А я думал, что угадал твои мысли, – устраиваясь в кресле, с ухмылочкой проговорил он, как ни в чем не бывало.
И тут Елена натурально рассвирепела. Со словами «Я лучше пойду домой» она решительно выскочила в коридор, на ходу поправляя одежду.
– Да, стой ты. Куда? Не хочешь, не буду. Я ж не насильник какой-то. Ну, правда, – Павел выбежал в коридор вслед за гостьей и встал у неё на пути. Вид у него был далеко не такой радужный, как минуту назад.
– Останься еще ненадолго, я потом провожу! – попросил Павел довольно жалобно.
– Нет, я пошла, – отрезала Елена, внутри которой всё клокотало.
Она безумно разозлилась на себя, на собственную глупость – как могла она довериться этому человеку, пойти на поводу у него и вообще зайти в этот дом!
– И не надо меня провожать! – последние слова Елена выкрикнула уже в дверной проём, даже не повернув голову в сторону растерянного Розенблата.
Она неслась по улице, постепенно успокаиваясь от быстрой ходьбы. Мысли, которые сперва путались в ее голове, понемногу начали выстраиваться в подобие порядка. Итак, они поссорились с Павлом – первый раз за эти полгода. И пускай! Нечего руки распускать и делать ей предложения подобного рода. А всё же интересно, подойдет он к ней завтра в школе или нет?!
– Да и пусть не подходит – плевать, плевать! – Елена заметила, что последние слова произнесла почти в полный голос, настолько воспоминания о том окаянном дне захватили её.
К счастью, никто не обратил внимания на её возглас, все, включая Розенблата, в этот миг хохотали над шуточкой, отпущенной Риммой.
«Не помню, разрыдалась я тогда, 40 лет назад, или ограничилась словами досады. Но то, что этих досадных слов, сказанных про себя, было немало, помню отлично», – вновь начала копаться в памяти Елена. Перед её внутренним взором пронеслось, как она вернулась домой. Шмыгнула в дверь, разулась и сразу заперлась в туалете, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь увидел её в таком состоянии.
«Как же Павел мог! Я приличная девушка, и вдруг попробовать сделать со мною ТАКОЕ! Поцелуи, объятья, это ладно. Но ТАКОЕ! Всё, что угодно, только не ЭТО. Ведь так все было хорошо, романтично! А теперь? Что делать теперь? Неужели Розенблат меня разлюбит? Выберет другую, более покладистую, к примеру, ту же Машку Бушуеву? Уж Машка-то ему точно не откажет!» – горько размышляла Елена в темноте крошечного пространства – свет включить она как-то забыла, а высунуть нос наружу боялась. «А, собственно, чего я так испугалась, дурёха?! Я же без пяти минут взрослая женщина, взрослый человек, и ЭТО с мужчиной будет в моей жизни обязательно. Тогда, почему не сейчас?» Но даже самая мысль об ЭТОМ вызвала у Елены такой испуг, что девушка забормотала себе под нос:
– Будет, но не сейчас! Когда-нибудь, безусловно, но только не сейчас, не в школе. Пожалуйста, только не сейчас!
Животный ужас Елены перед половым актом легко можно понять, вспомнив расхожую фразу – секса в Советском Союзе нет. И его действительно не было. Даже само слово «секс» казалось ругательным. Слово это знали все, но произносить его вслух, особенно в женской компании никто не рисковал. «Заниматься сексом», «вести половую жизнь» могли проститутки, в крайнем случае, оторвы, которым нечего терять, и никто более. Это был негласный закон советской жизни. А порядочные девушки должны были хранить невинность до брака. Не была исключением и Елена.
Мама никогда не рассказывала ей про то, как ведут себя мужчины и женщины в постели. О самой технике запретного процесса Елена могла лишь догадываться. Никаких обучающих программ и пособий по половой жизни в советской действительности не существовало. И существовать не могло по факту. Единственное сексуальное знание, полученное Еленой от матери с отцом, включало всего один абстрактный тезис: «Не принеси в подоле». А как дети попадают в этот подол и тем более, как уберечь себя, от того, чтобы не принести в подоле, никто никогда Елене не объяснял. Поэтому из родительского напутствия она смогла сделать только один вывод: близость с мужчиной возможна исключительно после свадьбы. И никак по-другому. А там всё получится само собой. Загадочным волшебным образом.
В тот вечер Елена рискнула покинуть своё прибежище только после того, как Иришка раздражённо дёрнула дверь, а потом застучала в неё. Уступив младшей сестре, Елена спряталась в своей комнате, легла на диван лицом к стенке. Разлуку с Розенблатом она не переживёт. А Павел уже никогда не подойдёт к ней, после того, как она его так грубо отшила. В общем, жизнь её была кончена, вне всяких сомнений. Это было так же очевидно, как греховность секса. Елена всхлипнула и прижала колени к животу. И тут на диван присела мама.
– Мальчик поди появился у тебя? – поглаживая безутешную дочь по спине, тихо поинтересовалась мама.
– С чего ты взяла, вовсе нет? – после паузы просипела Елена, не горевшая желанием посвящать маму в свою личную жизнь.
Тем паче, она точно знала, чем закончится разговор, если только мама узнает про случившееся. Опять будут слова про подол, упрёки в порочности и прочие обвинения, от которых станет только гаже на душе.
– Ха, Нет! Чё врать-то, – раздался из угла комнаты гаденький голосок Иришки, которая вечно совала свой длинный нос во все дела старшей сестры и не преминула воспользоваться ситуацией, чтобы в очередной раз свести счёты с Еленой, – она с Розенблатом ходит. Вся школа про это знает.
– Слушай её больше, сочиняет на ходу, – раздраженно проворчала Елена, украдкой показывая сестрёнке кулак.
– Я сочиняю? А кто тебе до дома каждый день портфель носит? Не он, что ли? – Иришка явно собиралась вывести Елену на чистую воду, уж очень подходящим казался ей этот случай.
– Портфель носить, это не значит, ходить, ясно, дурындалетка? Просто сидим за одной партой и нам до дома по пути. Простая вежливость, – завелась Елена, втайне мечтая врезать младшенькой по тощему заду за такие подробности.
Жаль, при матери нельзя осуществить данный акт незамедлительно, кто ж в доме позволит обижать любимую дочь?!
– А щас где была? Не у него, что ли? А потом в толчке сидела, обтекала. Мама, она тебе врёт, ходит она с Розенблатом, ходит. Точно тебе говорю, – с мерзкой усмешечкой продолжила тараторить подлая Иришка.
– Сейчас как дам по башке, быстро отучишься поклеп на сестру наводить, – заорала Елена, вскакивая с дивана, но на полпути одумалась и жалобно попросила мать:
– Не слушай ее, мама. Со своего горшка сует свой нос во взрослые дела.
– Сиди, вон лучше, уроки делай, – приказала она Иришке.
Но Иришка так просто сдаваться не собиралась:
– Сама делай, двоечница, – прошипела она.
– Это кто двоечница? – взвилась от незаслуженного обвинения Елена.
– Так, тихо. Обе замолчите, – повысила голос мама.
– Иришечка, ты иди, чайник поставь на плиту, скоро ужинать будем, – обратилась она к младшенькой.
А сама силой усадила рядом с собой Елену, придвинулась к ней.
Иришка, фыркнув и скорчив злобненькую мордашку, выбежала из комнаты.
– Алёшик, доченька. Я всё понимаю. Этот Розенблат… Кстати, как там его зовут?
– Павел, – нехотя выдавила Елена.
– Так вот, я понимаю, Павел мальчик интересный. Только, поверь мне, не для тебя он. Ты у нас девочка простая, домашняя. А он избалованный сынок у слишком расфуференной мамочки, – мама говорила тихо, без нажима, будто сама с собой, а не с дочерью, – он же красавчик. Семья публичная, живут на широкую ногу. Потом, его воспитанием никто давно не занимается. Видала я мамашу эту на собрании! У неё на уме только задницей крутить, вообще ей не до Павла. Распутная женщина и дети такие же!
– Да с чего ты взяла всё это? – не выдержала Елена, которой почему-то стало обидно за Розенблата, –Ты же его совсем не знаешь!
– У меня большой жизненный опыт, дочка, – проворчала мать, немного отстраняясь от дочери, – людей подобного рода за версту видно. Они не такие как мы, не из нашего общества. Откуда у них деньги на роскошную жизнь? Скажи мне!
– А с чего ты взяла, что у них роскошная жизнь?
– Я видела, как мамаша Розенблата одета. Таких шмоток ни у кого из наших знакомых нет. Где она их берет? Никогда не задумывалась?
– Она модельер. Сама одежду придумывает, шьет. Вот и не видела ты такого ни на ком.
– А обувь, а сумка, а шуба? – со значением хмыкнула мама, – Даже если она все это сшила сама, где деньги взяла на меха? В нашем городе мехового магазина нет, и не было никогда.
Мама потихоньку повышала голос, в котором появились обиженные, раздраженные нотки:
– В общем так, моя дорогая, предупреждаю тебя в очередной раз, принесешь в подоле, выгоню из дома. Живи, как знаешь. А пока не случилось беды, советую прервать отношения с этим Павлом. До добра это тебя не доведет. Слышишь меня?
– Слышу, – Елена легла на диван и отвернулась к стенке, не желая смотреть матери в глаза.
– Вот и хорошо, – судя по звуку, мама встала и вышла из комнаты.
В каждом шаге её отдавалось эхо от чувства выполненного долга. И было от чего, профилактическая беседа проведена мастерски, как следует. В очередной раз. У Елены же после всего сказанного остался лишь неприятный привкус во рту и единственный выход из ситуации – держаться от мужчин подальше, вплоть до самой свадьбы. И слабая надежда, что Павел её поймёт и простит.
Ей повезло, точнее, тогда казалось, что повезло. Отношения с Павлом не только не прервались, но и стали уважительнее, что ли. В первый после каникул учебный день Розенблат снова сел за парту с Еленой и ни разу не сказал и тем более не сделал то, что могло быть расценено как попытка соблазнения или просто двусмысленность. Напротив, стал подчёркнуто внимателен, с поцелуями и объятиями не лез, когда провожал до дома, спрашивал разрешение. Недели через две Елена совсем расслабилась, а ещё через две вновь посетила дом Розенблатов. А когда всё прошло спокойно, стала периодически бывать там. Её точно магнитом тянуло к Розенблатом, к блеску и роскоши их дома.
В один из визитов Елена познакомилась с мамой Павла, правда это была случайная встреча, практически так же, как с сестрой – мимолетная, у порога. Ирина Львовна, как звали модельершу, окинула девушку взглядом, далёким от приязни. Видимо, была не слишком довольна новой подругой Павла. Это читалось на ее лице, да и в интонации, когда она прощалась с сыном, перед самым уходом.
– Я буду поздно сегодня. Слышишь меня? – голос у Ирины Львовны был такой же манерный, чуть нараспев, как и у Бэллы, – Не забудь проводить девочку домой. И пообедайте, еда там, в холодильнике. Подойди ко мне, сын.
Павел вразвалочку приблизился к матери, которая начала что-то неразборчиво, но горячо нашёптывать ему в ухо. Присутствие Елены она словно бы не замечала. С каждым словом матери Розенблат всё более мрачнел, но всякий раз бросал в ответ одно и то же слово «ладно». В конце концов, мать покинула квартиру, забыв попрощаться с гостьей.
– Что она тебе там говорила? – как можно небрежнее поинтересовалась Елена, когда Павел вернулся к ней.
– Беспокоилась за твою нравственность, – невесело хохотнул Павел.
– А ты чего?
– Я не стал ей рассказывать, что Лена Распопова своей нравственностью со всем нашим классом может поделиться, и от нее не убудет. Так ведь? А может сегодня не так? – Павел испытующе глянул Елене в глазах, но, заметив в них зарождающийся гнев, поспешил исправиться.
– Шучу, шучу. Клянусь не поднимать на Лену Распопову ни руку, ни ногу! – жестом сдачи подняв руки вверх, с деланной торжественностью поклялся Розенблат.
И для гарантии сказанного сделал три мелких шажка назад.
– Смотри, а то будет как тогда, – для острастки сказала ему Елена, хотя в тот момент была вовсе не уверена, что сможет устоять, предприми Павел новую попытку.
«Точно! После того случая мы с Розенблатом так ни разу и не поцеловались. И за руки не держались, так и ходили, держа ладони за спиной для страховки, – припомнила Елена, удивляясь собственной твёрдости, – Даже Последний звонок ничего не изменил в нашей целомудренности. Эх, дети! Какими же мы были детьми!»
Когда наступили выпускные экзамены, Елена, не блиставшая знаниями ни по одному из школьных предметов, совсем приуныла. В четвёртой четверти они с Павлом больше думали о своих отношениях, нежели об учёбе. Если Розенблату всё было ни по чём, то Елена, даже несмотря на помощь от учителей, чувствовала – больше тройки по основным предметам ей не поставят. Так и вышло. Средний балл у Елены получился чуть выше тройки, поэтому поступать в институт не было ни смысла, да, честно говоря, ни желания. К тому же её родители вовсе не настаивали на дальнейшей учебе старшей дочери.
– Будешь работать, как мать. Подумаешь! – вынес вердикт отец под одобрительное молчание матери.
Выходцы из рабочих семей, как правило, шли по стопам своих родителей, то есть прямиком на завод, сразу после окончания школы. Это не было чем-то из ряда вон, наоборот всячески поощрялось и приветствовалось в то время, причём, на уровне государства. Мальчишки трудились на заводе около года – до 18 лет, потом уходили в армию, чтобы, отслужив, вернуться обратно на родное предприятие. А девочки, те работали без перерыва. В принципе, все оставались довольно таким положением дел: в семье появлялся новый источник дохода. Ребенок быстро, не теряя время на дальнейшее образование, становился самостоятельным человеком, и уже не нужно было более тратиться на его содержание.
В лучшем случае, таким как Елена, удавалось получить профессию где-нибудь в училище или техникуме, но даже это было совершенно необязательно. Завод, где трудились родители Елены, был большой, работы хватало на всех, а зарплаты при этом отличались несильно.
В семье Павла было всё по-другому. Высшее образование не просто рассматривалось как возможное, а было единственным вариантом. Поступление Павла в институт, во-первых, спасало от армии, во-вторых, открывало ряд перспектив на получение впоследствии непыльной работы и достойного места в обществе. Может, именно поэтому мать Павла неодобрительно отнеслась к выбору сыном своей возлюбленной. Что это за подружка из рабочей семьи, когда у мальчика впереди такие замечательные перспективы?!
Может быть, именно нежелательная дружба единственного сына с Еленой подвигла маму-Розенблат на радикальный шаг. Чтобы обеспечить Павлу лучшее будущее, а заодно и вырвать сына из лап этой «авантюристки», она решила отправить любимое чадо учиться в столичный вуз. В то время так поступали многие амбициозные родители из провинциальных городов. Поэтому сразу после завершающего экзамена Ирина Львовна, взяв отпуск, самолично повезла сына в Москву, где учиться считалось много престижнее, чем в родном Серпске. Она использовала все свои связи и знакомства. Об этом Елена узнала от всезнающей Иришки, которая не преминула поддеть старшую сестру.
Впрочем, Павел в Москве не задержался. То ли вуз Розенблатами был выбран не тот, то ли конкурс на одно место оказался не по зубам сыну Ирины Львовны, то ли по какой-то иной причине, но в начале августа, мать и сын вернулись в родной Серпск, как говорится, не солоно хлебавши. Точную причину неудачи Павла Елена не узнала, но, судя по виду, Розенблат своим провалом обескуражен абсолютно не был. Тем более что Ирина Львовна без проволочек добилась, чтобы её сыночек был зачислен в местный Технический институт. И это несмотря на то, что вступительная комиссия в институте к моменту возвращения Розенблатов из Москвы уже закончила свою работу.
А что же Елена? После поспешного отъезда Розенблатов она, не желая проработать подобно своим родителям всю жизнь на заводе, подала документы в училище связи. Это училище она выбрала вполне осознанно, но не потому, что так уж хотела стать работником связи, а исключительно по причине вечного недобора абитуриентов там. Она просто пошла туда, куда принимали всех девочек без разбора. Поначалу Елена переживала, как отнесутся к её решению мать с отцом. Но родители на удивление быстро смирились с тем, что придется еще целый год кормить своё великовозрастное дитя. Рассудив, мол, что поделать, может быть это и неплохо, если у девочки будет профессия.
«Когда же мы встретились с Павлом? Кажется, это было почти тотчас после его возвращения из Москвы», – подумала Елена, и тут прозвенел звонок с урока.
Глава 15
И точно, сорок лет назад Елена и Павел встретились в августе. Прогуливаясь однажды погожим тёплым днём по проспекту 30-летия Победы, центральной улице Серпска, Елена увидела вдалеке знакомую фигуру и сперва не поверила своим глазам. Как же так? Ведь Павел сейчас должен быть в Москве! Неужели это мираж или обман зрения? Но это был не мираж. Заметив Елену, Павел тотчас убыстрил шаг, и скоро они уже целовались в объятиях друг друга. Елена совсем забыла про свою неприступность, настолько была рада видеть Розенблата.
– Какими судьбами ты здесь? Приехал вещички собрать? – поинтересовалась Елена, когда пришла в себя и, вспомнив о своей скромности, отстранилась от Павла.
Сердечко её трепетало, отвыкшие от поцелуев распухшие губы слушались плохо. Она отчаянно надеялась, что красавчик Розенблат останется с нею навсегда.
– Что ты, Лен, я вернулся с концами. Буду учиться в «техничке» (так в те годы ласково именовали Технический институт – прим. авт.), завтра первый экзамен, но не боись, это простая формальность, так что… – и, не закончив фразу, Павел снова потянулся за поцелуем.
И Елена уступила Розенблату. Павел будет рядом – это было единственное, что её тогда волновало. Правда, когда Розенблат, неверно истолковав покладистость Елены, попытался вновь овладеть ей в своей квартире незадолго после возвращения из столицы, то получил не менее яростный отпор. Правда, на этот раз реакция Павла на отказ оказалась не виноватой, а раздражённой.
– Что тебе надо? То авансы мне раздаёшь, а когда до дела доходит, отшиваешь. Что за дела? – громко и зло спросил он Елену, упёршись в девушку сердитым взглядом.
Елена знала, ей нужно что-то сказать Павлу, тем более в глубине души она ощущала справедливость его обвинений, но подлый язык отказывался слушаться её. И только заметив, как искривилось лицо Павла, который явно намеревался произнести что-то очень обидное, наконец, нашлась с ответом:
– Я не могу до свадьбы. Не хочу, понимаешь? Ну, пойми меня, пожалуйста!
Последние слова Елены по тону больше напоминали мольбу. И, как показалось девушке, Павел услышал её. Лицо его постепенно разгладилось, исчезли две сердитые вертикальные складки на лбу поверх носа, которые так портили его красивое лицо. Розенблат вдруг коротко фыркнул совсем по-кошачьи и масляным голосом произнёс:
– Раз так, будет тебе свадьба! Завтра же идём в ЗАГС. И не забудь взять паспорт.
Правда, в ЗАГСе Елену и Павла ждал неприятный сюрприз – как выяснилось, молодые люди могут вступить в законный брак только после достижения ими восемнадцатилетнего возраста. Кроме того, даже если будущие супруги уже достигли совершеннолетия, ждать регистрации после подачи ими заявления придётся целых три месяца, таков закон.
Павел поначалу напрягся, полез в спор, доказывая, что спустя злополучные три месяца оба будущих супруга достигнут совершеннолетия, поэтому подать заявление они имеют право прямо сейчас. Но потом внезапно смолк, что-то старательно обдумывал несколько томительных секунд, и неожиданно для Елены, которая уныло молчала, не зная, что сказать во время всего этого неприятного разговора, объявил:
– Мы уходим. Пока. Но мы ещё посмотрим!
В этот день он не стал прогуливаться с Еленой по улицам, как обычно, а довёл её до какого-то жилого дома в центре города, и со словами «Мне надо кое-что порешать. Дойдёшь ведь до дома сама?» и, не дожидаясь согласия Елены, скрылся за массивной дверью подъезда. Елену охватило смутное беспокойство – никогда до этого Павел не был так невнимателен к ней и всегда провожал до дома, даже в период охлаждения отношений. А тут бросил сразу после посещения ЗАГСа, да ещё сказал это странное слово «порешаем», от которого веяло неясной угрозой и вообще чем-то запретным, почти преступным.
К счастью, на следующий день Павел встретил Елену в условленном для встреч месте в прекрасном настроении. Извинился за вчерашнее и вытащил из портфеля коробку тех самых прибалтийских конфет:
– В качестве компенсации за моральные страдания! – объяснил свой жест Розенблат, и Елена вновь поверила ему.
А уже через неделю Павел снова попросил девушку прийти на свидание с паспортом.
– Зачем это ещё? – насторожилась Елена, предчувствуя недоброе.
– Увидишь! – загадочно ответил Павел, – Это будет мой второй подарок тебе. Ну, после конфет!
– Принесла? – первым делом спросил у Елены Розенблат на следующий день, когда они опять встретились.
Елена помешкала, ей отчего-то было не по себе, но, повинуясь настойчивому взору Павла, порылась в сумочке и достала из неё красную книжицу. Вынув паспорт из рук Елены, Розенблат, просияв, объявил тоном полководца-триумфатора после победы в затяжной кампании:
– Всё в порядке, заявление у нас примут немедленно. Я договорился!
– Как это? – не поняла Елена.
– Как-как, – уже с лёгким раздражением отреагировал на её непонятливость Павел, – пятой точкой об косяк!
Но сразу поправился:
– Зачем тебе подробности? Достаточно того, что заявление у нас примут, остальное – мелочи, не имеющие принципиального значения. Ты же сама настаивала на свадьбе, вот я всё и устроил.
– Я так соскучился, – прибавил Розенблат, заключая Елену в жаркие объятия, – не могу больше ждать. Не хочу, понимаешь? Пойми меня, я весь извёлся!
Елена отметила, что Розенблат произнёс почти те же самые слова, которые сама сказала ему, когда он прошлый раз приставал к ней, но смолчала. Не стала она и допытываться, как удалось Павлу обойти суровые советские законы. Хотя где-то внутри у Елены что-то кольнуло и даже ёкнуло, отступать было уже поздно.
Паспорта у них приняли в этот же день. Елене даже не пришлось заходить в здание, где располагался ЗАГС, Павел оставил её ждать на лавочке, а сам скрылся за дверью. Скучать Елене пришлось совсем недолго. На всё про всё ушло не более пятнадцати минут. Уладив вопрос с ЗАГСом, Розенблат настоял, чтобы Елена нанесла визит к ним в дом для серьёзного разговора с матерью.
– Мама у меня, женщина прогрессивная, поставим её перед фактом, и точка! Должны же мы сказать ей о браке. Жить всё равно придётся у нас, так что разговор этот неизбежен, – внушал он Елене, но та сомневалась.
– А может с моих родителей начнём? – неуверенно предложила она, не поднимая взгляд на Павла.
– Ерунда! – тут же отмёл это возражение Розенблат, – Мы же у нас жить будем, а не в твоей квартире. Так что разговаривать надо с моей матерью.
Разговор наметили на утро субботы, чтобы с гарантией застать Ирину Львовну Розенблат дома.
– Приходи в десять часов, – предложил Елене Павел.
Но испуганная девушка потребовала, чтобы будущий муж сперва встретил её во дворе.
Войдя в дом к Розенблатам, Елена никак не могла унять нервную дрожь, ей было очень страшно. Пришлось Павлу едва ли не силой стаскивать с неё пальто, а потом и туфли. Когда Елена кое-как разделась, Розенблат легонько подтолкнул её в сторону кухни. Из кухни веяло ароматом кофе, слышалось звяканье чайной ложки о фарфор и другие утренние звуки. Елена сделала два крохотных шажочка и снова будто вросла в пол. Тогда Павел со вздохом взял её за руку и, уверенный как ледокол, потопал вперёд по коридору. А Елена покорно поплелась за Павлом, словно неуклюжая баржа, взятая на буксир. У входа на кухню Розенблат резко затормозил, и Елена уткнулась в его широкую спину, да так и замерла.
– Мама, привет! Вот, – услышала Елена натянутый голос Павла и поняла, что в данный момент её возлюбленный протягивает матери справку из ЗАГСа, где значилась дата их свадьбы – 18 декабря.
Она осторожно выглянула из-за плеча Розенблата, упёрлась в него подбородком, тот нащупал рукой её бок и точным движением вытолкнул Елену вперёд. Девушка бурно зарделась и уставилась в пол.
– Что это? – услышала она недовольный голос Ирины Львовны и отважилась глянуть на неё. Мама-Розенблат двумя пальцами брезгливо, будто паука, взятого за лапку, вертела перед её носом справкой из ЗАГСа.
– Я женюсь, – отодвинув Елену в сторону, с вызовом провозгласил Павел.
– Мы женимся! – быстро поправился он, посмотрев на Елену рядом с собой.
– Тебе даже не исполнилось 18 лет, куда такая спешка… – начала Ирина Львовна, как вдруг слабо охнула и схватилась за сердце.
– Неужели у вас будет ребенок? – даже не проговорила, а прохрипела она.
– Ребёнок! Почему сразу ребёнок? – взвился Павел, закипая, – Просто мы любим друга и хотим быть вместе. Это очень уважительная причина!
– Да, но если ребёнка нет, как у вас приняли заявление? – Ирина Львовна постепенно обретала почву под ногами и начала повышать тон.
– Я договорился! – Розенблат, не желая уступать, тоже повысил голос, – Я тоже умею договариваться, не только ты. Не думай, что ты одна всё можешь! Что, не так разве?
На Ирину Львовну было страшно смотреть – она побелела как мумия, глаза у неё вылезли из орбит и сверкали, точно в них зажгись две сверхновые звезды. Но Павел уже закусил удила и ничего кругом не замечал. Его жизнь начинала новый виток, и всё в ней обещало быть просто прекрасно. Отговаривать Павла было бесполезно. Ирина Львовна была женщиной умной, она довольно быстро овладела собой, нацепила на лицо более-менее нормальное выражение и поняв, что лобовой удар ни к чему не приведёт, решила зайти с другого бока.
– Ладно, сын, но ответь мне на ещё один важный вопрос. На какие средства вы собираетесь жить? – глядя при этом на Елену, ядовито поинтересовалась она.
Её вопрос повис в воздухе. Елена смутилась. Она вообще до этого мига про деньги как-то не думала. Главным для неё было не принести в подоле, а думать о деньгах, по мнению Елены, должен был Павел. Как мужчина. Мужчина – добытчик в семье. Эта истина внушалась Елене с самого рождения и казалась девушке такой же незыблемой, как и пресловутый подол, куда нельзя было «принести». Поэтому она промолчала, уставившись на Павла, в ожидании, как отреагирует на этот вполне резонный вопрос её добытчик.
– Не боись, мать, – натужно хохотнул Павел, и Елена ощутила, как напряглась при этом его рука, обнимающая девушку за талию, – не пропадём как-нибудь. У нас как минимум есть моя стипендия. Это раз. На первых порах родственники помогут молодожёнам, это два.
– Помогут ведь? – подмигнул он матери, которая лишь скривилась в ответ.
– Ну и три, – тут Павел чуть понизил тон и заговорил со значением, – вообще в Серпске возможностей заработать – навалом, места только надо знать. Найду, где денег добыть.
– Молчи лучше про свои «места», – хлопнув ладонью, сердито вскричала Ирина Львовна, – ещё раз узнаю про твои делишки, вылетишь из дома. Знаешь ведь, чем это может кончиться! Эх, почему ты в Москве не остался?!
– Перестань, мать, знаю я всё, что ты мне скажешь! – тоже перешёл на крик Розенблат, – Хватит пылить, пылесос забьётся! Я уже взрослый, понимаю. Сколько можно говорить об этом? Так что, не парься. Всё путем, будь спок.
Ирина Львовна взглянула на Павла и уронила руки вдоль тела. Лицо её стало пепельным, судя по виду, она смирилась с неизбежностью.
– И что вам так приспичило? –от бессилия мама-Розенблат совсем потеряла голос и почти шептала, слегка раскачиваясь на стуле от расстройства, – Неужели не могли подождать?
– Всё! – отрезал Павел, которому надоел этот бесполезный разговор, – Я тебя в известность поставил? Поставил! И не говори потом, что я тебя игнорирую.
Он развернулся спиной к матери и начал осторожно подталкивать Елену по направлению к своей комнате.
– Павел, давай ты Лену проводишь, и мы поговорим ещё. Как взрослые люди, – попыталась достучаться до сына Ирина Львовна.
Тщетно.
– Да поговорим, поговорим! Успеем еще, – не слушая мать, буркнул Павел, который уже почти дотолкал Елену до своей коморки. Как только молодые оказались за шторкой, Розенблат прижал Елену к стене и долго целовал и лапал, как свою законную собственность. Слава Богу, хоть в койку не потащил, видимо всё же опасался отказа с её стороны. Да и до официальной регистрации было совсем недалеко. А там!..
Родителям же Елены пришлось рассказывать о свадьбе ей одной, Розенблат в квартире Распоповых так и не появился. И разговор там сложился совсем иначе. Услышав из уст дочери шокирующую новость, отец и мать Елены беззвучно посмотрели друг на друга, хором вздохнули, но не стали отговаривать свою старшенькую, лишь отец после минутного молчания спросил:
– Где вы жить собираетесь?
– У него дома, где же еще?! – прощебетала Елена, радостная от отсутствия родительских упрёков.
Она светилась от счастья, ощущая себя взрослой, самостоятельной женщиной. Притом, безумно счастливой. Она ещё потопталась в дверях родительской комнаты, но более никто так ничто и не вымолвил, отцу с матерью потребовалось время, чтобы переварить известие. На том и разошлись. Лишь перед самым уходом ко сну, войдя в спальню дочерей, мама беспокойно заметила:
– Ой, Алёшик, зря ты всё это затеяла. Не пара он тебе. Как говорят, выйти замуж не напасть, как бы замужем не пропасть. Но я же вижу, слушать меня все равно не станешь. Поступай, как знаешь. Твоя жизнь.
А подошедший отец тихо добавил.
– Обратной дороги не будет. Ушла от родителей, значит, сама себе хозяйка. Пусть муж тебя содержит, а мы умываем руки. Правда, мать?
Та легонько кивнула, но не ушла вслед за удалившимся сразу после сказанных слов отцом, а ещё долго стояла в дверях, глядя на Елену, пока Иришка не завопила с соседней кровати:
– Да закрой уже дверь, наконец, мне в школу рано вставать. Достали со своим вонючим Алёшиком, скорей бы она вымётывалась из дома!
Мать молча погрозила младшенькой пальцем и исчезла в коридоре. А Елена, лёжа под одеялом с головой, не знала, что ей делать – смеяться от радости в предвкушении новой взрослой жизни или плакать от горя из-за расставания с отчим домом.
С самой свадьбой получилось и вовсе глупо. Павел сначала хотел закатить пир на весь мир, но Ирина Львовна тратиться на «это безумие» не захотела, а Распоповы тем более. Да родители Елены просто и не обладали нужной суммой. Розенблат какое-то время хорохорился, мол, обойдёмся и без мамочкиных деньжат, но Бэлла, у которой он попытался взять в долг, ему отказала, да и в остальных местах, где, как Павел рассчитывал, ему подсобят со средствами, не задалось. Когда до свадьбы осталось всего две недели, Розенблату пришлось идти на поклон к Ирине Львовне, иначе его с Еленой бракосочетание рисковало пройти вообще без праздничного застолья.
После примерно двух часов переговоров за закрытыми дверями в комнате матери Павел вылетел оттуда кумачового цвета и очень злой.
– Ничего, – только и пообещал он Елене, которая ждала его в коморке за портьерой, – сейчас не удалось, наверстаем завтра!
Что это означает, Павел не пояснил. В итоге, шикарную свадьбу затевать не стали. Напротив, решили отпраздновать событие узким кругом – только самые близкие с обеих сторон, никаких друзей и дальних родственников. Буквально накануне регистрации мама Павла заказала столик на шестерых в одном из немногочисленных ресторанов Серпска, и отнюдь не самом шикарном. Со стороны жениха за стол уселись Бэлла и Ирина Львовна. Со стороны невесты – мать и отец Елены. Иришку на мероприятие не позвали – мала ещё.
За столом обстановка царила сдержанная и напряжённая. «Горько» молодым не кричали, мать и дочь Розенблаты весь вечер о чём-то шептались между собой, Распоповы сидели практически молча. Даже выпив, отец Елены разговорчивее не стал, а мама так и вообще не проронила ни слова, сидела с поджатыми губами и смотрела только перед собой. Павел поначалу пытался улыбаться и шутить, но никто его не поддержал, даже присмиревшая от чувства неловкости из-за происходящего Елена. Поэтому, как только на город начали спускаться сумерки, все быстро и с облегчением разошлись восвояси. Молодым не терпелось изведать запретный плод, а остальные… Остальным было не до Елены и Павла. Ирина Львовна сердилась на своенравного сына, Бэллу заботила собственная личная жизнь. А Распоповы уже вычеркнули старшую дочь из членов семьи, сосредоточившись на воспитании младшей.
Собрав немногочисленные пожитки, Елена перебралась в комнатку Павла. Днём молодые пропадали на учёбе – Павел в институте, а Елена в училище, – а вечера проводили вместе. Так продолжалось месяца два, но постепенно Павел начал всё чаще задерживаться где-то допоздна, давая на все расспросы Елены короткий универсальный ответ: «у меня дела». До поры Елену это устраивало, хотя червячок беспокойства закопошился в её душе сразу после того, как она впервые услышала от мужа подобную фразу. И всё же она не придавала значение своим сомнениям, гнала их прочь.
Объяснялось такое поведение просто – с первых же дней «взрослой» жизни Елена вошла во вкус, встроилась в привычный уклад семьи Розенблатов, столь непохожий на тот, к которому привыкла в родительском доме. Впервые в жизни Елены кто-то стал всерьёз считаться с её мнением. Где-то спустя недели три после бракосочетания Ирина Львовна попросила Елену помочь ей с выбором супружеского ложа для неё с Павлом и потащила невестку в какой-то мебельный салон. Там взору Елены предстали не менее десяти разных диванов, отличающихся формой, обивкой и конструкцией.
– Ну, выбирай, Лена. Не век же вам ютиться на однушке (так мама-Розенблат назвала односпальную кровать) Пашкиной, – усталым тоном промолвила Ирина Львовна, показывая рукой на диваны.
– Я? – не поверила Елена, которая кроме одежды и обуви никогда себе ничто в жизни не выбирала. За неё всё всегда решали родители.
– Ну, а кто же? – с лёгким раздражением в голосе ответила ей Ирина Львовна, – На Пашку в таких вопросах надежды нет, готов и на полу спать. Так что, давай, покажи мне, что понравилось, и я расплачусь.
Оробевшая Елена никак не могла определиться с выбором, слишком давила ответственность, а вдруг молодой муж не одобрит её решение? В конце концов, Ирина Львовна, которой надоело томиться в душном зале, стала подгонять невестку, задавая наводящие вопросы:
– Ну, хоть с расцветкой определись, мягкость проверь, попробуй, как закрываться будет диван твой!
Но Елена от настойчивости мамы-Розенблат совсем потеряла дар речи, и тогда Ирина Львовна взяла решение вопроса с диваном в свои руки:
– Тебе же этот понравился, да? – с нажимом произнесла она, показывая на самую дорогую модель, – Ну, не молчи! Кажется, он удобный. Его берём?
Елена зарделась и кивнула. И всё же была безумно горда собою – ещё бы, как настоящая взрослая выбирала мебель для своего дома, есть от чего задрать нос!
Впрочем, как закрывается её диван Елена так до конца и не поняла – не зная, куда сунуть бельё, она стеснялась спросить об этом у Ирины Львовны, а Павел сразу заявил, что не заправленный диван это круто и тем поставил жирную точку в этом вопросе. Так что семейное гнездышко всегда оставалось расправленным.
Помимо выбора мебели, Елене также пришлось взять на себя роль помощницы хозяйки дома, и эта роль тоже была для неё неизведанной и манящей территорией, настоящим островом сокровищ. Так как ни Бэлла, ни Павел хозяйственными делами себя не утруждали, бытом в семье Розенблатов занималась исключительно Ирина Львовна, успевавшая и работать, и готовить, и стирать, и прибираться. Правда постельное белье Ирина Львовна сдавала в прачечную, часть блюд покупала в готовом виде, а с приборкой ей помогала молоденькая соседка, жившая с Розенблатами на одной лестничной клетке, которой платили за эту небольшую сумму.
С появлением в доме Розенблатов Елены от услуг соседки было решено отказаться. Елена взяла на себя приборку, мытьё посуды, а также радостно таскала грязное бельё в прачечную и чистое обратно. Обязанности по дому не напрягали, а, скорее, воодушевляли её. Тем более что у Розенблатов были: пылесос самой современной модели, мойка с удобной раковиной и сушилкой для посуды и стиральная машина – не чета той, которую имели Распоповы. Да что там говорить, даже у швабры в этом доме была особая эргономическая ручка.
Продукты для дома покупала исключительно Ирина Львовна. Она же и готовила. Изредка ей помогала Бэлла. Елену к плите не подпускали, да она особо и не рвалась. Блюда, которые были обычными у Розенблатов, в семье Распоповых подавались только по праздникам или не подавались вовсе, Елена банально боялась что-нибудь испортить.
Деньги с молодых за питание Ирина Львовна не брала. Хотя, может быть Павел и платил что-то матери, только Елена при этом не присутствовала. Вообще денежные вопросы ее в первое время никак не касались. Муж выдавал Елене некоторую сумму – на проезд и на обеды. А главное – покупал ей модные вещи. Всего за полгода Елена полностью обновила свой гардероб. При этом, на какие средства простой студент приобретал всю эту красоту, её почему-то вовсе не заботило. Елена жила, словно принцесса в сказочном сне и просыпаться не желала.
Она быстро привыкла к тому, что Павел то и дело приносил в дом разные шмотки, причём, иногда этих вещей было очень много, они еле-еле умещались в большой белой спортивной сумке с надписью USSR – точь-в-точь такой, с которыми ходили лишь выдающиеся спортсмены страны, члены различных сборных. Сумка эта, чаще всего, набитая под завязку, вечно торчала в углу их комнаты. Вещи в ней лежали исключительно новые, по большей части заграничные или из Прибалтики.
Розенблат любил, когда Елена восхищённо выдыхала «вау!», вытаскивая из сумки очередную шмотку, и примеряла её на себя. Видимо в этот момент в нём просыпался сын модельера, потому что Розенблат заставлял полураздетую Елену прогуливаться перед ним в новой вещи как по подиуму. А сам полулежал на расправленном диване и довольно щурился.
Иногда Павел останавливал Елену на полпути и барским тоном бросал:
– Берём!
И шмотка переходила в полное распоряжение Елены. Которая в то время почему-то совершенно не задавалась вполне естественным вопросом – каким образом попадало к мужу всё это великолепие.
Затем, вслед за одеждой, в комнату молодых потянулись и другие вещи: сначала импортный кассетный магнитофон в красивом кожаном чехле с разноцветными яркими кассетами, потом какие-то кольца, перстни и серёжки. И снова Елена вертелась перед зеркалом, упоённо примеряя то серёжки, то сапожки, то сумочку, то юбочку. И снова великолепный Розенблат небрежно бросал жене своё «берём!»
Только теперь через день-другой оставленные украшения, обувь и даже одежда, если только Елена не уносила их с собой на учёбу, могли исчезнуть из дома так же неожиданно, как появились. На вопросы, куда они пропали, Павел предпочитал отмалчиваться, а если Елена долго не отставала, резко бросал жене «не твоё дело» или «разве тебе мало? И так как куколку тебя одеваю!». И Елена сразу прикусывала свой язычок. Потому что в её глазах муж был «добытчиком». А добытчику всегда виднее, как распоряжаться вещами и финансами. Тем более, сама она деньги в дом не приносила, но при этом одевалась словно королева, все подружки по училищу завидовали.
Кстати сказать, несмотря на то что учеба Елене не слишком нравилась, она все равно добросовестно посещала все занятия. Причин тому было множество. Ей не хотелось оставаться одной в доме Розенблатов, которые каждый рабочий день дружно покидали квартиру. При этом Елена не шаталась праздно по городу, а занималась важным делом – получала специальность. Ещё один повод для законной гордости и атрибут взрослой жизни. Кроме того, сказывалась выработанная за предыдущие десять лет привычка учиться. В сущности, Елена практически не заметила переход из школы в училище – распорядок дня там мало отличался от школьного.
Да и её родители, в гости к которым девушка периодически заглядывала, интересовались успехами дочери в учебе. Так как они старательно игнорировали любые попытки Елены посвятить их в подробности её семейной жизни с Павлом, тема учёбы была единственным связующим мостиком, и Елена ни за что не желала её потерять.
Однажды Елена проснулась ночью, потому что захотела в туалет, и не нашла мужа рядом. Это было непривычно, ещё ни разу после замужества она не оставалась в постели одна. Елена осторожно выглянула в коридор и увидела свет, пробивающийся из кухни, дверь в которую была плотно закрыта. Сколько себя помнила, она ни разу не видела эту дверь закрытой, в лучшем случае – притворённой. Елена ощутила страх, смешанный с любопытством, закрытая дверь необъяснимо манила её. Она осторожно пробралась в туалет, сделала свои дела, а затем на цыпочках прокралась к кухонной двери и затаила дух, вслушиваясь в голоса, раздававшиеся из кухни. Елена быстро узнала тех, кому не спится в такое позднее время – за дверью говорили Павел и Ирина Львовна.
Похоже, двое на кухне были слишком заняты разговором, чтобы услышать тихие шаги в коридоре и понять, что их общение стало достоянием третьего. Судя по интонациям, мама распекала сына, который угрюмо бурчал какие-то невнятные оправдания.
– … главное, мне звонит Сергей Сергеевич и сообщает, мол, сынок ваш совсем институт не посещает. Сессию завалил фактически, только из уважения к вам ему тройбаны выставили. Но это в последний раз, – наступала Ирина Львовна, голос которой звучал очень грозно, подобно прокурорскому в суде над особо опасным преступником, – ты, что, в армию захотел? Два года коту под хвост? О чем ты вообще думаешь? В ПТУ собрался? Так ведь это ненадолго, весной заберут в армию и все! Или на моей шее всю жизнь думаешь сидеть, с Ленкой этой своей вместе?
– Когда это я на твоей шее сидел? – угрюмо процедил в ответ Павел.
– Да всю жизнь! – почти взвизгнула Ирина Львовна, но тут же снова понизила голос, видимо, опасалась привлечь внимание остальных обитателей дома, – Кто тебя вечно выручает? Кто кормит – и тебя, и твою жену?
Елене очень захотелось немедленно удрать от кухонной двери. Обратно, под спасительное одеяло, извечное прибежище от любых неприятностей, но усилием воли она заставила себя стоять и слушать. Первый раз в жизни Елена решила проявить свой характер, самой во всём разобраться. Но без информации о том, что происходит в реальности, это было невозможно. «Я должна узнать правду!» – сказала себе мысленно Елена и снова обратилась в слух.
– Я сам зарабатываю! – с вызовом выпалил Павел.
– Ах, сам? – в голосе Ирины Львовны зазвучал неприкрытый сарказм, – А кто моей машинке швейной, чехословацкой, ноги приделал? Бэлла что ли?
– Да куплю я тебе машинку, еще лучше, – после паузы глухо пробурчал Павел.
– Мне не надо лучше, мне надо мою! – с горечью всокликнула Ирина Львовна, – Как ты не понимаешь, я к ней привыкла, она настроена так, как мне надо. Это мой хлеб. Ты отнял у меня то, чем я зарабатываю на жизнь. И кормлю вас, кстати говоря!
– Да ладно, на жизнь она зарабатывает… – огрызнулся Павел, – Что я, не знаю что ли, ты к этой машине лет пять не подходила. У тебя на работе этих машинок штук десять, шей – не хочу.
Это стало его ошибкой. Ирина Львовна заговорила таким страшным тоном, что даже Елена за дверью вздрогнула и съёжилась:
– Ты что неужели не понимаешь, балбес великовозрастный, что каждая швейная машина на моей работе, это чье-то рабочее место? Заметь, не мое. И не твое дело, когда я последний раз сидела за машинкой. Это моя вещь и только моя. Я советую вернуть её как можно скорее. Слышишь? И не забудь про сессию.
– Да верну я, сказал же. И сессию сдам, не волнуйся. Там такие предметы остались… – виноватым тоном забормотал Розенблат.
Видно, и его пронял жуткий тон матери. И тут Елена испугалась ещё больше, потому что услышала ужасный звук – скрип отодвигаемого стула. Не помня себя, она опрометью бросилась в свою комнату, стараясь при этом всё же ступать на цыпочки. К её облегчению, кажется никто из говоривших на кухне, не понял, что их подслушали. Вскоре Розенблат бухнулся на диван рядом с нею.
– Почему ты не сказал мне, что у тебя проблемы в институте? – поинтересовалась у мужа Елена на следующее утро, когда они проснулись
Но к этому времени Павел уже пришёл в себя и применил испытанный надёжный метод – ловким движением он сграбастал жену в охапку, поцеловал и даже не поинтересовавшись, откуда ей всё известно, радостно заявил:
– Не бери в голову. У меня все под контролем. Иди ко мне!
– Но Ирина Львовна… – начала было Елена.
– Да не слушай ты мать, она паникёрша та ещё! – шире осклабился Павел, не оставляя попытки овладеть Еленой.
– А как же машинка швейная, я что-то не очень поняла. Что за история? – вырвавшись из цепких объятий, спросила у мужа Елена.
– Никакой истории, не парься, – лучезарно улыбнулся ей Павел и, похлопав рядом с собой, продолжил страстным шёпотом, – ну, иди сюда скорее!
И Елена, которой очень хотелось верить мужу, опять уступила. Но уже через два дня, проснувшись, не обнаружила на вешалке свои новенькие джинсы, подаренные Павлом. Кроме них отсутствовали серёжки с рубинами и колечко из тонкого белого золота, лежавшие обычно у зеркала. Спрашивать Павла, куда делись вещи, Елена не рискнула – муж и так выглядел в эти дни чернее антрацита ночью. Затем в течение одной недели пропали: дутая куртка элегантного аквамаринового цвета, предмет зависти всех девчонок училища, почти новые демисезонные сапоги на каблуке и еще кое-какие вещи, отсутствие которых Елена заметила не сразу. И тут она не выдержала.
– Что всё это значит? – спросила Елена Павла, когда он притащился домой в одиннадцать вечера, будучи не в духе, как, впрочем, и всегда в эти дни, – Неужели завтра мне придётся идти на учёбу голой?
– Только твоих упрёков мне ещё не хватало! – с полтолчка завёлся Павел и даже перестал стягивать с себя брюки, застыв одной ногой в штанине, – Сам купил, сам забрал! Привыкла жить на всём готовеньком!
Правда, увидев слёзы, моментально наводнившие глаза разобиженной Елены, Розенблат быстро смягчился, одним элегантным движением стащил оставшуюся брючину, не глядя, отшвырнул джинсы на пол и, рухнув на диван рядом с женой, примирительно забормотал, пытаясь одновременно касаться губами Елениного бедра:
– Не горюй, Ленок, будут тебе и джинсы, получше старых, и кольца с бриллиантами! Будешь у меня одеваться как королева. Ну, иди сюда!
Елена отдёрнула ногу, но Розенблат не отпускал, пришлось вновь подчиниться, хотя в эту ночь секс с любимым мужчиной не принёс девушке ожидаемое удовлетворение. На душе Елены штормило, ей казалось, ещё чуть-чуть, и злые волны вдребезги разнесут утлый кораблик их семейного счастья.
Но ещё через два-три дня сияющий Розенблат по-королевски швырнул к ногам жены нераспечатанный пластиковый пакет с джинсами. А на следующее утро надел на пальчик Елены новое золотое колечко. И она опять успокоилась, отогнав предчувствие беды. На какое-то время жизнь вернулась в привычное русло. Судя по всему, Розенблат действительно сумел уладить свои дела. Теперь он опять каждый день исправно ходил в институт, стал заниматься дома. Заметив эти перемены, Ирина Львовна помягчела лицом и стала общаться с сыном в прежнем немного шутливом тоне. И тут Елену зазвала в свою комнату Бэлла.
С появлением в доме Елены Бэлла, будучи студенткой последнего курса того же института, где учился Павел, стала приходить в квартиру только ночевать. А иногда и вовсе проводила ночи «у подруг», чем весьма расстраивала мать. По этому поводу Ирина Львовна постоянно ворчала, укоряя дочь за неподобающее поведение. Впрочем, тревожилась она напрасно, рассудительная и не по голам зрелая Бэлла знала как себя вести, и никогда ни в какие истории не попадала.
– Слушай, подруга, – плотно притворив за Еленой дверь, с места в карьер взяла Бэлла, – ты вообще предохраняешься, а? Смотри, на Пашку в этом вопросе не надейся, у него никакой ответственности нет. А ребёнок вам сейчас совершенно не нужен, усекла? Могу тебе поспособствовать по-родственному. Вот импортные таблетки, сама их принимаю, так что не боись.
И Бэлла всучила Елене несколько упаковок с надписями на иностранном языке. Елена взяла лекарства и по привычке кожа на её лице приобрела оттенок запрещающего сигнала светофора. Она вечно испытывала жгучий стыд, когда дело касалось секса. Бэлла с любопытством наблюдала за смущённой невесткой, а потом, в привычной своей манере, немного нараспев, сказала:
– Лапуля, пора привыкать к взрослой жизни. И не дрейфь, помогу, если что! А теперь чапай в свою норку. И внимательно изучи инструкцию перед первым употреблением.
«Какая же замечательная у Павла сестра! – с восхищением думала Елена, рассматривая коробки с противозачаточными пилюлями, – Настоящий друг. Конечно, я понимаю, ребёнка нам заводить ещё рано. Но теперь всё точно будет в порядке».
Глава 16
Всё было «в порядке» где-то с месяц-полтора. Идиллия закончилась, когда однажды весной Павел не пришел домой ночевать. Елена ждала мужа дотемна, в одиночестве сидя в гостиной перед телевизором, пока не закончилась последняя программа. И только с появлением на светящемся экране сетки настройки, сопровождаемой надоедливым гудением, встала и нажала на кнопку выключения, экран погас, в комнате воцарились мрак и тишина. Елена с опаской подошла к окну и выглянула во двор. Там тоже было тихо и темно, лишь серебрилась лужица света, разлитая под одиноким фонарем метрах в пятидесяти от дома. Елена во все глаза уставилась на светлое пятно, отчаянно надеясь, вот сейчас там появится стройный силуэт Павла, спешащего домой, к любимой супруге. Минуты шли, свет фонаря ровно падал вниз, но так никого и не осветил.
С тяжёлым сердцем Елена отошла от окна. Она понимала, с мужем что-то случилось. Но что? И как ей узнать, где он? Пойти, постучать в комнату Ирины Львовны? Но та, наверное, уже спит. Бэлла, как всегда, ночует Бог знает где, значит, тоже не помощница в этом деле. Где же Павел? Ни вчера, ни сегодня он не обмолвился об отлучке. Что делать, Елена не знала, потому бухнулась обратно на диван в гостиной и погрузилась в долгое ожидание. Спать она просто не могла.
За окном уже забрезжил рассвет, а Елена так и продолжала сидеть на диване в ожидании мужа. Она слышала, как проснулась Ирина Львовна и начала собираться на работу: зажужжала в ванной феном, сварила кофе – по квартире пополз приятный аромат. Разговаривать со свекровью после бессонной ночи у Елены не было ни желания, ни сил, и девушка на цыпочках удалилась к себе, надеясь, что мать Павла не заметит отсутствие сына и не станет приставать с расспросами.
«Мало ли какие обстоятельства сложились, – принялась уговаривать себя Елена. Она неподвижно свернулась калачиком на холодном супружеском ложе, при этом сердце её колотилось словно бешеное, – наверное, Павел остался у ребят в общежитии, всю ночь готовил курсовую. Помню, он что-то такое мне говорил».
Конечно, ни о чём таком Павел даже не заикался. Просто Елене хотелось любыми способами уверить себя, что всё в порядке, даже с помощью явной лжи. К несчастью, тревога не проходила, несмотря на все уговоры. А когда хлопнула входная дверь, выпуская из дома Ирину Львовну, Елене стало совсем худо. От жалости к себе она тихо заскулила на одной ноте как маленький ребёнок: «И-и-и-и! И-и-и-и! И-и-и-и!»
В таком положении жену и нашёл вернувшийся, наконец, Павел. Выглядел Розенблат отвратительно – помятый, одежда в подозрительных пятнах, пахло от него чем-то кислым и неприятным.
– Где ты был? Я волнуюсь… – начала было Елена, но Розенблат так рявкнул на жену «Заткнись, дура!», что полностью отбил у неё всю охоту спрашивать.
Всё же, выпив кофе и позавтракав, Павел чуточку подобрел и поведал супруге –ночь он провёл в милиции. «В обезьяннике этом вонючем» добавил он, чем нисколько не добавил ясности – что такое «обезьянник» Елена тогда ещё не знала. Хотя Розенблат и рассказал жене о своих вчерашних похождениях почти всё, Елена мало что поняла из его слов – уж слишком непривычным оказались для неё слова «милицейская облава», «фарца», «протокол задержания» и прочие малопонятные термины, которыми то и дело сыпал Павел.
Чтобы отстирать дурно пахнущую одежду мужа и скрыть следы его ночного отсутствия в квартире, Елене пришлось пропустить учёбу и провести дома весь день. Не рискнув запустить стиральную машину в целях конспирации, она намыливала в тазу разящие несвежим брюки плакала от горя и бессилия, чувствуя скорые негативные перемены в своей судьбе. А Павел, приняв душ и переодевшись в чистое, сразу же куда-то ушел, опять оставив жену в беспокойном одиночестве.
Более-менее полная картина происшедшего сложилась у Елены только после появления в дома Бэллы, которая смогла растолковать девушке суть дела.
Оказывается, ещё со школы её возлюбленный Павел, имея в своём распоряжении дефицитные товары, купить которые в Серпске было трудно или невозможно, начал потихоньку приторговывать ими. Получая от этой торговли неплохие барыши. Люди, занимающиеся подобно рода делами, назывались фарцовщиками, а их промысел – фарцой. В Советском Союзе практически любая купля-продажа, несанкционированная государством, являлась уголовно-наказуемой, поэтому Ирина Львовна, узнав о проделках сыночка, строго-настрого приказала ему прекратить фарцевать, но Павел легко пропустил угрозы матери мимо ушей.
Дело в том, что у Розенблата обнаружился настоящий талант к подобного рода делишкам. Он быстро входил в доверие к людям, у него покупали с рук лучше, чем у других, зная, чей он сын, поэтому дела быстро пошли в гору. До поры Павлу всё сходило с рук, потому что он не жадничал, фарцевал по мелочи и действовал осмотрительно. Но постепенно осторожность уступила место азарту – уж слишком всё у Розенблата получалось легко и прибыльно. Желая произвести впечатление на Елену, Павел стремился продавать товар всё дороже, начал брать вещи на реализацию у других, более серьёзных фарцовщиков, влез к ним в долги.
Именно через этих своих «друзей» он смог добиться, чтобы их с Еленой заявление приняли в ЗАГС, именно им загнал материну швейную машину, когда от него потребовали вернуть долг. Во время памятного, услышанного Еленой, ночного разговора с матерью Павел пообещал больше не фарцевать, после чего Ирина Львовна погасила все его долги, но слово своё не сдержал. А вчера и вовсе был пойман «на толчке» с другими дельцами такого рода во время вечернего милицейского рейда.
Толчком или толкучкой серпчане называли вещевой рынок. Если не считать комиссионные магазины, это было единственное в городе место, где дозволялось продавать подержанные инструменты, самодельные изделия и ношенные вещи. Именно на толкучке собирались все, кто приторговывал заграничными и дефицитными товарами. Когда требовалось купить импортную шмотку, все шли «на толчок».
Чтобы не выдавать себя, серпские фарцовщики выкладывали перед собой для прикрытия какой-нибудь бросовый товар, а сами втихаря торговали дефицитными вещами. Об этом было известно всему городу, не исключением была и милиция, которая периодически устраивала на толкучке облавы. Обычно Павел на толчке не задерживался, торговал дефицитом среди знакомых, поэтому был в сравнительной безопасности, а тут попался.
Задержанный милицией во время облавы, Розенблат всю ночь прождал в камере, пока его вызовут на допрос – в этот день улов милиционеров оказался на редкость крупным, хватали вообще всех подряд. Его отпустили только в восемь утра, после того, как был составлен протокол задержания. К счастью для Павла, ему в очередной раз повезло – ни вещичек, ни денег при нем не оказалось. Но на заметку его взяли. И написали бумагу в институт.
– Гляди, доиграешься, долбень, – тихо и зло пригрозила брату Бэлла, когда Розенблат заглянул к ней, чтобы попросить Елену вернуться в его комнату, – Ещё и нас с Ленкой под монастырь подведёшь.
– Ладно, не пыли, Белка, вечно ты гундосишь не по делу. Смотри, сама накаркаешь, – угрюмо отозвался Павел.
– Моё дело предупредить, – отрезала Бэлла и отвернулась, давая понять, что разговор окончен.
Елена не знала, куда прятать глаза, настолько сказанные Бэллой слова шокировали её – как содержанием, так и не в меньшей степени своим звучанием. Раньше она и не подозревала о подобных выражениях. А ещё через две недели в комнату Павла и Елены ворвалась разъярённая Ирина Львовна, едва не сметя по пути отгораживающую помещение от гостиной портьеру.
– Это что? – выкрикнула она, швырнув в лицо сына какой-то листок.
Павел поднял лист, прочёл и отчётливо изменился в лице.
– Сам разберусь, не бухти, – проворчал он.
Елена осторожно подтянула к себе бумагу и заглянула в неё. Это была повестка, в которой Розенблату Павлу Наумовичу предписывалось явиться в назначенное время для дачи показаний в рамках расследования по уголовному делу.
– В тюрьму собираешься, тэмбель? Меня ославить хочешь? – продолжала бушевать Ирина Львовна.
– Перестань! – скривился Павел.
– Я тебе перестану! Мало мне хлопот с твоим институтом, теперь ещё с нар тебя вытаскивать? – и тут Ирина Львовна разрыдалась.
Неготовый к такому повороту, Розенблат что-то неразборчиво забормотал, а потом полуобнял мать и вывел из комнаты, она безвольно повисла на сыне, продолжая оглашать дом горестными стенаниями. Елена же осталась сидеть на диване, абсолютно оглушённая, не знающая, что можно сделать в такой ситуации.
Дальше жизнь в доме Розенблатов потекла, словно в обморочном сне. Мать Павла совсем перестала улыбаться и разговаривать с Еленой, лишь слабо кивала ей по утрам в знак приветствия. Павел тоже сильно изменился. С утра до вечера пропадал где-то, а когда по вечерам возвращался к жене, от него несло алкоголем и табаком. Бэлла вовсе перестала приходить домой, но это никого уже не беспокоило.
Из института Розенблата отчислили через неделю после получения повестки. Не помогли никакие хлопоты со стороны матери. Павел совсем замкнулся. Когда же Елена попыталась поговорить с мужем об их будущем, о том, чем он собирается заниматься дальше, заберут ли его в армию, тот лишь зло отмахнулся от жены, как от надоедливого насекомого. А когда Елена принялась настаивать, обматерил её и выскочил из комнаты. И не появлялся в доме три дня.
Вся жизнь Елены перевернулась с ног на голову. Но она продолжала уговаривать себя, что это временные трудности, нужно всего лишь немного подождать, и всё само собой образуется. Она продолжала ходить на учёбу, а свободное время проводила в своей комнате за портьерой, чаще всего в одиночестве, потому что Павел был неизвестно где.
Прошла ещё одна тусклая и томительная неделя. В субботу вечером, когда Елена в одиночестве готовилась к экзаменам, а Павел как всегда отсутствовал, к ней в комнату тихо вошла Ирина Львовна. Мама-Розенблат даже не прошла, а протащилась к письменному столу, за которым занималась Елена, и упала в стоящее рядом кресло. Посидела несколько томительных секунд и выдохнула:
– Ну, вот и всё! Допрыгался.
Слова Ирины Львовны прозвучали отрывисто, почти неразборчиво, в голосе её появился странный, прежде не замечаемый акцент, Елена даже не сразу поняла их значение.
– Что? Кто, Павел? – невпопад отозвалась она.
– А кто еще? – с тоской пробормотала Ирина Львовна и принялась легонько раскачиваться всем телом взад-вперёд будто игрушка на пружинке.
Елене показалось, что Ирина Львовна сходит с ума, настолько необычно звучал её голос, настолько непривычным было поведение.
– Что случилось, Ирина Львовна? – Елена ощутила, что бледнеет до, как ей показалось, кончиков пальцев на ногах.
– Арестовали, сегодня днем, – продолжая раскачиваться, просипела Ирина Львовна, – Ой-вэй, я теперь достать его оттуда уже не смогу. Что будет, что будет? Таки будет суд, я знаю! Я всегда знала, я знала, добром это не кончится, весь этот тухлый цирк со шмотками. За что мне такое счастье? Ну, за что?
Не прекращая свои монотонные, ужасные в своём автоматизме движения, Ирина Львовна поднесла ладони к лицу, плечи ее начали мелко вздрагивать, но слез не было видно. Она рыдала сухим беззвучным плачем, и Елена поняла – вся влага из глаз уже была вылита раньше.
Елена прикрыла рот тыльной стороной ладони, пытаясь сама не заплакать от жалости – к свекрови, к непутёвому Павлу и к себе самой. Она была полностью подавлена. Впрочем, Ирина Львовна не позволила себе совершенно расклеиться на глазах невестки. Неожиданно она вскочила с кресла и, не сказав более ни слова, удалилась в свою комнату, откуда не входила до самого утра.
Дальнейшая жизнь Елены превратилась в кошмар. Дома у Розенблатов с ней никто не разговаривал – ни вернувшаяся в тот же день Бэлла, ни Ирина Львовна. Бэлла почти всё время проводила в комнате матери, откуда непрерывно слышался плач, и вообще обстановка в доме стала такой, будто кто-то умер. Денег у Елены не было, Павел выгреб всё до копейки, поэтому на учёбу ей приходилось ходить пешком или ездить на трамвае зайцем, рискуя нарваться на контроль. Еду у Розенблатов готовить почти перестали. Порой в холодильнике не было ничего, кроме молока. Да еще лежал зачерствевший хлеб в эмалированной хлебнице. Но изголодавшаяся Елена была рада даже этой пище.
Чтобы хоть как-то свести концы с концами ей пришлось сдать в ломбард сережки с рубинами – единственное украшение, оставшееся ей от мужа. Надо было на что-то жить, а у родителей просить деньги Елена считала невозможным. Особенно после слов отца про «умываем руки». Вырученная за серёжки сумма оказалась заметно меньше той, на которую первоначально рассчитывала Елена. Только выбирать уже не приходилось.
С момента получения ужасного известия про арест Павла прошло порядка недели, когда в один из стандартно-унылых в последнее время вечеров за портьеру к Елене заглянула Бэлла. Не дожидаясь разрешения, она бухнулась в кресло и, не мигая, уставилась на Елену, в полутьме коморки глаза её казались абсолютно чёрными, а взгляд был тяжёл и сумрачен. У Елены мурашки пробежали по спине, и она шёпотом спросила сухими губами:
– Что?…
Ей хотелось сказать, «что случилось, Бэлла, почему ты так странно смотришь на меня?», но выговорилось лишь первое слово. Бэлла помолчала, а затем, будто нехотя, выдавила из себя:
– Тебе придётся покинуть этот дом.
Елена ахнула и стиснула ладони. Увидев, как помертвело лицо девушки Бэлла, похоже, чуточку размякла и постаралась сгладить сказанное. Начала Павлова сестра с разъяснений, что же произошло с братом.
– В общем, Пашка влип по полной, подруга. Кто-то настучал, что он помимо фарцы своей долбанной приторговывал краденым. Плюс валютные операции… Короче, надавили на него в ментовке, он и расклеился совсем. Подписал всё, что ему подсунули. Как мать ни старалась, обратный ход бумаге уже не дали. Видно кому-то хотелось свести счёты с нашей семьёй. Сейчас мать подключила лучшего адвоката – Немировича, может слышала? Да только даже такой атлант как Немирович, узнав прикуп, развёл руками, мол, единственное, могу помочь получить вашему непутёвому сыну минимальный срок. Уж очень резонансное вышло дело…
Елена вслушивалась в Бэллины слова, но уже после второго предложения из-за обилия незнакомых выражений полностью потеряла всю нить рассуждений. Но продолжала слушать и покорно кивать в такт сказанному золовкой. Единственное, что ей было совершенно ясно – её дорогого Павла она теперь не увидит очень долго.
– Такие вот пирожки с котятами, – наконец, заключила Бэлла, пододвинулась ближе к Елене и заговорила о самом главном.
– Тебе надо линять отсюда, да поскорее, усекла? Матери сейчас не до тебя, как и мне. Пашку не скоро отпустят, так что, как ни крути, ты нам только обуза. Не до тебя нам, Ленчик. Поэтому, давай, собирай вещички, мать тебе деньжат немного подбросит на первое время. А дальше – сама, не обессудь.
Бэлла без лишних слов поднялась с кресла и оставила Елену в одиночестве. Но перед самым выходом задержалась и бросила через плечо:
– Кстати, готовься, меня и мамулю к следаку уже таскали. Не иначе, теперь твоя очередь.
Кроме родительского дома идти бедной Елене было некуда, и на следующий вечер, закончив учёбу, она потащилась туда, сжимая в руке маленький чемодан с немногочисленными пожитками. Бэлла не обманула, напоследок Ирина Львовна сунула невестке четвертак – 25 рублей. Перед знакомой дверью Елена ненадолго задержалась – ей отчаянно не хотелось возвращаться вот так, женой преступника, но делать было нечего, и, собрав нервы в кулак, она позвонила. Открыла ей Иришка
– Глядите-ка, – дурным голосом на весь дом заверещала Иришка при виде смурой старшей сестры с чемоданом в руке, – Алёшик-ублюдошек явился. С чемоданом!
– Тише, дурындалетка, – по привычке цыкнула на сестру Елена, но сразу осеклась.
– Пусти, дай пройду, – буркнула она и, отодвинув Иришку, вошла в прихожую.
Через секунду там появился отец, вытирая руки полотенцем, видимо, только что вышел из ванной.
– Каким судьбами, вспомнила, наконец, про мать с отцом? – поинтересовался он и тут увидел чемодан.
– Цыц! – прикрикнул он на Иришку, которая строила рожицы старшей сестре, – Иди к себе.
Иришка поупрямилась пару мгновений, но всё же уползла в свою комнату.
– Что-то случилось? – уже серьёзно спросил отец.
И Елена, давясь слезами, периодически захлёбываясь ими, рассказала папе о своих злоключениях.
– Тебе надо разводиться и немедленно! – отец даже пристукнул кулаком по стене от избытка чувств, – Говорил я тебе, предупреждал, скажешь, нет?! Пока тебя Пашка этот грязью совсем не замазал, так что не отмоешься, подавай на развод. А то ещё и ты под шумок загремишь. И нас матерью подставишь. Как мы будем теперь на завод ходить, как в глаза людям смотреть? Об этом ты подумала?!
Елена опустила голову вниз и заплакала, ей было невообразимо стыдно, горько и уныло.
– Прости, папочка! – выдавила она из себя между всхлипами.
– Ладно, не реви. Обои от сырости отстанут, – при виде слёз дочери, отец как обычно слегка оттаял и говорил теперь не рассерженно, а скорее ворчливо, – вызывали тебя на допрос или еще нет? Если ТАМ тебя о чем-нибудь примутся спрашивать, говори, мол, ничего не знала. Только что поженились, ни в какие мужнины дела не лезла. Никаких разговоров не слышала. Откуда вещи появлялись в доме, не знаешь. Денег тебе никто не давал. Все отрицай. Прикинься дурой круглой. Слышишь?
Елена с облегчением закивала, чувствуя, что самое плохое уже закончилось.
– А как же я? Розенблаты меня выгнали, – вспомнив о разговоре с Бэллой, украдкой вставила она, стараясь говорить как можно жалобнее.
Отец вздохнул и, не глядя на дочь, проскрипел:
– Что с тобой сделаешь? Оставайся. Твоя главная задача, учебу закончить, да на работу устроиться. Поможем на первое время…
Благодарная Елена чмокнула отца в щёку и с чемоданом в руках засеменила к двери в свою бывшую комнату. Узнав о возвращении сестры, Иришка закатила скандал.
– Убирайся отсюда, живи где хочешь, а здесь тебе места нет! – орала она до тех пор, пока не вмешалась мать.
– Уймись, Иришенька, места в доме на всех хватит, – сказала мама тихо, но внушительно, и надутая Иришка принялась освобождать Еленин диван. А потом с недовольным видом вообще ушла из дома и вернулась только в одиннадцать вечера.
– Наверное, правда, надо тебе с Пашкой этим развестись, – подсев на диван к дочери, осторожно заговорила мама, – зачем тебе муж-уголовник?
– Мама! Как ты можешь такое говорить? – вскочила с места Елена, уж очень обидными для Павла показались ей слова матери.
Когда отец впервые заговорил о разводе, она не спорила, потому что, во что бы то ни стало, хотела остаться в родительском доме и не желала перечить папе, а к этому щекотливому вопросу хотела вернуться после, когда страсти улягутся. Но теперь, вновь обретя дом, Елена была далеко не так уверена в необходимости развода с Павлом. А вдруг всё образуется, муж вернётся к ней в самое ближайшее время, и её сказочная жизнь у Розенблатов продолжится?!
– Как могу, как могу! – мама с раздражением передразнила Елену, – А вот так и могу! Нечего было Пашке твоему преступными делами заниматься. А тебе ему потакать – вещички его поганые надевать. Я ведь еще в школе тебя предупреждала, а ты мне не поверила! Конечно, ты же у нас умная, а я – дура необразованная. Сиди вот теперь у разбитого корыта. Жизни красивой захотела? Так получай!
Целый вечер родители без устали обрабатывали Елену, пытаясь – то увещеваниями, то натиском, то обходными путями – внушить старшей дочери простую мысль: немедленный развод с Розенблатом сейчас для неё не только самый правильный, но и единственно возможный вариант. Но Елена всё же мешкала с принятием решения. Чем больше давили на неё отец с матерью, тем сильнее крепло внутри неё желание сделать по-своему, вызванное природной строптивостью. «Посмотрим, – нашёптывал куда-то прямо в среднее ухо Елены вкрадчивый внутренний голосок, – пусть мать с отцом надрываются, доказывая неизбежность развода. Пусть Бэлла и Ирина Львовна тебя выгнали. Ты же знаешь, Павел любит тебя и скоро вернётся к тебе. Посмотрим!»
Решение о разводе созрело у девушки лишь спустя два дня, когда, задержавшись в училище, она возвращалась в родительский дом уже в темноте. Несмотря на летнюю пору, в Серпске в тот день было непривычно зябко, мрак густел в промежутках между редкими фонарями и казался ещё чернее после яркого света. Елена всю дорогу ощущала некую смутную угрозу, но гнала неприятные предчувствия, уверяя себя, что ей всё только чудится. Вот и спасительный подъезд родного дома, девушка чуть перевела дух и открыла входную дверь.
И едва не захлопнула её обратно, слишком плотной, затаившейся в неясной угрозе теменью повеяло изнутри. «Наверное, лампочка перегорела, обычное дело», – попробовала успокоить себя Елена и, затаив дыхание, ступила во мрак. Начала осторожно пробираться к ступенькам лестницы, как вдруг из-за спины раздался сиплый мужской голос, говоривший с такими интонациями, что девушка сразу поняла, неприятности неизбежны.
– Не спеши, красотуля, – процедил некто из мрака, судя по шорохам, заходя при этом за спину Елены, – базар есть. Ты что ли Розочкина жена?
– Чья? – не поняла Елена.
– Ну, Пашки Розенблатного, кого ж еще? – голос за спиной стал более раздражённым от её непонятности.
– Да, – немного хрипловатым, пересохшим от страха голосом выдавила из себя Елена, стараясь одновременно медленно продвигаться по стенке в сторону спасительной лестницы. Потому что обратная дорога была отрезана говорившим.
Но путь ей преградил еще один человек. Елена даже не подозревала о его существовании, пока кто-то с силой не толкнул её обратно к входной двери. Девушка едва не упала, чудом удержавшись на ногах. Глаза её постепенно привыкали к темноте, из которой она смогла выделить три силуэта. Эти трое взяли Елену в плотное кольцо, лишив ее всяческой надежды на побег.
– В общем, так, – продолжил тот, кто начал разговор, – твой Розенблатный задолжал мне круглую сумму и не отдал в срок, счетчик я уже включил. Сечешь о чём я?
– Нет, – пробормотала Елена, которая и вправду ничего не понимала.
Говоривший приблизился к ней вплотную, навалился на нее тяжестью своего тела и, дыша Елене в лицо кислым и тошнотворным перегаром, громким шепотом начал бросать злые и притом малопонятные для неё слова.
– Я из-за этого … (тут мужчина грязно выругался, Елену передёрнуло) попал на баксы, ну, доллары, то есть. Штукаря три бакарей, если быть точным. Розанчик наш теперь в другой клетке поёт, поэтому советую тебе помочь мужу и вернуть должок. Пока по-хорошему прошу, но это в последний раз. Когда придём снова, разговор будет другой, и я не рекомендую никому узнать его прелести. Усекла?
– Павел мне не оставил денег, – пропищала бедная Елена, спиной вжимаясь в холодную стену.
Она зажмурилась от страха и отвернула лицо подальше, так как боялась сблевнуть от вони изо рта говорившего. Живот девушки уже начало крутить от этого жуткого запаха. А может это была реакция на животный ужас, охвативший её.
– Незнание не освобождает от наказания, – хмыкнул говоривший, – кажется, так вас в школе учат, а? В общем, я тебя предупредил.
И мужчина еще сильнее прижал Елену к стене так, что у нее перехватило дыхание. В темноте чиркнула и зажглась спичка, осветив тусклым светом замкнутое пространство. Елена инстинктивно зажмурилась.
– Зырь, Чапа, – раздался слева другой голос, более высокий, – заготовка нам втирает, что у неё деньжата кончились, а джинсики-то на самой – фирмА.
– Так ты нам шутки шутить вздумала? – свирепо прошипел первый голос, – Ну ничего, сейчас мы тебя немного поучим уму разуму.
И Елена получила такую пощечину, что голова её звонко ударилась о стену. Перед глазами девушки вспыхнули яркие звёздочки, она на мгновение отключилась и стала заваливаться на бок. Но ей не дали упасть. Один из троих, доселе не проронивший ни слова, со значением произнес:
– Фасад не порть, Чапа. Зачем нам проблемы? Дай-ка я.
И Елена задохнулась от резкого и расчётливого удара в живот. Боль кинжалом пронзила её тело, звёздочки в глазах разом погасли, всё померкло, она не могла не вдохнуть, ни выдохнуть и как куль свалилась на грязный пол, на этот раз полностью потеряв сознание.
Очнулась Елена от сильной боли во всем теле. Она лежала на холодном твёрдом полу у самой входной двери в подъезд. Пока она была в отключке, взошла луна, и внутренности тамбура, где находилась Елена, оказались освещены зыбким призрачным светом. В подъезде никого не было.
Со стоном Елена кое-как приподнялась с пола и села, прислонившись спиной к стене. На полу рядом с ней валялась её собственная, расстёгнутая и выпотрошенная сумка. Небогатое содержимое сумки валялось здесь же неподалёку. Машинально Елена принялась запихивать обратно разбросанные вещи. И только теперь осознала – она сидит в одних трусиках, её джинсы, последняя фирменная вещь, оставшаяся от былых времен – исчезли.
Ужасная догадка пронзила мозг Елены, в испуге она принялась хаотично ощупывать себя, пытаясь понять, изнасиловали ли ее, пока она была без сознания, или просто ограбили, как с чурки стянув с тела джинсы. К счастью, следов насилия она не обнаружила. Похоже её просто обобрали до нитки. Помимо джинсов забрали все деньги, не оставили даже три копейки на трамвай. С трудом поднявшись с пола, Елена, кое-как прикрыв голые ноги плащом, потащилась домой.
Подойдя к двери, девушка заскулила от страха и стыда – как она в таком виде появится перед родителями? Что она им скажет? Но оставаться в подъезде, где только что произошли все эти ужасные события, было ещё страшнее, и она открыла дверь. Елене опять повезло – семейство уже отошло ко сну, никто не встретил её в доме.
Кое-как умывшись, Елена забилась под спасительное одеяло и проплакала полночи. «Что же мне делать? Где достать деньги? И даже если я их всё же достану, где гарантия, что меня оставят после этого в покое, а не потребуют ещё больше?!» – крутилось у неё в голове. Ответы не приходили.
Постепенно усталость брала своё, и Елена впала даже не в сон, а подобие анабиоза, проведя в таком состоянии вплоть до самого утра. Мысли продолжали свой бег, но она будто наблюдала за ними со стороны. «Теперь я вижу, как правы были родители. Нужно срочно получить развод, пока меня не убили или не покалечили. Это единственный выход из сложившейся ситуации. Ну, что я могу ещё? Ни денег, ни связей, ни каких-то других инструментов, способных помочь попавшему в беду Павлу, у меня нет, и не будет. И не дай Бог, эти бандиты доберутся до моих родных!» – монотонно и безнадёжно бубнил у Елены в голове незнакомый доселе голос. Слушать его было неприятно, но сопротивляться она не хотела.
Впрочем, последняя мысль о родных быстро отрезвила Елену – допустить, чтобы из-за её глупости пострадали мать, отец или Иришка она не могла. Елена поняла, что следует действовать незамедлительно. Прямо с утра она отправилась в дом к Розенблатам. Ирина Львовна была дома и без слов пустила невестку, предложила ей кофе.
– Если ты решила вернуться – зря, можешь не рассчитывать на это, – поспешила предупредить Елену мама-Розенблат, – и вообще, ты же знаешь, я всегда была против вашего брака. А сейчас, когда Павел в беде, неизвестно, когда вернется, да и вернется ли вообще… На твоем месте, я бы подала на развод. С этим я могу помочь, вас разведут за один день. Павел, конечно против развода, но он скоро тоже поймет, что это самое правильное решение.
– Спасибо, Ирина Львовна, – пробормотала Елена, – я согласна на развод. Помогите мне в этом.
– Вот и славно! Завтра позвони мне, и я скажу, куда тебе нужно подойти. И… Желаю успеха! – с облегчением промолвила Ирина Львовна и поднялась из-за стола, давая понять, что разговор окочен.
– Понимаете, Ирина Львовна, – ответила Елена, не двигаясь с места. Неожиданно даже для себя, она ощутила прилив неизвестно откуда взявшейся решимости, – я должна вас предупредить. В общем, ко мне приходили какие-то бандиты, требовали отдать долг, который, как они считают, лежит на Павле.
– Вот, гляньте! – и она задрала кофточку, показывая огромное багрово-синее пятно на животе.
Ирина Львовна ахнула и села обратно:
– Какой кошмар! Вот видишь, срочно разводись. Ой вэй, я так и знала. Но обо мне не переживай, смогу за себя постоять. И за Бэллу. А ты… Уезжай-ка ты, Лена, из Серпска. Уезжай, пока не поздно.
– У меня денег совсем нет… – начала было Елена, но мама-Розенблат быстро перебила её.
– У меня тоже нет! И потом, просить сейчас, в этой ситуации у меня деньги!.. – Ирина Львовна снова вещала тем жутким голосом, который Елена уже слышала от неё.
Девушка съёжилась на стуле и опустила голову. Увидев страх на её лице, свекровь немного смягчилась.
– Родители-то на что? Пусть помогут, – заявила она по-прежнему безапелляционно, но чуть мягче, – Пришла пора им доказать свою любовь к тебе. Уезжай, Лена. И не возвращайся сюда никогда. Кстати, когда ты заканчиваешь учебу?
– На этой неделе.
– Вот и хорошо, вот и хорошо. Завтра позвонишь мне насчёт развода. А теперь уходи!
«Легко ей говорить, уезжай в другой город! – мысленно спорила с Ириной Львовной Елена, возвращаясь домой, – в какой другой? На какие шиши? И кто ждет меня там, в другом городе? Но и оставаться тоже нельзя – убьют. Эх, бедная я, бедная!»
На другой день она позвонила маме-Розенблат и развелась с Павлом. А ещё через неделю получила диплом об окончании училища. Домой Елена теперь возвращалась только засветло, выбирая самые оживлённые улицы. Пусть так было идти дольше, зато безопаснее. А войдя в дом, всякий раз плотно зашторивала окно в комнате, чем вызывала бурю негодования со стороны Иришки. Но Елена умела настаивать на своём, и сестре пришлось подчиниться. Тем не менее, главный вопрос – что делать дальше – оставался нерешённым. Время шло, на душе у Елены становилась всё тоскливее, но она старалась не показывать виду и натужно улыбалась, появляясь в квартире. А потом каждую ночь тихо рыдала под одеялом.
И снова судьба оказалась благосклонна к Елене. Уже дней через пять после получения диплома, когда она шла по одной из центральных улиц Серпска по дороге к дому, Елена внезапно услышала сзади радостное:
– Ленка, Распопова! Вот это встреча!
Елена стремительно обернулась, сердце её учащённо застучало – она не ждала от случайных встреч ничего хорошего. Но тут же гримаса страха на лице её сменилась довольной улыбкой: прямо к ней, распахнув объятия, летела Ленка Штурманова, которую Елена не видела с самого выпускного. Подбежав к школьной подруге Ленка сгребла Елену в охапку и клюнула в щёку. От неё пахло какими-то лёгкими и явно недешёвыми духами.
– Ленка! Как ты здесь оказалась? – удивилась Елена, отстраняясь назад, чтобы лучше изучить облик бывшей подружки, – ты же, если я не ошибаюсь, в Ленинграде учишься? Или уже не учишься?
Ленка Штурманова оказалась единственной из класса, кто после школы смог поступить в иногородний вуз.
– Я сессию досрочно сдала, приехала вот домой, на каникулы, – защебетала радостная Ленка, не выпуская Елену из объятий, – надо же родителей навестить. Слушай, Лен, я так рада тебя видеть!
Елена осторожно убрала с себя Ленкины руки и украдкой огляделась по сторонам, к ней вернулись уже ставшие привычными в последние дни тревога и настороженность. Но Ленка ничего вокруг не замечала и забросала Елену вопросами:
– Ну, рассказывай, я же ничегошеньки про вас не знаю! Ты первая, кого я встретила! Как ты? А где Павел? Ты вообще, точно замужем? Рассказывай… – Ленка подхватила Елену под руку и потащила вперёд, в надежде выведать все последние новости.
И Елена, обрадованная возможностью хоть с кем-то поделиться своими бедами, сначала запинаясь, неохотно, а потом всё более увлекаясь и подробно, рассказала школьной подруге всё, что случилось с ней в последнее время.
Узнав историю Елены, Ленка Штурманова мигом посерьёзнела.
– Слушай, Ленка. Тебе надо бежать из родительского дома. Срочно! – заявила она, крепко ухватив Елену за локоть, – Значит так, поживёшь пока у меня, у нас есть раскладушка. На первое время сгодится. Идём прямо к тебе, я покараулю внизу, пока ты вещи соберёшь. И документы не забудь, диплом особенно.
В эту ночь обе Елены не спали. Устроившись на кровати Ленки Штурмановой, они обсуждали возможные варианты будущего Елены. Проговорив всю ночь, подруги пришли к выводу, что Елене просто необходимо перебраться в Ленинград. Оставаться в Серпске ей нельзя – убьют. Другое дело, Ленинград! В большом городе проще затеряться, да и вряд ли бандиты последуют за ней в Питер. Им проще запугать Ирину Львовну или Бэллу. Родителям Елены тоже ничто не грозит – все знают, что у них денег нет.
– Первое время поживёшь у меня в общаге. Мои соседки по комнате вернутся в лучшем случае только в октябре. Ну, на крайняк, в конце сентября, это я знаю. С комендантом я договорюсь. У нас отличные отношения, – подвела итог Ленка.
–А деньги? – робко подала голос Елена, – Родители не дадут. Как же без денег?
– Помогу, – коротко бросила Ленка, – я откладывала на чёрный день. Вот этот день и пришёл. На хлеб хватит, не горюй. Стипендия у меня повышенная, родители присылают деньги каждый месяц. Пробьёмся!
– А что дальше? – не сдавалась Елена, которую так до конца и не смогли убедить нарисованные Ленкой радужные перспективы, – наступит октябрь, куда мне деваться?
Ленка задумалась, задумчиво покачивая босой ногой, затем лицо её просияло.
– Вот балда! – Ленка громко хлопнула себя ладонью по лбу, – Слушай, перед самым отъездом я видела на нашем почтовом отделении объявление о наборе сотрудников для работы на телеграфе. Это же то, что надо!
– В смысле? – не поняла Елена.
– Ну, ты же теперь дипломированный связист, вот и устроишься на работу в телеграф. Тебя с руками оторвут. Даже в объявлении было сказано «срочно!» Значит, точно возьмут. И денежный вопрос будет решён!
– Да, но где я буду жить? – продолжала упрямиться Елена.
– Так в объявлении большими буквами значилось «иногородним предоставляется общежитие», если я не путаю.
– Лучше бы ты не путала, – наконец, сдалась Елена.
– Значит, решено! – воскликнула Ленка Штурманова, – Да, билет на самолёт я тебе куплю, полетим вместе. Завтра же отправимся в кассы.
– А как же твои каникулы? – вдруг вспомнила Елена.
– Ерунда! – легко отмахнулась Ленка, – Отдохнём в Ленинграде. Покажу тебе город. А родителям скажу, вызвали на практику. Не люблю врать, но это будет святая ложь. Сама же знаешь, за друзей нужно и в огонь, и в воду.
Дальше события развивались стремительно. Воодушевлённая Ленкиной уверенностью, Елена, в самый последний день предупредив родителей об отъезде, отбыла в Ленинград. К её облегчению, отец и мать вообще не стали возражать очередной причуде дочери, видимо уже привыкли.
Билеты на самолёт купили без проблем. В аэропорту подруги просидели в женском туалете до самого отлёта, но никто их не преследовал. В Ленинграде устроить Елену в общежитие тоже не составило труда. Равно как и получить работу на телеграфе. Разве что зарплату ей предложили минимальную, зато без проблем выделили койкоместо в рабочей общаге, в комнате на четверых человек.
Глава 17
В годы Генкиной учёбы в институте судьба снова свела его и Запевалова. Дело было на преддипломной практике, которую Генка – единственный из всей их группы – проходил не на заводе как прочие, а в одном проектном бюро. Объяснялось это просто – Генку, как наиболее перспективного с его курса, по окончании института планировали оставить на кафедре. Поэтому и решили – нечего ему по заводам шляться, вдруг да переманят его заводчане обещанием высокой зарплаты и прочих материальных благ в виде первых номеров очереди на квартиру.
У Генкиных преподавателей были все резоны опасаться – молодежь на предприятия шла тогда неохотно, поэтому для её привлечения придумывались разнообразные стимулы. Обещания высокой зарплаты и квартиры в ближайшей перспективе действовали на неокрепшие умы, как правило, безотказно. Хотя далеко не всегда и выполнялись в дальнейшем. Но всё же многие продвинутые выпускники нередко отказывались от «тёпленького» местечка на кафедре, выбирая себе «горячее» место в цехе. В надежде, что уж им-то точно повезёт – и с зарплатой, и, самое главное, с квартирой.
Ну, а как же кафедра, карьера учёного, Нобелевская премия в перспективе? А что кафедра – на кафедре все лакомые местечки давно и надёжно заняты доцентами, кандидатами и профессорами, которые успешно встроились в процесс, имеют необходимые связи в ректорате, чего нет и быть не может у молодых. И свободными все эти лакомые местечки становятся лишь в случае, когда кого-то из старого преподавательского состава выносят вперёд ногами, а это бывает крайне редко. Поэтому, чаще всего, уделом вчерашних выпускников, решившихся торить свой путь в науке и оставшихся на кафедре, является пожизненное ассистентство великим, вплоть до наступления собственной старости. Всё это Генка пока не знал, зато хорошо знали те, кто желал заманить его «в науку».
В общем, рисковать на кафедре не хотели, потому и договорились с руководством проектного бюро, чтобы те взяли Генку. Как всем было хорошо известно, в бюро и зарплаты поменьше, и квартиру не получить, да и науки там побольше, чем на обычном заводе. Словом, одни плюсы. Генка, впрочем, роптать не стал и принял направление в бюро с лёгким сердцем.
Его быстро определили в одну лабораторию, выделили рабочий стол, пустынный точно обратная сторона Луны, и… оставили в покое. Что с ним делать никто в лаборатории не знал. Всё потому, что практиканты в бюро появлялись очень редко, а точнее – никогда. Генка был первым, как Гагарин в космосе.
Промаявшись без дела пару часов, Генка осторожно выскользнул в коридор, дабы хоть чем-то поразнообразить своё времяпрепровождение. Проходя мимо стола завлаба, он по институтской привычке хотел было попросить разрешение выйти, но завлаб – плешивый мужичок в очках в толстой коричневой пластмассовой оправе – даже не поднял от бумаг склонённую голову. Никому до Генки не было никакого дела.
Для начала Генка сходил в туалет – не потому, что приспичило, просто стеснялся торчать в коридоре, когда все работают. И на выходе из кабинки встретил Запевалова.
– Генка, ты?! – Запевалов был само радушие. И столь обширна и жизнерадостна была его улыбка, что Генка невольно ответил ему тем же. Только улыбка Генкина оказалась чуть косоватой – всё же школьные унижения от Запевалова, пусть и невольные, забыть он не мог.
– Ты откуда тут взялся? – Запевалов обнял Генку за плечи и мягко направил к окну. Там он уверенно расположился на подоконнике, вытащил пачку болгарских сигарет «Феникс», протянул её Генке, но Генка не курил и помотал головой отрицательно. Тогда Запевалов закурил сам. С помощью большой, блестящей словно орден, зажигалки. Выглядел он как всегда сногсшибательно: тонкий зеленоватый пуловер поверх сказочно-белой рубахи с изящным воротничком, выверенным точно по линеечке, ровнёхонько, кончик к кончику. А внизу настоящие джинсы. Большой дефицит по тем временам.
– Я на практике, – промямлил Генка, ошарашенный неожиданной встречей.
– Ну и куда же тебя засунули? – заискрился улыбкой Запевалов. Голос его звучал сочувственно, будто они были лучшими друзьями.
– В испытательной лаборатории я, – нехотя произнёс Генка. Ему стало стыдно за своё безделье. И просто за то, что он не Запевалов.
– К Семёнычу? – хохотнул Запевалов, для повышения интимности интонации слегка понизив голос, и подмигнул Генке, словно намекая на нечто не совсем приличное.
– К Скворчагину, – сделал вид, что не понял намёк Генка. Хотя знал – Сковрчагина звали именно Александр Семёнович.
– Семёныч – нормальный мужик, так что всё будет нормалёк, – тон Запевалова приобрёл покровительственные интонации. Он выпустил изо рта колечко дыма, тонкое и изящное, словно драгоценный браслет, и снова положил руку на плечо Генки.
– И на сколько ты вливаешься в наш ударно-трудовой и, не побоюсь этого слова, авангардно-передовой коллектив? – поинтересовался он, приблизив своё лицо к Генкиному.
Генке очень захотелось сказать Запевалову что-нибудь мужественно-грубоватое, типа: «Что ты меня лапаешь как девушку? Ничего не перепутал?» Но он почувствовал – у Запевалова найдётся ответ похлеще и промолчал, мысленно коря себя за нерешительность.
– Что с тобой, онемел от нашего великолепия? Да, сантехника здесь на высоте, – по-своему отреагировал на Генкино молчание Запевалов.
– На два месяца, – наконец выдавил из себя Генка. А потом зачем-то добавил:
– А если понравится, то и распределюсь к вам.
Он уже не мог противиться бронебойной силе Запеваловского обаяния и банально сдался на милость победителя.
Друзья проговорили в туалете ещё долго. Запевалов всё расспрашивал Генку про его жизнь: женился ли он, с кем из класса видится, в каком институте учится и так далее.
– А я, мон шер, женился, – как бы между делом вставил он, демонстрируя Генке сверкающее золотом колечко на правом безымянном пальце, – скоро два года как, прикинь?
– На Таньке Гарькавенко? – вырвалось у Генки. И он сразу же пожалел, что спросил. Потому что Запевалов, после гроссмейстерской паузы, обвёл его расчётливо похолодевшим взглядом и, картинно, тщательно взвешивая каждое слово, отчеканил:
– Какая ещё Танька?! Это пройденный этап, издержки юности сопливой. И вообще – кто же женится на одноклассницах?! Как минимум это не модно, как максимум – глупо.
Генке захотелось провалиться под кафельный пол. С удовлетворением разглядывая отпечатанные на Генкином лице результаты своей тирады, Запевалов, смягчив тон, с улыбочкой проговорил:
– Жена сейчас с дочкой сидит.
– Да-да, – предвосхищая ещё не заданный Генкой вопрос, закивал он, чуть прикрывая усталые веки и собирая губы в печальную гримаску, – что поделать, я теперь залётный. Пилот большой авиации, так сказать. Летал-летал, и долетался!
Тут Запевалов чётко отрепетированным элегантным движением поднёс правое запястье с часами к глазам и присвистнул:
– У-у-у, мон шер ами, пора, пора. Если через минуту не появлюсь у себя, мой начальник меня на компост пустит. А если потороплюсь, то просто мозги компостировать начнёт. Задачка, а?
Он легко соскочил с подоконника и под локоток направил Генку к двери со словами:
– Пойдём, покажу, где меня искать. Теперь каждый день видеться сможем.
Запеваловский кабинет оказался в дальнем конце коридора на том же этаже, что и Генкин. Прежде чем войти внутрь, Запевалов взял с Генки слово, что на обед они отправятся вместе.
После встречи с школьным товарищем время уже не тащилось, а летело. Едва Генка собрался подняться со своего места, чтобы пойти на обед, как дверь в его лабораторию легко открылась, на пороге стоял Запевалов. От его появления будто свежий ветерок пробежал по всей комнате – часть лиц, преимущественно женских, заблистала улыбками, другие же, по большей части мужские, нахмурились. Те, кто сидели спиной к вошедшему, распрямили спины, кто-то уронил со стола какие-то листочки, и те зашуршали восторженным шёпотом. Хотя скорее всего шёпоток раздался из чьих-то женских уст. «А меня ведь, кажется, здесь вообще никто не заметил, когда я сегодня пришёл», – не без горечи отметил про себя Генка.
– Здрассьте, – немного нараспев изрёк Запевалов и сделал небольшой полупоклон, затем, не обращая внимание на ответные приветствия, подошёл к Генкиному столу и, со значением приглушив голос, сказал:
– Имею честь, сэр, пригласить вас на праздничный обед в вашу честь. И, прошу вас учесть, – почту это для себя за честь!
В коридоре их ждали – очень худенькая смазливая девица, влюблёнными глазами смотрящая только на Запевалова.
– Знакомьтесь, – церемонно объявил Запевалов, обращаясь к девице и Генке одновременно, – это мой добрый друг и настоящий джентльмен Геннадий. Геннадий призван в наше бюро на примерно-расчётный срок в два месяца. И может даже остаться на сверхсрочную, если получит тёплый приём. А это наша Лизонька!
Последнее слово Запевалов проговорил с такой карамельной интонацией, что Генке стало неловко. Зато сама Лизонька от Запеваловского мурлыкающего баритона буквально затрепетала от удовольствия. «Эх ты, лётчик! Понятно, в каких краях ты теперь летаешь!» – беззлобно подумал про себя Генка. Лизонька ему понравилась. Впрочем, шансов у него всё равно не было, Лизонька глядела только на Запевалова.
Обедать в этот день решили в местной столовке. Кормили здесь, по выражению Запевалова, «дёшево и сердито, а иногда и просто злобно».
– Как она тебе? – зашептал на ухо Генке Запевалов, когда Лизонька на время отлучилась из-за стола, – правда, хорошая девушка? Куда мужики только смотрят. Почему обходят её вниманием? Я бы сам за ней приударил, да вот, понимаешь, женат…
Генка подавил желание сказать, что с Лизонькой ни у кого не будет даже намёка на шанс, пока с нею рядом Запевалов. А Запевалов, судя по всему, положил на неё глаз. Ну или, по крайней мере, всем даёт понять, что положил глаз. Но что-то по этому поводу говорить своему другу не стал – зачем озвучивать очевидные вещи?!
– Кстати, ты так и не сказал, а сам какой институт окончил? – решил перевести разговор на другую тему Генка.
– Какой сейчас институт, – мелодраматическим голосом, с долей тщательно отмеренной грустинки, ответил ему Запевалов, покачивая для значимости в такт словам красивой головой, – семью кормить надо. Учился на юриста, пришлось перевестись на заочное. Но – святой долг, сам понимаешь!
– А как же армия? – не отставал Генка. Он прекрасно знал, как быстро можно загреметь на службу, если бросаешь институт. Эта участь была уготована его другу Морковину-Брукве, который недавно вылетел из института из-за конфликта с администрацией и был призван в месячный срок после отчисления.
– У меня же ребёнок, я единственный кормилец в семье, – пояснил Запевалов со значением.
«Всё предусмотрел наш лётчик! – восхитился в мыслях Генка, – на работе на девчонок налетает, дома у него семья. Может не учиться, хорошо устроился!»
На следующее утро Запевалов забежал за Генкой, не дожидаясь обеда.
– Мы тут в подвальчике в настольный теннис каждый день режемся. Ровно в одиннадцать ноль-ноль. Приглашаю присоединиться, – пояснил он. Генка не возражал.
Их появление в подвальчике было отмечено радостными приветственными возгласами, адресованными, конечно, не Генке, а Запевалову. В теннис играли исключительно представители сильного пола, среди которых затесалась одинокая, маленькая и некрасивая девушка в очках со столь толстыми линзами, что они были похожи на иллюминаторы подводной лодки. Фигурой девушка напоминала матрёшку – маленькие плечи и крупный зад, причём верхняя и нижняя части тела переходили друг в друга как поставленные один на другой шарики. Сверху шар поменьше диаметром, снизу побольше.
Эта девушка – единственная из всех – вообще не посмотрела в сторону Запевалова. На лице её застыло непримиримое выражение. Но играла она неплохо. Только очень горячилась, и потому часто мазала. Когда била сильно, всегда притоптывала в такт удара ногой. Запевалову она служила идеальной мишенью для шуток. Девушку звали Лина.
– Лина, давай я тебе набойки чечёточные на подошвы поставлю, – под общий хохот притворно-сочувственным тоном обращался к девушке Запевалов, – ты просто недостаточно громко пол пинаешь, потому и мажешь!
Бедная Лина делала вид, что совершенно не обращает на Запевалова внимание, но как раз после этих слов обрушивалась на теннисный шарик особенно яростно.
– Ростом, Лина, ростом пользуйся, – советовал он участливо, когда маломерная Лина не дотянулась до шарика, и тот понуро уткнулся в сетку.
И новый взрыв хохота от благодарных зрителей. Как заметил Генка, многие сюда специально приходили «на Запевалова» и вообще не стремились играть сами.
Но не стоит считать, что Запевалов издевался над безобидной Линой, вовсе нет. Он подтрунивал не только над ней, но и над другими, а главное – над собой. Когда однажды после удара противника шарик с хрустом влепился ему в лоб, Запевалов, потирая ушибленное место, объявил своему обидчику:
– За это тебе, мон шер, пять очков! Подрезал меня на самом взлёте.
Теперь смеялась даже Лина.
В один из дней Генка перед самым окончанием рабочего дня зашёл в туалет, закрыл дверь кабинки, и уже совсем было приступил к отправлению своих потребностей, как услышал, что кто-то вошёл внутрь и занял соседнюю кабинку. Раздалась какая-то возня, потом приглушённые голоса, один из которых, к Генкиному удивлению, явно был женским. Генка обратился в слух и замер в своей кабинке, силясь понять, что происходит рядом с ним.
Судя по всему, мужчина и женщина пришли сюда не случайно. Говорили они мало и очень тихо, слова не разобрать. Да в этом и не было надобности. Другие звуки быстро объяснили Генке всё.
Он отчётливо слышал страстные вздохи, шуршание трущейся одежды, причмокивание поцелуев, а потом и ритмичные охи, вылетающие из женского рта, сопровождаемые таким же сладострастным повторяющимся мужским «ммм». Парочка занималась любовью. В мужском туалете, почти у всех на виду. «Кто бы это мог быть?» – подумал Генка и сразу же из подсознания ему пришёл ответ из одного, до боли знакомого слова – «Запевалов». Но кто была та отважная, решившаяся на такое предприятие практически на рабочем месте?
Генка осторожно встал на унитаз и заглянул в соседнюю кабинку, любопытство его было настолько велико, что о последствиях своих действий думать он уже не мог. На его счастье, любовникам в соседней кабинке было не до него. И со смесью зависти, восторга и содрогания Генка с высоты взирал на запрокинутое блаженное, с закрытыми глазами, личико Лизоньки с прикушенной от удовольствия нижней губкой и колеблющийся в такт общему движению Запеваловский затылок рядом с ним. По их позам было очевидно, что Лизонька и Запевалов проделывают такие штуки далеко не в первый раз.
Где-то через две недели после начала практики Генку отправили косить сено. В те годы это было нормой. В весеннюю, летнюю и осеннюю пору почти все научные, проектные, учебные и прочие организации Серпска и многих других городов страны обязывали «помогать селу». Кого-то отправляли на уборку урожая, а кого-то не заготовку кормов. Генкиному проектному бюро выпало последнее. Перспектива десять дней жить всем в одной комнате в деревянном доме с удобствами на улице, да ещё и заниматься физическим трудом, у работников бюро старшего возрасте особенный восторг не вызывала. Поэтому вышло негласное распоряжение начальства – «косить поедут неженатики и незамужние».
Генка, хоть и был «неженатиком», как практикант на заготовку сена не попадал. Но вмешались обстоятельства. Точнее, вмешался Запевалов. Ему-то, как отцу малолетнего ребёнка, сначала дали отвод. Но Запевалов никогда не упускал возможность хорошо провести время и быстро договорился с кем нужно, чтобы его не только отправили косить сено, но ещё и дали справку для жены, из которой явствовало, присутствие Запевалова на заготовках просто необходимо. А за это ему полагаются отгулы, то есть время заниматься ребёнком у него ещё будет.
– Ты ведь едешь косить? – как нечто само собой разумеющееся поинтересовался за день до отъезда Запевалов у Генки.
– Нет, – немного удивлённо ответил ему Генка, – практикантов не берут.
– Возьмут, – безапелляционно заявил Запевалов и помчался к Генкиному начальнику Сковрчагину. Желанием Генки ехать в деревню он даже не поинтересовался.
И точно. В конце рабочего дня Скворчагин подозвал Генку к себе. Морщась, точно съел что-то весьма невкусное и очень несвежее, он объявил Генке – тот едет вместо Симоновой, потому что «у Симоновой больная мать, оставить её не на кого, а Генка молодой, неженатый, поэтому и мать у него должна быть молодой и неже…, то есть здоровой. В общем, хочешь нормально закончить практику, не рыпайся и делай, что говорят». Тем более что делать-то ему всё равно в лаборатории нечего. Пусть хоть пользу какую-то бюро принесёт. Генка не сопротивлялся – разве можно противостоять Запеваловскому напору? Всё равно, что солнечных зайчиков руками ловить.
