Новые записки следователя
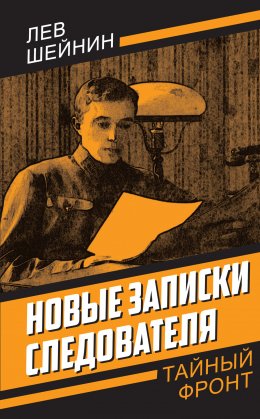
© Шейнин Л. Р., 2023
© Чертопруд С. В., ред. – состав., 2023
© ООО «Издательство Родина», 2023
Дебют
Осенью 1931 года, когда я был старшим следователем Ленинградской областной прокуратуры, меня вызвал однажды прокурор области.
– Звонил товарищ Крыленко, – сказал он. – Вызывает вас к себе. Не знаете, в чём дело?
– Понятия не имею, – ответил я, действительно не понимая, зачем меня вызывает «сам Крыленко», которого все мы очень любили и немного побаивались, зная его крутой характер. – Вы не спросили?
– Спросил. Но он ответил, что окончательное решение примет после разговора с вами. Одним словом, выезжайте.
И в ту же ночь я выехал в Москву, так и не догадываясь, почему меня вызывает нарком юстиции и о каком загадочном «окончательном решении» после разговора со мной может идти речь. В те годы прокуратура входила в систему Наркомата юстиции, а прокурор республики был заместителем наркома. Таким образом, Крыленко являлся самым высшим моим начальством. Мне приходилось несколько раз докладывать ему дела, и я всегда поражался его способности мгновенно схватывать суть дела и выбирать очень прицельно и точно самое важное из множества обстоятельств, показаний и улик. Близко я его не знал и был уверен, что он вообще не помнит ни меня, ни дел, которые я ему докладывал.
Теперь, в вагоне ночного экспресса, со свистом и грохотом мчавшегося сквозь ночь в столицу, я вспоминал всё, что знал о человеке, с которым мне предстоит разговор.
Я знал, что Крыленко (партийная кличка «Абрам») член партии с 1904 года, что он участник Бернской конференции и один из сподвижников Ленина, что он окончил два факультета – юридический и историко-филологический, что он профессиональный революционер.
Через пять дней после Октября, 12 ноября 1917 года, уже известный всей стране «прапорщик Крыленко» был назначен но инициативе Владимира Ильича Главковерхом и членом только что образованного Совета Народных Комиссаров.
Этот первый советский Главковерх, а затем прокурор республики, был невысоким, коренастым, крепко сшитым человеком с упрямым подбородком, бритой головой и светлыми, очень прямо глядящими на мир и людей глазами. Был он добродушен и вспыльчив, азартен и настойчив, добр и крут, страстно увлекался альпинизмом, охотой и шахматами.
Суровый на первый взгляд человек, он очень любил жизнь и людей, был столь же смешлив, как и вспыльчив, и так же быстро «отходил», как и приходил в ярость.
Альпинистом он был отличным. Охотником хорошим. Шахматистом плохим. Оратором незабываемым.
– Сколько вам лет, молодой человек? – спросил он, когда я вошёл в его кабинет и доложил, что явился по его вызову.
– Двадцать пять, Николай Васильевич, – ответил я, всё ещё не понимая, зачем я ему понадобился.
– Гм… Не густо… Давно работаете следователем?
– Восемь лет.
– Раненько начали. Какие предпочитаете дела? Я слыхал – убийства?
– Да, пожалуй. – Может, это чисто возрастное? – усмехнулся Крыленко. – И с годами пройдёт? Но, помнится, вы расследовали и должностные дела. Например, дело фининспекторов, которое вы мне докладывали.
– Да, – коротко подтвердил я, зная, что Крыленко любит ясные и короткие ответы.
– В шахматы играете? – неожиданно спросил он.
– Пока не научился.
– Напрасно, – поморщился он. – Отличная гимнастика для мозга! Впрочем, у вас ещё есть время лично в этом убедиться. Так вот, милый друг, возникла этакая… гм… в общем, возникла озорная, с вашего позволения, идейка назначить вас следователем по важнейшим делам. Как вы полагаете, не рановато?
– Мне трудно судить, Николай Васильевич, ведь это идейка не моя.
Он снова усмехнулся, встал, зачем-то обошёл меня кругом, весело и пристально меня разглядывая, потом открыл дверь в приёмную и крикнул:
– Соня, зайди!
Вошла его секретарша, невысокая, быстроглазая, очень живая. Крыленко потянул носом воздух и сделал страдальческое лицо.
– Создатель, опять чесноку наелась!.. О господи, как только тебя муж терпит!..
– И он тоже ест, – быстро ответила секретарша. – А когда оба едят – ничего не чувствуют и оба довольны…
– Ироды! – простонал Крыленко. – Хорошо вам ничего не чувствовать. А мне каково, сатаны!.. Скажите, молодой человек, вы тоже лопаете чеснок? И тоже его любите?
– Не очень. Если не считать колбасы с чесноком.
– Колбасы? – оживился Крыленко. – Так це зовсем друго дело, как говорят поляки. Колбаса без чеснока – какая же это колбаса?! Это чёрт знает что, а не колбаса!.. После утренней зорьки, у костра, вскипятить крепкого чая с дымком и съесть кусок ржаного хлеба с такой колбасой!.. Превосходно!..
Он засмеялся, а потом добавил:
– Соня, скажи, чтобы подготовили приказ о назначении этого старца следователем по важнейшим делам. Дать ему месяц на ликвидацию ленинградских дел и переезд в Москву И обеспечить жильём.
Через месяц я переехал в Москву и приступил к своим новым обязанностям.
А вскоре после этого, рано утром, меня вызвал Крыленко. Я застал его сидящим за шахматным столиком в обществе одного прокурора, считающегося хорошим игроком. В наркомате знали, что Крыленко часто приезжает до начала работы, чтобы поиграть в шахматы.
Посмотрев на Крыленко, я заметил его мрачный вид и понял, что он проигрывает.
– Послушайте, Шейнин, – сказал он, – сегодня же выезжайте в Смоленск. Там вскрыты крупные хищения и самое нахальное мошенничество. Местная прокуратура сама не справится. Дело сложное. Правда, там ещё никого не убили, что вас, вероятно, больше бы устроило, но ехать надо. И постарайтесь не задерживаться – предстоит другая командировка. Привет!..
Вечером того же дня я выехал в Смоленск и приступил там к выполнению задания. Дело действительно оказалось довольно сложным, и работать пришлось с большим напряжением. Впрочем, как часто бывает по делам о хищениях и взяточничестве, обвиняемые так рьяно топили друг друга и так сваливали вину один на другого, что в конце концов удалось распутать весь это клубок. Через три недели, объявив обвиняемым об окончании следствия, я выехал в Москву, захватив с собой дело, состоявшее из трёх томов.
Случилось так, что из Смоленска я выехал далеко за полночь поездом, следовавшим в Москву с тогдашней границы. Мне повезло – в этом поезде нашлось свободное место в спальном вагоне, и я занял его, предвкушая приятную возможность хорошо выспаться до Москвы.
Удобно устроившись в уютном двухместном купе, я разделся и мгновенно уснул, положив толстый портфель с делом под подушку.
Меня разбудил противный скрип качавшейся на петлях двери моего купе, почему-то оказавшейся открытой. Кроме того, мне было неудобно лежать – изголовье вдруг оказалось чересчур низким. За окнами купе тревожно мелькали тени железнодорожных столбов. На горизонте, с трудом пробиваясь сквозь грязную вату облаков, уже серел рассвет.
Спросонок я не сразу сообразил, что именно меня разбудило. Потом, похолодев от страшного предчувствия, я сунул руку под подушку. Портфеля не было. На полу его тоже не оказалось.
Я бросился в служебное купе, разбудил спящего проводника, но он, разумеется, ничем не мог мне помочь и ничего не мог объяснить.
Понятно, что до самой Москвы я уже не смыкал глаз, предвидя неизбежные последствия свалившейся на меня беды.
В том, что я буду арестован и предан суду, сомнений не было. Теперь я размышлял о том, по какой статье меня привлекут: будет ли мне предъявлено обвинение в преступной халатности или что-нибудь похуже.
Ужасал меня позор случившегося. И то, что мне нечего, решительно нечего сказать в своё оправдание! Положение усугублялось тем, что, по правилам, я должен был отправить следственное дело фельдсвязью, то есть специальной почтой, а не брать его с собой в вагон. Я нарушил эти правила потому, что хотел как можно скорее написать обвинительное заключение, не ожидая, пока оно придёт в Москву фельдсвязью. Но ведь именно это нарушение правил обязывало меня к особой бдительности!..
А я просто «проспал» дело в самом позорном смысле этого слова! Хорошенький дебют для следователя по важнейшим делам!..
И хорош криминалист, который сам оказывается обворованным и у которого вдобавок выкрадывают не что иное, как им же законченное дело о хищениях!..
Когда поезд прибыл в Москву, уже приближался полдень. Я решил по пути в наркомат заехать к сестре, чтобы рассказать ей о беде и предупредить, что я, скорее всего, домой уже не вернусь.
Конечно, не обошлось без слёз, и бедная моя сестра проводила меня до наркома с опухшими глазами и таким лицом, что на нас оборачивались прохожие.
– Что с вами? – спросила меня секретарша Крыленко, сразу заметив мой удручённый вид.
– Ничего… Мне срочно нужно к наркому…
– Лучше зайдите позже, – посоветовала секретарша.
– Мне нужно немедленно, понимаете – немедленно! – воскликнул я таким тоном, что она сразу прошла в кабинет Крыленко и, вернувшись оттуда, шепнула:
– Идите. Учтите только, что барометр с утра показывает грозу…
Это значит, что Крыленко утром проиграл в шахматы. Было известно, что он испытывает органическое отвращение к проигрышам в шахматы и что в таких случаях нет смысла задерживаться в его кабинете. Судьба явно подбрасывала мне неприятность за неприятностью.
Когда я вошёл в кабинет, Крыленко сидел за столом, уткнувшись в какое-то дело. Он кивнул мне головой и спросил:
– Ну, как эти смоленские жулики? Закончили следствие?
– Закончил, – пролепетал я. – Только… Видите ли…
– Ну ладно, – перебил он меня. – Обвинительное заключение готово? Или сначала хотите доложить дело?
– Нечего мне докладывать, нечего! – с отчаянием воскликнул я. – Дело украли!..
– Что?! – Крыленко вскочил с места и выпрямился. – Как это так – украли?! Что за идиотские шуточки!..
– Это не шуточки… К несчастью, не шуточки… – с трудом выдавил я из себя. – Действительно, украли…
– Где? Когда? Кто? – загрохотал Крыленко. – Да говорите толком.
– В поезде… На обратном пути… Портфель… Под подушкой… Я заснул… – довольно бессвязно стал я объяснять.
Он слушал не садясь и не сводя с меня сердитых глаз. Я еле стоял на ногах. Потом он сделал несколько шагов по кабинету, что-то бормоча про себя, а затем подошёл ко мне и взял меня за плечо.
– Но дело восстановить можно? – спросил он.
– Трудно. В одном из томов подшиты подлинные документы. Их не восстановишь…
– А-а, чёр-рт! – Он яростно махнул рукой. – Какого дьявола вы взяли дело с собой, а не отправили фельдсвязью?!
– Я хотел поскорее выполнить задание. И чтобы не терять времени…
– Зато вы потеряли дело, мальчишка!.. – закричал Крыленко и снова зашагал по кабинету, потом опять подошёл ко мне.
– Да, дур-рацкая истор-рия! – протянул он. – Особенно, так сказать, для дебюта, молодой человек… Кстати, вы кому-нибудь сказали о случившемся?
– Только вам и своей сестре.
– Гм… Между прочим, сестре сообщать было необязательно… А у нас никому?
– Никому.
– Уже неплохо, – озорно усмехнулся Крыленко, и глаза его потеплели. – Так вот, маэстро, пусть это всё пока останется между нами… Пока это наш с вами секрет, молодой и не слишком везучий человек… Доходит? Нет, вижу по вашей физиономии, что не дошло… Так слушайте внимательно: любители позлорадствовать найдутся всюду. Вот уж продукт совсем не дефицитный! К сожалению. А подкузьмить молодого выдвиженца – просто подарок для таких любителей, чёрт бы их побрал!.. Теперь дошло?
– Дошло, Николай Васильевич, – ответил я, постепенно приходя в себя и уже догадываясь, что предсказания барометра, как почти всегда, не подтвердятся.
Он снова усмехнулся, подошёл к правительственному телефону и набрал номер начальника транспортного управления ОГПУ.
– Привет. Говорит Крыленко. Почему вы так распустили железнодорожных воров?.. На какой линии? Да на всех линиях, как я полагаю. Вчера на перегоне Смоленск – Москва обокрали нашего следователя по важнейшим делам… Да-да, и портфель с делом… Почему не отправил дело фельдсвязью? А вот это уж не ваше дело! Я ему приказал так поступить, к вашему сведению, я!.. Начните розыск, а не задавайте неуместных вопросов! Тем более что они не относятся к вашей компетенции.
Он положил трубку и посмотрел на меня.
– Будут искать. А вы извольте взять себя в руки и не ходите с видом потерянного. В жизни всякое случается, даже со следователями по важнейшим делам. И помните – никому ни слова!.. Это приказ, а не рекомендация. Извольте выполнять!.. Личные документы тоже спёрли?
– Да. Служебное удостоверение.
– А партбилет?
– К счастью, я оставил его в своём служебном сейфе.
Крыленко обрадовался.
– Именно к счастью! – сказал он. – А то пришлось бы заявить в партком. С партией не секретничают. Теперь возьмите мою машину и отправляйтесь домой. Вам надо прийти в себя. И не вешайте носа на квинту.
Я поблагодарил его и пошёл к дверям. На пороге он меня окликнул:
– Минутку! А ну, скажите мне, дружок, что вы думали, идя ко мне с этой милой новостью?
– Я думал… Я ждал ареста…
– Ареста?! – Он всплеснул руками. – Ах, как легко, как постыдно легко у нас иногда относятся к этому слову! Как вы могли подумать это?! Как вам не стыдно?!
– Но ведь у меня украли дело… Я отвечаю за него головой, – стал я оправдываться, – и потом… Мало ли что могли подумать…
– Вы с ума сошли! Что подумать?
– Ну, не знаю… Мало ли что может прийти в голову в таких случаях… Для подозрения нет ни правил, ни границ…
Горькая гримаса перечеркнула его лицо.
– Как вы сказали? – тихо произнёс он. – «Для подозрений нет ни правил, ни границ…» Да, к несчастью, нет!..
Несмотря на своё волнение, я заметил, с какой горечью он говорил об этом. Но, признаться, всё значение его слов я понял куда как позже…
На следующий день, когда я пришёл на работу, секретарша протянула мне телеграмму:
– Вот только что поступила, – сказала она. – Из Вязьмы.
– Откуда? – удивился я, потому что в Вязьме у меня никогда не было ни близких, ни знакомых, ни дел.
– Из Вязьмы, – повторила секретарша и была права, так как телеграмма действительно была из Вязьмы и в ней значилось:
«Москва Прокуратура Республики Следователю по важнейшим делам Шейнину Получите главном почтамте до востребования ваше имя срочную посылку тчк Подробности письме тчк Привет».
Я ещё больше удивился. Какая Вязьма, какая посылка, какое письмо? Кто автор этой анонимной телеграммы?
Позвонив на главный почтамт, я выяснил, что посылка из Вязьмы, адресованная мне, действительно поступила. Пришлось поехать на почтамт.
Когда я вышел из подъезда наркомата, то столкнулся с Крыленко, только что выведшим из вестибюля свой велосипед, на котором он обычно приезжал на работу и ездил в Кремль на заседания.
– Ну, как дела, Нат Пинкертон? – спросил он и, не дожидаясь ответа, хлопнул меня по спине, вскочил на велосипед и помчался к Спасским воротам.
На главном почтамте мне вручили объёмистую посылку, обшитую суровым полотном. Я вскрыл полотно и чуть не закричал от счастья – это был мой портфель и в нём все три тома дела. Восемьдесят рублей, оставшиеся у меня после командировочных расходов, портрет любимой и все мои личные документы были целы и невредимы.
Сверху лежало письмо, написанное почти каллиграфическим почерком, но с изрядным количеством орфографических ошибок. Привожу его текст:
«Гражданин следователь Шейнин!
Ваш портфель шарахнули по чистому недоразумению. Мы приняли вас за одного из тех фраеров, что ездят в международных вагонах. Не обижайтесь, ошибки всегда возможны при нашей кипучей работе, когда вечно приходится спешить как на пожар. Дело мы прочли коллективно. Смоленские ворюги так нахально капали друг на друга, что возвращаем дело для направления по подсудности согласно УПК. Ваша девушка нам понравилась, передайте ей привет. А также кланяйтесь от нашей поездной бригады гражданину Крыленко, который, по слухам, есть справедливая личность, хотя лучше с ним дела не иметь. Один из нашей артели слыхал его на митинге в Питере, ещё в восемнадцатом году, и говорит, что Крыленко такой оратор, что аж зажигает сердца и вышибает слезу.
С приветом и пожеланиями, а письмо не подписываем по причине – на то и щука в море, чтоб карась не дремал.
С приветом, Караси».
Прочитав это письмо, я помчался в наркомат, но Крыленко ещё не вернулся. Уже в конце дня я доложил ему о посылке и показал письмо. Прочитав его, он начал так смеяться, что слёзы появились у него на глазах.
– Ой, не могу, уморили, положительно уморили, – стонал он, задыхаясь от смеха. – «Справедливая личность, хотя лучше-де с ним дела не иметь», ха-ха-ха… Ах, черти драповые! Как бы мне хотелось, дружок, повидаться с этой «поездной бригадой» и побеседовать с этими плутами, если б вы только знали. Особенно с тем, который слышал меня в Питере, на митинге…
Крыленко вдруг замолчал, погрустнел и тихо добавил:
– Да, Питер, восемнадцатый год. Смольный, митинги, Владимир Ильич… Как всё это близко и как уже далеко!.. Как рано, как трагически рано он от нас ушёл!.. И как его всем нам не хватает, мой мальчик!
Он опять замолчал, а потом ещё тише, как бы размышляя вслух, произнёс:
– Был бы он жив, и всё было бы не так, совсем-совсем не так.
– В каком отношении, Николай Васильевич? – спросил я, почувствовав за этими словами боль и какой-то большой, хотя ещё и непонятный мне смысл.
Он как бы очнулся, посмотрел на меня долгим, полным горечи взглядом, которого я никогда не забуду, и медленно протянул:
– Ах, как вы ещё молоды!.. В каком отношении – вы спрашиваете? Да во всех отношениях, во всех! Да во всех отношениях и решительно для всех нас, для всех! Для вас, для меня, вот для тех прохожих на улице и даже для авторов этого письма!..
Волчья стая
В начале 1928 года, в ту пору, когда я был переведен в Ленинград, там была довольно значительная преступность, и ленинградские следователи были завалены всевозможными делами. В городе неистовствовал нэп. Он отличался от московского нэпа прежде всего самими нэпманами, которые здесь в большинстве своем были представителями дореволюционной коммерческой знати и были тесно связаны с еще сохранившимися обломками столичной аристократии. Ленинградские нэпманы охотно женились на невестах с княжескими и графскими титулами и в своем образе жизни и манерах всячески подражали старому петербургскому «свету».
Нэпманы нередко обманывали руководителей государственных трестов и предприятий, с которыми они заключали всевозможные договоры и соглашения. Стремясь разложить тех советских работников, с которыми они имели дело, нэпманы старались пробудить в них стремления к «легкой жизни», действуя подкупом и всякого рода мелкими услугами, угощениями и «подарками». А соблазнов было много.
В знаменитом Владимирском клубе, занимавшем роскошный дом с колоннами на проспекте Нахимсона, функционировало фешенебельное казино с лощеными крупье в смокингах и дорогими кокотками. Знаменитый до революции ресторатор Федоров, великан с лицом, напоминавшим выставочную тыкву, вновь открыл свой ресторан и демонстрировал в нем чудеса кулинарии. С ним конкурировали всевозможные «Сан-Суси», «Италия», «Слон», «Палермо», «Квисисана», «Забвение» и «Услада».
По вечерам открывался в огромных подвалах «Европейской гостиницы» и бушевал до рассвета знаменитый «Бар», с его трехэтажным, лишенным внутренних перекрытий залом, тремя оркестрами и уймой столиков, за которыми сидели, пили, пели, ели, смеялись, ссорились и объяснялись в любви проститутки и сутенеры, художники и нэпманы, налетчики и карманники, бывшие князья и княгини, румяные моряки и студенты. Между столиков сновали ошалевшие от криков, музыки и пестроты лиц, красок и костюмов официанты в белых кителях и хорошенькие, кокетливые цветочницы, готовые, впрочем, торговать не только фиалками.
«Короли» ленинградского нэпа – всякого рода Кюны, Магиды, Симановы, Сальманы, Крафты, Федоровы обычно кутили в дорогих ресторанах – «Первом товариществе» на Садовой, Федоровском, «Астории» или на «Крыше» «Европейской гостиницы». Летом славился ресторан курзала Сестрорецкого курорта с его огромной открытой, выходящей на море террасой и только входившим тогда в моду джазом. Сюда любили приезжать на машинах ночью, после премьер в «Свободном театре» Утесова, или в мюзик-холле, или в театре комедии, арендованном в порядке частной антрепризы Надеждиным и Грановской – очень талантливыми комедийными актерами, любимцами города.
Здесь, за роскошно сервированными столиками на прохладной от ночного залива мягко освещенной террасе, под тихий рокот прибоя, «короли» завершали миллионные сделки, торговались, вступали в соглашения и коммерческие альянсы и тщательно обсуждали «общую ситуацию», которая, по их мнению, в 1928 году складывалась весьма тревожно.
Самые дальновидные из них начинали понимать, что «временное отступление» подходит к концу и что молодая, но уже окрепшая за эти годы государственная промышленность, кооперация и торговля начинают наступать на частный сектор. Нэпманов особенно беспокоила система налогового обложения их доходов, и они наперебой проклинали начальника налогового управления ленинградского облфинотдела Сергея Степановича Тер-Аванесова, руководившего работой фининспекторов и известного тем, что к нему «подобрать ключи невозможно».
Правда, в самом конце 1927 года прополз слушок, что лакокрасочник Николай Артурович Кюн и шоколадник Альберт Карлович Крафт сумели каким-то загадочным путем добиться благосклонности Тер-Аванесова, но они сами в ответ на вопросы своих знакомых «королей» так горячо и искренне уверяли, что эти слухи сущий вздор, что им в конце концов поверили.
И вдруг в начале 1928 года начались грозные события: были арестованы в течение одной ночи и Тер-Аванесов, и более десятка фининспекторов, и многие крупные нэпманы, в том числе Крафт и Сальман, Магид и Федоров, и многие, многие другие. По городу поползли слухи, что следственные органы вскрыли многочисленные факты дачи нэпманами взяток фининспекторам за снижение налогов.
Знаменитый Кюн сбежал в неизвестном направлении. На его фабрику лакокрасок был наложен арест. Чуть ли не в одну ночь с Кюном сбежал и крупный нэпман мебельщик Янаки, грек из Одессы, в руках которого была сосредоточена чуть ли не вся торговля антикварной мебелью.
Вместо арестованных фининспекторов были назначены другие, и подступиться к ним уже было абсолютно невозможно.
«Вечерняя Красная газета», имевшая в те годы широкую подписку в связи с тем, что в качестве приложения к ней печатался сенсационный «дневник фрейлины Вырубовой» – любимицы императрицы и подруги Гришки Распутина, – поместила довольно глухую, но весьма зловещую заметку о том, что следствие по делу группы фининспекторов, незаконно снижавших нэпманам налоги, успешно разворачивается и выясняются все новые лица, причастные к этим преступлениям.
Ночные поездки в Сестрорецк и кутежи в «Астории» и на «Крыше» прекратились. Начали закрываться многие частные магазины и товарищества. Лихачи и владельцы машин с желтым кругом на борту, обозначавшим, что эта машина работает на прокате, простаивали без дела на стоянках – пассажиров почти не было.
«Линия фронта» была явно прорвана во многих направлениях.
Большое групповое дело фининспекторов и нэпманов, получавших и дававших взятки, поступило в мое производство. В этом многотомном деле были десятки эпизодов, тысячи всякого рода документов, много экспертиз. Работать приходилось очень напряженно, и областной прокурор, наблюдавший за следствием, торопил с его окончанием, так как дело привлекало большой общественный интерес.
Существует мнение, столь же распространенное, сколь и ошибочное, что по так называемым хозяйственным и должностным делам следователю редко приходится встречаться с человеческими драмами, психологическими конфликтами и большими чувствами. Это далеко не так. Конечно, по делам о преступлениях бытовых, вроде убийств на почве ревности, доведения до самоубийства, понуждения к сожительству и т. п., сама «фабула» дела выдвигает перед следователем прежде всего вопросы психологические, связанные с любовью, ревностью, местью, коварством, обманом, насилием над чужой волей и прочим. По таким делам невозможно закончить следствие, не выяснив до конца всей суммы этих вопросов, имеющих. первостепенное значение хотя бы потому, что они освещают мотивы совершенного преступления, причины и обстоятельства возникновения преступного умысла и подготовку к его осуществлению.
Конечно, в деле о даче и получении взятки эти вопросы иногда вообще не всплывают, и следствие, прежде всего выяснив самый факт взяточничества, должно ответить на вопрос, за что была дана и получена взятка. Как и в каждом уголовном деле, здесь нельзя ограничиваться признанием обвиняемых, давших и получивших взятку, ибо ставка на признание обвиняемых – как «царицу всех доказательств» – всегда свидетельствует либо о юридической и психологической тупости следователя, либо о его нежелании или неумении справиться со своими обязанностями. В деле фининспекторов и нэпманов почти все обвиняемые признались. Но это признание надо было объективно проверить и подтвердить документами, фактами, точно установленными цифрами, поскольку речь шла о незаконном снижении налогов.
Поэтому буквально по каждому из многочисленных эпизодов дела я считал своим долгом точно установить факт и размеры незаконного снижения налога, как результата данной и полученной взятки.
С другой стороны, меня не меньше занимал вопрос, имевший, как я был убежден, и социально-психологическое значение: как могло случиться, что значительная группа людей, в том числе и коммунистов, поставленных на ответственные участки нашего финансового фронта, встала по существу на путь измены, оказавшись в одних случаях перебежчиками, в других – лазутчиками врага?
Я старался найти ответ на этот вопрос в биографии, характере, условиях жизни каждого из фининспекторов, привлеченных по этому делу. Постепенно выяснилась и эта сторона дела, и вскрылись разные причины, мотивы и обстоятельства – пьянство и моральная неустойчивость, неизбежное сползание на дно на почве бесхарактерности и беспринципности, жадность и стремление к. легкой жизни, очень последовательное и тонкое обволакивание со стороны нэпманов. Один становился взяточником потому, что никогда не имел за душой ни искренних убеждений, ни твердых взглядов, ни веры в дело, которому должен был служить. Другой начал пьянствовать и постепенно, незаметно для самого себя, стал алкоголиком и пропил и свою честь и свою судьбу. Третий, будучи раньше человеком честным, подпал под влияние дурной среды и, начав с мелких подношений и одолжений, которые он принимал от нэпманов, сумевших к нему подойти, потом уже стал матерым взяточником, махнувшим на все рукой по известной формуле «пропади все пропадом». Четвертый, подпав под влияние жены – цепкой и жадной бабенки, неустанно укоряющей за то, что «все люди как люди живут, а я одна, несчастная, мучаюсь – даже котиковой шубки себе справить не могу», – принимал в конце концов эту котиковую шубку от налогоплательщика и уже оказывался у черта в лапах.
Мне запомнился любопытный эпизод по этому делу, когда нэпман Гире, человек очень ловкий и вкрадчивый, сумев всучить котиковую шубку фининспектору Платонову, без ума влюбленному в свою молоденькую, хорошенькую и очень требовательную жену, – потом стал из этого Платонова веревки вить до такой степени, что начал от его имени получать взятки у нэпманов и, присваивая львиную долю себе, заставлял Платонова делать все, что он требовал. Платонов – молодой белокурый голубоглазый человек с добродушным лицом и полногубым, мягко очерченным ртом чувственного и бесхарактерного человека, пытался пару раз взбунтоваться, но Гире, уже считая себя полновластным хозяином этого человека, только выразительно поднимал брови и произносил своим скрипучим голосом неизменную фразу: «Вы, кажется, милейший, начинаете забывать, чем мне обязаны».
Это произносилось в таком открыто угрожающем тоне и сопровождалось таким злым и холодным взглядом, что Платонов начинал что-то лепетать и извиняться, проклиная в глубине души и этого дьявола, и свою хорошенькую жену, и ту страшную котиковую шубку, которая превратила его в раба…
Я хорошо помню, что тогда, как и в последующие годы своей следственной работы, сталкиваясь со многими фактами подчинения слабохарактерных, малоустойчивых, хотя в прошлом и неплохих людей чужой злой и преступной воле, я всегда жалел этих несчастных, хотя они и заслуживали презрения за свою тупую, какую-то скотскую, недостойную человека безропотность, превращавшую их в белых рабов. Безволие – сестра преступления, и как часто мне приходилось наблюдать это зловещее родство!..
Западня
Но именно по этому делу мне довелось столкнуться с одним особенно разительным фактом, когда любовь и безволие превратили честного до того человека в серьезного и опасного преступника, а его до того безупречная жизнь была в результате искалечена. Таким человеком оказался Сергей Степанович Тер-Аванесов.
В Ленинградском облфинотделе Тер-Аванесов работал чуть ли не с первых дней революции. Экономист по образованию, он был бесспорно очень крупным финансистом и отличным работником. Он не состоял в партии, но, как принято было тогда выражаться, «вполне стоял на платформе советской власти».
Он был уже немолод и одинок. Как-то так сложилась его жизнь, что сначала наука, а затем сутолока повседневной и напряженной работы поглощали его с головой, и в день своего пятидесятилетия Сергей Степанович обнаружил, что жизнь-то уже почти прожита, а у него нет и никогда не было семьи, детей, даже серьезных увлечений.
– В тот день. Лев Романович, – рассказывал мне Тер-Аванесов, – я, знаете ли, подошел к зеркалу и очень внимательно, как бы со стороны, на себя поглядел… Мне не понравился этот пожилой маленький толстый человек с большой лысиной и отечным лицом, который уныло смотрел на меня из зеркала и как бы говорил: «Э, брат, видишь, до чего ты меня довел? Старик, совсем старик, а на старости и вспомнить нечего! Финансовая крыса!.. Что ты видел, осел, кроме своих параграфов и статей бюджета, начислений и пени?.. Был ли у тебя хоть один настоящий роман с настоящей женщиной, с сердцебиением, бессонницей, ревностью, прогулками в белые ночи по набережной Невы, горечью от ее равнодушия и счастьем от ее первого «да»?.. В общем, это был скверный день с весьма печальным подведением весьма печальных итогов…
Тер-Аванесов вздохнул, закурил папиросу и задумался. За распахнутыми окнами моего кабинета, выходящими на Фонтанку, шумел солнечный майский день. Вдали зеленела пышная листва Летнего сада, оттуда доносились веселые крики играющих детей.
– А в общем, Лев Романович, – внезапно сказал Тер-Аванесов, – все это не имеет решительно никакого отношения к моему делу. Я признал себя виновным в том, что получал взятки от Кюна и Крафта и за это снизил им налог. А все прочее – изящная словесность и повод для размышлений в тюремной камере…
– Но до этого вы получали когда-нибудь взятки?
– Честное слово – нет!.. До осени тысяча девятьсот двадцать седьмого года мне не за что краснеть!.. Даю вам честное слово!..
Это вырвалось у него так горячо и искренне, что я сразу ему поверил. Да и в деле не было ни малейших, даже косвенных, указаний на то, что Тер-Аванесов за многие годы своей работы в финотделе совершил хотя бы один проступок. Напротив, его отношение к своим служебным обязанностям было безупречным, и это признавали все.
Что же могло столкнуть этого образованного, в прошлом честного и вполне зрелого человека с пути, по которому он твердо шел вот уже столько лет?
Однако ответ на этот вопрос мог дать только он один, а он явно не хотел этого делать. Несколько раз после окончания допроса я пытался завести разговор на эту тему, объяснял Тер-Аванесову, что интересуюсь этим «не для протокола», но он только грустно усмехался и тактично, но решительно уклонялся от ответа.
Между тем следствие по этому делу подходило к концу. Женам обвиняемых были разрешены еженедельные свидания с мужьями, и каждый четверг ко мне приходили эти женщины за ордерами на свидание. В частности, являлась и жена Тер-Аванесова, на которой он женился за два года до своего ареста, – очень красивая молодая женщина с большими зелеными глазами, пикантно вздернутым носиком и пухлым, капризным ртом.
Она, как и все жены обвиняемых, держалась очень скромно, справлялась о здоровье мужа, получала ордер и, кивнув головкой, удалялась. Я заметил, что всякий раз она приходила в сопровождении молодого, элегантного блондина, примерно одного с нею возраста, который всегда ожидал ее в коридоре, а потом уходил вместе с нею. Раза два я случайно увидел в окне, как они шли по набережной Фонтанки под руку; она смеялась, а он что-то ей весело рассказывал. Потом я заметил, что, приходя за ордером на свидание, Тер-Аванесова обычно приносила с собою обшитый полотном, в виде почтовой посылки, сверток с продуктами, который она передавала мужу через администрацию тюрьмы. Я обратил внимание на то, что надпись на свертках всегда отлично выписана синей краской – уверенными, твердыми, профессиональными штрихами.
– Кто это вам так лихо рисует надписи на передачах? – спросил я ее однажды, когда она вошла в мой кабинет, держа такой сверток в руках.
– Это один наш друг – ответила она, чуть покраснев.
– Тот самый, который вас обычно сопровождает? – спросил я.
– Да, – не очень охотно ответила она.
Я не стал больше ее расспрашивать, тем более что этот вопрос не имел прямого отношения к делу, но про себя подумал, что Тер-Аванесов расплачивается за то, что женился на женщине, которая лет на двадцать пять моложе его. В данном случае эта ситуация, весьма опасная уже сама по себе осложнялась и тем, что муж этой женщины находился в тюрьме и она знала, что минимум на который он может рассчитывать, – это десять лет лагеря, а в худшем случае ему угрожает расстрел, так как в те годы статья 114-я, часть вторая, ему предъявленная, предусматривала такую карательную санкцию.
Мне, как и всякому следователю, увы, приходилось не раз убеждаться в том, что жены обвиняемых редко остаются верны своим мужьям. Иногда еще в стадии следствия по делу эти молодые женщины уже начинали озабоченно подыскивать «запасный аэродром», как однажды цинично и прямо сказала мне одна из них.
Жена того самого Платонова, который погиб из-за котиковой шубки для нее, – статная, полногрудая, ленивая шатенка, всегда надушенная, модно причесанная и кокетливая, – несколько раз вообще не являлась за ордерами на свидание, и когда я, получив от него отчаянное заявление, вызвал ее и спросил, почему она вот уже два раза пропустила свидания и не отнесла мужу передачи, – посмотрела на меня ясными большими и очень красивыми Серыми глазами и спокойно произнесла:
– Неужели он не понимает, что мне надо позаботиться о себе? Не могу же я остаться женой арестанта и плакать у разбитого корыта!.. Я уже не девочка, мне двадцать восемь лет, а хорошо выйти замуж не так просто… Еще счастье, что у меня нет детей, а то с ребенком и вовсе не устроишься…
– А вы не считаете, что у вас есть обязанности в отношении мужа, который, кстати, сел в тюрьму не без вашей вины, гражданка Платонова? – не выдержав, спросил я.
– Насчет моей вины вы бросьте, – ответила она. – Просто он тюфяк и не сумел умно себя вести. А что касается обязанностей, то всему есть предел. Я отдала ему все – молодость, красоту, первое чувство… И он обязан был создать мне красивую жизнь… Не сумел – тем хуже для него…
Я лишний раз понял, что имею дело с вполне законченной «философией» определенной категории женщин, считающих, что выйти замуж – это значит «устроиться», что мужья обязаны «создать им красивую жизнь» в виде своеобразного эквивалента за «молодость, красоту и первое чувство». Я до сих пор не могу понять, почему этим дамам не приходит в голову простой вопрос: что ведь и мужья отдавали им свою молодость, а нередко и свое первое чувство, и почему, следовательно, «котируются» только «вложения» одной стороны?.. В самом деле, почему?
Правда, справедливость требует отметить, что хотя и редко, но еще встречались в свое время и мужчины-сутенеры, набрасывавшиеся на молодых красивых женщин, мужья которых были арестованы, как волки на овец. Видимо, считая, что жена арестованного, оказавшись в очень трудном положении, будет сговорчивей, такие негодяи начинали окружать ее тем особым профессионально-сутенерским «вниманием», которое всегда важно женщине, а тем более в таком положении, – и в конце концов добивались своего. А если эта женщина имела какой-то самостоятельный заработок или сбережения, оставшиеся от мужа, то присосавшийся к ней подлец старался извлечь из связи с нею не только любовные утехи.
Одним из таких «жоржиков» был и друг Тер-Аванесовой, тот самый светлоглазый элегантный блондин, который приходил с нею за ордерами на свидания. Я давно обратил на него внимание, но роль, которую он сыграл в жизни этой семьи, стала мне ясна только в день объявления Тер-Аванесову об окончании следствия. После подписания протокола о том, что с материалами дела он ознакомился и дополнить следствие ничем не может, Тер-Аванесов вдруг мне сказал:
– Несколько раз, Лев Романович, вы спрашивали меня насчет причин, по которым я, вопреки всей своей биографии, взглядам, убеждениям, стал взяточником. Под разными предлогами я уклонялся от ответа. Но вот сегодня мы с вами видимся в последний раз, впереди – суд, приговор, и возможно, что он закончится одним словом – расстрелять. Мне хочется на прощанье сказать вам спасибо за человеческое отношение. Поверьте, что в моем положении оно особенно дорого. Я хочу, кроме того, объяснить вам, почему Тер-Аванесов стал преступником. Можно?
– Конечно. Я давно хотел это понять.
– Ну, так слушайте… Я решил вам все рассказать именно теперь, когда следствие закончено и когда все, что я расскажу, не будет отображено в протоколах дела, потому что это уже не для протокола…
– Через полгода, после того как мне стукнуло пятьдесят лет, – помните, я вам об этом как-то начал рассказывать, – мне пришлось однажды поздно задержаться на работе, так как нужно было продиктовать срочный доклад в Москву. Это было в самом конце мая, когда у нас в Ленинграде начинаются белые ночи.
Должен заметить, что я никогда не разделял поэтических восторгов по поводу ленинградских белых ночей. Это беспринципное, я бы сказал, смешение дня и ночи, призрачная мгла, окутывающая ночной город и в сущности мешающая людям спать, это бледное, больное солнце, медленно встающее в бледном рассвете, – все это, знаете ли, решительно мне не нравилось и очень мешало работать. Вероятно, когда-нибудь наука выяснит, что в этих белых ночах есть нечто болезненное и тлетворное; и характерно, что именно в белую ночь началась и моя беда.
Словом, мне надо было срочно диктовать доклад, и так как машинистки моего управления уже ушли, то я вызвал машинистку из дежурной комнаты. Через несколько минут ко мне вошла очень хорошенькая, совсем молодая девушка. За нею вахтер внес ее машинку, и я начал диктовать…
Тут Тер-Аванесов прервал свой рассказ и стал раскуривать папиросу. Он зажигал спичку за спичкой, но пальцы его дрожали, и огонек угасал до того, как он успевал прикурить. Было заметно, что он очень взволнован, но не хочет, чтобы я это понял. Поэтому я не стал помогать ему прикурить и сидел с таким видом, как будто его неудачи с гаснущими спичками вполне естественны и обычны.
– Сырые спички, Сергей Степанович, – сказал я ему, наконец. – Позвольте предложить свою…
Я зажег спичку. Он прикурил, сделал несколько затяжек, а потом, резко повернувшись ко мне, сказал:
– Короче, через два месяца я женился на этой девушке. И был счастлив. Но я был очень занят на работе, приходил домой очень поздно, и жене, естественно, было скучно. В этом смысле доля жены ответственного работника – незавидная доля… Признаться, я до сих пор не понимаю, кто и зачем выдумал эти ночные бдения, бесконечные совещания, поздние вызовы к начальству… Но дело не в этом.
Галя начала тосковать. А я, приходя домой поздно, усталым, едва успевал поесть и заваливался спать. Однажды, после большого разговора с женой – прямо сказавшей, что ей томительна такая жизнь, я преддожил ей завести знакомства, бывать в театрах без меня, другого выхода не было… Словом, однажды жена меня познакомила с одним молодым человеком, с которым она встретилась у одной подруги. Он оказался художником видимо не очень способным, так как работал он в Лен-рекламе, сам рисовал мало, а больше принимал заказы на рекламу и вел расчеты с заказчиками и художниками.
Впрочем, судя по всему, он был вполне доволен своей судьбой… Он стал бывать у нас ежедневно. Я приходил с работы и обычно заставал Георгия Михайловича – так его зовут – неизменно корректного, очень обязательного, чуть, к сожалению, приторного, с этакими прозрачными, с поволокой, светлыми глазами и чуть вытянутым вперед, как бы принюхивающимся носом…
Сказать по совести, мне был очень противен этот фатоватый пошляк, с его манерой говорить в напыщенном стиле, с его парикмахерским шиком, гнилыми зубами дегенерата, подобострастными ужимками и ложным пафосом, с которым он любил распространяться о «святом искусстве», которому будто бы служит… Я догадывался, что это тип с сутенерскими замашками, но не говорил об этом жене, по многим причинам не говорил… Но я не допускал, что она может мне изменить, не допускал!..
Было уже совсем поздно, когда Тер-Аванесов закончил свой рассказ. Признаться, он поразил меня. Но я еще не знал, что рассказанная обвиняемым история потрясающей человеческой подлости приведет в дальнейшем к западне хитроумно устроенной нэпманами для Тер-Аванесова. Тем более не знал этого сам Тер-Аванесов. Он знал только то, что рассказал.
Через полгода, после того как жена Тер-Аванесова начала встречаться с Георгием Михайловичем, он пришел к ней в слезах и произнес трагический монолог, уверяя, что пришел «проститься навеки», так как проиграл во Владимирском клубе десять тысяч казенных денег, «не может перенести позора» и потому твердо решил покончить с собой…
Поздно вечером, когда Тер-Аванесов пришел с работы домой, он застал жену в слезах. Он долго приводил ее в чувство, и, наконец, она сказала, что любит Георгия Михайловича и не может перенести его несчастья. На Тер-Аванесова сразу свалились две беды: известие о том, что жена ему изменила, и ее угроза покончить с собой, если ее любимый не будет спасен.
– Теперь я понимаю, что в ту страшную ночь, – рассказывал мне Тер-Аванесов, – эта угроза самоубийства Гали ослабила даже мою реакцию на факт ее измены. Как это ни странно, мне, вероятно, было бы тяжелее, если б я тогда узнал только о том, что Галя мне изменила… И когда она решительно заявила, что покончит с собой, если я не спасу Георгия Михайловича, я понял, как бесконечно дорога мне эта женщина…
Тер-Аванесов встал, сделал несколько шагов по комнате и, вернувшись к столу, за которым я сидел, продолжал:
– Она была так убита горем, так рыдала, так умоляла меня спасти человека, которого искренне любит и без которого не сможет жить, что я обещал ей любыми путями достать эти деньги. Но где я мог их достать? Мои скромные сбережения растаяли после женитьбы с удивительной быстротой, потому что появились большие расходы, и я не хотел отказывать Гале ни в чем. На службе я мог получить максимум месячный оклад. Друзей, у которых я мог бы занять такую сумму, у меня не было… И вот на следующий день, когда я ломал себе голову, как найти эти проклятые деньги, ко мне явился с жалобой на обложение лакокрасочник Кюн, один из крупных ленинградских нэпманов. Этот дьявол сразу почему-то заметил, что я не в себе, он ведь, как и все нэпманы, знал меня много лет… Он очень сочувственно спросил, что со мною; я ответил, что устал, но он понимал, что со мной происходит что-то необычное.
И вдруг впервые в жизни мне пришла в голову эта страшная мысль: вот передо мною сидит человек, который сразу, без особых просьб и с полным удовольствием немедленно даст мне десять тысяч, и никто на свете, кроме нас двоих, не будет этого знать, ибо он так же заинтересован в тайне, как и я. А этот проклятый немец – этот Кюн из остзейских немцев – все не уходил, не уходил, видимо почуяв, что со мною стряслась беда, на которой можно заработать.
Лев Романович, вы моложе меня в два раза, но вы – старший следователь, вы каждый день допрашиваете преступников, объясните мне: как, откуда, каким образом это ворон узнает, что ты – падаль? Да, падаль, потому что в этот день я действительно стал падалью!.. По каким неуловимым, мельчайшим признакам все эти Кюны и Крафты, Симановы и Сальманы вдруг начинают чуять, что «Тер, который не берет» – так они прежде обо мне говорили, – вдруг «может взять»? Мне не пришлось просить денег у Кюна – в тот день он сам их мне предложил, и я, сгорая от стыда, позора, грязи, продался ему, как девка с Невского!..
Когда, уже поздним вечером, я пришел к жене и протянул ей деньги, она плакала от счастья, без конца обнимала меня, говорила, что никогда этого не забудет. И тут же, боясь, что ее Жорж не выдержит, оделась и отвезла ему деньги… Честное слово, это была самая страшная ночь в моей жизни, страшнее, чем первая ночь в тюрьме!
Конечно, я давал себе клятву любыми путями – экономией, сверхурочной работой, продажей личных вещей – рассчитаться с этим Кюном, но налог ему все-таки пришлось снизить…
И вот ровно через месяц я снова застал жену в полубезумном состоянии. Георгий Михайлович, оказывается, решил отыграться и проиграл во Владимирском клубе уже не десять, а пятнадцать тысяч… Опять он заявил Гале, что покончит с собой, опять она его умоляла, опять она кричала мне, что если я не достану денег и Жорж погибнет, то она бросится в Неву, и я… снова обещал.
Я сам позвонил Кюну. Он сразу приехал, и я пролепетал, что очень прошу одолжить мне еще пятнадцать тысяч. Он удивленно на меня посмотрел и сказал, что «считает себя со мной вполне в расчете», но, из уважения ко мне, готов помочь.
Я обрадовался, но выяснилось, что помочь он мне хочет по-своему: он посоветует своему другу, шоколаднику Крафту, дать мне эту сумму. И через час он привез ко мне Крафта и перепродал меня тому, как барана… И опять меня целовала жена и клялась, что никогда этого не забудет, и опять она помчалась к своему ненаглядному Жоржу с этими деньгами и вернулась только утром – успокоенная, счастливая, радостная…
Тер-Аванесов замолчал и стал раскуривать папиросу. Уже зажглись фонари на Фонтанке, с реки доносились смех и восклицания молодежи, катавшейся на лодках, где-то в районе Марсова поля играл военный духовой оркестр.
Потом я вызвал конвой и отправил Тер-Аванесова в тюрьму.
Прощаясь, он тихо сказал:
– Моя последняя просьба: не давать жене разрешений па передачи. Каждый раз, принимая посылку с этой «художественной» надписью, я схожу с ума!.. Неужели этот подлец не понимает, что мне это противно, нестерпимо, страшно видеть?.. Вот и все, о чем я хочу вас просить.
После того, что я узнал от Тер-Аванесова, мне особенно захотелось разыскать скрывшегося Кюна. Мне было известно, что Кюн имел две семьи – старую жену, с которой он не хотел расставаться, и вторую жену – точнее, содержанку – молодую, красивую брюнетку, которую звали Мария Федоровна. Было установлено, что эта одинокая молодая женщина занимает отдельную роскошную квартиру на Дворцовой набережной, в одном из аристократических особняков, что в средствах она не нуждается и, несмотря на внезапное исчезновение Кюна, продолжает жить широко, ни в чем себе не отказывая. С другой стороны, по имевшимся данным, Мария Федоровна не устраивается на работу и, по-видимому, поддерживает связь с Кюном.
Я вызвал ее на допрос, но она очень твердо и спокойно заявила, что «совершенно не представляет», где находится Кюн, никаких вестей от него не получает и вообще ничем в этом смысле помочь следствию не может.
Это была смуглая, темноглазая, очень элегантная женщина, с большой выдержкой и тактом. И было ясно, что она ничего не скажет. В разговоре случайно выяснилось, что Мария Федоровна дружит с женою одного из обвиняемых по этому делу, тоже молодой женщиной, гораздо менее интересной, чем Мария Федоровна.
Хотя я был еще молодым следователем, но уже знал, что если дружат две женщины такого пошиба и если одна из них менее интересна, то в глубине души она ненавидит свою подругу и жгуче завидует ей. Я вспомнил любопытный эпизод, имевший место в самом начале моей следственной работы еще до перевода в Ленинград. Мне пришлось как-то допрашивать в качестве свидетельницы по бытовому делу одну пожилую даму, которая в течение многих лет содержала ателье шляп в Столешниковом переулке.
По обстоятельствам этого дела возник вопрос о дружбе двух ее знакомых женщин. Свидетельница, уже ответившая на ряд моих вопросов, когда я спросил ее, насколько дружна такая-то с такой-то, язвительно усмехнулась, посмотрела на меня с удивлением и, лихо затянувшись папиросой, процедила:
– Товарищ следователь, я тридцать лет торгую шляпами. Не было случая, чтобы дама выбирала себе шляпу без подруги, и не было случая, чтобы подруга дала правильный совет… Вот все, что я могу вам сказать о женской дружбе…
Увы, эта своеобразная притча старой шляпницы не раз приходила мне на память, когда по тому или иному делу я вновь сталкивался с так называемой женской дружбой. Правда, справедливость требует отметить, что я, как криминалист, конечно, главным образом сталкивался с дамами определенного круга и воспитания, а следовательно – и с вполне определенной психологией.
Но ведь и Мария Федоровна и ее приятельница принадлежали именно к этому кругу. Вот почему, когда подруга Марии Федоровны пришла в очередной четверг за ордером на свидание, я между прочим завел с нею разговор о Марии Федоровне. Она бросила на меня быстрый взгляд, тень сомнения мелькнула в ее глазах, и, перейдя почему-то на шепот, произнесла:
– Ах, да что Машке! Катается как сыр в масле!.. До того обнаглела, что и Кюна своего вытребовала… Сама мне сегодня сказала: «У меня теперь вроде медовый месяц…»
Через полчаса, выписав постановление на производство обыска, я подъехал к особняку, где жила Мария Федоровна. Меня сопровождали комендант облсуда и его помощник. Мы долго звонили у парадного подъезда, предварительно выяснив, что в этой квартире нет черной лестницы. Наконец, за массивной дверью послышались легкие шаги, и молоденькая горничная в кокетливом фартучке и наколке открыла дверь. На мой вопрос, дома ли Мария Федоровна, она ответила утвердительно. И в самом деле, в переднюю вышла и хозяйка в домашнем халатике. Я предъявил ей постановление на производство обыска и пояснил, что «обыск производится на предмет обнаружения Николая Артуровича Кюна, скрывающегося от следствия и суда». Она выслушала эту формулу очень спокойно, улыбнулась и сказала:
– Ах, пожалуйста, квартира к вашим услугам! Но только все это зря! Кюна у меня нет, где он – я не знаю. Напрасно, товарищ следователь, вы так недоверчивы к женщинам…
В этой квартире было семь комнат, великолепно обставленных дорогой стильной мебелью. В отличие от обычных нэпманских квартир того времени, меблированных дорого, но безвкусно, квартира Марии Федоровны отличалась строгим стилем, все вещи были подобраны тщательно и со вкусом. Начав с передней, я и мои помощники постепенно обследовали комнату за комнатой. Никаких признаков Кюна не было, и я, признаться, уже начинал думать, что приятельница Марии Федоровны солгала. Наконец, в спальне – это была последняя комната по ходу обыска – я обратил внимание на то, что роскошная, отделанная бронзой широкая низкая кровать карельской березы почему-то открыта, смяты две подушки, а на ночной тумбочке справа невозмутимо тикают мужские карманные часы.
Я взглянул на руку Марии Федоровны – ее часики были при ней. В пепельнице, стоявшей на той же тумбочке, лежало несколько окурков с характерным, чисто мужским прикусом мундштуков.
Перехватив мой взгляд, направленный на эти окурки, Мария Федоровна немедленно достала из коробки модных тогда папирос «Сафо» папиросу и начала курить. Я решил ответить на эту молчаливую демонстрацию и, выждав, пока Мария Федоровна докурила свою папиросу, попросил ее окурок. Она удивленно протянула его мне. Конечно, никакого прикуса на мундштуке папиросы не было. Я показал ей этот мундштук и тут же взял из пепельницы окурок папиросы, которую курил мужчина.
– Как видите, Мария Федоровна, – сказал я, – вот эти папиросы курили не вы, а Николай Артурович Кюн. Кроме того, вот эти мужские часы тоже, я полагаю, принадлежат ему, ибо они не в стиле этой изящной спальни. И, наконец, судя по окуркам, которые еще не засохли, он курил здесь не более часа тому назад… Я спрашиваю поэтому, где Кюн?
– Я могу только повторить, – ответила женщина с плохо скрываемым раздражением, – что не знаю, где находится Николай Артурович, давно его не видела, и ваши подозрения напрасны. Что же касается каких-то прикусов на окурках, то я давно не читала Конан-Дойля и не могу судить о вашем дедуктивном методе… Кажется, он называется так?
И она язвительно улыбнулась. Тогда я стал продолжать обыск. Из платяного шкафа был извлечен костюм Кюна, в карманчике которого оказалась плацкарта к железнодорожному билету на скорый поезд Москва – Ленинград. Из проколотой железнодорожным компостером даты было видно, что Кюн приехал в Ленинград два дня назад. Я предъявил плацкарту Марии Федоровне и спросил: считает ли она, что и эта плацкарта тоже относится к дедуктивному методу?
– Этот костюм, как и эта плацкарта, не имеет никакого отношения к Кюну. Они принадлежат другому мужчине, моему другу, но я не обязана его называть, поскольку речь идет об интимной жизни женщины. А теперь думайте что хотите!..
Обыск продолжался, но, кроме мужского летнего плаща, шляпы и ботинок, ничего обнаружено не было, а об этих вещах Мария Федоровна тоже сказала, что они принадлежат ее таинственному другу.
Наконец, уже в кухне, я обратил внимание на то, что большой белый кухонный шкаф закрывает одну стену, и попросил Марию Федоровну сказать, что находится за этим шкафом.
– Обыкновенная стена, – произнесла она и как-то странно взглянула на дворника, присутствовавшего в качестве понятого при обыске. Дворник, уже пожилой грузный человек в белом фартуке, отошел в сторону, сделав вид, что ничего не слышал, Я предложил моим помощникам отодвинуть шкаф, и за ним оказалась дверь, ведущая в большую темную кладовую. Мария Федоровна начала нервно покусывать губы. Я вошел в кладовую, тесно заставленную какими-то старыми креслами, сломанными стульями, шкафами. В кладовой никого не было. Но когда я подошел к одному из шкафов, то явственно услышал тяжелое дыхание. Я постучал в дверцу шкафа и сказал:
– Николай Артурович, милости просим!..
– Сейчас, – ответил басом спрятавшийся в шкафу человек и сразу вышел. Это был высокий, полный, очень румяный мужчина с козлиной бородкой и блестящей лысиной. Это был Кюн.
– Ну вот, – обратился он к Марии Федоровне, – все говорила: «Приезжай – поцелую, приезжай – поцелую», – вот и поцеловала…
Так вы, значит, и есть тот самый старший следователь, который меня ищет? – уже с любопытством, но не теряя спокойствия, поглядел он на меня. – Ах, какой молодой!.. Завидую, ей-богу завидую!.. Да, влип я аки кур во щи, как гласит русская поговорка… Но есть еще арабская поговорка, тоже вполне подходящая к данному случаю: «Выслушай совет женщины и поступи наоборот».
Увы, я не посчитался с арабами – и потому наказан. Не посчитался я также с мудрым Янаки, который отговаривал меня ехать в Ленинград. Этот старый плут как в воду глядел. Он так и сказал: «Николай Артурович, почему вас так тянет на место преступления? На этом погорела масса народу…»
– Значит, Янаки в Москве? – спросил я.
– Третьего дня был там. А где сегодня, не знаю… Ну, уж этого вы не поймаете, даю голову на отсечение!..
И Кюн начал одеваться. Прощаясь с Марией Федоровной, смущенно прильнувшей к нему, он сказал, улыбаясь:
– Ну, ну, Машет, майн либлинг, не надо огорчаться. Ты же все-таки действительно меня поцеловала, и ради одного этого стоило рискнуть. Потом – мне грозит максимум пять лет. Я же только давал взятки, а вовсе не получал их… Ауф видер зеен!
Кюн оказался человеком умным, отлично понимающим свое положение и не лишенным юмора. Как только я привез его в свой кабинет, он сразу, очень точно и подробно, рассказал об обстоятельствах, при которых дал взятку Тер-Аванесову, а затем свел последнего с Крафтом.
– Таким образом, неприступный Тер обошелся мне лично в тринадцать тысяч. К сожалению, мне тогда не пришло в голову, что это роковое число…
– Позвольте, почему тринадцать, Кюн? – спросил я его.
– Десять тысяч Теру и три тысячи посреднику, или, вернее, наводчику, не знаю, как его точно назвать…
– Вы имеете в виду любовника жены Тер-Аванесова? – сразу догадавшись, о чем идет речь, спросил я.
– Ну да, Жоржика, – ответил Кюн. – Я вижу, что вы не теряли время в ожидании меня. Он запросил пять тысяч, но мы сошлись на трех…
И Кюн подробно рассказал о том, как, отчаявшись «подобрать ключи» к Тер-Аванесову, он случайно узнал о том, что жена Тер-Аванесова завела себе любовника.
– Шерше ля фамм, говорят французы. Я понял, что, имею шанс подобрать ключик. Через неделю мне удалось познакомиться с этим котиком, и я понял, что имею дело не с Ромео, и не с Гамлетом, а с довольно обыкновенным прохвостом и сутенером, готовым на все. Мы провели вдвоем вечер и разработали весь сценарий: крупный проигрыш казенных денег, перспектива самоубийства и прочее.
Я не сомневался, что жена Тер-Аванесова при такой ситуации вытряхнет из мужа все его принципы. И в тот же день я пошел к Тер-Аванесову на прием. Вы знаете, глядя на его страшный вид, гражданин следователь, мне даже стало жалко, что я все это придумал… Но что поделаешь! Се ля ви, как говорят опять-таки французы, – такова жизнь!..
Я подробно записал показания Кюна и, признаться, был страшно доволен тем, что получил все законные основания для ареста подлеца и сутенера, сыгравшего такую зловещую роль в жизни Тер-Аванесова. В тот же вечер этот «Жоржик» – Георгий Михайлович Мейлон – был арестован. Как и все люди такого типа, этот подонок был очень труслив, дрожал на допросе, как в лихорадке, плакал и лгал, лгал и плакал и в конце концов признался во всем. Выяснилось, что двадцать пять тысяч рублей, полученных им в два приема от своей любовницы, он очень аккуратно положил на свой счет в сберкассу, потому что при всех своих прочих прелестях был еще феноменально жаден и скуп.
Его слащавая, подобострастная, какая-то конфетная физиономия, вкрадчивый голос, подхалимские ужимки и заверения, манера выражаться в высоком, как ему казалось, стиле, подбритые брови и подчеркнуто модный костюм вызывали чувство почти физического отвращения, и было трудно понять, как могла жена Тер-Аванесова поверить этому профессиональному сутенеру и бросить ему под ноги и свое чувство, и свою честь, и судьбу своего несчастного мужа…
Но я был доволен не только потому, что этот подлец понесет заслуженную кару, но и потому, что привлечение его к ответственности по этому делу правильно осветит и роль Тер-Аванесова и роль Кюна.
Вот почему я с большим удовольствием отправлял Мейлона в тюрьму. Мне приходилось встречать людей, совершивших более серьезные преступления. Но еще никогда до этого я не встречал более отвратительных субъектов. Я знал убийц, в которых, при всей тяжести их преступления, все-таки угадывались какие-то человеческие черты. Они должны были понести наказание за свои преступления, в которых я, в силу своего служебного долга, их изобличал, но они не вызывали того жгучего презрения и чувства отвращения, которые вызывал этот смазливый фатоватый тип, торгующий собою и способный на любую подлость. Мне приходилось встречать грабителей, которые, право, никогда не подали бы Мейлону руки, если б знали о нем то, что уже знал я. Конечно, шакал не тигр, но насколько же он противнее тигра!..
Тер-Аванесов и его роль в этом деле заслуживали презрения. Но при всем том он попал в западню, которую ему соорудили Кюн и Мейлон. И суд, естественно, учел это и сохранил Тер-Аванесову жизнь, осудив его на десять лет лишения свободы.
Словесный портрет
После того как был разыскан скрывавшийся Кюн, перед следствием оставалась последняя задача: обнаружить также скрывавшегося Христофора Янаки – крупного нэпмана, Этот проходимец, перед тем как скрыться из Ленинграда, предусмотрительно уничтожил все свои фотографии, и это, естественно, усложняло его розыск.[1]
Со слов Кюна я знал, что Янаки находится, или во всяком случае находился, в Москве, но скрывается там под чужой фамилией. Однако, под какой именно фамилией скрывается Янаки, Кюн не знал.
Все мои попытки выяснить этот вопрос успехом не увенчались. Между тем по делу было установлено, что Янаки был одним из крупных взяткодателей и нажил нечистыми путями большие средства.
Поэтому я был очень обрадован, когда неожиданно получил данные о том, что Янаки время от времени появляется в одной из дачных местностей под Ленинградом.
Обдумывая, как дальше организовать его розыск, я решил прибегнуть к так называемому «словесному портрету». Система словесного портрета была впервые разработана в 1885 году директором Института идентификации парижской полицейской префектуры, известным французским криминалистом Альфонсом Бертильоном. В дальнейшем эта система была доработана швейцарским криминалистом Рейсом, к которому, между прочим, в 1912 году царское министерство юстиции направило на стажировку группу русских судебных следователей и криминалистов.
Под понятием «словесный портрет» криминалисты имеют в виду точное описание внешности человека (тела, головы, лица) при помощи специальной терминологии. Конечно, каждый человек, пытаясь описать внешность человека, о котором идет речь, делает это путем словесного описания его портрета. Но термины из обыденной разговорной речи, которые при этом будут им применяться, вовсе не дадут точного и четкого представления о внешности человека, словесный портрет которого надо получить. Между тем для розыска преступника очень важно точное описание его наружности.
В словесном портрете профиль человеческого лица подразделяется на три части – лобную, от линии волос до переносицы, носовую – от переносицы до основания носа, и ротовую – от основания носа до конца подбородка.
Следователь, объявляя розыск или прибегая к опознанию преступника или трупа при помощи словесного портрета, должен точно пользоваться терминами, употребляемыми для этой цели. Каждый криминалист постепенно вырабатывает в себе и развивает способность отличать и запоминать в человеке элементы словесного портрета.
Для того чтобы разработать словесный портрет Янаки, мне пришлось подробно допросить целую группу свидетелей, у которых я выяснял все его мельчайшие приметы. В результате, затратив немало труда, я разработал его словесный портрет, из которого явствовало, что Янаки имеет средний рост, с полным телосложением, овальным лицом, низким и скошенным лбом, дугообразными сросшимися рыжеватыми бровями, длинным, с горбинкой, носом, с опущенным основанием, средним ртом с толстыми губами, отвисшей нижней губой и опущенными углами рта, что у него тупой раздвоенный подбородок, большие, слегка оттопыренные уши треугольной формы, чуть запухшие зеленоватые глаза и рыжие волосы.
Я так старательно разработал словесный портрет Янаки, что ясно представлял себе его внешность, хотя никогда еще лично мне не приходилось его видеть. Именно этот словесный портрет я и разослал в установленном порядке, рассчитывая, что в результате неуловимый Янаки будет в конце концов пойман. В субботу я поехал в Сестрорецк, рассчитывая провести там и воскресный день. В те годы по воскресеньям в Сестрорецк обычно приезжало много публики, и великолепный сестрорецкий пляж в теплые летние дни был сплошь усеян купальщиками.
На следующий день в самом разгаре купанья, лежа на пляже рядом с товарищами по работе – следователем Рагинским и инспектором ЛУРа Бодуновьгм, я обратил внимание на двух молодых людей, которые медленно шли по пляжу, внимательно разглядывая отдыхающих и, видимо, кого-то разыскивая. Бодунов, очень талантливый криминалист и наблюдательный человек, тоже обратил на них внимание и сказал:[2]
– По-моему, это ребята из транспортного отдела, и они кого-то ищут…
Через три минуты они подошли к нам, и один из них сказал:
– Товарищ Шейнин, мы приехали за вами. В отделении Детскосельского вокзала задержали по словесному портрету Янаки. Начальник просил вас приехать. У вас дома сказали, что вы в Сестрорецке, и мы приехали сюда…
Я страшно обрадовался, быстро оделся и помчался в Ленинград. На Детскосельском вокзале меня действительно поджидал начальник отделения, который с довольным видом заявил:
– Ну и дали вы нам жару!.. А хитрая штука этот словесный портрет, я впервые с ним столкнулся… И мои ребята тоже о нем раньше не слыхали… Ну я, конечно, с утра собрал своих орлов, прочел им ваш словесный портрет, и начали искать этого рыжего…
– А где же Янаки? – нетерпеливо спросил я.
– Да их там уже больше десятка, – весело ответил начальник и повел меня в дежурную комнату. – Уж один из них, как факт, – Янаки, а остальные, наверно, все его братья…
Я похолодел. Начальник отделения Детскосельского вокзала, увы, действовал явно вопреки Бертильону и Рейсу.
– Поймите, – воскликнул я, запинаясь от волнения, – поймите, что по словесному портрету может быть задержан только один человек, и человеком этим должен быть только Янаки…
– Не спорю, – весело ответил жизнерадостный начальник отделения, – один из них и есть Янаки. А остальные в обиде не будут: мы их всех очень вежливо задержали, и они не в камере, а в дежурной комнате. Кто чай пьет, кто в шашки играет, кто журнальчик читает… У нас культура…
Махнув на него рукой, я опрометью бросился в дежурную комнату. Она полыхала полымем от скопления темно-рыжих, светло-рыжих, огненно-рыжих мужчин, которые в испуге метались по комнате, не понимая, что с ними стряслось. Их страх возрастал с появлением каждого нового рыжего, которого доставляли «орлы» Детскосельского отделения. Помощник начальника отделения – молодой человек в роговых очках – по-видимому, очень заинтересовавшийся «словесным портретом», действительно вежливо встречал каждого нового рыжего, но тут же, на глазах остальных, начинал внимательно измерять и разглядывать его уши, нос, линии рта и другие элементы словесного портрета, делая при этом какие-то загадочные отметки в записной книжке и что-то про себя бормоча.
Все это приобретало в глазах рыжих почти мистический характер, тем более что помощник начальника в ответ на их вопросы туманно отвечал, что «тут все дело в словесном портрете Бертильона и Рейса, скоро приедет старший следователь и разберется, а до его приезда просил бы обождать».
Никто из рыжих никогда не слышал ни о Бертильоне, ни о Рейсе, ни о словесном портрете. Никто из них не пил чай, не играл в шашки и не читал журнал. Самый пожилой из задержанных – мясник с Сенного рынка, – больше всего на свете боявшийся фининспекторов и налогов, как потом выяснилось, шепотом сказал другим:
– Все ясно – введен специальный налог на рыжих… И всем нам крышка!
– При чем тут налог, идиот? – возразил ему другой рыжий. – Нам же ясно сказали, что ждут следователя, да еще не простого, а старшего… Кроме того, этот очкастый всем измеряет носы и уши… Или вы думаете, что на разные носы будут разные налоги?
– Вы оба дети, – заскрипел третий, в прошлом биржевой маклер, – скорее всего готовится кинопостановка, и нужны рыжие персонажи… А уши и носы они измеряют для проверки кондиции…
Судя по всему, я появился в разгар спора. Рыжие окружили меня толпой и внимательно выслушали мои извинения. Я объяснил, считая это своим долгом, что произошло большое недоразумение, что мы разыскиваем одного скрывшегося преступника, тоже рыжего, но сотрудники Детскосельского отделения, к сожалению, перестарались. Проверив задержанных и установив по документам и по словесному портрету, что Янаки среди них нет, я снова извинился и сказал рыжим, что они свободны. Они врассыпную бросились на перрон вокзала, который сразу стал напоминать знаменитую картину Левитана «Золотая осень». И только один из них задержался, сделал мне таинственный знак и, отойдя со мной в сторону, тихо сказал:
– Тут трое рыжих дураков придумывали разные небылицы, но я внимательно следил за тем, какие носы и уши интересуют этого помощника начальника отделения. И даю голову на отсечение, что именно такой нос и такие уши носит Янаки… Я его знаю. Но в Ленинграде Янаки теперь нет. Говорят, он в Москве. Между прочим, он очень любит оперетту. Вот все, чем я, как рыжий, считаю себя обязанным вам помочь. Будьте здоровы, товарищ старший следователь!..
И он удалился с видом человека, выполнившего свой гражданский долг.
Оставшись наедине с начальником отделения, я откровенно высказал ему все, что думаю о нем и о его «орлах». Смущенный начальник извинялся и что-то лепетал насчет того, что с завтрашнего дня начнет изучать криминалистику и займется «освоением словесного портрета». И действительно, через месяц он пришел ко мне и доложил наизусть историю словесного портрета, его терминологию, схему и методологию разработки. Он цитировал Бертильона и Рейса, Вейнгардта и Якимова, а в заключение сказал:
– Теперь стоит мне закрыть глаза, как я ясно вижу лицо этого проклятого Янаки, из-за которого так опозорился… Я уж не говорю о том, что огреб за этих рыжих строгий выговор от начальства. А Бертильон – что ни говори – башка!.. Здорово придумал этот словесный портрет!..
А на следующий день, после того как начальник отделения Детскосельского вокзала продемонстрировал свои успехи в освоении криминалистики, в областной суд на мое имя поступило письмо от самого… Янаки. Вот что он писал:
«Уважаемый старший следователь Шейнин!
Оказывается, вы жаждете меня видеть. Я не могу сказать это про себя, а любовь счастлива только тогда, когда она взаимна. Я очень смеялся, когда мне сказали, как вы меня ищете по какому-то дурацкому словесному портрету, придуманному каким-то профессором Рейсом. Наплевал я и на этого профессора и на его словесный портрет. Адью!..
Янаки».
Я разозлился не на шутку. Мало того, что жулик-нэпман скрывается от следствия и суда, но он еще при этом издевается над криминалистикой!..
Показав областному прокурору этот любопытный документ и обратив его внимание на то, что письмо отправлено из Москвы, я поставил вопрос о своем выезде в Москву. Я еще сам не знал, что буду предпринимать для розысков Янаки, но заранее рассчитывал на помощь своих старых друзей из МУРа. Областной прокурор, которого тоже разозлило это письмо, разрешил мне выехать.
Через день я уже сидел в МУРе в кабинете Осипова и рассказывал ему, Тыльнеру, Ножницкому и другим работникам обо всем, что произошло со словесным портретом Янаки. Потом я показал им его письмо. Осипов побагровел от возмущения.
– Ребята, – сказал он, обращаясь к своим помощникам, – неужели мы позволим, чтоб какой-то паршивый нэпман, взяточник и спекулянт, насмехался над криминалистикой и правосудием? Что будем делать, ребята?
– Как что делать? – спросил неизменно спокойный, корректный и уверенный Тыльнер. – Есть словесный его портрет – во-первых. Есть данные, что Янаки, как, впрочем, и все нэпманы, любит оперетку. Значит, надо пошуровать в «Аквариуме» и «Эрмитаже» – во-вторых. Наконец, Янаки – торговец мебелью. Значит, у него не может не быть приятелей среди московских мебельщиков. Надо поработать и здесь – в-третьих. Поскольку это дело приобретает уже принципиальный характер, я думаю, что наша группа, Николай Филиппович, независимо от общего розыска Янаки, должна принять участие в этом благородном деле – в-четвертых…
– Я такого же мнения, – как всегда тихо сказал Ножницкий, очень тактичный и добрый человек, страстный собачник и любитель книг. – Придется по вечерам бывать в оперетте… Будем по очереди… слушать «Сильву» и «Летучую мышь», ничего не поделаешь…
– Заметано, – коротко заключил Осипов и встал, давая этим понять, что совещание закончено. – Николай Леонтьевич, что сегодня в «Аквариуме»?
Ножницкий взял газету и, посмотрев объявления, сказал, что сегодня идет «Сильва» с участием Татьяны Бах, Бравина и Ярона.
В тот же вечер я и Осипов были в летнем саду «Аквариум», где шла «Сильва». Мы сидели в третьем ряду с правой стороны. Несколькими рядами позади сидели работники Осипова: Яша Саксаганский – худощавый молодой грузин с черными усиками, считавшийся одним из лучших специалистов по словесному портрету, и Вани Безруков – всегда улыбающийся, веселый, с лукавыми серыми глазами, которые, как говорили в МУРе, хорошо видели не только то, что находится впереди него, но и то, что находится сзади.
Уже в первом антракте, когда мы с Осиповым медленно прохаживались среди тощих лип «Аквариума», к нам подошел Саксаганский и сказал:
– Значит, картина такая: сегодня «Сильву» смотрят двенадцать рыжих. У двух подходят уши, но не годятся носы. У трех как раз те носы, какие нам нужны, но совсем не те уши. С отвислой губой обстоит совсем плохо – отвисает губа только у одного рыжего, но и то не так, чтобы очень… Тем более что я «срисовывал» его в тот момент, когда он держал в зубах трубку, а при этом почти у всех губа отвисает…
Услыхав это сообщение, я вздрогнул и мгновенно вспомнил дежурную комнату Детскосельского вокзала. Но я напрасно волновался, потому что имел дело с Осиповым, что и не замедлило сказаться.
– Яша, – перебил Саксаганского Николай Филиппович, – ваш доклад напоминает мне невесту из «Женитьбы» Гоголя. Эта дура тоже мечтала о том, чтобы нос одного жениха соединить с губами другого. Меня не интересует произведенная вами инвентаризация носов, товарищ Саксаганский. Меня занимает только один нос, и то при условии, что он принадлежит именно Христофору Янаки. Я спрашиваю: этот нос сегодня в наличии или нет?
– Николай Филиппович, – ответил Саксаганский. – Ко второму антракту я внесу ясность в этот наболевший вопрос.
– Проверьте второй ряд слева, – сказал Осипов. – Мы сидим далеко оттуда, но мне показалось, что там есть одна фигура, которая… Одним словом, поинтересуйтесь, между прочим, и вторым рядом, Яша.
Нужно ли говорить о том, что во втором действии я не столько смотрел на сцену, сколько на левую сторону второго ряда, где действительно между отполированной, как бильярдный шар, лысиной – с одной стороны, и пышной затейливой дамской прической – с другой, и впрямь пламенела чья-то огненно-рыжая голова. Из-за дальности расстояния я не мог хорошо разглядеть уши, нос и рот этого человека. Но зато я видел, как исполнительный Яша Саксаганский дважды прошелся мимо второго ряда, придерживая рукою щеку, как человек, у которого внезапно разболелся зуб.
Во втором действии, когда Эдвин и Сильва, обнявшись, начали свой знаменитый дуэт, в котором, как известно, выясняется актуальный вопрос: «помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?» – таковое в действительности улыбнулось мне, потому что в этот момент в проходе, у которого мы сидели, неслышно появился Яша Саксаганский и, горячо дыша мне в ухо, прошептал:
– Сдается что в шестом ряду сидит Янаки… Правда, есть одно несоответствие с данными словесного портрета, но во всем прочем подходит… Если выяснится, что это не Янаки, – завтра подам рапорт об увольнении из МУРа… В антракте я вам покажу этого человека…
Я тут же передал Осипову слова Саксаганского. Ни на мгновение не меняясь в лице и продолжая покачивать головой в такт музыке с видом меломана, Осипов тихо ответил:
– Скорее всего Саксаганский горячится. А впрочем, все может быть… В антракте проверим…
В антракте Осипов взял меня под руку, и мы стали медленно кружить по ярко освещенным дорожкам сада среди нарядной, оживленной публики. Это была специфическая публика московского «Аквариума» тех лет. Мимо нас плыли пышные красавицы в летних манто с песцовыми и собольими накидками. На их матовых, густо напудренных лицах призывно мерцали подведенные глаза и пылали неистово накрашенные губы. Краснолицые бакалейщики и рыбники с Зацепы чинно вели под руки своих грудастых, круглолицых жен в шелковых цветастых персидских шалях, длинная бахрома которых со свистом подметала дорожки. Пожилые, солидные мануфактуристы с Никольской и Петровки поблескивали модными пенсне и золотыми зубами. Молодые пижоны в коротеньких узеньких брючках и кургузых, по тогдашней моде, клетчатых пиджачках стаями гонялись за манерными девицами, стриженными под мальчишек, с вызывающими челками на узеньких лобиках.
И вдруг яувидел жгучего брюнета, медленно шагавшего рядом с роскошной блондинкой в белом манто с голубым песцом, небрежно переброшенным через руку, лицо его показалось мне чем-то знакомым, хотя я мог дать голову на отсечение, что никогда раньше не встречал этого человека.
Я поглядел на крашеные волосы его дамы, отличавшиеся тем мертвым оттенком, который дает применение пергидроля, и вдруг понял, чем мне знакомо лицо этого жгучего брюнета: его мясистый горбатый нос, низкий скошенный лоб, густые сросшиеся брови, раздвоенный тупой подбородок, красные треугольные уши – все это были элементы словесного портрета Янаки!..
Заметив, что брюнет курит, я бросился к нему и попросил разрешения прикурить. Он медленно достал спички и зажег одну из них. Я посмотрел на его руки, и сердце у меня забилось – они поросли густым рыжим пухом и были усеяны веснушками. Тогда я поднял глаза на его лицо и увидел зеленоватые запухшие глаза и рыжие ресницы. Да, это был Янаки, но он был перекрашен!..
Отойдя от него, я увидел Яшу Саксаганского, стоявшего вблизи с самым рассеянным видом и таким выражением лица, как будто его вовсе не интересуют ни Янаки, ни летний сад «Аквариум», ни оперетта «Сильва», ни вопрос о том, будет ли он завтра подавать рапорт об увольнении.
Саксаганский подошел ко мне и тихо шепнул:
– Ну, я счастлив, что и вы заметили этого перекрашенного индюка. Или я ишак, или это Янаки!..
Милый, бедный Яша Саксаганский! Через несколько лет он умер от чахотки, и за его гробом, который вынесли из маленькой, скромной холостяцкой комнаты (зная, что у него туберкулез, Яша не считал себя вправе жениться), шли в искреннем горе его товарищи по работе, нежно любившие этого храброго, чистого, доброго и горячего человека, беззаветно служившего их общему и такому нелегкому делу и любившего его до последнего своего вздоха…
Еще раз поглядев на «черное издание» Янаки, я шепнул Осипову, что, по-моему, Саксаганский прав. Я обратил внимание и на то, что черные волосы Янаки имеют какой-то странный фиолетовый оттенок.
– Возможно, – с напускным равнодушием протянул Осипов и еще крепче взял меня под руку. – Очень возможно, что этот прохвост перекрасил волосы и потому так нахально держится. Но это еще надо проверить, потому что лавры начальника Детскосельского отделения мне ни к чему. Но если это действительно Янаки и если мы его «накололи» в первый же вечер, то я начинаю верить в загробную жизнь и в то, что старики Бертильон и Рейс сговорились на том свете помочь нам поймать Янаки, чтоб он не издевался над их словесным портретом.
После третьего звонка я и Осипов уже не сидели на своих местах, а стояли у стены, недалеко от шестого ряда, где находился этот подозрительный брюнет. Перед этим Осипов сходил за кулисы и, вернувшись оттуда с очень довольным лицом, таинственно прошептал, что сейчас будет произведен «забавный психологический эксперимент».
Оказалось, что мой хитроумный приятель решил произвести эту проверку при помощи той же оперетты «Сильва», как это ни покажется странным на первый взгляд. Зная, что в оперетте допускаются всякого рода актерские отсебятины, Осипов уговорил актеров в той сцене, где, к ужасу отца Эдвина, выясняется, что мадам Волапюк была в молодости певицей варьете и ее называли «Соловей», добавить, что она, кроме того, была дочерью мебельного торговца Янаки.
Публика, конечно, не обратила на эту подробность никакого внимания, но жгучий брюнет, сидевший в шестом ряду, нервно вздрогнул и, видимо решив, что это ему померещилось, наклонился к своей даме, явно спрашивая ее, какую фамилию произнесли на сцене.
– Он! – со вздохом облегчения шепнул мне Осипов. – Золото этот Яша Саксаганский… И ты молодец – хорошо разработал словесный портрет Янаки. Пошли, дружище, мы будем его приветствовать у выхода…
И через час задержанный нами Янаки уже находился в кабинете Осипова и не мог прийти в себя от удивления, что его все-таки поймали благодаря словесному портрету и несмотря на то, что он перекрасил себе волосы.
– Ну, Янаки, – спросил его Осипов, – надеюсь, теперь вам ясно, что профессор Рейс был гораздо умнее вас и что жулики не должны плевать на такую великую науку, как криминалистика?
– Гражданин инспектор, – уныло ответил Янаки, – к несчастью, я это понял слишком поздно. Мое письмо было выходкой нахала, и я прошу занести это в протокол. Еще в детстве покойный папаша мне говорил: «Христофор, ты не уважаешь науку, и это не кончится добром». Объясните мне, гражданин инспектор, как мог родиться у такого мудрого отца такой глупый сын, и как мог у такого идиота, как я, быть такой отец? Где же законы наследственности, я вас спрашиваю, как объясняют такие странные явления природы криминалистика и глубоко отныне мною уважаемый профессор Рейс?
– Я готов вернуться к этим законным вопросам, – ответил Осипов, – но после того как вы, Янаки, отбудете наказание за свои преступления и за свое нахальство. А теперь, выражаясь вашим стилем, адью!..
Так был реабилитирован словесный портрет Бертильона и Рейса.
Брегет эдуарда эррио
Когда телеграф принёс скорбную весть о смерти Эдуарда Эррио, нашего старого французского друга, мне вспомнилось одно давнее происшествие, косвенно связанное с первым приездом в СССР этого замечательного человека.[3]
Трезвый политик и честный человек, виднейший государственный деятель, Эдуард Эррио всегда был сторонником франко-советской дружбы, для которой он так много сделал и за которую так долго и горячо боролся…
Эррио понял гораздо раньше, чем многие другие политические деятели Европы, что возникновение нового государства рабочих и крестьян – исторический факт, что уже никакие силы на свете не повернут историю вспять, что франко-русские симпатии имеют свои многолетние и прочные корни и что Франция так же заинтересована в дружбе с Советским Союзом, как Советский Союз в дружбе с Францией.
В 1922 году он впервые посетил Советский Союз. Политика изоляции СССР тогда ещё была в самом разгаре, совсем недавно закончилась гражданская война, молодая Советская республика только-только отбилась от бешеных атак иностранных интервентов и белогвардейских полчищ.
Вернувшись после этой поездки в Париж, Эррио начал горячо выступать за признание Советского Союза и установление дипломатических отношений к ним. В 1924 году Эррио стал главой французского правительства, которое установило дипломатические отношения с нашей страной, объявив, что сделало этот шаг, будучи верным дружбе, объединяющей русский и французский народы.
Жизнь подтвердила мудрость этой политики, и через тридцать с лишним лет, уже в 1955 году, Эдуард Эррио заявил: «Я никогда не сожалел об этом решении, принятом мною в 1924 году… Я повторяю: никогда я не жалел о своей инициативе, выступив за восстановление нормальных отношений с Советским Союзом».
Перед началом второй мировой войны Эррио, со свойственной ему дальновидностью мудрого политика, понял, какую страшную угрозу для Франции и для всей Европы представляет восстановление германского милитаризма. Он делал всё, чтобы спасти мир и предотвратить катастрофу. Настойчиво и терпеливо он предупреждал свой народ и народы других стран Европы, выступал письменно и устно, разоблачая чудовищные замыслы фашизма и борясь с его пятой колонной в самой Франции…
К несчастью, те, которые ему верили, не имели власти, а те, которые её имели, не хотели ему верить!..
Враги Франции были врагами Эррио. Как только гитлеровцы в 1940 году оккупировали Францию, Эдуард Эррио был арестован и заключён в концлагерь.
Но друзья Франции были друзьями Эррио. Его спасли и освободили советские солдаты, как они спасли и освободили сотни тысяч других французов, англичан, американцев, бельгийцев, немцев, поляков, чехов, венгров и румын.
До последнего дня своей жизни Эдуард Эррио продолжал бороться за мир, против восстановления германского милитаризма, против поджигателей войны, против создания так называемой европейской армии. Опять зазвучал его голос, и опять он срывал маски с лицемеров, опять предупреждал свой народ.
Незадолго до смерти Эррио советский офицер, участвовавший в его освобождении из фашистского концлагеря, послал ему из Свердловска письмо, в котором писал:
«Вы опять поднялись на борьбу. Вашу борьбу за прочный мир, за дружбу народов, против возрождения германского милитаризма весь советский народ считает воистину героической… Разве не героизмом была Ваша речь в Национальном собрании Франции против создания европейской армии, которую Вы произнесли, будучи тяжело больным!»
В том самом 1924 году, когда Эдуард Эррио установил дипломатические отношения с СССР, я, будучи ещё комсомольцем и совсем начинающим молодым следователем, приехал в служебную командировку в Ленинград. Тогда мне и рассказали ленинградские товарищи об одном происшествии, случившемся в Ленинграде, когда Эррио впервые приехал в Советский Союз. Об этом забавном происшествии мне и хочется написать, тем более что оно было одним из первых фактов, давших мне понять, какой благодарный отклик иногда встречает даже в душе уголовника оказанное ему доверие…
Приехав, я, как положено, представился начальнику следственной части губернского суда Зальманову, работавшему в качестве судебного следователя ещё до революции в петроградской судебной палате. Это был высокий, сухощавый, седой старик, неизменно корректный, суховатый, немногословный, со строгими манерами и хорошей, чисто мужской сдержанностью отлично воспитанного человека.
Он встретил меня очень любезно, ничем не выдав своего удивления по поводу моего возраста, слишком юного для следователя (мне только минуло восемнадцать), и выделил мне кабинет для работы.
Вечером Зальманов представил меня старшим следователям губернского суда. Среди них были, например, такие выдающиеся криминалисты, как Игельстром, который как раз в это время вёл следствие по делу известного провокатора, «злого гения «Народной воли», Ивана Складского; или Невский, являвшийся в те годы едва ли не лучшим следователем по сложным хозяйственным делам; или Никольский, неизменно улыбающийся, добродушный розоволицый человек, весьма успешно разбирающийся в самых кровавых делах об убийствах, в раскрытии которых он специализировался. По делам этой категории у Никольского был лишь один конкурент – народный следователь Бродский, пришедший на следственную работу в первые годы революции и сразу зарекомендовавший себя как талантливый криминалист.
Из более молодых следователей мне особенно пришёлся по душе Васильев, работавший главным образом по чисто уголовным делам. Это был невысокий худощавый человек лет за тридцать, с тихим голосом и нездоровым чахоточным румянцем.
Дня через три после моего приезда Зальманов и Васильев порадовали меня сообщением, что в губернский суд приедет вечером для встречи с судебными работниками А.Ф. Кони.
Я, конечно, уже давно зачитывался его воспоминаниями «На жизненном пути» и был заочно влюблён в этого выдающегося русского криминалиста, знаменитого судебного оратора и близкого друга Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, М.Г. Савиной и других. Именно Кони, как известно, рассказал в своё время Л.Н. Толстому сюжет подлинного судебного дела, положенный гениальным писателем в основу «Воскресения», которое в связи с этим Лев Николаевич именовал «коневской повестью».
Октябрьская революция застала А.Ф. Кони на посту члена государственного совета Российской империи. Это был один из немногих её сановников, понявших всемирно-историческое значение революции и отказавшихся эмигрировать за границу. Это был единственный член государственного совета царской России, который сразу пошёл со своим народом.
В письме народному комиссару просвещения А.В. Луначарскому Кони писал:
«Ваши цели колоссальны. Ваши идеи кажутся настолько широкими, что мне, большому оппортунисту, который всегда соразмерял шаги соответственно духу медлительной эпохи, в которую я жил, – всё это кажется гигантским, головокружительным… Но если власть будет прочной, если она будет полна внимания к народным нуждам… что же, я верил и верю в Россию, я верил и верю в гиганта, который был отравлен, опоен, обобран и спал. Я всегда предвидел, что, когда народ возьмёт власть в свои руки, это будет совсем в неожиданных формах, совсем не так, как думали мы, прокуроры и адвокаты народа. Так оно и вышло».
И вот я увидел этого человека. Это был невысокий старик (ему было около восьмидесяти лет), с продолговатым тонким лицом, чем-то напоминавшим поздние портреты Бернарда Шоу. Он опирался на костыльки, но был ещё очень бодр для своих лет, обладал поразительной памятью и каким-то особым обаянием незаурядного человека, прожившего большую, сложную, умную жизнь.
Я навсегда запомнил его чуть прищуренные внимательные, совсем молодые глаза, его спокойный, чуть глуховатый голос и манеру строить свою речь живо, увлекательно, образно. При всём том он ещё владел очень спокойным и тонким юмором.
В тот вечер он рассказывал о деле Веры Засулич, по которому ему пришлось председательствовать в судебном заседании Санкт-Петербургского суда, когда присяжные заседатели, как известно, оправдали Веру Засулич, стрелявшую в петербургского градоначальника Трепова за то, что по его приказу был подвергнут порке политический заключённый Боголюбов.
Потом Игельстром сделал мне приятный сюрприз: он представил меня Анатолию Федоровичу как молодого московского следователя. Я не без трепета пожал руку Кони, которую он мне дружелюбно протянул, и смутился от его острого, внимательного, хотя и приветливого взгляда. Он, видимо, заметил моё смущение, но виду не показал, и стал расспрашивать о старых московских следователях Голунском и Снитовском, которых знал ещё с дореволюционных времён. Услышав, что Снитовский был моим первым наставником на следовательском пути, Кони одобрительно улыбнулся и произнёс:
– Вам, молодой человек, повезло. Иван Маркович Снитовский отличный криминалист. Как же, как же, я прекрасно помню его по Московскому окружному суду, где он служил следователем по важнейшим делам. Ну, а как вы себя чувствуете в роли следователя? Не очень огорчает возраст?
Я окончательно смутился и пролепетал, что не хочу скрывать – возрастом своим пока действительно огорчён, но рассчитываю в этом смысле на лучшее будущее…
Кони рассмеялся и уже совсем ласково произнёс:
– Надежды ваши вполне, увы, основательны. Вот пройдут годы – ах, до чего же незаметно и стремительно они проходят! – и как же вам будет недоставать того, с чем вы теперь так искренне стремитесь расстаться…
Теперь, вспоминая эту давнюю и, к сожалению, такую мимолётную встречу с Анатолием Федоровичем, я нередко думаю, как прав был он в своём грустном предсказании…
После небольшого перерыва Кони заговорил о Достоевском. Он рассказывал о том, как произведения Достоевского «Записки из Мёртвого дома», «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», помимо своего огромного литературно-художественного значения, явились откровением для криминалистов всего мира. Так, например, известный французский судебный деятель Атален неизменно заканчивал свои лекции молодым криминалистам словами: «В особенности, господа, читайте, читайте, читайте Достоевского». А председатель парижского апелляционного суда Бернар де Глайо в своей книге, посвящённой вопросам судебной практики, цитировал различные места из «Преступления и наказания» как образцы психологического проникновения в такие специальные вопросы, как возникновение преступного умысла и подготовка к его осуществлению.
– Все эти исстрадавшиеся, опустившиеся, нервные и мрачные люди, которых так гениально умел описывать Достоевский, – говорил Кони, – не умрут среди образов, созданных русской литературой, пока в ней будет жить желание найти в самой омрачённой, в самой озлобленной душе задатки любящего примирения… Вот почему, дорогие друзья, для всякого криминалиста образы, созданные Достоевским, будут всегда дороги, как пример удивительного умения находить «душу живу» под самой грубой, мрачной, обезображенной формой и, раскрыв её, с состраданием и трепетом показывать в ней то тихо тлеющую, то распространяющую яркий, примиряющий свет искру…
Кони произнёс эти прекрасные, не раз уже им высказанные слова с искренним волнением, которое передалось его слушателям. Судьи и прокуроры, следователи и адвокаты, до отказа заполнившие зал, где происходила встреча, находили в этих словах крупнейшего русского криминалиста опору и подтверждение тем чувствам и размышлениям, которые возникли у многих из них. Сидевший со мною рядом Васильев прошептал, указывая взглядом на Кони:
– Ах, какой чудесный старик, какой старик!..
Был уже поздний вечер, когда встреча с Кони закончилась и он, провожаемый толпой слушателей, уселся в машину и уехал. Васильев предложил мне пройтись.
– Слушая сегодня Анатолия Федоровича, – говорил Васильев, – вероятно, каждый из нас вспомнил какие-то случаи из своей практики. Ведь каждому следователю, судье, прокурору приходится, я глубоко в этом убеждён, испытывать иногда чувство симпатии к человеку, которого он по долгу службы предаёт суду… Да, преступление доказано, сомнений в нём нет, надо за него судить, а вот человек, которого надо судить, чем-то тебе мил, он вызывает к себе чувство симпатии и доверия…
– Без доверия нельзя искать ту «душу живу», о которой говорил Анатолий Фёдорович, – произнёс я. – Только начиная свой следственный путь, я уже столкнулся с этой проблемой…
– Вот видите… – неожиданно улыбнулся Васильев. – Мы часто говорим о психологии обвиняемого. На эту тему написано и ещё будет написано немало книг. И это хорошо. Но вот о психологии следователя не пишет никто. Согласитесь, что для воспитания важна не только психология воспитуемых, но и психология воспитывающих… Это особенно относится к нашему брату – следователю, поскольку нам приходится первыми сталкиваться с преступниками и самый характер нашей работы – я имею в виду допросы – даёт большие возможности психологического общения, если учесть, что при допросах нет публики, сторон, регламента судебного заседания и прочего. На допросе нас только двое – следователь и обвиняемый, – это уже само по себе многое значит… Не так ли?
– Да, вы правы.
– И то, что обвиняемый может рассказать с глазу на глаз, он не всегда решится произнести в зале судебного заседания. Я имею в виду главным образом интимные вещи… Вот почему мне кажется, что процесс перевоспитания преступников должен начинаться уже в стадии следствия. Если, конечно, оно в руках следователя, а не протоколиста, какими бывают иногда некоторые из нас.
– Помните следователя, о котором писал Салтыков-Щедрин? Он рассуждал примерно так: «Есть у меня два свидетельских показания, надлежащим образом оформленных, я говорю: есть. Нет – я говорю: нет. А какое мне дело до того, совершено ли преступление в действительности и кто его совершил?» А ведь и такие следователи ещё иногда встречаются… К несчастью! Но не о них сейчас речь. Дьявол с ними. Они, как правило, сами себе могильщики!.. Вернёмся к вопросу о доверии. Я вовсе не сторонник огульного доверия ко всем уголовникам. Среди них – я не раз это видел – много людей неисправимых, очень опасных, им доверять преступно… Как говорится, не в коня корм. Скажу больше: у таких негодяев оказываемое им доверие вызывает циничный смех, и их первая реакция на доверие – стремление им злоупотребить… Но есть уголовники, которых человеческое доверие способно переродить… Два года тому назад в Советский Союз приезжал Эдуард Эррио, теперешний премьер-министр Франции. В Эрмитаже у него украли брегет… Мне довелось заняться этим делом… Вот послушайте…
И Васильев рассказал мне о происшествии с брегетом господина Эррио. Вот как всё это случилось.
В 1922 году Эдуард Эррио, будучи сенатором и лидером французской радикал-социалистической партии, посетил Советский Союз.
Советские, а также иностранные газеты подробно освещали пребывание Эррио в СССР, где его встретили по-русски тепло и гостеприимно, в чём сказались и традиционные симпатии нашего народа к Франции.
После Москвы Эррио посетил Петроград и в течение нескольких дней знакомился с городом.
И вот однажды, при посещении знаменитого Эрмитажа, почётный гость полез в карман за своим золотым брегетом, чтобы справиться о времени, и, увы, его не обнаружил…
Заметив растерянность гостя, сопровождавшие его лица спросили, в чём дело.
– Ничего особенного, господа, – спокойно улыбнулся Эррио, – просто я не обнаружил своего брегета… По-видимому, гм… По-видимому, я забыл его в отеле… Не придавайте значения этому пустяку…
И он продолжал осматривать Эрмитаж.
Само собой разумеется, что кто-то из сопровождавших Эррио немедленно позвонил в гостиницу, где были отведены апартаменты высокому гостю, и справился о брегете. Его не оказалось.
Дело принимало крайне неприятный оборот.
Пока Эррио продолжал осматривать сокровища Эрмитажа, о случившемся был уведомлён по телефону губернский прокурор Иван Андреевич Крастин. Прокурору высказали предположение, что брегет скорее всего украли в Эрмитаже в тот момент, когда Эррио осматривал нижние залы, оказавшись в густой толпе посетителей.
Иван Андреевич, латыш по национальности, был старым большевиком и до революции не раз сидел в царских тюрьмах. Юрист по образованию и криминалист по профессии, он хорошо знал уголовный мир того времени.
Получив сообщение о скандальном происшествии, Иван Андреевич вызвал к себе старшего следователя Васильева. Васильев внимательно выслушал Крастина и задумался.
– Ну, что же вы задумались, мой друг? – нетерпеливо спросил Крастин, выдавая этим своё волнение, – вообще он был необыкновенно спокоен и нетороплив. – Это же скандал, политический скандал!.. Из такта Эррио сделал вид, что не считает себя обворованным… Но нам от этого не легче! В Кремле все возмущены… Мне уже два раза звонили, что брегет любой ценой должен быть разыскан.
– Вы не знаете, сколько времени Эррио пробудет здесь? – тихо спросил Васильев.
– Два, максимум три дня… А какое это имеет значение?
– Обычное расследование потребует большего срока, – ответил Васильев. – Во всяком случае, не менее двух недель, Иван Андреевич…
– К тому времени Эррио уедет не только из нашего города, но и вообще из СССР, – произнёс Крастин. – Нет, такого срока нам никто не даст! Мы обязаны найти брегет раньше – понимаете? – обязаны!..
– Понимаю, – согласился Васильев. – В таком случае санкционируйте, как губернский прокурор, привлечение к розыскам брегета уголовников… Уверен, что они нам охотно помогут…
– Гм… Чёрт знает что такое! – забормотал Крастин, нахмурился, а потом вдруг неожиданно захохотал. – А знаете, в вашем предложении что-то есть!.. А где же мы с вами найдём этих уголовников? Не станем же мы бегать по малинам… Согласитесь, мой друг, что это нам не совсем к лицу…
И обычно серьёзный, но добрейший Иван Андреевич снова начал так смеяться, что на глазах у него появились слёзы.
– Где мы найдём уголовников? – повторил вопрос Крастина Васильев. – Где же, как не в тюрьме, Иван Андреевич… Вот именно, в тюрьме…
– В тюрьме?! – воскликнул Крастин, сразу перестав смеяться. – Не хотите ли вы сказать, что мы освободим преступников для розыска этого проклятого брегета? Надеюсь, не об этом идёт речь, товарищ старший следователь губернского суда?
– Нет, именно об этом, – невозмутимо ответил Васильев, глядя прямо в глаза прокурору. – Я предлагаю освободить одного или двух уголовников, разумеется из числа наиболее авторитетных, дав им возможность найти украденный брегет…
– Так это как же, в порядке частной амнистии, что ли, или, вернее сказать, сделки судебных властей с преступниками? Не так ли?
– Не так, – тихо ответил Васильев. – Право амнистии ни вам, ни мне не предоставлено. Что же касается сделки, как вы изволили сформулировать, то о какой сделке может идти речь, если уголовники будут действовать вполне бескорыстно, абсолютно ни на что не рассчитывая, поскольку мы им абсолютно ничего не будем обещать…
– В таком случае, молодой человек, может быть, вы потрудитесь мне объяснить, – язвительно спросил Крастин, – о каких именно уголовниках идёт речь и ради какого дьявола они станут искать для нас с вами брегет, если мы им за это ничего не обещаем?
– Сейчас объясню, – спокойно ответил Васильев. – В числе моих подследственных теперь содержатся в «Крестах» два подходящих человека. Николай Храпов по кличке Музыкант – профессиональный мошенник-кукольник, – и вор-домушник Пётр Милохин по кличке «Плевако», тоже крупный рецидивист…
– «Плевако»? – спросил Крастин. – Это что за кличка? По фамилии знаменитого русского адвоката, что ли?
– Да. Милохин славится в воровской среде как выдающийся оратор, – ответил Васильев. – Отсюда и кличка…
– Не собираетесь ли вы поручить ему выступить на общегородском митинге воров? – язвительно спросил Крастин.
– Иван Андреевич, – спокойно возразил Васильев. – Храпова или Милохина, а лучше их обоих, я могу спокойно освободить под честное слово, и, если они его дадут, я не сомневаюсь, что, выполнив задание, они вернутся в тюрьму. Что касается митингов, то о них речь не идёт…
– Ну, я ещё готов допустить, – сказал Крастин, – что если настоящий уголовник даёт честное слово, то это… гм… не так уж мало… Согласен… Но из каких побуждений станут они разыскивать брегет, не имея никаких обещаний с нашей стороны?
– Из патриотических, – ответил Васильев. – Они считают, и вполне резонно, что являются гражданами Советского Союза, как и мы с вами… И если мы обратимся к ним как к советским гражданам, оказав им тем самым доверие, – Васильев подчеркнул последнее слово, – они сделают всё, что в их силах…
Выслушав эти слова, Крастин нажал кнопку звонка и попросил явившуюся секретаршу прислать в кабинет чай. Когда его подали, прокурор обратился к Васильеву:
– Вот, попей чайку, – сказал он, переходя неожиданно на «ты», – а я пока поразмыслю над твоим предложением… Всё не так просто, как это кажется на первый взгляд…
– Хорошо, подумайте, – произнёс Васильев. – От чая не откажусь…
И он стал неторопливо отхлёбывать чай, с интересом глядя, как длинноногий, чуть сутулый Крастин ходит из угла в угол с самым сосредоточенным выражением лица, что-то бормоча себе под нос. В самом деле, думал Васильев, решится ли губернский прокурор санкционировать освобождение под честное слово двух матёрых рецидивистов, а если решится, то сдержат ли эти рецидивисты данное ими слово и не подведут ли следователя, который за них поручился?
Васильев не был карьеристом, и его сомнения были менее всего вызваны стремлением к перестраховке. Эксперимент с розыском брегета представлял для него интерес совсем с другой стороны – как откликнутся Храпов и Милохин на доверие, которое им будет оказано?
Об этом же самом эксперименте размышлял и Крастин. Он давно и горячо симпатизировал Васильеву, в котором разгадал доброе и чистое сердце, любовь к людям, такую необходимую для всякого судебного деятеля, а в особенности следователя. Крастин знал многих и разных следователей, надзирая как губернский прокурор за их работой. Были среди них и добросовестные служаки, верные своему долгу, но с годами выработавшие в себе некое профессиональное равнодушие, подобное тому равнодушию, с которым иногда старые хирурги относятся к физическим страданиям своих больных. Были и следователи, больше всего ценившие в своей работе некий охотничий, чисто спортивный азарт, для которых процесс раскрытия преступления представлял почти самодовлеющий интерес. Крастин ценил их розыскные способности, но в глубине души не любил этих следователей и не очень им доверял. Были и такие следователи, которые очень быстро начинали задирать нос и, упоённые своей властью, ходили с таким видом, будто весь мир состоит у них под следствием. Таких следователей Крастин откровенно презирал, абсолютно им не верил и в конце концов добивался их увольнения, всякий раз брезгливо заявляя: «Ах, этот. Да ведь ему наша работа противопоказана… Ему всё равно, кого сажать, за что сажать, зачем сажать – только бы сажать! Нет, нет, это человек чужой и на посту следователя социально опасный!» Но были и следователи типа Васильева, и их больше всего любил губернский прокурор, потому что в них, и только в них, видел он образ советского следователя, каким он должен быть…
Теперь, размышляя над предложением Васильева, Крастин колебался, главным образом, из-за автора предложения. Крастин опасался, что если рецидивисты надуют Васильева и скроются вопреки своему «честному слову», то это даст кое-кому повод высмеять Васильева, его «иллюзии» и нанесёт этому вдумчивому, хорошему человеку серьёзную травму. С другой стороны, провал Васильева в этом деле мог быть использован и той, пусть незначительной, группой судебных работников, которые не верили в возможность «перековки» уголовников и открыто посмеивались над сторонниками «перековки», утверждая, что «чёрного кобеля не отмоешь добела».
Между тем Васильев уже одолел второй стакан чаю и, удобно откинувшись в кресле, молча курил, изредка поглядывая на продолжавшего размышлять Крастина. Иногда их глаза встречались, и тогда Крастин безмолвно делал знак рукой, обозначавший, что он ещё думает. Васильев также молча кивал головой, что значило: ничего, мне не к спеху… Он уже не сомневался, что прокурор даст санкцию.
И когда Крастин наконец проворчал: «Ладно, действуй, только гляди, как бы над нами весь город потом не смеялся», – Васильев коротко ответил: «Постараюсь», – и, пожав руку Крастину, поспешно вышел из кабинета.
Сначала он вызвал из камеры Храпова. Тот пришёл с заспанным лицом, удивлённый, что его вызвали на допрос вечером, чего обычно не случалось. Храпов был маленький, юркий, с худым, очень подвижным лицом и лукавыми глазами.
– Здравствуйте, Храпов, – очень серьёзно сказал Васильев. – Нам надо срочно поговорить.
– К вашим услугам, – галантно склонился Храпов. – Не секрет, почему такая спешка? Я уж, признаться, вздремнул…
– Ничего не поделаешь, – ответил Васильев, – вопрос срочный… И к вашему личному делу отношения не имеющий…
– Если не имеющий, так и совсем хорошо, – произнёс Храпов. – Мне всегда почему-то больше нравились вопросы, не имеющие отношения к моему делу…
– У вас большие связи в среде карманных воров?
– Я этих подонков не уважаю, – ответил Храпов. – Сам я, как вы знаете, всю жизнь работал кукольником, так сказать, по мошеннической части, но по карманам никогда не лазил. И вообще хотел бы заметить, что как человек интеллигентного труда – да, да, не улыбайтесь – я не находил общего языка с обычными уголовниками… Не те, знаете ли, интересы, не тот интеллект… Наконец, не тот образ жизни…
И Храпов, он же Музыкант, презрительно махнул рукой.
– Но вы как-то говорили, что имеете авторитет в среде уголовников. Это верно?
– В известном смысле – да. Однако почему вас это интересует?
– Дело в том, что в Советский Союз приехал французский сенатор господин Эррио…
– Ну как же, знаю, читал в газете. Даже видел его портрет. Производит впечатление вполне интеллигентного человека. Я полагаю, что его визит может способствовать укреплению франко-советских отношений… А каково ваше мнение по этому вопросу?
– Я с вами согласен. Дело в том, однако, что этот визит несколько омрачён…
– Можете не продолжать, – улыбнулся Музыкант. – Суду всё ясно. Что шарахнули у глубоко мною уважаемого сенатора и лидера радикал-социалистов?
– У него украли брегет.
– Крайне неинтеллигентно! – с чувством произнёс Музыкант. – Скажу больше: типичное хамство!.. Скорблю за честь города… Но, насколько я понимаю в медицине, вы меня вызвали не для выражения сочувствия… Что должен сделать Музыкант для укрепления франко-советской дружбы?
– Помочь обнаружить этот брегет, – улыбнулся Васильев.
– А что я буду за это иметь?
– Ровным счётом ничего.
– Ценю откровенность. Но, сидя в тюрьме, даже Музыкант бессилен вам помочь…
– Конечно. Я хорошо это понимаю…
Тут Храпов с интересом взглянул на Васильева. Следователь спокойно улыбался.
Храпов отёр платком почему-то вспотевший лоб, потом снова поглядел на Васильева. Но тот продолжал загадочно молчать.
– Мы долго будем играть в молчанку? – не выдержал Храпов. – Если вы намерены ограничиться информацией о происшествии с брегетом, то, может быть, мне лучше пойти спать? Хотя трудно заснуть, узнав о таком скандальном факте…
– Я не намерен ограничиться информацией…
– Слушаю. Я весь – внимание!
– Если вы дадите мне честное слово, что не попытаетесь скрыться от следствия и суда, Николай Храпов, я готов освободить вас на несколько дней, чтобы разыскать украденный брегет. Ясно?
– Как шоколад. На сколько дней?
– Максимум на трое суток. Устраивает?
– Постараюсь уложиться. Хотя срок жестковат.
– Я могу вам верить, Храпов?
– Ни в коем случае! Но если я дам честное слово, смело можете за меня поручиться…
– Я так и думал.
Храпов встал, задумался, потом торжественно произнёс:
– Так вот, Музыкант даёт честное слово! Я не могу поручиться, что найду этот брегет, но приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие…
– Не сомневаюсь.
– Дать подписку о возвращении в тюрьму через трое суток?
– Никаких подписок! Мне достаточно вашего честного слова…
Через полчаса Музыкант вышел из ворот тюрьмы и вскочил на подножку проходившего трамвая.
А Васильев вызвал Милохина.
В отличие от Музыканта Милохин, он же «Плевако», был неповоротлив, флегматичен, толст и ленив. Его круглое, пухлое лицо с тупым коротким носом и маленькими, как у медвежонка, глазками выражало, несмотря на здоровый румянец, крайнее разочарование в жизни, а оттопыренные полные губы подчёркивали презрение к человечеству. Буйная шапка волос и глубокая ямочка на подбородке отличали его внешность.
Васильев знал, что эти настроения овладели «Плевако» после того, как он был взят с поличным в квартире, которую собирался обокрасть. При этом не самый факт ареста так повлиял на характер «Плевако» – это было ему привычно и никогда раньше не приводило в уныние, – а те обстоятельства, при которых он попался.
В тот злополучный день «Плевако» проник, взломав замок, в квартиру, за которой давно следил. Он знал, что хозяйка квартиры днём едет на рынок и возвращается не раньше чем через полтора часа. В этот день, дождавшись, когда она вышла из подъезда, «Плевако» направился в её квартиру. Перед этим он выпил четвертинку водки, потому что был холодный день.
Забравшись в квартиру и разомлев от тепла, «Плевако» только было собрался приступить к делу, как услышал какой-то шум в соседней комнате. Он заглянул туда и увидел ребёнка, который в одной рубашонке ползал по ковру и грозно рычал на своё отражение в трюмо. Ребёнок, видимо, изображал льва, и эта игра доставляла ему большое удовольствие. Его розовое личико, обрамлённое светлыми пушистыми волосами, толстенькие ножки и тёмные весёлые глазки сразу пленили «Плевако». С другой стороны, нельзя было приступать к делу, не наладив отношений с ребёнком, о наличии которого «Плевако», кстати, раньше не знал. Он тихо открыл дверь и, тоже встав на четвереньки, пополз навстречу мальчику, также издавая грозный львиный рык. Увидев толстого незнакомого дядю, неожиданно вступившего в игру, ребёнок мгновенно проникся к нему симпатией. Заливаясь счастливым смехом, оба рычали, гоняясь друг за другом по ковру. Потом вспотевший от возни «Плевако» решил отдохнуть. Он вынул папиросу, но не обнаружил в кармане спичек. Смышлёный малыш, топая ножками, помчался в кухню и принёс оттуда спички. «Плевако» закурил и начал пускать такие необыкновенные кольца дыма, прогоняя одно через другое, что Миша – так звали малыша – сразу понял, что впервые в жизни ему удивительно повезло с обществом.
И как раз в этот момент на пороге комнаты появились соседка Мишиной матери, дворник и милиционер. Дело в том, что мать Миши, уходя на рынок, попросила соседку присмотреть за ребёнком. Та тихо вошла в квартиру и услыхала незнакомый мужской голос. Тогда она обратила внимание, что замок в двери взломан, и, догадавшись, в чём дело, помчалась за властями.
«Плевако» задержали и повели в милицию, оторвав от него плачущего Мишу, потрясённого тем, что уводят такого милого дядю. В милиции выяснилось, что «Плевако» давно разыскивают за многие совершённые им кражи, и дело о нём, как квалифицированном квартирном воре, поступило к Васильеву.
В тюрьме «Плевако» тщательно скрывал обстоятельства своего ареста, явно стесняясь их. Но недели через две арестовали другого вора, который со смехом рассказал в камере, как попался «Плевако», игравший с ребёнком. Вору рассказали об этом в уголовном розыске.
На следующий день вся тюрьма знала эту историю, и на прогулке Милохину кричали: «мамочка», «няня», «бабушка Петя» – и делали ему «козу». Этого самолюбивый «Плевако» не мог стерпеть. Он замкнулся в себе, презрел человечество и стал задумываться над смыслом жизни. Дважды ему снился Миша, его счастливый смех и толстенькие ручонки, которыми он так нежно обнимал развлекавшего его дядю.
Васильев отлично понимал, что происходит в душе этого обвиняемого. Васильев знал биографию «Плевако», знал, что он был один раз неудачно женат и что его единственный ребёнок погиб от дифтерита в трёхлетнем возрасте.
И тихий, согнутый неизлечимым недугом Васильев, отгоняя мучительные мысли о приближающемся конце (он знал, что у него чахотка и что его положение безнадёжно), нередко размышлял о дальнейшей судьбе «Плевако», обладавшего завидным здоровьем при искалеченной судьбе. Васильев думал, как согреть и поддержать тот робкий, как травинка, пробившаяся в трещине асфальта, росток человеческого чувства и тоски, который удалось посеять в этой больной душе маленькому Мише.
Вот почему в связи с делом о брегете Васильев сразу подумал о Милохине. В деловом смысле Васильев больше рассчитывал на Музыканта, но ему захотелось, воспользовавшись этим предлогом, оказать доверие и «Плевако», чтобы поддержать в нём уже начавшийся процесс нравственного самоочищения.
«Плевако» ввели в кабинет. Ещё с порога он мрачно пробурчал «здрасьте» и остановился, глядя себе под ноги.
– Здравствуйте, Милохин, – ответил Васильев. – Садитесь, пожалуйста. Я вас не разбудил?
– Тюрьма не санаторий, – ответил «Плевако». – Тут мёртвый час не соблюдается… Ваше дело – вызывать, наше дело – приходить… Конец скоро будет?
– Вы имеете в виду окончание следствия?
– Ну да. Судить пора. Чего кота за хвост тянуть?
– Следствие подходит к концу. Но я вас вызвал по другому делу.
– С меня и одного достаточно. Я не жадный.
– Речь идёт о деле, которое к вам не относится.
– А ежели не относится, зачем вызывать?
– Сейчас поймёте. Вам известно, что к нам приехал с визитом французский сенатор Эррио?
– Он мне телеграммы о своём приезде почему-то не прислал. Наверное, не знал адреса… Что дальше?
– Вчера у него украли брегет.
– Брегет? Это бимбар, что ли, такой со звоном?
– Именно. Что вы об этом скажете?
– Вчера я в тюрьме сидел. Что я могу сказать? Вообще я по карманам не промышляю… Золотой хоть бимбар-то?
– Золотой. А почему вас это интересует?
– Просто интересно, какие бимбары у французских сенаторов бывают. Что дальше?
– Эта кража позорит город, Милохин.
– Подумаешь! В Париже, наверное, почище нашего шарашат.
– Позвольте, это же наш почётный гость… Гость нашего правительства.
– На лице у него не написано… Откуда уркам знать, что он гость, да ещё сенатор? Вы ему это объясните. Если он толковый сенатор, то поймёт… На худой конец можно ему по оценке деньги выплатить или другой бимбар подобрать.
– Не могу с вами согласиться. Мы должны найти и вернуть ему этот самый брегет.
– Найдите, если сумеете. Я тут ни при чём?
– Меня удивляет ваше равнодушие, Милохин. Неужели вы не понимаете скандального характера этой истории? Вы же как-никак советский человек, и, что ни говори, петроградец… Наконец, вы неглупый человек.
– Неглупые в тюрьме не сидят… Вы толком скажите, чего от меня хотите?
– Я хочу освободить вас под честное слово на трое суток для того, чтобы вы помогли найти этот брегет.
– А ежели я сбегу?
– Я в это не верю, Милохин. И вы – тоже.
– Почему не верите? Ваше дело – ловить, наше дело – сматываться. Скажите – не так?
– Не так! – стукнул кулаком по столу, не выдержав, Васильев. – Не клевещи на себя, Милохин! Я тебя насквозь вижу! Тебе давно обрыдла эта дурацкая воровская жизнь, эта среда, этот вонючий быт… Думаешь, я не понимаю, почему ты тогда с ребёнком заигрался и про дело забыл? Чего же ты, дурень, этого стыдишься?.. Ах ты, балда, балда! Я верю, что ты ещё человеком стать можешь, настоящим человеком. И этого человека я дурости твоей не отдам – слышишь? – не отдам!
И тут у Васильева начался один из тех мучительных и страшных приступов кашля, которые доводили его до полного изнеможения. Тщётно пытался он остановить приступ водой, глубокими вздохами, огромным напряжением воли. Его бледное лицо посинело от напряжения, а беспощадный хриплый кашель, казалось, рвал на куски его лёгкие, бронхи, гортань. Он откинулся на спинку кресла с помутившимися от страдания глазами, то и дело конвульсивно вздрагивая и зачем-то хватаясь руками за подлокотники кресла. Потом, едва успев выхватить платок, он прижал его к своим посиневшим губам, и платок сразу взмок от крови, хлынувшей горлом.
Милохин, которого захлестнула горячая волна сострадания к этому задыхающемуся человеку, бросился к креслу и поднял, как пёрышко, своими могучими руками худенькое тело Васильева. Он перенёс его на диван, осторожно уложил и зачем-то расстегнул ему ворот.
– Ничего, ничего, – лепетал Милохин, – сейчас доктора вызовем… Он капельки даст – как рукой снимет… Лежите, лежите, я сейчас доктора вызову…
И, подойдя к письменному столу, он нажал кнопку звонка, которым следователь вызывал из дежурной комнаты конвоира.
Когда конвоир пришёл, Милохин коротко ему крикнул:
– Доктора, доктора скорее! Следователю худо стало!
Конвоир заподозрил было недоброе, но потом, заметив, как сочувственно глядит арестованный на следователя, выбежал из кабинета за врачом.
Солнце уже стояло над городом, купаясь в широкой Неве, когда Васильев, пришедший в себя, выехал из тюрьмы на Арсенальную набережную в присланной за ним машине. Рядом с Васильевым сидел Милохин, освобождённый на трое суток под честное слово.
Васильев, бледный от бессонной ночи и перенесённых страданий, жадно вдыхал свежий утренний воздух. Время от времени он бросал взгляд на сидевшего рядом Милохина, который смотрел широко открытыми глазами на сверкающую, почти розовую от солнца Неву, набережные, парки.
Васильев понимал, что Милохин любуется этим свежим утром, этой удивительной рекой, этим прекрасным городом. И в то же время лицо Милохина было строгим и сосредоточенным, и это тоже хорошо видел Васильев.
«Дураки считают, – подумалось Васильеву, – что мы только золоторотцы, ассенизаторы. Конечно, надо и навоз чистить, это тоже важно. Но ведь и на навозе вырастают удивительные, благоухающие цветы, если только уметь их выращивать… Какое счастье всякий раз видеть, что ты научился не только вычищать навоз, но и выращивать цветы!»
Прямо из тюрьмы Музыкант поехал на Обводный канал, к своей старой приятельнице, известной в уголовном мире под кличкой Мондра Глова. Эта тучная, уже пожилая женщина была содержательница воровской малины и славилась в уголовной среде недюжинным умом и умением всегда выходить сухой из воды, за что она и получила свою кличку.
В свою очередь, Мондра Глова относилась к Музыканту с нескрываемым уважением. Он импонировал ей изысканностью манер и речи.
Когда Музыкант вошёл в её квартиру, помещавшуюся в подвале старого, рыжего от древности дома, хозяйка, сидя за столом, раскладывала свой любимый пасьянс «Могила Наполеона». Увидев Музыканта, толстуха пришла в неописуемый восторг.
– Музыкантик, деточка! – кричала она, целуя своего любимца. – Вырвался наконец? Какое счастье? Каких только слухов о вас тут не было, радость моя! Кто говорит, что вам уже десятку вкатили, кто говорит, что вы в тюрьме заболели…
– Мамаша, всё это враки, – сказал Музыкант. – Прежде всего я хотел бы позавтракать, а потом поговорим о деле… Пока вы приготовите что-нибудь поесть, я побреюсь и приведу себя в порядок…
Мондра Глова сразу побежала на кухню и растопила плиту. Пока Музыкант брился, она готовила его любимое блюдо – яичницу с ветчиной, успевая при этом рассказывать последние новости: кого посадили, кого осудили, кто, напротив, вернулся после отбытия наказания.
Поев и опрокинув стопку водки за здоровье дражайшей и любимой Мондры Гловы, гость изложил ей историю с брегетом Эррио. Он сказал также, что освобождён всего на трое суток под честное слово.
Мондра Глова внимательно его выслушала, а потом сказала:
– Дело серьёзное. Музыкант. Весь город говорит о приезде Эррио. Все его очень хвалят, в газетах его портреты – одним словом, тут международная политика, дружочек.
– В том-то и дело! – поддержал её Музыкант. – Потому я к вам и приехал! Как быть, царица души моей?
– Срочно созвать всех «королей», – ответила хозяйка. – Иначе всем нам крышка… В общем, вы здесь отдохните, Музыкантик, а я поеду собирать народ… Ай-ай-ай, как нехорошо!.. Я возмущена всеми фибрами души… Мчусь, бегу, лечу!
К трём часам удалось найти нескольких «королей», и они срочно приехали к Мондре Глове. Каждый из них возглавлял воровскую шайку. Рыжий король карманников, известный под кличкой Хирург, уже немолодой, полный человек в золотом пенсне и с внешностью старого врача с богатой практикой, принял на себя обязанности председателя. Рядом с ним сидел худой, чёрный, как ворон, глазастый Ванька-ключник, король шайки квартирных воров. На диване, стоявшем в углу комнаты, мрачно посапывал Колька-бык, славившийся своей недюжинной силой, молчаливостью и удивительной способностью внезапно засыпать. Он был уличным грабителем и в воровской среде считался крупным профессионалом. У него было широкое, оплывшее бабье лицо, тупой, тусклый взгляд и жирный, отвисающий, как вымя, подбородок.
Наконец, рядом с Музыкантом, тоже устроившимся на диване, восседал с очень важным и даже надменным видом некто Казимир, личность во всех отношениях загадочная. В преступном мире его немного побаивались, и никто толком не знал, чем он, в сущности, промышляет. Одни говорили, что Казимир опытный шулер, хотя не брезгает и мошенничеством в чистом виде. Другие утверждали, что он скупает валюту и драгоценности и связан с иностранными концессионерами, которые сплавляют эти ценности за границу. Во всяком случае, было бесспорно, что он занимается скупкой краденого и на этой почве имеет обширные связи и с карманниками, и с грабителями, и с мошенниками. Он был немногословен, его холёное, красивое лицо и пристальный, цепкий взгляд, тонкогубый, чуть дёргающийся рот и кривая, ироническая ухмылка, застывшая, как на гипсовой маске, обличали очень целеустремлённую и злую волю.
После того как Музыкант доложил «королям» о происшествии с брегетом, первым заговорил Хирург.
– Я такого брегета не видал, – сказал он, – хоть часов за эти дни взято немало. Сезон нынче хороший. Попадались и славные часики – и «Шавхуазен», и «Лонжин», и даже один «Филипп Патек»; были и золотые часы, но вот брегета не было… Я сам давно брегет подыскиваю. Вы знаете, какой я любитель часового дела и на своём веку перевидал столько бимбаров, что и не счесть, а вот хорошего брегета не нажил… Ты, Музыкант, говоришь, что скорее всего увели этот брегет в Эрмитаже? Верно, там наша бригада орудует, но брегета никто в котёл не сдавал.
– Значит, не одному тебе брегета захотелось, – засмеялся Ванька-ключник. – Знаем мы ваши котлы! Как что получше свистнут, так себе в карман кладут. Тоже мне артельщики! Это не то что у нашего брата-домушника. У нас не залимонишь – прямо с дела на хазу несут и всё честно учитывают и делят, потому что в нашем «тресте» без общественного контроля – хана…
– Ну, это ты брось, – нахмурился Хирург. – У меня народ проверенный, на такое дело не пойдёт… У меня система…
В этот момент в разговор вмешался Казимир.
– Какое нам дело до этого дурацкого брегета? – спросил он, по обыкновению криво ухмыляясь. – Разве Эррио приехал в гости к нам?
– А честь города? – перебил Казимира Музыкант.
– Если Эррио убедился, что наши карманники работают не хуже, чем в Париже, то это как раз и поддерживает честь города, – парировал Казимир. – С другой стороны, какое нам дело до чести города? Что такое город в конце концов? В нём живём мы и работники уголовки, живут те, которые крадут, и те, у которых крадут. Те, которых судят, и те, кто судит. И всё это называется одним словом – город… Туфта!
Тут все вскочили и поднялся невероятный шум. Музыкант с пеной на губах доказывал, что Казимир – «гидра» и «осколок».
Хирург кричал, что история с брегетом пахнет политикой, чего он вообще терпеть не может. Ванька-ключник ядовито спрашивал, у кого из иностранных концессионеров научился Казимир таким рассуждениям.
Крики разбудили давно похрапывавшего Кольку-быка, который удивлённо оглядел кричащих и перебивающих друг друга «королей» и, поняв только одно – что все ругают Казимира, спокойно подошёл к нему и лениво ударил его в ухо. Казимир вскочил и бросился на Кольку-быка. Сцепившись, они свалились на пол и начали драться. Хирург, очень не любивший Казимира, подбадривал Кольку-быка криками: «Бык, не поддавайся, пусть знает, пся крев, почём фунт лиха!» Остальные с интересом следили за дракой, споря между собой, кто победит.
Победил Колька-бык. Усевшись верхом на Казимире, хрипевшем от бессильной ярости, Колька-бык очень добродушно приговаривал: «Не мешай людям спать, жлоб, не мешай. Это тебе не краденое скупать, паразит!»
Потом, встав и лениво потянувшись, Колька-бык снова перешёл на диван и мгновенно захрапел, чем и вызвал общий восторг «королей».
– Ну и мастер ухо давить! – завистливо, но с нескрываемым уважением сказал о нём Ванька-ключник. – Казимир, вставай, не отлеживайся…
И Ванька-ключник помог Казимиру подняться. Казимир, с затёкшим глазом и окровавленным носом, встал, перевёл дыхание и, процедив: «Ну, я это ему припомню», удалился.
– Что будем делать, сеньоры? – спросил Музыкант, оглядывая замолчавших «королей». – Дорога каждая минута, джентльмены, нельзя об этом забывать…
– Искать надо, – коротко ответил Хирург. – Вечером соберёмся опять.
И совещание было прервано…
Между тем и «Плевако» не терял зря времени. Сразу после освобождения из тюрьмы он поехал тоже на Обводный канал к знаменитому среди домушников деду Силантию, в прошлом тоже квартирному вору, забросившему промысел по старости лет. Теперь он содержал воровскую хазу.
Дед Силантий был глубоким стариком с длинной, седой, как у патриарха, бородой, беззубым ртом и хитрыми слезящимися глазами. Хотя ему было далеко за восемьдесят, он был ещё крепок, много пил, азартно играл в карты и нередко при этом передёргивал. Скупая за бесценок краденые вещи, дед потом выгодно сбывал их через свою обширную агентуру, состоявшую из рыночных торговок, мальчишек и всякого рода пропойц.
Дед был богат и скуп. Он жил скромно, пил обычно за чужой счёт и любил жаловаться на плохие дела.
Когда «Плевако» появился в комнате деда, у него сидел карманный вор Митрошка-маркиз, прозванный так за франтовство Это был юркий, подвижный парень с ярким галстуком, в модных брюках дудочкой, остроносых лакированных туфлях «шимми» и пиджаке цвета «остановись, прохожий!».
Увидев вошедшего «Плевако», дед и Митрошка-маркиз заревели от восторга и начали расспрашивать неожиданного гостя, как ему удалось «выбраться из тюряги». «Плевако» откровенно рассказал им, как, зачем и на какой срок он освобождён. Митрошка-маркиз, узнав о происшествии с брегетом Эррио, сразу сказал:
– Знаю, знаю, в курсе дела! Я его видел.
– Ты видел брегет? – вскочил «Плевако».
– Не брегет, а этого Эррио, – ответил Митрошка-маркиз. – Вычитал в газете, что приезжает этот француз, и сразу поплыл на вокзал. Там, понимаешь, чистый шухер на бану. Вся власть, милиция, цветы, кинооператоры, лопни мои глаза! Я, как всегда, был одет очень культурно, и меня даже приняли за кинооператора. Как только поезд подошёл, подбегает ко мне один из распорядителей и кричит: «Камеру, давайте камеру!» А мне, понимаешь, послышалось: «В камеру, в камеру!» Я, конечно, сдрейфил и хотел смыться, но вовремя трехнулся, о какой камере идёт речь… Потом вышел из вагона этот Эррио – черноватенький, с усиками, похож на защитника, с улыбочкой. Одним словом, душа-человек. Ну, тут представитель города закатил речугу. Как сейчас помню, очень душевно говорил. Дескать, рады мы вас видеть в городе революции, господин Эррио, чувствуйте себя как дома, не простуживайтесь; вы один из первых иностранцев, кто к нам в гости пожаловал, но ничего, авось и другие за ум возьмутся… А насчёт харчей не волнуйтесь – сделаем для вас первый сорт, и вообще будем друзьями… Ну, конечно, и Эррио за словом в карман не полез, тоже деликатно отвечал. Мерси, говорит, за тёплые слова, век не забуду. Я, говорит, Россию весьма уважаю, хоть вы теперь и большевики, а что вы своего Николку рыжего на тот свет командировали, так за это, говорит, честь вам и слава, туда ему, дураку, и дорога… В общем, говорит, давайте познакомимся, может, и толк какой выйдет…
– Ты мне про брегет скажи, – прервал Митрошку-маркиза взволнованный «Плевако». – Где брегет?
– В глаза не видал, – ответил Митрошка-маркиз. – Не стану же я на гостя бросаться, да ещё француза, когда я сам маркиз…
– Ну, а потом про этот брегет не слыхал?
– Слыхал. Параничев вчера говорил…
– Какой Параничев? Из уголовки?
– Он. Встретил меня на Сенном и спрашивает: «Ты про брегет знаешь?» А я на него сердит. Он меня два раза сажал: один раз за дело – ничего не имею против, а второй раз – по ошибочной несправедливости. На Сенном какой-то псих мясников ограбил с применением огнестрельного… Параничев мне это дело пришил. Но правосудие сказало своё веское слово в нарсуде четвёртого отделения, и меня оправдали. Ладно. Вчера как Параничев ко мне подъехал с этим брегетом, я ему из вежливости говорю: «Здрасьте». Он с таким подходцем спрашивает: «Ну как живёшь, Маркиз, чем занимаешься?» А я отвечаю: «Живу неплохо, а занимаюсь теперь научной работой: выясняю, живут ли люди на луне». А он говорит: «Ты про луну брось, ты мне про брегет лучше расскажи». А я ему так, понимаешь, в сердцах отвечаю язвительно: «Вы, по всему видать, гражданин Параничев, не в себе. Или, может, вам совестно, что вы зазря мне мясников пришили? Так не волнуйтесь: пролетарский суд исправил вашу грубую опечатку».
– Ну, неужели так и отломил? – спросил «Плевако».
– Не сойти мне с этого места!.. Так он даже поёжился, вроде как от озноба… А потом опять этак жалостно спрашивает, не видал ли я этот брегет. А я и верно его не видал…
– А ребята ваши ничего не знают об этом брегете? – спросил «Плевако».
– Те, кого я видел, говорят, что не знают. И слуха об этом брегете нету, будь он проклят…
«Плевако» тяжело вздохнул. Дед, молча слушавший этот разговор, теперь вмешался:
– Я вам вот что скажу, чижики. Дело худое… Житья вам не будет, ежели этот брегет не отыщется, потому вопрос политический. Я бы самолично ухи оторвал тому жлобу, который этот бимбар увел! О чём он, сукин сын, думал, когда к такой персоне в карман залез? Теперь надо хоть весь город перевернуть, а бимбар сыскать. Одним словом, ребята, послушайте старика. К Маньке-блохе забегите, к Филимону Петровичу, к Княгинюшке. Надо все хазы объездить, всех на ноги поставить! И так им от меня и скажите, что дед, мол, говорит: не будет нам житья, если не найдём этот бимбар, не будет!..
«Плевако» и Митрошка-маркиз слушали деда очень внимательно. «Плевако» был доволен, что дед его поддерживает, а Митрошка-маркиз подумал, что благодаря этому происшествию он как организатор розыска брегета сразу приобретёт авторитет в воровской среде. Митрошка-маркиз в своё время был исключён Хирургом из артели и теперь работал в одиночку. Это было гораздо труднее, и Митрошке-маркизу очень хотелось обратно в артель, откуда его исключили за то, что однажды он был уличён Хирургом в том, что не сдал в «котёл» свой улов. Митрошка-маркиз в пьяном виде проболтался об этом в пивной, и Хирургу стало всё известно. Хирург тогда объявил об этом на собрании артели, и был неслыханный позор…
Теперь, как думал Митрошка-маркиз, он может взять реванш и заработать право возвращения в артель.
Уже к вечеру благодаря стараниям Музыканта и Хирурга, Ваньки-ключника, Кольки-быка, «Плевако» и Митрошки-маркиза во всех малинах города знали о происшествии с злополучным брегетом. Поднялся большой шум.
С другой стороны, не терял времени и уголовный розыск, работники которого сбились с ног, стараясь напасть на след брегета.
А Эдуард Эррио продолжал знакомиться с достопримечательностями города. Неизвестно, что он думал по поводу исчезновения своего брегета, и думал ли он об этом вообще, будучи поглощён осмотром музеев, дворцов, великолепных набережных великого города и в ещё большей степени тем, что в этом городе происходит. Как умный человек и трезвый политик, Эррио хорошо понимал, что события, происшедшие в этой стране, имеют всемирно-историческое значение, и теперь, всматриваясь в лица людей, в обличье улиц, посещая театры и магазины, музеи и заводы, парки и клубы, Эррио видел, что русским ещё очень трудно, что не хватает товаров, что ещё не ликвидированы последствия царского режима, войны и разрухи, но что при всём том народ поверил в цель, которую поставила перед ним партия, и теперь идёт к этой цели уверенно и дружно.
Да, эти русские ясно видели на ещё далёком горизонте своё будущее и смело шли к нему, несмотря ни на какие трудности и помехи. Их не смущало ни то, что они плохо одеты, ни то, что ещё трудно с питанием, ни то, что на них злобно урчит весь капиталистический мир, ни то, что в их собственной стране ещё имеются враги того дела, за которое они борются…
И хотя Эдуард Эррио далеко не во всём разделял идеи, сплотившие миллионы этих людей, он всё чаще размышлял о том, что могучая сила этих идей уже сама по себе заслуживает уважения и что, во всяком случае, они стоят друг друга – эти идеи, увлёкшие такой народ, и этот народ, увлёкшийся такими идеями.
Эти размышления Эдуарда Эррио о судьбах новой России, её революции и её будущем потом были им выражены в книге «Новая Россия», написанной после его возвращения на свою родину.
Вот почему происшествие с брегетом, вероятнее всего, не так уж занимало Эррио или вовсе не занимало его.
Вот почему, будучи через два дня на оперном спектакле в театре и внезапно обнаружив после прогулки в театральном фойе свой брегет в заднем кармане брюк, Эррио совсем не удивился или, во всяком случае, не выдал своего удивления. Только на мгновение он задумался, потом весёлая искра вспыхнула в его живых тёмных глазах, и лукавая улыбка осветила его характерное лицо – с высоким чистым лбом, густыми, мохнатыми бровями, коротким прямым носом и упрямым подбородком.
– А вот, господа, и брегет, – сказал он сопровождавшим его лицам. – Представьте, он оказался в заднем кармане моих брюк… Мир населён неожиданностями, господа… Хотя я всегда полагал, что и неожиданности закономерны…
