Мой дед Алексей Пискарёв
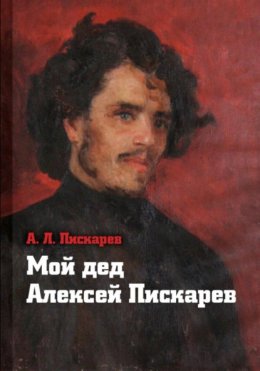
Предисловие
Дорогие читатели, в руках вы держите книгу о необычной, трудной и драматической жизни одаренного человека, моего деда Алексея Константиновича Пискарева. Сын родившегося крепостным крестьянина, он был одарен физически – ладно скроен и красив, сумел развить трудовые навыки и интеллект – в 14 лет получил звание мастера-литейщика, а после многих лет вечерних занятий на курсах, организованных графиней Паниной, получил из рук прекрасных учителей образование, равное гимназическому. Там он научился писать стихи, в эмоциональной силе которых вы сможете убедиться, читая эту книгу.
Страстность, далеко не всегда контролируемая, повела его сложной дорогой по бушующей и погибающей России начала и середины XX века. Еще очень молодым, но уже уважаемым рабочим, к тому же образованным, он перед 1905 годом стал признанным вожаком рабочего движения Московского района Санкт-Петербурга.
К 8 января 1905 года относится начало его знакомства с Горьким. В этот день, в канун знаменитого выступления рабочих под руководством Гапона, А. К. Пискарев принес в редакцию газеты «Сын Отечества» очередную заметку о событиях на рабочих окраинах Петербурга. Позднее тот же Горький снабдил деда оружием, переданным из Парижа Гапоном для совершения терактов.
День 9 января стал переломным в его мироощущении и судьбе. Портрет царя из «красного угла» квартиры выкинут на помойку. Впоследствии отдана дань и самосуду рабочих товарищей, и террору под руководством известных вождей эсэров Савинкова и Рутенберга. Было место и подвигам, таким как спасение от ареста своей невесты, «назначенной» революционной организацией, чтобы носить ему передачи и держать связь с товарищами. Но вскоре пришла любовь, и по выходе деда из тюрьмы они поженились. За 15 лет бурной, непрерывно меняющейся жизни родили девятерых детей.
Любовь к семье, к детям стала самым сильным чувством дальнейшей жизни Алексея Константиновича. Появившиеся у него в руках факты, свидетельствующие об отсутствии чистоты в помыслах и жизни старших революционных товарищей, отсутствие организации (или преднамеренное разрушение такой организации изнутри) в Кронштадтском восстании 1906 года отдалили его от революционного движения. После 1908 года оставалась только общественная работа в профсоюзе металлистов вместе с будущим «всесоюзным старостой» М. И. Калининым. К 1917 году благодаря своим многочисленным профессиональным навыкам Алексей Константинович организовал несколько предприятий и «фермерское», как мы назвали бы его теперь, хозяйство в пригороде Петербурга, ставшего к тому времени Петроградом. Это хозяйство спасло его большую семью в последовавшие (1917–1922) голодные годы.
В 1917–1918 годах он стал перед выбором: откликнуться на призыв к сотрудничеству с прежними товарищами или идти к неминуемой гибели самому (Собственник! Буржуй! Землевладелец!) и вести туда же свою семью. Широко известен лозунг того времени: «Кто не с нами, тот против нас!». М. И. Калинин, вытащив моего деда после очередного ареста из тюрьмы, этот лозунг конкретизировал: «Хочешь жить – вступай в партию!». Последовали несколько бурных лет служения в Информотделе Балтийского флота, активная журналистская работа, возобновившиеся контакты с Горьким.
Март 1921 года отметился кровавым разгромом нового Кронштадтского восстания, причем ядром восставших были те самые матросы, на которых опирались большевики в ноябре 1917 года. Эта дата обозначила новую веху в судьбе деда. По его воспоминаниям, он «вышел из всех партий» и вернулся к своей профессиональной и предпринимательской деятельности, благо большевистское правительство для «выхода из голода» и ослабления протестов вынуждено было объявить «новую экономическую политику». За несколько лет он организовал и возглавил производство фетровой обуви и шляп, превосходивших по качеству европейские изделия своего времени. И, конечно же, попал под пресс судебной расправы с «нэпманами» в конце 20-х годов, несмотря на то что незадолго до ареста получил медаль Первой Всесоюзной Промышленной выставке.
И снова он нашел себе место в меняющемся ми-ре, поступив на работу на Кораблестроительный завод им. Марти, – сначала простым рабочим-литейщиком, а через несколько лет дорос до должности научного сотрудника в профильном научно-исследовательском институте. Но пришел 1938 год, подразделения «органов» соревновались друг с другом в выявлении «врагов народа», и мой дед снова попал в заключение по изобретенному следователем делу о покушении на жизнь членов Ленинградского Обкома ВКПб («Как, всех сразу?» – спросил у следователя изумленный Алексей Константинович). Читатель найдет документальные записи, какими методами достигались признания подследственными своей вины. Признавались все, за самым небольшим исключением, но А.К. Пискарев вынес допросы и пытки, ни в чем не признался, и через два года получил необычайно мягкий, по тем временам, приговор: пять лет ссылки.
С ним в камере сидел еще один «вредитель» – конструктор подводных лодок. И, читая о невероятных трудностях, с которыми Советский Союз налаживал производство военной техники в годы войны, я думаю: сколько миллионов русских жизней могло быть спасено, если бы огромное число талантливых людей, составляющих цвет технической мысли страны, занимались в этот период своим делом, а не гнили после расстрела в могилах или доживали свой век в лагерях с кайлом и лопатой в руках.
Дед умер в 1955 году на 101-м километре от Ленинграда, будучи уже реабилитированным, но не получив еще нормальных документов и пенсии. Остались тетради воспоминаний, пачки исписанных карандашом листов оберточной бумаги. Расшифровка текстов в ряде случаев требовала работы со сканом и последующей обработки. Эти тексты и составили основу книги. К счастью, дед еще в предреволюционные и первые послереволюционные годы начал интересоваться историей семьи крепостных крестьян Пискаревых. Он ездил на нашу малую родину, в Подмосковье, собирал рассказы стариков, смотрел церковные и волостные архивы, теперь уже утраченные. Так появилась история, начало которой относится примерно к 1810-му году.
Органично вошли в книгу и воспоминания моей матери, Нины Алексеевны Пискаревой, четвертого ребенка Алексея Константиновича. От деда она унаследовала энергию и страстность. Картины быта семьи в годы ее детства ярко дополняют историю, которую я предлагаю вниманию не только многочисленных потомков А.К. Пискарева, но и людей, интересующихся подлинной историей нашего Отечества.
В книге вы найдете личные впечатления и воспоминания об известных деятелях эпохи – отце Гапоне и Рутенберге, Хрусталеве и Парвусе, Троцком и Ленине, Горьком и Амфитеатрове, Федоре Раскольникове и Ларисе Рейснер. Замечу, что Горький был, пожалуй, единственным из этих лиц, к кому мой дед сохранил почтительное уважение до конца своих дней.
Деревня Беляево, имение Толстых. Алексей Степанович Пискарев. Сдача в рекруты, вероятная гибель в Севастополе
Первые страницы воспоминаний моего деда Алексея Константиновича Пискарева переносят нас в Россию начала XIX века, – Россию, которая нам так близка по классической русской литературе. Это время начала хорошо знакомой всем России – огромной страны с устоявшимися границами, с народом, который, развиваясь и распространяясь из своего ядра – Московского великого княжества, – впитал в себя и кровь, и обычаи населения огромных территорий, простиравшихся от Польши до Китая и от среднеазиатских степей до суровых берегов Северного Ледовитого океана. Ощущение бескрайних просторов и нескончаемой прочности русского государства пронизывало все слои русского народа: от императора, его высших чиновников и владетельного дворянства до простых, полностью бесправных крестьян.
Ушла в прошлое эпоха Пугачевского восстания. Дворянство, уже не отягощенное обязательной государственной службой, поверило в незыблемость своего привилегированного положения, а крестьяне в массе, казалось, свыклись с полурабским положением.
Важнейшая отличительная черта этого времени – формирование современного русского литературного языка. Пушкин – первый русский писатель, стихами и прозой которого мы наслаждаемся до сих пор, не испытывая затруднений в понимании написанных им слов и не задумываясь над их современным значением. Язык Пушкина объединил Россию в большей степени, чем существовавшие на протяжении всей ее истории мощные полицейские силы. Никто лучше Пушкина не смог сказать и о полной драматизма отличительной черте народа и государства – непреодолимом барьере, выросшем между высшим и низшими слоями российского общества.
- Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
- Среди цветущих нив и гор
- Друг человечества печально замечает
- Везде невежества убийственный позор.
- Не видя слез, не внемля стона,
- На пагубу людей избранное судьбой,
- Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
- Присвоило себе насильственной лозой
- И труд, и собственность, и время земледельца.
- Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
- Здесь рабство тощее влачится по браздам
- Неумолимого владельца.
- Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
- Надежд и склонностей в душе питать не смея,
- Здесь девы юные цветут
- Для прихоти бесчувственной злодея.
- Опора милая стареющих отцов,
- Младые сыновья, товарищи трудов,
- Из хижины родной идут собой умножить
- Дворовые толпы измученных рабов.
Эта драматическая ситуация и привела, в конце концов, к трагедии русского народа в XX веке.
Все, что написано о времени начала XIX века, написано людьми из высших сословий российского общества, людьми умными, достойными, образованными и глубоко чувствующими. Но все же на жизнь крестьян они смотрели со стороны. А. К. Пискарев – кровь от крови и плоть от плоти порабощенного и бесправного большинства русского населения. Конечно, сам он родился несколькими десятилетиями позже, в 1883 году, когда крепостное право уже стало историей. Но до семилетнего возраста он жил в той самой деревне Московской губернии, в которой жили его деды и прадеды, и повседневный быт семьи Пискаревых во времена его детства ненамного изменился с начала века. Он сохранил детские впечатления и воспоминания о местах и людях своей деревни. Уже в зрелые годы А. К. Пискарев неоднократно бывал на своей малой родине, слушая рассказы стариков о давно прошедших временах. Поэтому составленное им описание жизни и быта основателя нашей фамилии, дворового крестьянина Алексея Степановича Пискарева, вполне может считаться повествованием очевидца. И как же много ярких поэтических зарисовок, связанных с красотой природы и простыми человеческими радостями, выделяются на сером фоне рассказов о первобытной скудости и дикости крестьянской жизни того времени!
В письме, адресованном старшему сыну Константину и написанном уже в послевоенное время, А. К. Пискарев рассказывает о проведенном им исследовании происхождения фамилии Пискаревых.
