Девочка на месяц
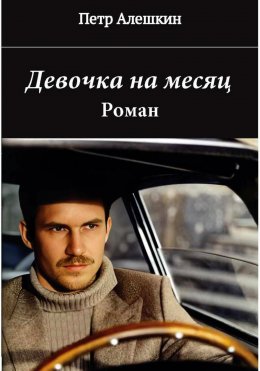
И никому его не жаль.
Данте. «Божественная комедия»
1
Повеситься можно было на трубе.
Дмитрий Иванович Анохин вообразил, увидел явственно, как он вытягивает из брюк ремень, делает петлю, встает на унитаз, привязывает конец ремня к трубе, надевает петлю на шею и соскальзывает вниз; отчетливо услышал, как испуганно суетятся в коридоре сотрудники издательства; представил четко, с каким ужасом заглядывают они в туалет, где вытянулось вдоль стены его безжизненное тело с синим лицом, с выпавшим изо рта языком, c вылезшими из орбит безобразно и жутко белыми глазами, и содрогнулся, резко качнул головой, освобождаясь от страшного виденья и начал медленно вытирать руки чистым полотенцем. В душе его по-прежнему стояли, томили боль, тоска, скорбь! Казалось, что за две прошедших с того случая недели мучительная боль ничуть не притупилась. Особенно остра была, когда он оставался один. Душил, почти физически душил постоянный, тягостный вопрос: что делать?! Что делать?!
Дмитрий Иванович осторожно, потихоньку, словно он таился (прежде он по деревянным ступеням узкой лестнице взлетал), поднялся на мансардный этаж, где был его кабинет с фотопортретами на стенах почти всех знаменитых писателей России. Они были авторами издательства «Беседа», которым руководил Анохин со дня его создания. Дмитрий Иванович тяжело сел в скрипнувшее кресло и шумно выдохнул. Чувствовал он себя так, словно взбежал на шестнадцатый этаж. Увидел на столе письмо знакомого писателя с заявкой на новый роман и взял ручку, пододвинул к себе чистый лист бумаги. Хотелось чем-нибудь заняться, чтобы забыться, не слышать навязчивый вопрос-вопль: что делать! Но ручка застыла над чистым листом, он забыл, что хотел писать ответ на заявку. Замер надолго, не слышал привычного гула машин из открытого окна, выходящего в переулок, не услышал шагов секретарши Кати. Очнулся, вздрогнул, вскинул голову, только когда она спросила:
– Дмитрий Иванович, вы сегодня сами издательство закрывать будете? Все ушли…
Спросила она негромко, приглушенным голосом, таким, каким разговаривают с больными. Он почувствовал в ее голосе некоторую предупредительность, жалость к нему. «Все знают, все обсуждают! – с горечью мелькнуло в его голове. – Все ждут, чем кончится… Если делиться придется, то всех коснется! – подумал Дмитрий Иванович о сотрудниках. – Горько, горько! Они-то при чем?»
– Сколько уже? – глянул Анохин на часы и попытался доброжелательно улыбнуться секретарше. Он был уверен, что Катя искренне переживает за него, возмущена случившимся. Ее он непременно возьмет с собой в новую фирму, которую неизбежно придется открывать. Катя умна, добра, а главное, верна. – Минуточку еще, Катенька! Письмо закончу… – на этот раз он улыбнулся секретарше оживленней и искренней.
– Чаю хотите? – спросила Катя.
Дмитрий Иванович кивнул и склонился над листом бумаги. Она повернулась энергично, быстро вышла и звонко застучала каблуками по паркету приемной. Слышно было, как скрипнула дверца шкафчика, где она хранила посуду.
А входила Катя почти на цыпочках, потому он не услышал ее шагов. Секретарша знала, что директор называет ее Катенькой только в хорошем расположении духа. Значит, оживает, поняла она, принял какое-то решение. Слава Богу, а то уж две недели в издательстве, как в погребе, тишина, мрак и запах тлена. То, что директор выкрутится, как бывало прежде не один раз, Катя не сомневалась: только бы поскорее.
А Дмитрий Иванович вновь забыл, что хотел ответить на заявку. Вновь возник, начал терзать вопрос: что делать?! Никогда еще за свои сорок три года он не чувствовал себя так беспомощно. Раньше он был скор в решениях, нетерпелив. Но раньше… раньше… Почему же? И раньше был с ним почти такой же случай, когда ему пришлось круто менять жизнь: оставить жену с ребенком, квартиру со всей обстановкой, работу, родной город, забыть о прошлом и начинать все с нуля. Вспомнив об этом, Дмитрий Иванович горько усмехнулся. Почти так, да не так! Тогда ему было двадцать три года, вся жизнь впереди. Кем он тогда был? Никем, мечтателем… А теперь довольно известный литератор, директор издательства, отец двух почти взрослых детей. Мечтатель не мог долго страдать. Помнится, тогда он мучился всего одну ночь. Кинул в чемодан самые необходимые вещи, только что изданную первую книгу и навсегда сбежал из Тамбова свободным от прошлого человеком. Все мысли были только о будущем. Теперь, когда вдруг вспоминалась ему прежняя домосковская жизнь, она казалась ему нереальной, выдуманной так же, как жизнь героев его романов. До вчерашней встречи с сотрудником спецслужбы Дмитрий Иванович думал, что уйдет из семьи, разделит издательство, откроет новую фирму один, без друзей… Друзей, оказывается, в бизнесе не бывает. А теперь-то что делать!?
Резко ударил в уши телефонный звонок, оторвал от тяжких мыслей. Дмитрий Иванович испуганно схватил трубку.
– Я по объявлению, – услышал он чуть вздрагивающий девичий голос и, успокаиваясь, хотел сразу ответить: – «Извините, я уже нашел!», но что-то удержало его. Дмитрий Иванович часто думал потом, в Америке, почему он не положил трубку, ведь к тому времени он уже решил, что едет в Штаты с Диной, договорился с ней, и сегодня вечером они должны были везти паспорта и приглашение знакомому дельцу, который всегда делал ему визы.
Дело в том, что еще задолго до случившегося издательство «Беседа», как обычно, пригласили в США на книжную ярмарку в Чикаго, и он оформил все документы для участия в ней, оплатил стенд. Осталось получить визы. А тут этот случай. Вначале Дмитрий Иванович решил отменить поездку. Не до ярмарки, когда все рушится, и неизвестно – будет ли существовать издательство через месяц. Потом, когда тоска и боль так допекли его, а достойного выхода все не находилось, ему в голову пришла шальная дурацкая мысль: взять какую-нибудь деваху и укатить с ней в Америку на месяц, отвлечься, отдохнуть, забыть обо всем в ее объятьях, убить тоску, а там решение, как жить дальше, само придет, вернется к нему уверенность, решительность, уляжется злость, ненависть и боль.
В те дни он хотел снять квартиру, чтобы не жить под одной крышей с женой. Купил газету «Из рук в руки», стал читать объявления и среди прочих увидел, что какой-то мужчина приглашает привлекательную девушку без комплексов провести совместный отпуск в Швейцарских Альпах. Прочитал, написал объявление: «Предлагаю молодой девушке прокатиться на машине по США от океана до океана» и отвез в редакцию. Дмитрий Иванович прекрасно понимал, что нормальные девчонки не позвонят, ждал звонков от легкомысленных. Они и звонили. Встретился с несколькими. Выбрал Дину. Она выглядела раскованней, вульгарней, шалавистей других. По ее лицу да по двум произнесенным словам любой неискушенный человек мог легко догадаться, что умом она не блещет. Дмитрий Иванович никогда не имел дела с такого рода женщинами и думал, что та, что поглупей и полегкомысленней, станет послушней, не будет мешать ему думать, станет для него как бы кошечкой. Когда ему взгрустнется, он ее погладит, приласкает, а когда захочет побыть с самим собой, отодвинет в сторонку, чтобы не мешала. Сегодня вечером Дина должна была передать ему свой паспорт для оформления визы. Договориться-то договорился, но на другой же день засомневался, не сведет ли она с ума своей глупостью, не ошибся ли он? А после вчерашней, ужасной встречи с сотрудником спецслужбы планы его насчет Америки резко изменились: он решил просить там политического убежища. Оснований, убедительных документов для этого у него было столько, что он мог рассчитывать, что ему не откажут. Кроме того, он сразу же после встречи с сотрудником спецслужбы вспомнил о знакомом директоре американского литературного агентства, который говорил ему, что за пять тысяч долларов известный в своей стране человек может получить в США гринкарту, вид на жительство. Позвонил ему в Нью-Йорк и спросил: поможет ли тот сделать гринкарту? Естественно, не бескорыстно. Литагент пообещал связаться с адвокатом, который был мастером таких дел, подготовить все к приезду Анохина. Тогда встал вопрос: как быть с Диной, брать или не брать ее с собой? Дмитрий Иванович пока не знал, как быть: прокатиться по Америке или отказаться от этой затеи. Очевидно, удирать навсегда в США ему не хотелось, надо думать, не прижилась, не укоренилась прочно в его душе эта мысль, должно быть, он надеялся подспудно, что все устроится, перемелется, устоится. Может быть, поэтому, услышав в телефонной трубке дрожащий девичий голос, он сразу не отказал, не отключил телефон. Возможно, не последнюю роль сыграло то, что голос у девушки был юн, чист и вздрагивал от волнения, нерешительности и смущения. Дмитрию Ивановичу показалось, что она ждет отказа и будет рада ему, примет с облегчением. Разных голосов наслушался он, когда подал объявление: развязных, прокуренных, пьяных. И спросил:
– Как вас зовут?
– Елизавета…
– Ну да, Елизавета? Скорее Лизонька, так ведь?
В ответ молчание.
– Ну, хорошо, Елизавета, сколько вам лет?
– Это важно?
– Конечно, важно. Не поеду же я со школьницей, – усмехнулся он в трубку.
– Я студентка… и давно совершеннолетняя…
– Это хорошо, – произнес он, думая, что со студенткой, может, повеселее будет, и решил, если она студентка гуманитарного факультета, то он сейчас же встретится с ней, посмотрит на Елизавету-Лизоньку. – А какой институт?
– Факультет, курс, группа вам тоже нужны? Может, и характеристику принести? – голос у девушки стал обиженный, недоуменный и немножко дерзкий.
– Молодец, Елизавета, хорошо отбрила… Я имел в виду профиль института. Кто вы – физик, лирик? Это для меня важно…
– Филолог… Удовлетворены?
– Удовлетворен. Но вы знаете, через два дня надо лететь! Это вас не пугает?
– Радует, – быстрый, бодрый ответ.
– Тогда давайте встретимся, поглядим друг на друга. – В голове его вдруг мелькнула жуткая мысль: не из спецслужб ли она? Прослушали его разговор с американским литагентом и подослали?.. Не может быть! Слишком рано. Звонил-то он в Нью-Йорк всего часа четыре назад. Неужто наши спецслужбы научились так быстро принимать решения? Такого быть не может, успокоил он сам себя.
– Когда встретимся и где? – спросила девушка.
– Прямо сейчас. Где вы хотите?
– Я звоню из библиотеки… из бывшей Ленинки…
– Возле нее встретимся через двадцать минут. Я буду на автостоянке напротив входа в библиотеку за рулем черного «Мерседеса». На мне белая сорочка с короткими рукавами. Зовут – Дмитрий… – Он запнулся перед словом «Иванович», ведь для такой девушки он должен быть без отчества. Вспомнилось, что Дине он представился Сашей, не хотелось называть себя, а тут почему-то невольно вырвалось настоящее имя, и он быстро добавил: – Дима… Жду десять минут, до семи часов, – взглянул на часы. – Не появишься, значит, не судьба!
Дмитрий Иванович положил трубку и поднялся, решительно взял кейс. Невольно подумалось, что боль как-то отодвинулась, спряталась глубже, затаилась, но как только он вспомнил о ней, она тут же вырвалась наружу и снова полупарализовала его. В приемной спросил секретаршу:
– Катя, подбросить к метро?
– А чай?
– Выключи. Поехали!
– Секундочку, Дмитрий Иванович! – засуетилась секретарша. – Идите, я догоню… Двери закрою… На сигнализацию поставлю.
В машину она садилась, он обратил внимание, оживленная, посвежевшая. Глаза и губы заново, чуточку, аккуратно, почти незаметно подкрашены, короткие волосы расчесаны. Кончик и обе боковые стороны большеватого и широкого носа припудрены темной пудрой, а сверху, от переносицы нанесена светлая пудра, и от этого ее нос казался меньше. Отметил он это с удивлением: когда успела? И с усмешкой над собой – может, выздоравливаю? Хватит томиться, страдать, надо жить, жить! Не я первый, не я последний! Конечно, полжизни потеряно, все потеряно, чем жил… Нет, не верно. Никто не отнимет того, что нажил в душе, никто не отнимет опыт… и книги… Книги всегда будут со мной.
Катерину высадил у метро и поехал дальше, думая о встрече с Елизаветой. Кто она? Проститутка? Не похоже. Искательница приключений? Американоманка на все готовая, лишь бы увидеть страну своей мечты? Посмотрим, посмотрим. Дмитрий Иванович проехал вдоль нового здания Государственной библиотеки, повернул налево на Воздвиженку, где была площадка для стоянки автомобилей, и сразу увидел девушку, понял, что это Елизавета. Была она в белой летней майке без рисунков и надписей на груди и в джинсовых шортах, с большой, тяжелой, на взгляд, серой матерчатой сумкой через плечо. Судя по очертаниям, в сумке были книги и тетради. Издали было видно, как она хороша и прекрасно сложена. Он подъезжал, притормаживая, и рассматривал Елизавету. Темно-русые волосы, реденькая челка большим полукругом прикрывает высокий лоб, касается темных бровей, которые намного темнее волос. Вероятно, она их подкрашивает, решил Анохин. И форма у них необычна – вразлет, волной. На немножко удлиненном тронутым легким загаром лице ни тени косметики, ясные серые до голубизны глаза настороженно прищурены, вглядываются в него. На вид лет девятнадцать. И что больше всего поразило Дмитрия Ивановича, что бросилось ему в глаза еще издали: она была очень похожа на его шестнадцатилетнюю дочь Ольгу. Он остановил машину у бордюра, стал смотреть, как она идет к нему неторопливо, с достоинством, но по тому, как девушка вцепилась рукой в ремень сумки, перекинутый через плечо, догадался, что она усердно скрывает волнение. Анохин, вылезая из машины, заметил, как Елизавета, взглянув на него, чуть замедлила шаг, как бы споткнувшись. На ее лице и в глазах промелькнуло некоторое разочарование, растерянность, неуверенность, но она быстро погасила эти чувства. Он мысленно взглянул на себя ее глазами, глазами юной девушки, увидел начинающего седеть мужчину с большими залысинами, с наметившимися морщинами у глаз. Отец у нее, возможно, моложе его: видно, надеялась увидеть молодого красавца, «нового русского», оттого и разочарование мелькнуло в ее глазах. Но как она похожа на Ольгу!.. Последние шаги девушки навстречу были уже не столь уверенными. На искательницу приключений она не походила, на легкомысленную девчонку тоже. Впрочем, в ее возрасте все с ветерком в голове. А вдруг это не Елизавета? Ему почему-то захотелось, чтобы это была не она, и он спросил:
– Елизавета?
Она молча, растерянно тряхнула челкой. Это невинное движение головой сначала показалось ему забавным, развеселило его. Он засмеялся коротко, но быстро оборвал смех, потому что непонятно из-за чего вдруг стала подниматься на нее злость: куда она лезет? Он быстро обошел машину, открыл дверь со стороны пассажира и приказал ей:
– Садись!
– Куда мы поедем? – растерялась, заколебалась она.
– Куда скажу! Садись!.. – Елизавета полезла в машину. Он быстро сел на свое место и стал выруливать на улицу, спрашивая: – Боишься?.. На месяц черт знает куда ехать не боишься, а в Москве боишься?
– Я еще не решила… – неуверенно ответила она, не глядя на него.
– Честно сказать, я тоже еще не решил… А если совсем честно, то сейчас одна шалава ждет моего звонка, чтобы передать мне паспорт для визы. Ведь мне с собой нужна шалава, – говорил он грубо. – Я думаю, ты верно поняла мое объявление!
– Остановитесь, пожалуйста, я выйду! – резко перебила она его.
– Сейчас перекресток проскочим, – ответил он и почувствовал жалость: зря он с ней так. Девчонка, по всему видать, хорошая. Зря обидел… За перекрестком он останавливаться не стал, свернул на Поварскую улицу и потихоньку покатил по ней. Она была узкая и с обеих сторон забита стоявшими машинами. Он ехал и косился на Елизавету. Она смотрела вперед. Брови нахмурены, вытянулись в прямую линию. Глаза налиты влагой. Молчала, не просила остановиться. Он тронул ее легонько за плечо.
– Не обижайся…
– Вы грубите, а глаза у вас грустные, – неожиданно сказала она, по-прежнему не глядя на него.
– Когда же ты успела заметить? – засмеялся он. – По-моему, с того момента, когда тебя поразила моя лысина, ты ни разу на меня не взглянула. – Видать, ждала, что на «Мерседесе» подкатит круторогий двухметровый красавец, «новый русский», – коротко хохотнул Анохин впервые за последние две недели. – Так?
– Не так, я боялась, что подкатит, как вы говорите, круторогий бандит.
– Может, я и есть бандит, вор в законе…
– Нет, нет… Я скажу, кто вы…
– Давай на «ты». А то мне неудобно, я тебе «ты», а ты мне – «вы». Договорились?
– Хорошо… Ты, – произнесла она неуверенно и запнулась. Видимо, ей было непривычно называть ровесника своего отца на «ты», – ты, должно быть, работаешь в инофирме, но не торговец. Скорее всего, ты переводчик в американской фирме, раз в Америку едешь, а может, менеджер, но не главный…
– Смотри-ка! – воскликнул он. – Ты у нас психолог, а не филолог. Почти все точно угадала. Как ты поняла, что не главный? По чему?
– Взгляд у вас… у тебя… Не директорский…
– А каким директорский бывает?
– Ну, такой решительный, уверенный, жесткий, командирский… Все, я теперь точно поняла, кто ты, – воскликнула она радостно. – Ты работаешь в инофирме программистом. Сидишь все время за компьютером среди таких же мужчин. Женщин у вас нету. Ты не женат, разведен, наверно. Познакомиться с хорошими женщинами некогда, весь в работе. Решил отдохнуть, а поехать не с кем. Вот и дал объявление…
Он осторожно повернул с Поварской в Скарятинский переулок, выехал на Большую Никитскую улицу и сказал серьезным тоном.
– Все! Сейчас я тебя высажу! Ты ведьма! Ты все мои мысли читаешь, все знаешь. С тобой страшно! – Он резко, круто развернулся, остановил машину у бордюра, выключил зажигание и сказал: – Выходи!
– Правда? – удивленно и вновь растерянно уставилась она на него.
– А чего сидеть, когда приехали? – засмеялся Анохин и открыл свою дверь.
– «Центральный дом литераторов. Клуб писателей», – прочитала она вслух слова на темной доске у входа в здание из темно-желтого кирпича. – Мы сюда? А нас пустят?
– Куда они денутся! – вытянул он руку с брелком сигнализации в сторону «Мерседеса». Машина пискнула, мигнула фарами, запоры дверей мягко щелкнули.
В ЦДЛ они спустились в подвал, где был бар. Там навстречу Дмитрию Ивановичу с радостной пьяной улыбкой поднялся знакомый писатель. Он был бородат, лохмат, походил на пьяного доброго лешего. Рукопись его романа была в наборе в издательстве.
– Позвони недели через две, – быстро бросил ему Дмитрий Иванович. – Извини, я сейчас занят…
В баре было полно знакомых. Они кивали ему, здоровались. Дмитрий Иванович принес от стойки две чашки кофе и два стакана темно-красного вишневого сока.
– Как советовал один из них, – кивнул он в сторону соседних столов и прочитал две строки из стихотворения. – «Для улучшения пищеварения пейте вишневый сок»… Может, ты покрепче чего хочешь? Выбор здесь широкий. Шампанское, вино, коньяк…
– Нет, нет.
– Что же мы будем делать, Елизавета? – Он отхлебнул глоток кофе и поставил чашку на блюдце. – Едем или как?
– Едем! – решительно и быстро ответила она, опустила глаза и взяла стакан с соком. Щеки ее при приглушенном свете заметно потемнели.
– Вот он настоящий директорский голос. Теперь и я его знаю! – засмеялся он, чувствуя удовлетворение. Девчонка ему все более нравилась. – Я тоже созрел – и подчиняюсь… Давай обсудим основные принципы наших взаимоотношений!
– Как это? – насторожилась, напряглась Елизавета.
– Мы едем отдыхать, так давай отдыхать. Я очень не люблю капризы, надеюсь, с твоей стороны их не будет…
– Постараюсь, – с некоторым облегчением кивнула она.
– Уж постарайся… Это раз. Второе, везу тебя я, значит, ты за мной, как нитка за иголкой. И третье, я – Дима, программист из инофирмы, ты – Елизавета, студентка. Все остальное неинтересно ни мне, ни тебе: никаких расспросов, никаких проблем, только отдых. Договорились?
– А я-то думала… – облегченно и искренне выдохнула Елизавета.
– Увы, он счастия не ищет, и не от счастия бежит, – Анохин развел руками. – Я иду звонить, а ты допивай сок, кофе… – Он поднялся, но задержался на мгновенье, говоря: – И все же я не буду тебя звать Елизаветой. Я буду звать тебя Лизонькой.
– Нет, и так ты меня звать не будешь, – улыбнулась она.
– Почему?
– Меня зовут Светланой… не обижайся…
Теперь засмеялся он и сказал:
– Так вот почему я все время думал, что ты совсем не похожа на Елизавету. Просто вылитая Светлана, Светик-Семицветик, Светлячок!.. Нет, одну я тебя здесь не оставлю, – взглянул он на соседние столы с говорливыми подвыпившими писателями, – а то эти… программисты мигом налетят на тебя, окружат, отобьют… Допиваем кофе и идем вместе…
Дмитрий Иванович решил, что Светлана, скорее всего, учится не на филологическом, а на факультете журналистики. Жаждет впечатлений для будущей работы. Иначе, чем объяснить, что она откликнулась на странное объявление незнакомого мужчины. Ни на авантюристку, ни на легкомысленную дуреху не похожа. Может, так искусно играет? Вряд ли, он бы давно ее раскусил… Если, конечно, не гениальная авантюристка. Слишком естественно себя ведет. И не глупа, нет, не глупа! И конечно, не из ФСБ, не похоже.
Дмитрий Иванович съездил с ней к знакомому дельцу, Костику Хмарину, небритому, полненькому коротышке, лысина которого всегда была масленой. Из-за этой лысины и из-за короткой щетины на щеках Костик всегда казался неряшливым. Впрочем, таким он и был на самом деле. В квартире – полнейший бардак, по полу раскрытые журналы разбросаны, под столом пустые бутылки, газовая плита и мойка завалены грязной посудой.
Светлана заполнила анкету посольства США, оставила паспорт.
– Завтра все будет о’кэй. Вечером можете приезжать за паспортом, – заверил Костик
– Так скоро?! – не удержала радости Светлана.
– Фирма веники не вяжет, – подмигнул ей Костик.
2
К своему шестнадцатиэтажному дому Дмитрий Иванович подъехал в одиннадцатом часу. Начинало темнеть. Асфальтовую площадку под окнами, где оставляли на ночь машины автолюбители, мальчишки расчертили большими квадратами и шумно, азартно гоняли мяч. Когда Анохин медленно въехал на площадку, один из них, худой, невысокий, в длинных шортах, в бейсболке с большим козырьком назад, с разгоряченным лицом и горящими глазами, подхватил мяч, быстро обернулся к нему и властно вытянул руку, показал пальцем в сторону небольшого луга, мол, гони машину туда, не мешай играть! «Ишь, стервец!» – беззлобно, с усмешкой подумал Дмитрий Иванович и послушно покатил туда, куда указал мальчишка, освободил площадку для игры. Позади него возобновились крики, возбужденные возгласы ребятишек.
В лифте он почувствовал, поймал себя на том, что возвращается домой без прежнего постоянного, тягостного чувства, без непреодолимого отвращения к жене, и был не столь мрачен, как в последние дни, будто какая-то надежда появилась, нашелся хороший выход из поганейшей ситуации.
На стук двери из комнаты выглянула в коридорчик Оля, дочь, взглянула на него своими живыми беспокойными глазами, кинула быстро, настороженно, оценивающе:
– Привет.
– Привет-привет, ты еще дома? Как же твой ночной клуб выдержит ночь без тебя? Неужели завтра не закроется от обиды, что ты его бросила? – ответил он с ласковой иронией.
Глаза дочери радостно блеснули. Оля невольно дернулась навстречу ему: в детстве, встречая отца после работы, она всегда с радостным визгом бросалась ему на шею. Последние молчаливые, гнетущие вечера в семье сильно тяготили, удручали ее. И теперь, почувствовав, что настроение у отца хорошее, она непроизвольно, инстинктивно, чуть не кинулась ему на шею, как в детстве, но сдержалась, смутилась, спросила:
– Чайник поставить?
– Давай, – взялся Дмитрий Иванович за узел галстука, начал неторопливо развязывать его, думая об Оле и Светлане: «Как они похожи!» Думать о Светлане, Светике было приятно.
Из комнаты, откуда выглянула дочь, слышалось бормотанье телевизора. Жена любила долгоиграющие мексиканские сериалы. Оля прикрыла дверь в комнату, радостно и юрко нырнула в кухню.
– Он еще не остыл! – услышал Дмитрий Иванович бодрый голос дочери, стук чайника, шипенье газа.
Когда он неторопливо вошел в кухню, чайник уже зашумел. На столе стояли две фарфоровые чашки, мед, на тарелке – бутерброды с сервелатом, булочки.
– Я с тобой… Ты не против? – Оля глянула на него своими серыми глазами вопросительно и кротко. В последние дни он ужинал один. Молча и мрачно взглядывал на детей и жену, если они появлялись на кухне, когда он был там, и они быстро и безропотно удалялись. Когда возвращался поздно, как сегодня, то пил только чай и уходил в свой кабинет.
– Отчего же… Садись. – Он взял нож, разрезал булочку поперек и начал намазывать на нее мед. Намазал, протянул Оле, говоря: – Решила отдохнуть сегодня или взрослеть начала?
– Рано, – взяла она булочку и дернула плечом.
– Рано отдыхать или рано взрослеть? – не дождался ответа и вздохнул. – Как я рад был бы, если бы ты у меня родилась пустышкой! Как ты жалеть будешь потом об этих днях, клясть нас с матерью, что в руках не держали! – сказал и подумал с горечью, с тоской: «Может быть, последний раз сижу с Олюшкой вот так, а сам опять за свое нудье. Других слов, что ли, нет?» – И помолчав, спросил: – Все у тебя в порядке?
– Не все! – вздохнула Оля и, быстро высунув розовый язык, слизнула капельку меда с края булочки. – Вспомни, что тебе не хватало в мои годы?
– Мне не хватало на мороженное для девочек, на кино, на танцы. Тогда мы, мальчики, платили.
– Сейчас равноправие.
– Сколько же тебе не хватает?
– Двести…
– Тысяч? – усмехнулся он.
– Папа, если бы ты дал мне столько тысяч, я бы свой ночной клуб открыла! – воскликнула Оля и сморщила губы. – Всего двести баксов.
Дмитрий Иванович не допил чай, поднялся, вышел в коридор. Достал из кейса бумажник, вытянул из него две зеленые бумажки, помешкал, взял еще одну, вернулся в кухню и положил их на стол перед дочерью.
– Папочка, был бы ты всегда такой! – с восторгом вскочила со стула Оля и клюнула его в щеку.
Он обнял дочь, прижал к себе, тоненькую, хрупкую. Жалко стало ее, грустно и обидно за себя, и вместе с тем он чувствовал себя виноватым перед ней.
– Разве я такой уж плохой?
– Не плохой, но занудливым ворчуном бываешь… – прижималась к нему дочь, обхватив его за талию руками.
– За тебя боюсь… Что же мне ремень брать? В детстве не бил, а сейчас… Боюсь, пропадешь! Глупа…
– Не глупа, пап, не глупа! – горячо возразила Оля, отстраняясь. – И бояться за меня нечего. Это меня ребята боятся! Один попытался меня обидеть, я туфлю сняла и по голове его каблуком раз, раз! Посмотрел бы ты, как он от меня сиганул! – воскликнула она с восторгом, с горящими ликующими глазами. – Шелковый потом вокруг меня ходил!
– Эх ты, дурочка, дурочка! – вздохнул, засмеялся Дмитрий Иванович, глядя на родное раскрасневшееся лицо дочери. – Милая дуреха!
– Пап, я побегу! – схватила она доллары со стола. – Пора!
– Темно уж на улице… Выспись сегодня, не пропадет без тебя твой ночной клуб.
– Высплюсь на том свете, – иным тоном, небрежно кинула Оля. Видимо, всеми своими мыслями она была уже среди друзей.
– Ты все с Игорем дружишь?
– Ой, пап, это же было сто лет назад!
– Он тебя бросил?
– Ну да, меня бросишь, – произнесла она уверенно и горделиво. – Устала я от него, надоел… У меня давно уж друг Сержик, вот такой парень! – Оля блеснула глазами и вскинула вверх большой палец. – Лучше всех!
– Утром ждать?
– Клуб до шести работает, – развела она руками у двери: мол, ничего с этим поделать не может, и скрылась в коридоре.
Дмитрий Иванович еще год назад догадался, что дочь его стала женщиной, потрясен был своей догадкой, сказал жене. Галя в ответ только недовольно, раздраженно выругалась:
– Вечно у тебя в башке одни бредни!
– Это не меня, тебя должно в первую очередь волновать! – вскинулся, рассердился он на жену. – Следи!
А сын, Борис, был домашний, спокойный, мягкий, с женским характером. Ночные клубы его не манили. Более того, он к ним враждебно относился. Но у него был другой бзик, другой вывих! Мамаша постаралась, от нее болезнь пошла. Не слышно было Бориса сейчас, хотя наверняка дома, сидит в своей комнате, труды очередного Брахмапутры изучает. По уши увяз в разных кармах, шрастрах, сакуалах и другой хреновне.
Дмитрий Иванович вымыл посуду за собой, закрылся в кабинете, не желая видеть ни жены, ни сына. Еще раз проверил, все ли документы, письма, журналы, книги собрал он для Америки, для того, чтобы приложить их к заявлению с просьбой предоставить политическое убежище или вид на жительство. Американский адвокат посоветует, что вернее, но взять нужно все и для того, и для другого. Все было на месте, все, вроде бы, предусмотрел. Постелил себе на диване и лег с книгой. Но не читалось, сразу всплыла в памяти Светлана. Усмехнулся, вспоминая, как она рассердилась, хотела выйти из машины, когда он нарочно, чтобы задеть ее, сказал, что ему нужна шлюха. Прелестная девчонка! Почему она рвется в Америку?.. Не передумала бы. С этими мыслями он заснул. Заснул быстро и спал спокойно, как давно уже не спал.
3
Костик не подвел. Дмитрий Иванович отсчитывал доллары, а Светлана как-то недоверчиво рассматривала своей паспорт. Не верилось, что так быстро можно сделать визу. Костик сунул деньги в карман, повернулся к девушке, увидел, что она уставилась в паспорт, и пояснил каким-то слащавым голосом, что виза открыта на год, в течение которого она может трижды побывать в Америке, но не больше месяца за одну поездку. Как показалось Анохину, Света только после этих слов Костика поверила, что завтра она летит в США. Он заметил, как оживились, заблестели, загорелись у нее глаза, как она с трудом сдержалась, подавила в себе вспышку радости.
– Поздравляю! – легонько приобнял ее за плечи Дмитрий Иванович.
– Спасибо вам! – взглянула она на небритого Костика и чуть заметно, неуловимо повела плечом.
Анохин почувствовал, как дрогнуло ее плечо под его ладонью, и живо снял свою руку, протянул ее Костику, прощаясь.
– Обмыть надо! – сказал он в лифте. – Честно говоря, я побаивался, что Костик подведет, не получится у него, сорвется. Теперь, слава Богу, все в порядке. Завтра летим, а сейчас в ресторан!
– Я хотела кое-что сделать сегодня, – слишком поспешно ответила Светлана. – Высади меня у метро!
– Ну, нет! Хоть часочек да посидим, поужинаем. Не огорчай меня!
– Мы еще не в Америке. Там я тебя постараюсь не огорчать…
– На часок, честное пионерское.
– Но не больше часа, – неохотно уступила девушка. – Очень тороплюсь!
Вид у нее действительно был озабоченный, тусклый, словно ее что-то тяготило.
Дмитрий Иванович снова привез ее в Центральный дом литераторов, но на этот раз привел в пестрый зал ресторана. Назывался он так потому, что все стены в нем были расписаны, разрисованы шуточными шаржами, рисунками, стихами, изречениями известных в прошлом писателей, бывших когда-то завсегдатаями ресторана.
– Тебе как филологу должно быть интересно, – указал Дмитрий Иванович на стены.
Светлана, действительно, заинтересовалась, поднялась, медленно пошла вдоль стены, время от времени спрашивая у Анохина что-нибудь о писателях, оставивших свой след в ресторане. Разговор этот продолжился за столом.
Дмитрий Иванович видел, что слушает Светлана хорошо, заинтересованно, с охотой. Ела она неторопливо, часто замирала с ножом и вилкой в руках, глядела на него то с удивлением, то с восхищением, округляла глаза и восклицала в особо увлекательных местах рассказа: «Неужели?.. вот как!.. не может быть?» Или смеялась, отчего на ее пухлых щеках появлялись ямочки. От этих ее восклицаний, от мягкого смеха, от этих удивительно милых ямочек на щеках Дмитрий Иванович вдохновлялся, возбуждался еще сильнее, чувствовал себя так, словно его накрыла и повлекла в открытый океан теплая нежная волна, и безостановочно говорил, говорил. Временами, не умолкая, он поднимал бокал с белым вином «мартини». Она тут же клала нож на стол и бралась за тонкую прозрачную ножку своего. С легким тонким звоном их бокалы соединялись на миг. С каким восхищением смотрел он, как она касается губами тонкого стекла, делает глоток, как быстро слизывает вино с верхней, влажной губы, улыбается ему, показывая ямочки, и вновь берет нож со стола чуть тронутой загаром рукой! Как сводила с ума ее реденькая челка, падавшая дугой к темным бровям! Каждый раз, когда Светлана восклицала в очередной раз: не может быть! – и встряхивала челкой, сердце его вздрагивало, сжималось, замирало. Хотелось одного: длить и длить этот вечер, смотреть на Светлану, болтать безумолчно, растворяться в томительной нежности. Такого чувства он давно уж не испытывал. Было с ним такое лишь в далекой молодости, в дни романтической влюбленности, о которых он давно забыл. Проблемы, заботы, которые давили, мучили его; боль, тоска, терзавшие постоянно в последние дни, приглушились, отодвинулись, призабылись. Дмитрий Иванович не думал о них, был легок на слово, остроумен, ироничен, нежен.
– Ой! – воскликнула огорченно и удивленно Светлана, взглянув на часы. – Как время летит!.. Мне же надо собираться, готовиться к поездке… Все так стремительно! – Она встряхнула челкой, и лицо ее вмиг изменилось, стало озабоченным, настороженным. Глаза померкли, словно кто-то мгновенно стер их блеск. Перед Анохиным сидел другой человек.
Он правильно понял, что изменение это не связано с ним, но расспрашивать не стал, позвал официанта, расплатился и повез ее в общежитие. По дороге молчали. К нему вернулась прежняя, но на этот раз глухая, не столь гнетущая, тоска, скорее печаль. Он изредка быстро взглядывал на сидевшую рядом задумчивую Светлану и думал: зачем, зачем он берет с собой эту совсем юную девчушку? Не принесет ли он и ей и себе одни страдания? Кому это нужно? Но бес подсовывал ему в ответ лицо Светланы, во время его рассказа о писателях в ресторане, ее необычные брови вразлет, челку, ямочки, влажную от вина алую губу, и сердце Анохина вновь сжималось от нежности, от томительной радости, от мысли, что девушка не могла так искусно притворяться, делать вид, что ей интересно слушать его. Надо думать, ей действительно было приятно провести с ним вечер. Они коротко, сухо, по-деловому договорились о завтрашней встрече перед поездкой в аэропорт.
– Спасибо за вечер! – улыбнулась ему, сделала Светлана свое лицо на мгновение прежним, милым, но оно сразу же погасло, посуровело, помрачнело, и девушка живо, решительно выбралась из машины.
В аэропорт проводить отца неожиданно приехала Оля. Появилась она, когда Дмитрий Иванович и Светлана стояли в очереди к таможенному посту. Девушка была молчалива, напряжена, хмурилась почему-то и заметно волновалась. Беспокойство ее росло по мере приближения к таможенникам.
– Что-то не так? – не выдержал, отвлекся от своей жгучей тоски, спросил участливо и нежно Дмитрий Иванович.
– Все в порядке, – поспешно и как-то суетливо ответила она.
И в это время он услышал от барьера голос дочери.
– Па-ап! – кричала она и махала рукой, чтобы обратить на себя его внимание.
Дмитрий Иванович увидел Олю, шагнул через плотно стоявшие на полу чемоданы, сумки, пробрался сквозь толпу улетающих и чмокнул дочь в щеку.
– Зачем ты?.. Я же говорил, провожать не надо. Мы же простились… Или снова деньги понадобились?
– Я просто так… Она с тобой? – удивленно, недоуменно, настороженно и неприязненно глядела Оля в сторону Светланы, которая тоже не сводила с них глаз.
– Да… Переводчица, – запнулся, запутался Анохин.
– Эх, папа-папа! – потерлась лбом о его зеленую майку Оля.
Вспомнилось все, и снова боль вспыхнула, кольнула сердце. Стало горько до тошноты, до слабости в ногах. Глаза его повлажнели. Он сильно прижал голову дочери к своей груди, потом отстранил ее, сжал ладонями щеки и стал быстро целовать лицо дочери, приговаривая между поцелуями:
– Иди… поезжай домой… Я тебя люблю… Помни об этом… чтобы не случилось, помни!.. И маму я любил, сильно любил…
– А сейчас? – выговорила она сквозь его поцелуи.
– Ступай. Моя очередь подходит… – поцеловал Дмитрий Иванович дочь в последний раз, чувствуя на губах ее слезы, легонько оттолкнул, быстро повернулся, чтобы не разрыдаться на глазах у всех, стал торопливо, не оглядываясь, продираться назад, к Светлане. Пробрался, выдохнул чересчур оживленно и наигранно бодро, чтобы скрыть раздирающую грудь тоску.
– Слушай, я совсем забыл спросить, ты английский знаешь?
– Я думала, ты знаешь… – растерялась, удивилась Светлана.
– Ну да, ты же меня за переводчика приняла, – делано засмеялся он, думая о дочери. – Вот так штука! Как же мы машину будем брать? Я знаю английский в пределах деревенской школы… Два слова связать смогу, но понять в ответ ни одного.
– А я только что сдала зачет.
– Ну, тогда мы живем, разберемся…
– На меня плохая надежа… Это дочь?
– Да… Проходи, наша очередь.
Таможню прошли быстро, без задержки. Вопросов к ним не было.
– Теперь все? Мы за границей? – торопливо, с радостным возбуждением спросила Светлана.
– Нет еще. Багаж сдадим, места в самолете получим, пограничников пройдем, тогда будет все!
Светлана вдруг снова умолкла, замкнулась, ушла в себя. Молчала до тех пор, пока не прошли пограничников.
– Вот теперь мы за границей, – вздохнул тяжко Дмитрий Иванович, пряча паспорт в бумажник. Они стояли возле стеклянной витрины магазина.
Светлана вдруг, прикусив нижнюю губу, засмеялась чему-то и внезапно боднула Анохина, ткнулась лбом ему в плечо. Он чуть не выронил бумажник, живо ответил на ее нежный порыв, прижал к себе и клюнул в лоб.
– У тебя, я заметила, весь паспорт в визах. Свободной страницы нет.
– Работа такая… А теперь двинем в буфет, примем по бокальчику шампанского, чтоб дорожка легкой была.
– С удовольствием! – воскликнула она, и челка ее задорно дернулась на лбу. Глаза ее блистали, с щек не сходили ямочки. Она вся сияла, светилась радостью, торжеством, упоением, словно после важной победы.
«Поразительно, как быстро она меняется!» – отметил он про себя, взлетая по лестнице на второй этаж, где был буфет.
В самолете она села к окну. Молча, жадно смотрела в иллюминатор, как мелькают под крылом серые бетонные плиты, все быстрее несутся, сливаются в сплошную, летящую полосу и вдруг резко как бы застывают на месте и начинают стремительно уходить вниз. Уши закладывает. Лес, дома, дорога, машины на ней уменьшаются, удаляются. Замелькали серые клочья тумана, и земля исчезла в серой мгле. Видно только, как крыло самолета, рассекая туман, накреняется вниз. Начинает мутить и становится чуточку страшно. Светлана повернулась к Дмитрию Ивановичу, улыбнулась устало, грустно:
– Летим… Почему у тебя в глазах такая тоска?
– Не обращай внимания. Это от страха перед высотой, – усмехнулся, кинул он, стараясь сделать голос бодрым, заглушить тоску, и быстро заговорил. – Лететь нам долго… Будем пить, слушать музыку, кино смотреть, разговаривать, спать. На все время хватит!.. Ты знаешь, когда я в первый раз летел в Штаты, я до того устал, намаялся, вошел в номер гостиницы в Нью-Йорке, сказал своему напарнику, что на минутку прилягу, бухнулся на кровать прямо в джинсах, в кроссовках и за секунду вырубился! Такое со мной никогда не бывало. Засыпаю я долго… Поэтому надо нам иметь это в виду, расслабиться в полете. – Вдруг ему вспомнились строчки стихов, и он с грустной усмешкой прочитал их вслух: – «И куда б не лететь через весь этот мир заполошенный от себя самого не уйти, видно, мне никуда…» – И без перехода воскликнул: – Давай пить, гулять! Все к черту! Есть ты да я! – вытянул он кейс из-под сиденья, вытащил плоскую бутылку коньяка, сухое красное вино. – На такой высоте радиации до черта, нужно пить красное вино… Ты что, вино или коньяк?
Светлана пила вино, а он дул коньяк, пил большими глотками, старался побыстрее затушить рвущую сердце тоску: что ждет его впереди? Вернется ли он когда-нибудь в Россию? Увидит ли снова жену, дочь, сына? Нетерпеливо ждал, когда хмель вытеснит из груди эти вопросы, освободит от тяжких проблем.
Стюардессы привезли напитки, обед. За едой, за шутливым разговором незаметно опустели бутылки с вином и коньяком. Тоска улетучилась, освободила, забылась. От приятного хмеля, от нежности к Светлане, от предвкушения счастья с прелестной девушкой, от всего этого его уже захлестывало, затопляло какое-то иронически-веселое состояние, какая-то неведомая сила, неземная энергия поднимала над сиденьем, делала его невесомым, искала выхода. На то, что происходит в самолете, на пассажиров, они совершенно не обращали внимания, не видели их. Светлана сидела у окна, он в полуобороте к ней, спиной к своему соседу, отгородив ее от салона. Когда стюардессы забрали посуду, Светлана опустила спинку сиденья и откинулась на нее.
– Как я устала, истомилась за последние дни! – вздохнула она, но ямочки не исчезли с ее щек. – А сейчас расслабилась и спать хочу смертельно!
– Ты спи, – взял он ее теплую вялую руку в свою, – а я буду смотреть на тебя, сторожить твой сон. – Анохин наклонился и поцеловал ее руку.
– Ты что? – улыбнулась она сонно.
– Влюбляюсь потихоньку, – усмехнулся он над собой, над своей томительной юношеской нежностью.
Ровно гудели моторы. Спокойно было на душе, тихо, мирно: такого покоя Дмитрий Иванович давно уж не испытывал. Он прикрывал своей ладонью ее руку, чувствовал пальцами обжигающе горячую кожу. Хотелось, чтобы она бесконечно лежала так, повернув к нему свое милое лицо с закрытыми глазами. Он тоже потихоньку, чтобы не потревожить ее, вытянулся, плотно прижался спиной к своему сиденью и прикрыл глаза. Думал, что заснет под ровный гул моторов, но не спалось. Не проходило сладостное томительно-нежное ощущение. И почему-то всплыла в памяти юность, вспомнились те далекие дни, когда он впервые узнал, почувствовал эту сладкую истому от прикосновения к руке любимой девушки. Он увидел себя студентом, явственно увидел тамбовскую реку Цну летним днем, лодочную станцию, где можно было, сдав часы в залог, взять лодку и скрипеть уключинами, катать свою девушку хоть весь день. Смотреть на нее, щурить глаза от искорок солнца, которые ослепительно отражались от мягких волн, поднятых веслом, любоваться ее загорелым телом в зеленом купальнике. Плавать, нырять в воду прямо с лодки, поднимая брызги…
4
Летом, в жаркие дни, в этом месте реки, в двух шагах от центра Тамбова прямо за зданием педагогического института, где Анохин тогда учился, всегда было многолюдно, всегда можно было встретить знакомых студенток с книгами. Здесь же любила готовиться к экзаменам Женя Харитонова, его Женечка. Здесь он начал испытывать то самое томительно-счастливое нежное чувство, сладкую истому, глядя, как она, лежа на животе на одеяле, читает книгу и покачивает одной ногой в воздухе, согнув ее в колене и подняв вверх. Анохин лежит рядом на спине, держит в руках книгу, но не читает, искоса смотрит, как тихонько качается в воздухе ее розовая пятка. Как мучила, как сводила с ума его эта пятка! Как нестерпимо хотелось ее целовать! И он будет потом ее целовать… Женечка была игрива и в жизни, и в постели, любила чувствовать на себе восхищенные взгляды обожателей, любила слушать комплименты, любила ласки. Когда она станет его женой, он будет целовать ее всю, каждую клеточку ее гибкого необычно упругого тела, с восторгом будет чувствовать, видеть, как Женечка вздрагивает, извивается от томления под его поцелуями, как мурлычет что-то несвязное, то открывая, то закрывая глаза, как сжимает зубами от разгорающейся страсти свою нижнюю, пухлую губу. Именно такие воспоминания особенно мучили Анохина в первые дни, когда он сбежал от Женечки в Москву, где сначала жил неустроенно, ночевал, как бомж, где придется. Как представит, что она также извивается под поцелуями, под ласками другого мужчины, так дыхание перехватит от тоски и тянет удавиться!
Тогда он был молод, удачлив. Удачлив ли? Просто всегда был целеустремленный, упертый. Пер напролом к цели, отбрасывал препятствия или просто не замечал их. А если с первого раза не удавалось пробить головой стену, только морщился, чесал затылок, отступал на шаг и снова бабах в стену. Недаром волосы так быстро поредели, осыпались. Еще в ранней юности Анохин решил, что нет судьбы, нет Бога, все в руках самого человека. Как он захочет, так и выстроит свою жизнь. Все обстоятельства человек может изменить сам, в свою пользу, сам может добиться всего, чего пожелает, без помощи Бога, без помощи добрых ангелов. Человек сам себе Бог, сам себе дьявол. Вся жизнь его только в собственных руках. В институт Анохин попал не сразу, не прошел по конкурсу, и пришлось весной поступать на заочное отделение, где познакомился с однокурсницей Женечкой. Она родилась и выросла в Тамбове, он – в тамбовской деревне. Не поступив в институт после школы, он устроился плотником в домостроительный комбинат. А Женечка в те дни работала в школе воспитательницей в группе продленного дня. Анохин хотел стать писателем, мечтал о славе сочинителя, и казалось бы, должен был быть наблюдателем в жизни, созерцателем, но по характеру своему был активным деятелем. Если бы у него на глазах загорелся Рим, то он не играл бы по-прежнему на кифаре, отбросил бы ее, кинулся в самую гущу пожара. И не только бы умело орудовал ведром, но сразу бы принялся руководить тушением пожара, указывать, что нужно в первую очередь тушить, чтобы пожар не перекинулся на другие здания, чтобы быстрее заглушить его. Непременно нужно было ему вмешаться в любое событие, происходившее у него на глазах, стать его участником, изменить, повернуть в ту сторону, в какую считал он в тот момент правильной, справедливой, сделать так, чтобы всем было хорошо. Никогда не мог сдержаться, остаться безучастным к происходящему. На собраниях не позевывал, с нетерпением ожидая конца пустой болтовни, а лез на трибуну, спорил, страстно доказывал, как нужно делать лучше. Это его комсомольское неравнодушие в сочетании с наивностью и доверчивостью быстро заметили, запомнили, присмотрелись, и через год, уже будучи студентом-заочником, он стал заместителем секретаря комсомольской организации строительного управления. Через два года его избрали членом комитета комсомола всего комбината, и он начал писать речи для своего секретаря, продолжая работать плотником. Помнится, они с Женечкой как раз подали заявление в загс, когда его попросили написать речь для директора комбината, который хотел выступить на областной конференции перед очередным съездом партии.
Дмитрий Иванович, а тогда просто Дима, играючи накатал выступление директора за вечер. Все материалы ему дали. К тому времени он уже не был наивным и доверчивым в общественных делах, правила партийной игры считал незыблемыми, спокойно принимал их. Других не знал, не видел. Выступление директора комбината напечатали в газете как лучшее на конференции. Благодарный руководитель, узнав, что Дима женится, решил устроить ему комсомольскую свадьбу, тогда они входили в моду, и на свадьбе подарил ключи от однокомнатной квартиры. Как они с Женечкой были счастливы! Другие ждали квартир по пятнадцать лет. А им сразу! Он мечтать об этом не мог.
В те дни их приняли в узкий круг семей комсомольских руководителей. Анохин сдружился с Сергеем, секретарем комбината. Все праздники отмечали вместе, и всегда на природе. Зимой и летом. Обычно это было в лесу на берегу Цны в комбинатовском пансионате. Шашлык в сосновом бору над рекой, водка, купанье, смех, шутки! Молодость, веселая жизнь! А зимой – банька, которой пользовались только руководители комбината. Парились всегда отдельно: сначала женщины, потом мужчины. Но однажды в субботу приехали в лес вчетвером: Дима с Женечкой и Сергей с женой. Помнится, Женечка, смеясь, предложила:
– Чего время терять-ждать, пошли вместе в баню!
Настроение у всех было шутливым, хмельным. По дороге в пансионат пили шампанское. Слова Женечки приняли как шутку. Посмеялись. Но когда женщины ушли париться, а они выпили еще по бокалу, Сергей хохотнул:
– Действительно, чего мы время теряем, пошли к ним!
– Ну да, неудобно, – заколебался Дима. – Как они отнесутся?
– Хорошо отнесутся, увидишь! Бери шампанское.
– А если не откроют?
– Ерунда… Я открою.
Они взяли сумку с шампанским и пошли в баню. На крылечке Сергей достал нож, сунул лезвие в щель между замком и личинкой, сдвинул косую защелку английского замка и тихонько открыл дверь. Жены были в парилке.
– Раздевайсь! – шепотом скомандовал Сергей.
Они скинули одежду и нагишом ворвались в парилку. Женечка притворно и озорно завизжала, прикрылась руками, а жена Сергея рассердилась по-настоящему.
– Ну-ну, не шуметь! Тихо! – приказал шутливым тоном Сергей. – А то сейчас веником! – схватил он из шайки с водой березовый веник.
– Давай, давай! – упала, вытянулась на животе на верхней полке Женечка.
Сергей хлестнул ее два раза, потом шлепнул по спине продолжавшую ругаться жену и сел рядом с ней, говоря примирительно:
– Ну, что ты! Женя права: вы тут паритесь, а мы ждем, томимся, а потом вы нас ждете… Вместе лучше… Нудисты с детьми всегда голыми загорают, и ничего…
– Мы не нудисты! Ты еще сюда детей припри! – продолжала сердиться жена.
– Еще! Еще хочу веником! – кричала сверху Женечка.
– Пусть муж работает, – кинул Сергей веник Диме.
Анохин начал нахлестывать Женечку, бил по-настоящему, со злостью за ее глупую идею, которую так легко подхватил Сергей. Не нравилось ему совместное купание. Было что-то нехорошее, порочное в этом. Неприятно было на душе. Неприятное предчувствие. Правда, это предчувствие быстро забылось, улетучилось, как только они, завернувшись в простыни, уселись за стол в предбаннике и выпили по первому бокалу прохладного шампанского, которое было особенно приятно после жаркой парилки. Успокоилась и жена Сергея. Закутавшись в простыню, она почувствовала себя уверенней.
– Кайф! – простонал Сергей, ставя пустой бокал на стол. – А ты, дурочка, боялась! – обнял он за плечи жену.
А Женечка не стеснялась своей наготы, не обращала внимания на то, что обнаженная грудь выныривает из-под простыни, когда она тянется вилкой к тарелке. И кажется, что ее совсем не смущают при этом быстрые взгляды Сергея.
Женечка к тому времени уже была матерью, у них родилась дочь, но фигура ее ничуть не изменилась после родов, быстро восстановило свою девичью форму. Молоко у нее пропало в первый же месяц, и девочка неделями жила у бабушки.
С того дня в баньке стали париться вместе, даже когда приезжали по три-четыре пары. И все чаще смущали Анохина быстрые почти откровенные переглядывания Женечки с Сергеем. Однажды, выходя из парилки впереди них, Дима обернулся в двери и увидел, как Сергей нежно погладил Женечку по спине, и она взглянула на него через плечо с игривой улыбкой. Дима начал ревниво следить за ними. Неохотно ездил в лес. А Женечка наоборот стала особенно рваться туда, с нетерпением ждать субботы. Он мучился: как остановить ее, удержать. Ночами старался быть нежным, неутомимым, ласками доводил жену до исступления.
Часто приходило ему в голову откровенно поговорить с Сергеем, сказать, чтобы он отстал от Женечки, оставил ее в покое, что заигрывания их хорошо видны всем. Может быть, напрасно не поговорил тогда с ним? Все-таки друзья! Понял бы тот его. Но не решился Анохин, вероятно, удерживало его от разговора то, что в те дни Сергея пригласили на работу в горком комсомола заведующим отделом, и он хотел взять с собой Диму инструктором. Анохину надоело работать бригадиром плотников, мечталось о большем. У него был выбор: стать инструктором в горкоме комсомола, откуда вела прямая дорога в кабинет редактора городской комсомольской газеты, в худшем случае в его замы или сесть в кресло секретаря комсомола комбината, которое должен освободить Сергей. Возможно поэтому Дима наблюдал тайком, как тянутся друг к другу Женечка и Сергей, как эта тяга у них стремительно переходит в страсть, страдал. Терпел, молчал и тогда, когда догадался, понял, что неотвратимое произошло. Но не верил себе. Искал неоспоримые доказательства, утешал себя, что это его глупая ревность. Женечка каждый вечер была дома, с ним, нигде не задерживалась. Но Дима чувствовал, что близость у них с Сергеем состоялась и продолжается. Встречаться они могли только днем, когда Анохин был на работе. Скорее всего, в первой половине дня, потому что после обеда она бывала в школе, на работе. Но где? Неужто она пускает любовника в их супружескую постель?
И Дима стал ежедневно часов в одиннадцать звонить жене. Не было ее дома во вторник и пятницу. Сергей тоже появлялся в эти дни в своем кабинете только во второй половине дня. На звонок Анохина всегда отвечали, что секретарь на объекте. И как раз в эти вечера Женечка старалась быть особенно ласковой, хотя глаза ее, как зорко отмечал он, были усталые, отчужденные, пустые, а страсть наигранной. И чувствовался едва уловимый запах вина, а, может, ему из-за того, что все в нем было обострено, это казалось, просто чудилось. И он однажды как бы между прочим спросил:
– Что-то сегодня от тебя попахивает винцом. Отмечали, что-то в школе?
– Немножко выпили… Так, чуточку. Без особой причины.
На следующей неделе Женечки опять не было дома в эти же дни. И снова ночью она переигрывала. Сложным путем, через своего прораба, через секретаршу Сергея узнал у водителя, обслуживающего комитет комсомола, что во вторник и в пятницу Сергей был в пансионате. Значит, там они встречаются. Почему-то особо резануло то, что водитель знает, возит их туда и обратно. Что же он думает о нем, о Анохине, когда в субботу сидят они в его машине, едут в пансионат повеселиться? Каким же подонком он выглядит в глазах водителя? Скорее всего, вся контора комбината знает об этом, считает, что этого ничтожного плотника держат в комитете комсомола за счет жены! Какой позор! Каким же мерзавцем теперь все его считают, думают, что и квартиру ему выбил любовник его жены! И приглашает в горком его только из-а нее. Похолодел, покрылся испариной Анохин от таких мыслей, и тут же начал разубеждать себя, что напрасно он так думает о Женечке. А если ничего не было? Просто характер у нее такой жизнерадостный, озорной, игривый, любит она пошутить, повеселиться, а он понавыдумывал!
Вдруг вспомнилось, что после того, как у него вышла книга, Сергей стал почему-то, особенно прилюдно, подтрунивать над ним, называть с иронией «наш писатель», пытаться помыкать им. Это сильно задевало гордость Анохина, раздражало, но он терпел, думая, что стоит на пороге большой жизни: институтский диплом в кармане, первая книга издана, хорошо встречена местными критиками, по радио читали отрывки из нее, первое его интервью напечатала комсомольская газета. Порой казалось ему, что он уже схватил Бога за бороду, и не хотелось ссорой с Сергеем прерывать путь наверх.
В пятницу позвонил домой в половине десятого, заранее зная, что трубку Женечка не возьмет: нет ее дома. Но не клал трубку, дрожа считал гудки, уговаривал, умолял ее подойти к телефону, тянул для верности, лихорадочно думая, что, может быть, она только что встала с постели, умывается, не слышит звонка из-за шума воды. На тринадцатом гудке повесил трубку и набрал номер телефона Сергея.
– Он на объекте, – ответили ему.
«Объект – моя жена!» – промелькнуло в голове со злой иронией.
Анохин взял такси и помчался в пансионат. Они могли встречаться там только в домике директора комбината. Ключ у Сергея был. Бревенчатый домик этот стоял в стороне от главного двухэтажного корпуса, в глубине территории, среди высоких прямых стволов сосен и кустов сирени. К нему надо идти по асфальтированной дорожке мимо административного здания пансионата. Неужели они ходят туда на глазах у всего обслуживающего персонала? Все знают! Все! У всех он на языке, для всех он посмешище! Банька как раз за этим домиком, у самого забора. Дима вспомнил, что в заборе есть дыра. Летом через нее частенько лазили, чтобы не обходить, выйти напрямик к реке.
Анохин попросил водителя такси ехать помедленней мимо ворот пансионата и уставился в окно: высматривал черную «Волгу» на площадке возле административного корпуса. Стоит: замерло, упало сердце, потом загрохотало так, что зашумело в голове. Но была еще надежда, что это другая машина. Мало ли «волг» в комбинате? Номера ее не удалось разглядеть. Подле угла забора остановил такси, расплатился трясущимися руками, попросил подождать его и побежал вглубь леса вдоль глухого дощатого забора. Листья под его ногами взрывались, разлетались в стороны. Была осень, октябрь. Что он скажет Женечке, если увидит ее? Что сделает? Об этом он не думал. Желание было одно: увидеть ее! Увидеть, удостовериться и все! Пролез в дыру забора и заметил над трубой баньки легкий дымок. Приостановился, пораженный догадкой. Поднялся на крылечко бани, толкнул дверь. Заперто. Перочинный нож всегда был с ним. Сунул лезвие в щель, как в прошлый раз делал Сергей, и стал искать защелку, нащупал, осторожно сдвинул ее и приоткрыл дверь. Первое, что бросилось в глаза, плащ на стене. Ее зеленый, нежный на ощупь плащ, об который он так любил тереться щекой, когда Женечка приходила с работы, и он бросался обнимать ее, который он тысячу раз надевал ей на плечи и тысячу раз помогал снять! И рядом с ним черный плащ. На широкую лавку небрежно, в спешке кинуто такое знакомое, родное, нижнее белье жены вперемежку с брюками, сорочкой, майкой Сергея. На столе бутылка шампанского. Еще не распечатанная.
Анохин быстро шагнул к парилке, резко, широко распахнул дверь. Как у него тогда не разорвалось сердце? Как он выдержал? Только ли оттого, что был в шоке, в бреду? Не оттого ли, что увидел то, что ожидал? Как он не онемел от увиденного, как смог выкрикнуть, даже с иронией, ту дурацкую фразу? И зачем? Может быть, оттого, что был почти в беспамятстве?
– Привет, ребята! – крикнул он тогда. – Не торопитесь! Сейчас разденусь, групповуху устроим!
Почему так истошно, так тонко, как смертельно раненый заяц, с таким ужасом завизжала Женечка? Почему Сергей с побелевшими глазами рванулся в угол и закрылся шайкой? Анохин увидел в руках у себя нож, которым он открывал дверь, нашел в себе силы презрительно усмехнуться. Он захлопнул дверь, кинулся к забору, к дыре, и по лесу – к такси! Упал на заднее сиденье позади водителя, задыхаясь, еле выговорил свой адрес и согнулся, скукожился, низко опустил голову, чтобы таксист не видел его слез.
Возле подъезда своего дома снова попросил водителя такси подождать его. В квартире спешно кинул в чемодан костюм, сорочки, белье, рукописи, диплом, дневник, несколько экземпляров недавно вышедшей первой книги. Вернулся в такси и помчался на вокзал, купил билет на первый же поезд в Москву. Рано утром приехал к двоюродной сестре. Жила она в комнатенке с мужем и двумя маленькими детьми. Ночевал у нее на полу две ночи, днем скитался в поисках работы. Но его даже дворником не брали. Заглянут в паспорт, увидят штамп – женат, прописку тамбовскую и возвращают назад. До свидания.
Но верил в себя Дима, верил, что поднимется. Просто это временные трудности. Никакой Бог не поможет, если он сам не пробьется, не будет действовать энергично, не будет опускать руки, не будет валить свои неудачи на злой рок.
И все-таки именно дворником Анохин устроился, взяли его временно, без всяких положенных прав. Зима надвигалась. Вот-вот снег падет, мороз, тротуары обледенеют, работы много, а в дворники никто не идет. Только потому и взяли.
Как он мерз, голодал первое время! Зарплата мизерная, скитался, ночевал, где попало ту зиму! Чаще всего на жэковском складе, на пыльном порванном диване среди метел, лопат, ведер, с мерзким запахом хлорки. Этот запах он не терпит до сих пор, почувствует и сразу же поднимается тошнота, вспоминается жуткое время. Не дай Бог снова пережить такое!
За зиму Анохин выписался из Тамбова, развелся с Женечкой. Она сама подала на развод, сообщила его родителям, что выходит замуж. На суд он не поехал, послал заявление, заверенное нотариусом, что не возражает против развода. Бывалые люди посоветовали ему потерять паспорт, получить новый без записи о женитьбе и разводе. Он так и сделал. Заменил паспорт и весной устроился по лимиту на автомобильный завод слесарем-сборщиком, стал жить в рабочем общежитии. Начал все сначала.
Вскоре опять через его родителей Женечка прислала весточку, чтобы он больше не слал алименты. Новый муж удочерил его дочь. Печально стало, но грустил недолго. Помнил дочь Анохин маленьким беспомощным котенком. Три месяца всего лишь видел ее. Года через два случайно узнал, что Женечка с мужем и дочкой уехали куда-то из Тамбова. След ее затерялся.
Вспоминалась Анохину его прежняя жизнь, Женечка спокойно, без волнения, так, словно он проживал заново, пролистывал, видел сюжет давным-давно написанного, выдуманного им романа. Давненько уж не вспоминалась она, давно прощена. Дай Бог ей счастья с другим мужем! Может быть, он чем-то не подходил ей? Может быть, она чувствовала себя с ним не удовлетворенной? Хорошо, если нашла покой и радость с другим! Пусть муж любит ее так, как любил он!.. А Сергей поганец, большой поганец! Тронуть жену друга!..
И вспыхнуло недавнее. Ушел покой, заныло сердце, снова стало тревожно и обидно. Почему друзья предают его? В чем загвоздка? Не в нем ли? Что он делает не так? Что? Ведь прежде чем что-то сделать, он семь раз взвесит, не затронет ли он чьи-либо интересы, не обидит ли кого? Обдумает, прав ли он перед Богом и людьми? Разве плохо было с ним Женечке?
В салоне было тихо. Одни пассажиры дремали, другие, надев наушники, смотрели какой-то боевик по телевизору, По экрану беззвучно метались какие-то злобные люди с пистолетами, беззвучно взлетали вверх взорванные машины. Желание выпить, убить тревогу пересилило. Анохин шевельнулся, тихонько поднял руку, но Светлана тут же открыла глаза, глянула на него сонно:
– Ты куда?
– Джин хочу взять.
– Не много ли ты пьешь? В Лос-Анджелесе брать машину.
– Еще восемь часов лету, выветрится.
Джин с тоником пить Светлана отказалась, снова откинулась на сиденье и закрыла глаза. Анохин поколебался немного, прежде чем открыть бутылку: небольшая прогулка по салону самолета, разговор со стюардессой, приглушили грусть, боль, пить расхотелось, и все же он решил немножко выпить, чтоб заснуть, плеснул в пластмассовуй стакан.
Потом долго старался уснуть, думал о Светлане, представлял, как будет гулять с ней по улицам Лос-Анджелеса, кататься на машине по Беверли Хилз. Вдруг он увидел перед собой жену свою Галю, увидел совсем юной такой же, как Света, в заводском пионерском лагере, в лесу, неподалеку от деревушки Успенское, на берегу Москвы-реки, где они провели целое лето пионервожатыми. Мысли его снова ушли в прошлое, в молодые годы, в подмосковное, мокрое лето. Анохин в то время работал слесарем-сборщиком на автомобильном заводе. Пришел он на ЗИЛ потому, что там давали московскую прописку по лимиту и предоставляли общежитие. Еще будучи дворником, Дима стал посещать литературную студию этого завода, читать там свои рассказы, сдружился с ребятами, познакомился с молоденькой поэтессой Галей Сорокиной. Студийцы почему-то довольно быстро избрали Анохина старостой, охотно принимали его предложения сгонять на выходные на Истринское водохранилище с ночевкой в палатках, охотно собирались в его комнате в общежитии, читали, обсуждали свои новые стихи, рассказы, без конца говорили о литературе, о новых произведениях известных писателей, которые появлялись в толстых журналах. Особенно сдружился с Костей Куприяновым, добродушным выпивохой, и Николаем Дугиным, щуплым пареньком с чеховской бородкой и с неизменной хитринкой в разноцветных глазах. Всюду они бывали вместе: в ЦДЛ, на даче у Кости, на пляжах Ялты. И всегда с ними была Галя Сорокина. Она была мила, скромна, симпатична. Дима тогда встречался с веселой легкомысленной контролершей со своего сборочного участка, и Галю не замечал. Точнее, замечать-то замечал, но видел, чувствовал, что легких отношений с ней не будет, а к серьезным, после первой женитьбы, он был не готов. Костя Куприянов однажды, шутя с Галей, перефразировал стихи Пушкина, которые тот написал о Татьяне.
– Тиха, печальна, молчалива, как мышь на стуле, боязлива, она в литстудии заводской казалась девочкой чужой, – прочитал он.
– Нет, вы не правы, – возразил руководитель студии. – Галя – свой парень. Она всегда деятельно молчит. Глазенки у нее горят, активно в разговоре участвуют, каждое слово ловят!
Кто знает, как сложились бы отношения у Димы с Галей, если бы однажды не направили их работать с детьми пионервожатыми на все лето в Подмосковье? После поспешной женитьбы и бегства из Тамбова Дима не хотел обременять себя семьей, пока не встанет на ноги. Ведь ему некуда было привести жену, не было своего угла, а вечно жить в общежитии, зарабатывать на хлеб сборкой заднего моста автомобиля, он не собирался. С девчатами Анохин встречался, влюблялся, был нежен, ласков, но старался, чтобы отношения не становились серьезными, не обманывал, с первого дня давал понять, что жениться он в ближайшие годы не собирается. И Галю он не представлял своей женой. Она была неглупа, начитана, в меру говорлива. Могла помолчать, могла поддержать разговор, пошутить, улыбнуться, когда следовало, писала гладкие, но без особой искры стихи. Дима не догадывался, что Галя второй год мечтает о нем, второй год ищет случая сблизиться. Он не догадывался, что это по ее настойчивому совету его назначили пионервожатым. Только года через три, когда у них уже было двое детей, и Галя уверилась, что он никуда не денется, в особо нежную минуту она призналась, рассказала, как мечтала о нем, как организовала совместную поездку в пионерский лагерь.
Лето в тот год было дождливое, холодное. По ночному лесу не погуляешь при луне. Слякоть, сырость, грязь. А если днем было солнечно, тихо, то ночью в лесу душно, не давали покоя комары. Особенно жадные, злые в то лето. Может быть, потому теперь, да и раньше, когда вспоминались те летние дни, они не казались ему счастливыми, не осталось от них ощущения счастья. А Галя первые годы супружеской жизни, вспоминала о них с восторгом, как о чем-то необыкновенном, как вспоминает генерал о блестяще выигранном сражении, которое он спланировал, разработал самостоятельно и провел точно по плану. Потом, с годами, эти воспоминания Гали, разговоры становились все короче, суше, грустнее, словно результаты давней победы обманули, не выдержали проверки временем. А у Анохина осталось в памяти от того лета ощущение, что ему все время нестерпимо хотелось спать. Когда он носился по площадке с мальчишками своего отряда и останавливался на минутку, глаза его тут же начинали слипаться. Когда в редкие солнечные дни приводил он ребят на реку, то приказывал Витьку, самому шустрому и озорному пареньку, следить за отрядом, чтобы никто не утонул, а сам заваливался под куст, в тенек, на одеяло, и тут же отрубался, засыпал под звонкие вопли, крики и радостные визги подростков. После отбоя все пионервожатые собирались в комнате у старшего вожатого и устраивали вечеринку, которая всегда заканчивалась далеко за полночь, а потом Дима с Галей уединялись в спортивном зале, сидели, целовались, обнимались на полу на кожаных матах до самого рассвета. А утром ему снова хотелось спать.
В августе Галя почувствовала недомогание и поняла, что беременна. Анохин огорчился, когда узнал об этом, но виду не показал, предложил расписаться.
Жила она в общежитии, у нее тоже была временная прописка. После регистрации брака никто бы прописки им не продлил, пришлось бы уезжать из Москвы. Анохин вспомнил, что дворникам, если они устраиваются на работу по лимиту, предоставляют служебную комнату. Но по лимиту не брали женатых, и тех, у кого высшее образование. Надо было устраиваться на работу до свадьбы, пока паспорт чист, скрывать, что окончил один институт и учится в другом. Так он снова стал дворником…
5
В аэропорту Лос-Анджелеса Анохин взял в аренду машину, уложил в нее чемоданы и сумки, открыл дверь перед Светой. В кабине первым делом он убрал верх. Когда тот плавно пополз назад, открывая салон, Светлана не удержалась, воскликнула:
– Ух, ты! Кабриолет!
Медленно, осторожно спустились по серпантину гаража и выехали на улицу. Обдало духотой, жаром. Выехали на скоростное шоссе и влились в поток стремительных машин.
Светлана, щуря глаза, подставила лицо горячему ветру, который стал весело, игриво трепать челку, короткие волосы. Дима изредка взглядывал на сияющее лицо девушки, улыбался. Она спряталась от ветра за лобовое стекло и вдруг громко запела:
– Я к тебе пришла из прошлой жизни, в этой жизни нам с тобой счастье нет! А я сяду в кабриолет и поеду куда-нибудь…
– Не куда-нибудь, а в Голливуд! – крикнул Дима, с восхищением глянув на ее разгоряченное восторженное лицо. – Потом в Беверли Хилз. Представляешь, слова какие! Слова миф, слова мечта… А ты хорошо поешь!
– Ну да, – сияла она.
– Мне нравится… Ласкает мой слух! Так что, если ты будешь петь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка…
– То ты взвоешь! – смеясь, перебила она.
Анохин захохотал. Он не мог смотреть спокойно на ее восторженное состояние, его просто всего распирало от радости, что ей хорошо.
– Ну, нет, не взвою. Подпевать буду!
– Тогда я взвою!
Они дружно покатились со смеху.
– Смотри, смотри! – закричала Света, указывая пальцем в сторону, на гору, на большие белые буквы. – Голливуд написано!
Солнце ушло за гору, потихоньку смеркалось. Анохину хотелось засветло найти мотель, устроиться. С машиной он освоился быстро, часто приходилось ездить на различных иномарках, поэтому без прежней опаски, с которой отъезжал от аэропорта, давил на газ. Наконец-то увидел широкий синий указатель над дорогой, предупреждающий, что надо сворачивать.
По бульвару Голливуд катили потихоньку, искали мотель. Он довольно быстро увидел яркую светящуюся в полумраке рекламу мотеля, въехал в освещенный двор, где, уткнувшись носами в стену под широким балконом двухэтажного здания, стояло несколько автомобилей. Свободных мест, обозначенных белыми полосами на асфальте, было много. Дима подогнал машину к стене и заглушил мотор.
– Подожди здесь. Я схожу за ключами.
В офисе за открытым стеклянным окошком сидел широколицый пожилой китаец с родинками на смуглых щеках.
– Уан рум, уан бэд! – протянул Анохин ему кредитную карточку и для убедительности выставил один палец, то есть – одна комната, одна кровать.
Китаец молча подал ему ключи с номером комнаты на брелке.
Светлана с интересом осматривала комнату. Пол в ней был покрыт необыкновенно толстым мягким синеватым ковром. Ноги утопали в нем, приятно было идти. Широкая кровать – у стены. Над ней большая картина художника абстракциониста: в беспорядке перемешаны яркие, разноцветные круги, полосы, треугольники. У окна круглый стол с двумя креслами.
– Наше первое гнездышко! – выдохнул Анохин, выронил чемодан и сумку на ковер и не удержался от восторга, от вспышки энергии, стремительно обнял девушку, подхватил на руки, закружил: – Чудо ты мое! – поставил ее на ковер и, не выпуская из объятий, стал целовать Светлану в щеки, в закрытые глаза, едва касаясь губами.
– Как здесь душно! – выдохнула девушка.
Анохин с восторгом сумасшедшей нежности чмокнул ее в макушку, в мягкие жаркие волосы и отпустил, освободил, разжал свои руки, говоря:
– Сейчас будет прохладно.
Захлопнул дверь и включил кондиционер.
– Так, не будем терять время… Программа сегодняшнего вечера такова: разбираем вещи, душ, ужин в ресторане и прогулки по Голливуду. Одобряешь?
– Слушаюсь, я же твоя раба! – засмеялась Светлана.
– Забыл, прости! Приказываю немедленно разобрать вещи! – поднял он ее сумку на кресло. – И в душ, под холодную воду!
– Это тебе надо под холодную воду… И не забывай, раба я твоя только на месяц!
Анохин вынул из шкафа кучу вешалок, бросил их на кровать, приказал весело:
– Развешивать барахло! – Он открыл свой большой кожаный чемодан и начал выкидывать из него на кровать сорочки, костюм, майки, шорты, говоря при этом: – Форма одежды на вечер свободная: майка, шорты!
– Зачем ты столько книг привез? – Светлана вытащила из его чемодана книгу и прочитала вслух имя автора и название: – Дмитрий Анохин «Бурьян».
– Торгануть решил, – ответил Дмитрий и добавил назидательно-ироническим тоном, вешая сорочки в шкаф. – Брось привычку шарить по чужим чемоданам!
– Ой-ой-ой! – кинула она книгу в чемодан. – Между прочим, у нас дома эта книга есть. И еще несколько книг этого же автора.
– И ты эти книжки читала? – взглянул он на нее быстро.
– Ну да, мне бы классику хотя бы прочитать, буду я на эту дребедень время тратить!
– Вот так современники относятся к романам будущих классиков… Учила, небось, как современники Льва Толстого встретили его роман «Война и мир»?
– Пока не дошли до Толстого. – Светлана взяла из чемодана, из стопки книг каталог издательства «Беседа» и стала его листать, разглядывать.
– Критики писали, что «Война и мир» нудная дребедень без начала и конца, без сюжета. Герои романа неизвестно откуда появляются и неизвестно куда исчезают. В общем, не роман, а полная чушь!
Светлана разложила все свои вещи по полкам шкафа, повесила на вешалки платья, юбки, майки и отправилась в душ, а Анохин вышел на балкон, облокотился на теплые перила. Совсем стемнело. Небо бледное, далекое. Звезды реденькие, тусклые. Большой двор ярко освещен. Куст банана диковинно и таинственно застыл у забора. Если бы не этот куст, то можно было бы подумать, что Анохин стоит на балконе первого этажа какого-нибудь русского чистого городка. Здание мотеля расположилось на пологом пригорке, уходило одним торцом вниз и становилось там трехэтажным. Вдоль дверей и окон каждого этажа шел сплошной балкон, по которому был выложен толстый резиновый коврик для того, чтобы возвращающиеся домой поздней ночью временные жители мотеля не стучали каблуками, не беспокоили спящих соседей. Дмитрий, оглядывая двор, заметил вдали, внизу у торца мотеля возле бетонного забора небольшой круглый бассейн с водой, освещенной со дна голубым светом, догадался, что это джакузи, или спа по-американски. Анохин сбежал к нему по ступеням, нашел на бетонной стене забора красную кнопку с надписью «спа» и нажал ее. И тотчас же в бассейне из стен со всех сторон ударили мощные струи. Вода в нем забурлила, закипела, зашипела.
– Светик, выключай душ! Срочно! Там спа! Надевай купальник, быстро! Это приказ!
– Что за спа?
– Быстро, быстро! Пошли!
– Прямо так? Куда?
– Тапочки можешь надеть, разрешаю… И полотенце возьми. – Он потянул ее за руку из комнаты.
