Немец, перец, колбаса…
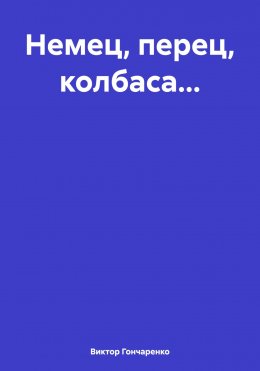
Второй в четвертом ряду
Эшелон то набирал скорость, то еле тащился, будто пытаясь перевести дух от долгого пути. Он отправился из Оренбурга, а куда конкретно, пока не знал. Так было всегда, если состав состоял из теплушек с солдатами, которым любопытство не предусмотрено Уставом. Их удел – выполнять команды. Скажут «отбой» – уснут, скомандуют «подъем» – встанут, а дальше поверка, завтрак, изучение матчасти, уставов, политическая подготовка. И так изо дня в день. Единственное развлечение – прием пищи. Ради этого поезд останавливался как правило вне населенных пунктов. Какой вокзал выдержит, если новобранцы разом займутся отправлением естественных надобностей – так это называлось неподалеку от железной дороги. Кроме того, даже московский перрон не вместит все наряды от каждого вагона для доставки бачков с кашей, щами и хлебом. Для этих целей подходили лишь безлюдные места.
Впрочем, солдатами их можно было называть с большой натяжкой. Им, оторванным от гражданской жизни, только предстояло стать бойцами Красной армии, овладеть ратными премудростями. Пока они усвоили лишь одну: война войной, а обед по распорядку. Шел июнь сорок четвертого, тыл по-прежнему жил по карточкам, хотя работал так же, как в сорок первом, ходил в обносках и крепко оголодал. Армейское довольствие, восьмичасовой сон, новое обмундирование вернули силы. Жизнь стала лучше, как сказал товарищ Сталин, а после первой остановки – и веселей. Как только стальные колеса, звонко скрипнув, замерли, сержант скомандовал:
– Покинуть расположение и оправиться!
Один небольшого роста солдатик в необмятой гимнастерке, но остряк и балагур, громко уточнил:
– А винтовки брать?
– Личное оружие воину надлежит всегда иметь при себе!
– И лопату надо?
– И лопату, чтобы следы замаскировать! И противогаз! Не то задохнетесь!
Как табун жеребцов, заржал вагон во всю настежь сдвинутую дверь. Где-то далеко в паровозном дыму затерялись проводы со слезами родных, неясные опасения от неизведанного и предстоящего. Взамен появилась четкая ясность происходящего, ощущение уверенности в себе, в командире. Регулярно наведывался политрук, толковал о моральном духе, о том, что наше дело правое, что теперь хватает и танков, и самолетов, а «катюши» сжигают врагов тысячами. Им предстоит освободить Белоруссию, а там и до границы недалеко. Семен Недорезов, с кем подружился Илья, после очередного политзанятия, хмыкнул вполголоса:
– Дух-то у нас, конечно, сильный. Особенно ночью, после гороховой каши!
Они спали рядом на втором ярусе, и он был на год старше, призван с коксо-химического комбината, расположенного километрах в десяти, не больше. Илье исполнилось девятнадцать, он уже три года работал на Орском никелевом заводе в горячем цехе. Земляки, одним словом. Поэтому для Ильи Прокофьева он показался ближе, понятнее и вызывал доверие. Разговаривали они в основном о производстве. Но не о стахановском движении, починах и перевыполненных планах. Семен рассказывал, как вся смена задохнулась от серы на коксовых батареях, а Илья – как перед отправкой его друг упал с площадки возле плавильной печи в ковш с расплавленным металлом. Это означало, что они – люди бывалые, видели всякое и хлебнули не меньше других. А про отца, которого держали трое суток в подвале НКВД, Илья не рассказал.
Не рассказал и о том, почему он, имея бронь как нужный оборонному предприятию специалист, едет в теплушке. Едет, зная в отличие от других, что война – не медали и ордена, а пули, смертельные раны, трупы, наспех присыпанные землей, мокрые траншеи и вши. Многие никельщики уже успели навоеваться и вернулись назад кто безруким, кто безногим, кто слепым и контуженным. Илья выпивал в низкой, темной мазанке с Кузовенковым, бывшим кузнецом пироотделения, и тот, мучительно заикаясь, тряс головой и вспоминал:
– В землянке, то есть, когда в обороне, еще терпимо, а вот жить в траншее, когда ничего никто не знает про обстановку, совсем хреново! Лето – ладно, прикорнешь к стенке, прикорнешь с часок, зимой невмоготу. За ночь на морозе, на ветру, вымотаешься – перестаешь соображать – где ты и кто ты. Не поймешь, может концы отдал, может живой! В таком состоянии нас голыми руками бери.
– Вот поэтому и отступают наши, если голыми руками…
– Да фрицы не дураки напролом воевать, сначала из орудий бьют, потом на живых, кто остался в окопах, танки пускают. И только после сами прут! С автоматами и пулеметами! У нас – винтовки, по пять патронов! Лежишь, об одном думаешь – скорее бы все закончилось, все равно ты уже не жилец!
– А как же Александр Матросов не побоялся на амбразуру?
– Видно, тоже не вынес…потому и пошел – быстро и насмерть!
После этого Илья успокоился, перестал стыдиться, что он, молодой и здоровый, отсиживается в тылу, а тем временем город все отдает и отдает своих людей фронту. Война Прокофьевых стороной не обошла. Отец с матерью потеряли своих братьев: Леонтий, призванный второго июля сорок первого, погиб восемнадцатого сентября в Карелии, Василия убили через полгода в том же году. Старший и младший Прокофьевы бронь получили по справедливости: в семье шестеро детей. Отец работал на «никеле» с самого запуска, с тридцать девятого. Подросшего сына привел тоже сюда. Иного пути не помышляли, отдавали цеху все силы сполна, потому что производство – верный кусок хлеба. Этого куска на всех пока не хватало. Однако была надежда: когда на комбинате будут работать все Прокофьевы, жизнь выправится. Страна жила пятилетками, а они смотрели дальше. Поэтому в июне сорок четвертого, как только стало шестнадцать второму сыну, Кольке, в кобальто-сульфатный взяли и его.
Илья после отбоя забирался на свое место – возле стенки, натягивал шинель на голову и мысленно переносился домой. Мать сейчас укладывает детей: Сашку, Тольку и Нюрку на полу, Любку укачивает в люльке. Отец, выкурив самокрутку на сон грядущий, закрывает двери на засов. Во дворе Жучка, маленькая, лохматая, лает на кошек…или лягушку пугает на огороде. Отец работает в дневной бригаде. Колька – посменно, сегодня, с часу ночи кажется…Шалапут – залез в столовку, стащил кусок мяса, хотел, чтобы назвали, как старших, добытчиком, кормильцем. А то было не мясо – вымя коровье! Илья взял кражу на себя. Начальник караула жил от Прокофьевых через два дома – согласился. Знал, что отца за что-то таскали в НКВД и тут опять… Всю семью изведут. Он пообещал: протокол полежит, если запишешься в добровольцы. Победителей, вроде бы как, не судят.
Илью сморил сон: бабье лето, паутина летит. Он копает картошку. Земля черная, как антрацит, и мягкая-мягкая… Выворачивает куст за кустом, а картошки – ни мелкой, ни крупной.
Утром он просыпается до подъема, долго глядит в щель теплушки, присмотренную уже давно. Пространствам, по которым мчится поезд, нет ни конца ни края, хотя пошли уже пятые сутки. Бывать дальше своего поселка ему не приходилось. Война отодвинулась в сторону и приняла неопределенные очертания. Думать о ней не хочется. В глубине сознания она, конечно, таится, но чаще всего словно в виде случайных искр, которые вспыхивают и тут же гаснут.
К вечеру эшелон остановился, колонна пошла пешком. Ехать было муторно, а идти в сплошной пыли с полной выкладкой – винтовка, противогаз, каска, подсумок, котелок, фляга, скатка шинели – в июльскую жару, многократно хуже. По бокам дороги застыла изувеченная техника: танк без башни гусеницами кверху, разбитые орудия, остатки обугленных машин, вдали развалины хат, печные трубы, колодезные журавли.
Пополнение прибыло в пункт назначения, когда стемнело. В свете фонарей начальство распределило бойцов по подразделениям. Два десятка новобранцев, куда попали Прокофьев с земляком, до траншей, где располагался стрелковый взвод, добрались в полночь. Лейтенант ждал их: вчерашняя атака забрала тринадцать человек. Все – люди бывалые, а двадцать необстрелянных – подмога та еще. Однако вслух такое произнести он не мог. Да и ночь – не самое подходящее время для знакомства. Всматриваясь в их лица, он повторил то, что вчера слышали выбывшие:
– Приказ – выбить фашистов из деревни. Нас поддержат танки, за ними и пойдем. Сигнал – красная ракета. Теперь отдыхать!
Илья с Недорезовым приткнулись в пустой просторной ячейке. Он предложил напарнику:
– Ты спи, а я буду поглядывать наружу. Потом сменишь меня!
Над позициями мигали крупные звезды, вдалеке вслед за редкими всполохами слышался глухой рокот. Казалось, там ворочается и тяжело вздыхает большое, страшное чудище. Однако винтовка на бруствере, ее холодящий руки металл, тяжесть подсумка, набитого патронами, приглушили в Прокофьеве тревогу, которая не покидала его все эти дни. Стало заметно светлеть. В траншее зашевелилась жизнь. Мимо протопал солдат, не из эшелона, с густой щетиной, бросил на ходу:
– Спрячь башку-то! Надует в дырку – простудишься!
На обратном пути, застегивая брюки, он посоветовал:
– Тоже сбегай! Пока есть возможность!
Рыкнул немецкий пулемет, проверяя голос перед работой.
Недорезов с трудом открыл глаза, уставился на Илью:
– Война началась? Стрелять?
Откуда-то сзади гулко ударило наше орудие. Ночное чудище словно набрало полную грудь воздуха, чтобы зарычать во всю мощь, то есть ответить. И ответило: через минуту с немецкой стороны покатился шквал огня.
Танкисты не подвели: слева и справа, грохоча и отчаянно дымя, показались стальные громадины с красными звездами. Медленно поднялась ракета, нервно вильнула и погасла.
–В атаку! – что есть силы закричал лейтенант. – Вперед! Пошли!
Совсем не как в кино – разом, а по одному, по трое, понемногу из траншеи полезли солдаты. Одни тут же исчезали из поля зрения, другие резко столбенели и валились наземь.
– Вперед! За Родину! – не переставая, командовал взводный.
Илья тоже пытался выбраться наружу, сорвался, снова стал карабкаться. Уже наверху он оглянулся: снизу на него смотрели остекленевшие глаза Недорезова. На побелевшем лице застыли, как из гипса, губы. Илья подхватил винтовку, поднялся с колен, выпрямился в полный рост. Он нащупал спусковой крючок, хотел выстрелить в сторону врага, но вдруг ощутил жгучий толчок в грудь, и земля поднялась из-под ног. Пробитое сердце еще толкало кровь, которую мозг жадно пил. Звуки слышались, как будто он нырнул в Урал, и вода сдавливала уши. Шум боя отдалялся, становился все тише и тише.
Братскую могилу копали долго – на тысячу шестьсот сорок человек. В этом списке Прокофьев был под триста двадцать девятым номером. В формуляре указано как его найти: «второй в четвертом ряду».
Блажь
У Степана Петровича ночью до того разболелись ноги, что казалось – лучше оторвать. Вконец обессилев, забылся он лишь под утро, когда фонари за окном уже погасли, и возле подъезда проснулись бесхозные собаки. Но тут же, словно толкнул кто-то его. С трудом Степан Петрович всмотрелся в стрелки будильника – девять почти! Римма Васильевна спала в соседней комнате, спала как всегда чутко, подняла с подушки голову:
– Что, Степ? Плохо тебе? Где…болит?
Муж, изобразивший на лице улыбку смайлика, шепотом напомнил:
– Пришел к тебе… с приветом! Четверг!
– Вот выдумал! Какой еще четверг? Среда! Спи!
И добавила, чтобы не подумал чего:
– У нас, гражданин, сегодня переучет…
Это она пошутила так – работала раньше в овощном магазине. Римма Васильевна натянула на себя одеяло и повернулась на другой бок. Степан Петрович не нашелся с ответом. Ответил, когда вернулся к себе:
– Не больно было надо!
Громко сказал, чтобы слышала. По твердому убеждению его, костер любви надо поддерживать. Если Степан Петрович подбрасывал в огонь хотя бы по полену в неделю, то Римма Васильевна откровенно филонила, ограничивалась хворостом, да и то все реже и реже. Горько было видеть и сознавать, что полотно жизни, до этого светлое, яркое и бесконечное, становится куцым, тусклым и помятым. А ведь в стиральную машинку его не засунуть, утюгом с паром не выгладить. Наощупь-то Римма Васильевна еще ничего, но усушка и утруска налицо и на лице, чего скрывать. Женой для него она, конечно, быть не перестанет, а все-таки уже не то. Главное, и в характере ее сделалась пересортица. Утром за завтраком, если муж говорил: «сегодня тепло будет», то в ответ обязательно следовало: «подожди, к обеду дождь будет, вон там, смотри, туча, а за ней и другая». «Да не туча это, а облако!» « А я тебе говорю – туча!» На этом муж умолкал. Помнит, мать учила уму-разуму. Ты, говорит, Степа, лучше молчи, в семье тихо будет, сколько грому не греметь – солнышку все равно быть. Хотя досада не проходила, тлела весь день.
Поэтому ничего хорошего от будущего Степан Петрович не ждал. Все хорошее уже произошло, иссякло, на него, наверное, тоже имеется свой лимит. Зато прошлое теперь выглядело, как самые лучшие годы. Сначала он служил в армии, дошел до капитана, но большая часть жизни была связана с гражданкой, когда попал на завод. Взяли его начальником второго отдела. Отдельный кабинет, стол, телефон, две печати: одна для документов, другая на железную дверь. Приходит к нему, скажем для примера, слесарь или металлург, или начальник цеха – неважно кто: «– Степан Петрович, подмахните заявление – в отпуск иду!» А он: «– Тут не подмахивают! Тут, милый мой, оборону страны берегут. Предъяви военный билет. Куда едешь? На сколько? Как с тобой связаться в случае обострения международной обстановки?»
Степан Петрович – картотеку из сейфа, а там как в аптеке – по алфавиту: группа запаса, звание, отдел, цех, специальность…Найдет нужную фамилию, все сверит, внесет запись. Обстоятельно, со значением. Хоть в первый раз военнообязанный сюда пришел, хоть в десятый. И лишь потом – резолюцию, подпись. На 23 февраля форма одежды – парадная. Идет по коридору, шаги печатает, взгляд мужественный – у всех, включая женщин, рука к голове сама тянется честь отдать. На совещании его место рядом с главным инженером, чтобы директор в нужную минуту мог обратиться: «– Степан Петрович, как у нас с резервами? Укладываемся в норматив?» Вопрос, между прочим, по важности и значению – второй после госзаказа. А в сущности, пожалуй, первый: завод-то цветной металл выпускал, по секретным каналам предписывалось иметь постоянно наготове столько-то сотен тонн рулонов на снарядные гильзы. Или патроны. Или для каких других неотложных задач.
«– Степан Петрович, вы уж проследите», – просит директор. Степан Петрович поднимается по привычке со стула, руки по швам: «Так точно!» Об обязанностях ему напоминать не стоит. С его-то армейской подготовкой. Мысленно он постоянно на том складе, как на посту новобранец. Назначена проверка на такое-то число – будет даже при землетрясении в девять баллов! Петрович лично все перевесит, учтет до последнего килограмма, опломбирует каждый замок, затворит за собой дверь, ключ – в сейф.
Внешне Степан Петрович выглядит строгим, мужественным: пиджак – на все пуговицы, глаз с прищуром. А как улыбнется – до самого крайнего зуба – куда что делось! На вечерах по праздникам в Доме культуры за одним столом сидеть одно удовольствие: шутки-прибаутки словно из пулемета, если тост – всех вспомнит, да еще по имени-отчеству. Вечером Римма Васильевна укорит: мог бы, дескать, и пропустить рюмку, другую. Нельзя, милая моя, парирует Петрович, компания была! Сорокаградусная – как пароль, сразу видно, кто ты, что ты и зачем.
Наступил день рождения – пожалуйте! Разумеется скромно, узким кругом: главный механик, председатель профкома и начальник плавильного. За надежной дверью, после семнадцати ноль- ноль. Виновник торжества потчует их с прожилками, с чесночком и с перцем салом да солеными в банке одинаковыми, как патроны, алыми помидорами. А еще байками из армейской службы. За двадцать пять лет много чего было. Пепельница уже не вмещает окурки, дым – до потолка. Пора. Душа слова требует. Петрович достает из нижнего ящика стола ученическую тетрадь. Мужики слышали его стихи уже не раз, однако внимают ему с искренним уважением и почтением, понимая значение момента, и расходятся по домам с ощущением полного удовлетворения друг другом, работой, заводом и державой.
И вот вдруг в самый разгар полной забот, событий и надежд жизни Петровичу подошло время уходить на пенсию. Первые дни ему казалось, что вот-вот позвонит телефон и голосом директора скажет: «Степан Петрович, возвращайтесь в строй!», а он ему: «Так точно!» Но аппарат молчал. Была осень, моросил холодный дождь. Петрович на кухне глядел сверху как с кленов падают серые листья на раскисшую землю. Напротив стояла такого же цвета пятиэтажка. В одном из окон неподвижно сидела старуха. Он отчетливо понял, что это все!
Впрочем, то была минута слабости, и Петрович вспомнил городскую редакцию, откуда к нему частенько обращались с просьбой подкинуть что-нибудь свежее в номер к двадцать третьему февраля или Дню Победы. Дружба с газетой продолжалась долго, репортеры, если по пути, охотно заворачивали в гостеприимный кабинет, где угощали не только чаем. Он пришел в редакцию тоже не с пустыми руками, а как положено и обнаружил, что прежних ребят, оказывается, нет. Вместо них – сплошные размалеванные и прокуренные девицы, которым до него никакого дела. Сменился редактор. Петрович присел возле его двери, колеблясь: зайти или как? Новый говорил по телефону громко, решительно, видать, о кадрах и под конец сказал:
– Мне эти пенсионеры и на дух не нужны! Старье должно стареть.
Дома Степан Петрович предложил жене:
– Давай хоть собаку заведем, что ли!
– Не дай Бог!– всполошилась Римма Васильевна. – Какой ей уход нужен, ты знаешь? Прививки, лекарства, ветеринар…А гулять? Каждый день! Зашел в квартиру – лапы мыть. Встанешь в шесть утра каждый день?
Черная полоса жизни лишила Степана Петровича прежнего равновесия, его место заняла сплошная безнадега: кислая на вкус, мутная на вид, обволокла душу, давит и давит… Голова отяжелела, будто набили мокрой ватой. Как белье в иллюминаторе стиральной машинки ворочались мрачные мысли – то медленно, то рывком. Он долго не засыпал, утром жена выговаривала : «Чем ты там елозишь по простыне! Всю ночь – шур-шур-шур! Я-то ладно, переживу, соседи скоро по батарее стучать начнут». Случался сон – невнятный, без смысла, рассвет стирал его, утром оставался неприятный осадок.
Время шло, Степан Петрович продолжал маяться. Он не умеет просто лежать с открытыми глазами и коротать очередную ночь. Глаза закрываются сами и сразу перед ним возникают то ли обрывки сна, то ли явь, которая покоилась на самом дне пролетевших лет. …Он так мал, что неизвестно, сколько ему – от силы пять – рядом отец и мать, молодые, возвращаются из рощи. Деревья с крохотными листочками, травка – несмелая, редкая. Туда шли, легко перешагнули ручеек поперек просохшей дороги, а назад – в том месте громадная лужа вровень с водой в низинах по обеим сторонам. Мать охает, испуганно озирается. Отец после нескольких попыток перепрыгнуть преграду, сажает сына на плечи, шлепает по луже напрямую, затем возвращается за матерью, берет на руки. Они спасены, оборачиваются: «Попер Урал! Еще бы маленько, и нам каюк!» Степке страх еще не ведом, Степке весело! …Вот он подпирает палкой решето, сыплет для приманки пшено, притаился с концом веревки, ждет воробьев. …Зима. С крутого обрыва скатывается с визгом и криком ребятня. Кто посмелее, подпрыгивает на трамплине, малышня осваивает салазки чуть в стороне, благополучно съехав, оглядываются: снизу берег высокий-высокий! Озеро покрыто прозрачным льдом, если присмотреться, видно как в глубине среди темной колыхающейся растительности медленно плывет рыба …Жара, ослепительное солнце. Спрятаться можно только в зарослях акации, да и то не надолго. Она цветет ярко-желтым, без перерыва гудят пчелы. Нехорошо гудят. Лучше уползти за сарай – там тень и немного продувает. Это место солнце обходит стороной. Степан Петрович вздрагивает… За старым сараем с покосившейся стеной старший брат … казнит кота: «Цыпленка, гад, сожрал!» Кот висит на турнике, петля врезалась в шею, задние лапы молотят по воздуху, стараясь ослабить бечевку, брат бьет по ним длинной палкой: «– Живучий, гад, не сдохнет никак. Будешь знать…» Казнь длится долго, жертва то затихает, то снова извивается из последних сил, пока не вытягивается во весь рост. Все.
