Гостинодворцы. Купеческая семейная сага
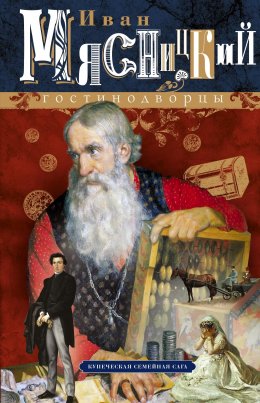
© «Центрполиграф», 2022
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2022
Часть первая
Отцы
В один из чудных майских дней, часов в одиннадцать утра, к Старому Гостиному двору, на Варварке, подкатил вороной рысак, запряженный в дрожки. Бородатый кучер, в надвинутой на глаза хребтовой шляпе и новеньком армяке темно-синего сукна с серебряными пуговицами, ловко осадил рысака у одной из арок галереи и повернул голову в ожидании приказаний хозяина. Из дрожек, слегка придерживаясь за яркий кушак кучера, вышел высокий плотный купец с легкою проседью в волнистой бороде, сказал несколько слов кучеру и, взойдя по ступенькам на галерею, снял высокий цилиндр и набожно стал креститься на церковь Варвары-мученицы. В галерее Гостиного двора кипела жизнь: сновали взад и вперед разносчики, выкрикивая нараспев названия своих товаров, шли артельщики с товарами своих хозяев, придерживая их лямками на спине, бежали мальчишки с чайниками за кипятком в водогрейную, находившуюся в то время – в шестидесятых годах – под церковью Варвары-мученицы, проходили купцы, раскланиваясь с сидевшими на галерее знакомыми и справляясь на ходу об их здоровье; у дверей амбаров стояли артельщики и глазели на улицу, по которой тянулись ломовики, нагруженные всевозможными товарами, и стрелой пролетали купцы, выезжавшие в город из своих домов, разбросанных по всему благословенному Замоскворечью. Только что приехавший купец прошел по галерее, завернул в Хрустальный переулок и остановился у прибитой над дверями амбара вывеской, на которой золотыми буквами по синему фону было написано: «Афанасий Иванович Аршинов». Помолившись на рядскую икону и едва кивнув головой на поклон вытянувшегося у дверей артельщика, он вошел в амбар. Амбар представлял из себя узкую и длинную комнату, выходившую внутрь двора и разделенную на две половины. В первой стояли две конторки, несколько лавок и полок с образцами товара; вторая половина служила складом, где с утра до вечера шла упаковка товара. Около двери, разделявшей амбар на две половины, начиналась лестница в «палатку» с одиноким окном-«аркой», выходившим на галерею. В амбаре были двое: приземистый и пузатенький человечек, лет под пятьдесят, и молодой человек, лет двадцати, сильно напоминавший чертами лица вошедшего бородача.
– «Сам!» – быстро проговорил пузатенький человечек и торопливо схватил кусок товара.
Молодой человек лениво поднял от конторки свою красивую кудрявую голову с темно-синими глазами и посмотрел на вошедшего. Легкая складка легла у него между изящно очерченными бровями, и что-то неприязненное мелькнуло во взгляде, брошенном им на отца. Он еще ниже нагнулся над конторкой и нервно схватился за перо.
«Сам» молча помолился на икону, висевшую над конторкой, поклонился пузатенькому человечку и, едва взглянув на молодого человека, стал подниматься по лестнице кверху. На половине лестницы он остановился и забарабанил пальцами по поручням.
Пузатенький человек вопросительно посмотрел на «самого».
– Кто был? – спросил «сам», сдвигая цилиндр на затылок.
– Да кто же-с, Афанасий Иваныч, – задумался тот на секунду, – да-с, Шугаев был. Спрашивал об вашем здоровье-с… Телушкину пятьдесят кип товара продали, половина на наличные, половина к Крещенской ярмарке-с.
«Сам» кивнул головой и уставился в кудрявый затылок сына.
– Сергей, ты что пишешь? – угрюмо спросил сам.
– Счета Макушеву, папаша! – ответил тот, не поворачивая головы.
– До сих пор написать не мог! Я думаю, за тобой дела-то не бознать сколько. Учили, учили тебя, дурака, и ничему хорошему не выучили.
Молодой человек вспыхнул. Перо задрожало у него в руке и проехало по счету. Он стиснул зубы и разорвал испорченный счет на мелкие лоскуточки.
Аршинов усмехнулся в бороду и совершенно спокойно спросил у пузатенького человека:
– Нового чего, Иван Васильевич, не слыхал ли?
– Ничего-с, Афанасий Иваныч, как есть ничего-с. Впро-чем-с, Веретенкин у Остравецкого пару лошадей за три тысячи купил-с.
– Хороши?
– Сказывают, что оченно великолепны. Хреновского заводу-с.
– Гм… а где же Андрей?
– Андрей Афанасьич у Митягова с Шугаевым чай пьют-с.
– А Иван?
– Иван Афанасьич в Троицкий завтракать пошли-с.
– Когда придет, позови его ко мне.
– Беспременно-с.
Аршинов постоял с минуту молча и, глубоко вздохнув, пошел вверх по лестнице.
Афанасий Иванович Аршинов происходил из старинного купеческого рода. Его прапрадед Иван Савельич пришел в Москву в лаптях и поступил на фабрику в сновальщики. Спустя двадцать лет у него уже была своя фабрика, которая к концу пятидесятых годов разрослась в громадную фабрику с миллионным оборотом.
Как купец, Афанасий Иванович пользовался уважением и неограниченным доверием, хотя в кредите нуждался очень редко и кредитовался, в силу унаследованных традиций, неохотно. Торговые дела у него, благодаря его здоровому, практическому уму, шли блестяще. Как настоящий русский купец, наделенный от природы сметкой, он смотрел всегда в «корень» дела, не давая воли фантазии и накладывая veto на «спекуляции», часто предлагаемые его старшим сыном Андреем.
В нем, как в зеркале, отражались все достоинства и недостатки купца старого закала, старого завета. Свою купеческую честь он ставил выше всего. Сам щепетильный до мелочей в расчетах, он требовал того же и от своих покупателей. Человек, позволивший себе отступить хотя бы на йоту от правил «купеческой чести», в его глазах переставал быть купцом.
– Торгаш и прощелыга! – говорил он о таковом и тут же приказывал вычеркнуть «прощелыгу» из его книг навсегда. Скупой, больше по купеческой привычке, он не гонялся за большою наживой. «Грош, да мой!», «За большим погонишься и последнее потеряешь!», «Всех денег не оберешь!» – были его любимыми поговорками. И в деле, и в семейной жизни он держался одних и тех же принципов. Его характер был смесью упрямого самодурства и добродушия, черствого эгоизма и высоких порывов великодушия. Не получив никакого образования, едва выучившись подписывать свою фамилию, он презирал образованных, которые все слыли у него под кличкой «ученых», и доказывал, что образованный купец в лавке не жилец, а только постоялец.
– Все одно, что для соловья клетка, то для образованного лавка. Позабудь попробуй запереть дверку – улетит!
Благодаря такому взгляду на «ученость» он своих сыновей дальше приходского училища не пускал.
– Писать, читать выучился, арихметику знает, на счетах класть умеет – какого ему еще рожна после этого? Для лавки и этого достаточно!..
Правда, младшего сына, уступая новым веяниям, он отдал было учиться в Коммерческое училище, да и того взял из четвертого класса и постоянно корил его ученостью.
Женился он, когда ему было двадцать четыре года, так же просто, как женились его деды и прадеды.
В один прекрасный вечер покойный отец Афанасия Ивановича приказал Афоне надеть новый сюртук и повез его к торговавшему в то время богатому москательщику Антропову, у которого последняя из семи дочерей, Арина Петровна, благодаря небольшому росту и некрасивому лицу, позасиделась в девках.
Пока Афоня болтал с Ариной Петровной о погоде, отец его за бутылкой лиссабонского успел «сторговаться» с Антроповым. Старики вышли из кабинета, где происходила купля и продажа, посмотрели, улыбаясь, на Афанасия Ивановича с Ариной Петровной и приказали подать донского.
И не справились даже ни у того, ни у другого, нравятся ли они друг другу: таких церемоний и галантностей старики не признавали и считали за лишние только разговоры.
И ни Афанасий Иванович, ни Арина Петровна не считали возможным протестовать. Отцы решили – значит, так и быть должно. За отцами столько разных прав, что перечить им – значит восставать против режима родительской власти, не терпящей никаких возражений и кладущей свое эгоистичное veto на мысли и желания всех, кто только так или иначе находится у них в подчинении и зависимости.
«Что ж, если тятенька решил, значит, хорошо!» – подумал Афанасий Иванович и с совершенно покойным сердцем троекратно облобызал свою будущую подругу, которую он видел только в первый раз в жизни.
Странно началась их семейная жизнь. Не говоря уже о любви, о которой у них и не могло быть речи, они совершенно не понимали друг друга, и каждый жил своими интересами… Сходились они вечером и расставались утром, не зная, что сказать друг другу. Он отправлялся на фабрику, а она – к свекрови, с которой и проводила целые дни, принимая разношерстную банду разных проходимцев, под видом странников и странниц, и слушая их разглагольствия о странах и чудесах, ими виденных.
Афанасий Иванович смотрел на жену как на «бабу», которую ему дал родитель только потому, что «не подобает человеку быти единому», а Арина Петровна глядела на мужа как на владыку и властелина, которого даже и апостол велит почитать и бояться.
Арина Петровна от природы была очень неглупая женщина, но ум ее, благодаря замкнутой жизни и домостройным порядкам, царившим в замоскворецком купечестве, был направлен исключительно на мелкие домашние интересы, составлявшие всю цель жизни русской женщины дореформенной Руси.
Родился сын. Немудрено, что сердце Арины Петровны, не согретое горячей лаской мужа, всю свою любовь, все порывы подавленного чувства перенесло на маленькое существо и наполнилось беспредельным счастьем.
Афанасий Иванович к появлению сына отнесся наружно, по крайней мере, довольно равнодушно.
Когда Арина Петровна, еще слабая от перенесенных ею нечеловеческих мук, но со счастливою улыбкой, светившеюся в ее кротких глазах, развернула плотного и красного, как вареный рак, мальчугана, Афанасий Иванович, только что вошедший в спальню жены «поздравить» ее, покосился на сына и сдвинул брови.
– Сын? – спросил он, смотря в угол.
– Сын, Афанасий Иванович! – ответила Арина Петровна, с гордостью глядя на мужа.
– Это хорошо… для фирмы! – проговорил он и тотчас же обратил внимание жены на паутину, висевшую в углу.
За первым сыном, спустя три года, явился второй, а за ним, через такой же промежуток, и третий. Дети росли, бегали в приходскую школу и затем поступали в лавку. Арина Петровна изливала на них всю свою материнскую нежность и не заметила, как состарилась, деля со своими ненаглядными сыночками и радость, и горе.
Любимцем отца был старший, Андрей, точная копия с Афанасия Ивановича, сухой, суровый, но душой и телом преданный делу, за которым он, как выражался сам Афанасий Иванович, издыхал, как собака. Аршинов гордился им и, где только мог, нахваливал сына.
– У меня Андрей – золото! – говорил он, самодовольно поглаживая бороду. – Захочет – на горе грязь сделает!
Женил его Афанасий Иванович рано; Андрею не было еще и двадцати лет, как отец повез его смотреть дочь фабриканта Неплюева; свадьбу сыграли в две недели. Агния Васильевна оказалась кроткой и любящей женой. Она всей душой привязалась к Андрею и, несмотря на его сухость, была уверена, что Андрей любит ее больше всех на свете. Сильно печалило и ее, и старика Аршинова одно обстоятельство: у Андрея не было детей. Это обстоятельство заставляло бездетную молодую женщину ежегодно по нескольку раз ездить на разные богомолья, на которые изредка сопровождал жену и Андрей.
Второй сын Аршинова, Иван, был, что называется, ни рыба ни мясо. И к делу особенно не прилежал и от дела не бегал… Ко всему относился он флегматично, хотя и бывали моменты, когда его, что называется, «прорывало». Иван закучивал, пропадал дня на три, на четыре, затем являлся, как ни в чем не бывало, прямо в лавку и принимал в палатке ужасную трепку от отца.
После «внушения» он неторопливо сходил вниз и, поправляя прическу и костюм, совершенно спокойным тоном спрашивал у младшего брата Сергея:
– Что нового в газетах пишут, Сергей?
– Ничего особенного, – ответил тот.
– И Катков ничего?
– И Катков ничего.
– Тэк-с… Дай-ка «мемориал». Калинкину продали… Васютину тоже… Хорошо-с!.. Значит, я в Лопашев ушел… слышишь ты, ученый?
Тем и кончалось до следующего «прорыва». Такие «прорывы», разумеется, сильно не нравились Афанасию Ивановичу, жившему по строгим традициям отцов и дедов, а он спал и видел, как бы только женить Ивана.
Младший, Сергей, был резким контрастом своих братьев. Чрезвычайно подвижный, приветливый и деликатный со всеми, он обладал удивительно доброй душой и любящим сердцем. С малых лет он пристрастился к книге и плакал, как ребенок, когда его отец взял из школы. Его любознательный ум жаждал знания и света, он мечтал совсем не о той дороге, которая вела из Замоскворечья на Варварку, но суровое veto отца сразу порвало все его порывы и мечты.
Он боготворил свою мать и боялся отца.
Будучи еще ребенком, он уже не любил его, инстинктивно возмущаясь его деспотическим отношением ко всей семье; с того же самого дня, как отец посадил его за конторку в лавке, он почувствовал, что в сердце его родилось новое неприязненное чувство к тому, кто разрушил его планы и надежды.
Братьев своих он ценил по «достоинству», а те платили ему той же монетой, пользуясь всяким удобным и неудобным случаем, чтоб показать ему свое превосходство.
Среди родных, таким образом, Сергей чувствовал себя одиноким, и, если б не мать, которой он поверял свое горе и радости, да не книга, которой отдавал все свободные минуты, – он сделался бы или пьяницей, как его брат Иван, или таким сухарем, как брат Андрей.
– А что же Иван, пришел или нет?! – крикнул из палатки Афанасий Иванович, хлопая на счетах.
– Нет еще, папаша! – ответил Сергей, отрываясь от конторки.
– Что он там застрял… с кем он ушел-то?
– С Петром Федорычем.
– Ну вот… хорошая компания… и отец жулик, и сын мотыга… пошли за ним артельщика.
Старший приказчик мотнул головой артельщику, и тот, сорвавшись с места, моментально скрылся на двор.
– Сергей! – раздался снова голос Афанасия Ивановича.
– Сейчас, папаша…
Сергей положил перо, отодвинул табурет и вихрем взлетел на лестницу.
В палатке за простым столом, придвинутым к самому окну, сидел Афанасий Иванович в очках и прокладывал на счетах цифры.
– Завтра отправишься на фабрику… слышишь? – проговорил Афанасий Иванович.
– Хорошо.
Фабрика Аршинова находилась под Москвой и управлялась, как и большинство фабрик, директором-англичанином. Старик Аршинов наезжал туда раз в неделю, а иногда посылал и сыновей.
– Захватишь деньги и передашь их Джемсу Иванычу для расплаты с рабочими.
– Хорошо.
– Да не потеряй, смотри… денег с лишком тридцать тысяч.
– Не в первый раз возить…
– Знаю, что не в первый, да голова-то у тебя не делом бывает забита… начнешь читать газеты и проворонишь сумку.
– Я в дороге никогда не читаю, папаша.
– И хорошо делаешь. В твоем чтении проку мало: купец должен делом заниматься, а не книжками. И без тебя ученых-то по Москве сотни без сапог шатаются.
– Больше ничего не прикажете? – сделал движение Сергей.
– Ничего. Кланяйся Джемсу Ивановичу и скажи, что я на днях сам приеду… и завтра я бы поехал, да дело есть… ступай.
На лестнице раздались торопливые шаги, и в палатку вошел Иван, высокий, крепко сложенный блондин с пухлыми щеками и небольшой бородкой, беспорядочно торчавшею в разные стороны.
Он окинул равнодушным взглядом брата и нагнулся над плечом отца.
– Присылали за мной? – вопросительно уставился он на старика.
– Посылал. Садись. Сергей, ступай вниз!
Сергей спустился в лавку и засел за свою конторку.
К нему, озираясь во все стороны, подошел старший приказчик и проговорил шепотом:
– Слышали новость, Сергей Афанасьич? Афанасий Иванович Ивана Афанасьевича женить хотят.
– Не слыхал, да это меня мало и интересует, по правде сказать.
– Как же не интересовать, помилуйте, ведь брата родного женят… на свадьбе попируем.
– А на ком, не слыхали?
– Не слыхал… сами, чай, знаете, что Афанасий Иванович не любит разглагольствовать… кончать совсем дело, в те поры и объявят… кажется, сходят.
Приказчик отскочил от Сергея и схватился за первый попавшийся под руку кусок товара.
Сверху сошел Иван, посмотрел на приказчика и отдал ему какое-то приказание.
Приказчик скрылся в заднюю половину лавки, где раздавались голоса артельщиков, паковавших товар.
– Сергей! – подошел Иван к брату. – Ты, кажется, дружен с молодым Алеевым.
– Бываю иногда, – потупился тот, – а что?
– Сестру его… видал?
– Липу? Да… тебя она интересует?
– Да я ее и не видал никогда… Завтра еду с отцом смотреть ее.
Табуретка полетела с громом в угол. Сергей вытянулся и, бледный как смерть, двинулся к брату.
– Не смей! – задыхаясь, крикнул он, сжимая кулаки. – Слышишь, Иван, не смей!
Иван невольно попятился назад и наткнулся на вошедшего купца с длинной седой бородой.
Купец посмотрел с удивлением на братьев и приподнял шляпу.
– Ивану Афанасьичу почтение!.. Сергею Афанасьичу нижайшее! – проговорил он, сладко улыбаясь.
– Вы к папаше? – спросил его Иван, приходя в себя и пожимая старику протянутую руку. – Пожалуйте в палатку…
Купец приподнял еще раз шляпу и неторопливо, все с той же сладенькой улыбочкой стал подниматься по лестнице в палатку.
– Да ты что же это, Сергей… ошалел? – сдвинул брови Иван, становясь за конторку.
– Не смей ездить к Алеевым, – подступил снова Сергей к брату, – не смей!
– Вот как! Странные нонче порядки пошли; младшие братья начинают старшими командовать… вот оно что значит, ученье! Ах, дурак, дурак! Кого же мне слушать: тебя иль отца?
– Меня…
– Скажи пожалуйста!
– Меня. Я люблю Липу… слышишь, Иван? Люблю, безумно люблю и никому ее не отдам.
Иван от такого неожиданного признания широко раскрыл глаза и с удивлением уставился на брата.
– Понимаем-с, – проговорил он наконец, и скверная улыбка искривила его пухлые румяные губы, – понимаем-с… роман-с, значит, завели… Ужасно это для меня чувствительно… То-то мне удивительно, что это наш Сереженька все к Алеевым да к Алеевым, а он там амуры завел… Хе-хе-хе…
– Можешь смеяться, Иван, сколько тебе угодно, но если ты только посмеешь жениться на Липе, я тебе враг на всю жизнь…
– Ах, как это для меня страшно… даже убийственно, ей-богу!
– Оставь свои площадные прибаутки в покое. Я тебе говорю серьезно, как брат брату… Нет, больше, как порядочный человек человеку, и ты должен, – слышишь? – должен понять, что дело идет о счастье, о целой жизни близкого тебе человека… ты не видал Липы, не знаешь ее совсем, а я люблю ее… Пойми, брат, люблю и душой, и сердцем… неужели же ты станешь на дороге к моему счастью? Неужели у тебя хватит дерзости исковеркать жизнь двух человек?
– Чудной ты, Сергей, ей-богу… Да разве я сам хочу жениться? Эка невидаль – жена! Отец говорит: женись, и кончено.
– Да разве мало невест помимо Липы? Скажи отцу, что она тебе не нравится.
– Так вот он меня и станет слушать… Да что ты отца-то первый день знаешь? Скажет: гожа! Ну и иди под венец… с ним, брат, разговор короткий…
– Хорошо, я переговорю сам с отцом; но только ты, Иван, дай мне слово, что будешь всеми силами противиться этому браку.
– Изволь. Мне все равно, только навряд ли что выйдет из этого: если отец решил, значит, так и будет!
– Ну, это мы еще увидим…
– Да что ж она, хороша очень, что ли? – продолжал ухмыляться Иван.
– Я знаю одно только: я люблю ее и больше ничего не знаю.
– Значит, писаная… И давно ты в ее втюрился-то?
– Не все ль тебе равно?
– Любопытно все-таки… Поди, целовался с ней?
Сергей ничего не ответил. Он облокотился на конторку и погрузился в горькое раздумье.
Полгода тому назад он совершенно случайно был послан отцом за какою-то справкой к старику Алееву, покупавшему у них товар на крупные суммы. Старика не было дома. Сергея встретил сын Александр, которого он давно знал по «городу», и пригласил к себе посидеть, пока приедет старик.
Сергей очутился в небольшой уютной комнатке молодого Алеева и был поражен обстановкой. В простенках между окнами стояли шкафы, наполненные книгами и журналами, по стене висели картины и эстампы, на столе лежала скрипка.
– Боже мой, – вырвалось у него невольно, – и это все ваше?
Молодой Алеев с удивлением посмотрел на Сергея и ответил:
– Разумеется, мое.
– И вам позволяет отец иметь книги и заниматься музыкой?
– С грехом пополам! – улыбнулся тот. – Наружно он недоволен и вечно сердится, что я занимаюсь совсем не купеческими делами, но в душе, я уверен, он очень доволен тем, что книга и скрипка привязывают меня к дому крепче, чем родительские наставления. А вы любите читать?
– Я? Книга – это моя единственная радость в жизни.
Они заговорили о литературе. Сергей боготворил Пушкина, молодой Алеев благоговел перед Лермонтовым. Оба горячо принялись отстаивать своих божков.
– Не спорьте, Александр Сергеевич, – кричал Аршинов, колотя себя в грудь руками, – выше Пушкина нет поэтов на земле… возьмите вы его любое произведение… да вот, позвольте я вам прочту хоть бы это место из «Онегина»…
Сергей бросился к шкафу, вытащил томик Пушкина и нервно зачитал письмо Татьяны…
Читал он просто, но в чтение вложил столько силы молодого чувства, столько неподдельной любви и благоговения к каждой строчке любимого поэта, что молодой Алеев с нескрываемым наслаждением слушал своего молодого товарища.
– Как это хорошо! – раздался молодой женский голосок, когда Сергей кончил чтение письма.
Сергей оглянулся. У дверей стояла молодая девушка, лет двадцати, и с любопытством смотрела на Сергея.
– Ах, это ты, Липа! – проговорил молодой Алеев и тут же представил сестру Сергею.
Сергей пожал протянутую ему пухлую ручку с розовыми ногтями, взглянул на девушку и вспыхнул. Вспыхнула и Липа и потупила глазки.
Когда Сергей оправился от смущения, Липа уже сидела за столиком и щебетала, как птичка, рассказывая брату, как она упала с санок, катаясь с горы, устроенной у Алеева в саду. Она звонко хохотала, передавая брату различные детали этого комического эпизода, и украдкой поглядывала на Сергея, смотревшего на нее во все глаза.
От всей стройной фигуры молодой девушки, дышавшей здоровьем и счастьем, так и веяло тою беззаботною юностью, которая всюду вносит с собой довольство жизнью и бесконечное веселье.
От Алеевых Сергей вернулся домой совершенно очарованным. Он не спал всю ночь. В ушах его звенел серебристый смех Липочки, и стоило ему только закрыть глаза, чтоб образ молодой девушки, словно живой, появлялся перед ним и дразнил его воображение. Он жадно смотрел в эти жизнерадостные голубые глазки, на маленький улыбавшийся ротик со сверкающей белизной красивых зубов и шептал: «Как она хороша! Боже мой, как она хороша!»
На другой же день, под предлогом попросить какую-то книгу, он явился к молодому Алееву и просидел у него часа два. Липа не являлась.
Сколько раз он порывался спросить у брата про нее и не мог; слова не сходили с языка.
Уходя, он заглядывал во все углы комнат, по которым приходилось проходить ему, надеясь увидать Липу, и долго стоял в передней, разговаривая громко с Александром. Ему казалось почему-то, что Липа слышит его голос и по какому-то непонятному капризу не хочет выйти к нему.
– Вы позволите, Александр Сергеевич, иногда зайти к вам побеседовать? – неуверенно проговорил он, уставясь в полумрак залы, где как будто промелькнуло что-то белое.
– Очень буду рад! – ответил тот, крепко пожимая руку гостю. – Пожалуйста, без церемоний… поговорим, почитаем.
– Конечно, конечно! – бормотал Сергей. «Это она в белом, – думал он, – но почему не вышла? Что я ей сделал?..» – Так до свидания, кланяйтесь, пожалуйста, от меня папаше и… мамаше.
Послать поклон Липе у него не хватило духу.
Выйдя на свежий морозный воздух, Сергей с тоской на сердце перешел на другую сторону улицы и жадно стал всматриваться в освещенные окна алеевского дома.
Вон промелькнула фигура. Это Александр, а вот и другая.
У Сергея забилось сердце и затуманились глаза.
– Это она… Липа… ну да, она… теперь она вышла.
Липа подошла к окну, запушенному инеем, прильнула к стеклу и стала смотреть на улицу.
– Она смотрит… ждет кого-то… уж разумеется, не меня! – поспешил он прибавить с горькой улыбкой. – И с какой стати она станет меня высматривать… видя всего раз только и затем… не вышла… слышала мой голос и не пришла… она только и дожидалась того, чтоб я ушел.
Липа отошла от окна, а Сергей продолжал стоять и смотреть на окна.
Сергей вернулся домой совсем несчастным человеком: он сознавал, что любит Липу, и любит безнадежно.
Целых три дня он терзался муками любви, не находя себе нигде покоя, и только на четвертый решился поехать к Алеевым.
– Узнаю все, мне легче станет! – рассуждал он дорогой и торопил извозчика, как будто дело шло о жизни и смерти.
Его встретил молодой Алеев и помог ему раздеться.
– Вот книга ваша… я ее прочитал… благодарю! – бормотал Сергей, идя за Александром.
– Скоро… Ну что, понравилась?
– Очень…
– Садитесь. Сейчас будем чай пить… велим сюда подать самовар и запьянствуем! – пошутил молодой хозяин и отдал приказание горничной. – Садитесь, Сергей Афанасьич! – добродушно хлопнул он по плечу Сергея. – Да что с вами? Вы как будто осунулись, побледнели…
– Так… плохо спалось за это время… много было письменной работы, – уклонился тот, – а вы и все ваши?
– Здравствуем… что нам делается? Едим, спим, спим, едим и потом опять едим и спим, спим и едим… наше Таганское царство – спящее царство… оно ждет не дождется сказочного Ивана-царевича, который заставил бы его проснуться… а пора, давно пора.
– И эта пора недалека…
– Я сам так думаю… А Липа вон утверждает, что этот Иван-царевич мимо Таганки проехал… Ха-ха-ха.
– А что… Олимпиада Сергеевна… здорова? – потупился Сергей.
– Что ей делается… вы знаете особенность канареек?
– Нет.
– Канарейки отлично поют и в клетке… Кстати, о Липе… и задала же она мне головомойку за вас!
– За меня?
– За вас. Когда вы у меня были?
– Кажется, неделю тому назад! – соврал Сергей и покраснел.
– Разве? Представьте, ужасно обиделась, почему я не послал за ней, когда вы у меня были.
Сергей чуть было не упал со стула. Он готов был броситься на шею к Александру и задушить его в объятиях.
– Я очень благодарен Олимпиаде Сергеевне за ее внимание, – бормотал он.
– Она вам очень симпатизирует. «В первый раз в жизни, – говорит, – живого человека встречаю». Да-с! Вот вам какой аттестат девицей из Таганки выдан.
Александр захохотал и тотчас же спохватился.
– Батюшки, не забыть бы послать за Липой, а то опять мне попадет на орехи.
Явился самовар, а минут пять спустя, улыбаясь, влетела в комнату брата Липа и шумно поздоровалась с молодыми людьми. Брата чмокнула в макушку, предварительно взъерошив ему прическу, а Сергею, с размаху, по-купечески, подала руку.
– Липа, хозяйничай! – крикнул ей Александр и скрылся за каким-то особенным домашним печеньем, которым, по его словам, одна знакомая купчиха объелась до того, что должны были созвать консилиум.
Липочка быстрым движением ноги подбросила стул к самовару и заварила чай. Сергея охватило волнение. Он молчал и влюбленными глазами следил за пальчиками Липы, перелетавшими от крана самовара к чайнику и обратно.
– Ну-с, готово! – проговорила Липа, ловко бросая крышечку на чайник. – А вы, Сергей Афанасьевич, были у Саши на днях?
– Был и очень сожалел, что не видал вас! – ответил Сергей, поднимая глаза на Липу. Она ему показалась еще красивее, чем в первый раз. Ее русую головку, словно обручем, охватывала голубая ленточка, а длинные тяжелые косы кокетливо были переброшены чрез плечо на грудь.
Она так доверчиво и любовно смотрела на Сергея, что все его тревоги и сомнения разлетелись, как дым.
– А я-то как жалела! – всплеснула руками Липочка. – Живые люди у нас редко бывают, а я в это время, представьте, сидела наверху у дедушки и играла с ним в шашки, и глупо провела вечер, и дедушку рассердила.
– У вас дедушка еще жив?
– Да, отец моей матери. Совсем древний старик, забытый и Богом, и людьми. Только я иногда с Александром развлекаем его, играя с ним в его любимые шашки или рассказывая новости… и какая досада: вы ушли как раз в то время, как я сошла сверху…
– Я это знаю. Вы смотрели в окно… то есть виноват… – спохватился он.
– Откуда вы знаете, что я смотрела в окно? – вспыхнула Липа.
– Мне показалось… может быть, я и ошибся, – покраснел Сергей.
Молодые люди замолчали. Сергей проклинал себя за свой язык, а Липа, разливая чай, исподлобья бросала на него пытливые взгляды.
– А вот и печенье! – появился Александр с корзиночкой в руках. – Кушайте, Сергей Афанасьевич, только, пожалуйста, не объедайтесь до консилиума.
Сергей не заметил, как пролетело несколько часов. Нужно было уходить. Правда, ему было жаль расставаться с такими хорошими людьми, как молодые Алеевы, но зато на душе у него было так легко и хорошо, как никогда.
Приехав домой и узнав, что отца не было дома, он осторожно пробрался в спальню к матери, которая в это время стояла на вечерней молитве и клала с тяжелыми вздохами земные поклоны.
– Господи, помилуй и сохрани моих детей! – молилась Арина Петровна, падая ниц пред образом Богоматери, ярко освещенным светом лампады. – Пошли им, Царица Небесная, Заступница, счастья, здоровья и отпусти им грехи их вольные и невольные…
Сергей остановился в дверях и с любовью посмотрел на мать.
«За нас… все за нас!» – подумал он, и глаза его наполнились радостными, благодарными слезами.
Что-то светлое охватило его душу, и он так же, как и мать, пал пред сияющим ликом Девы Марии и стал молиться.
– Сережа… ты? – поднялась Арина Петровна, услыхав стук и увидав сына стоявшим на коленях.
– Я, мамаша! – поднялся тот, бросаясь к ней на шею. – Мамочка, дорогая моя, хорошая, я так счастлив, мама, так счастлив… и все твои молитвы… твои, дорогая!..
И Сергей, склонясь на плечо матери, зарыдал, как ребенок…
Прошла зима. Наступила Пасха… Сергей часто бывал у Алеевых и очень с ними сблизился. Старики Алеевы смотрели на это сближение равнодушно. Старуха была отчасти даже рада, что ее Александр все-таки не один сидит дома, зарывшись в свои книги и ноты.
– Все-таки ему развлечение, а то зачитается совсем, – говорила она старику, – зачитается и с ума свихнет… немало тому примеров было.
– Пущай ходит! – отвечал обыкновенно старик Алеев. – Положим, такая же пустельга, как и Александр, а все-таки уже тем хорош, что никуда его из дому не тянет. По-моему, оба глупы: намедни подошел это я к дверям Александра и слышу – спорят, орут даже, вот до чего… Я так и думал: вот подерутся, и шут знает из-за чего. Один кричит: Дикинс какой-то великой человек, а другой орет: врешь, Гоголь! Смех меня разобрал, вошел это я к ним в комнату, да и говорю: «Вот что, ребята, по-моему, выше всего гоголь-моголь, в особливости ежели простудишься». Ха-ха-ха!.. Так они, понимаешь, даже рты от моего решения вопроса разинули, дурачье!
Липа почти всегда присутствовала на таких спорах и большею частию принимала сторону Сергея. Прихода его она ждала, как праздника. Смотрела по целым часам в окна и поминутно справлялась у Александра, почему Сергей не идет так долго. Про Сергея и говорить нечего: у него только и думы было, как бы поехать к Алеевым и повидать Липу.
В первый день Пасхи Сергей приехал к Алеевым с визитом. Похристосовавшись со стариками и поздравив их с праздником, он направился к Александру.
В коридоре неожиданно ему встретилась Липа. Шурша шелковым платьем, она быстро шла навстречу Сергею и радостно улыбалась.
Сергей остановился.
– Христос воскресе, Олимпиада Сергеевна! – проговорил с чувством Сергей и схватил обеими руками ручку Липы.
– Воистину, Сергей Афанасьевич! – шаловливо посмотрела она ему в глаза. – А вы разве не христосуетесь?
– Как же, помилуйте… я не смел.
Сергей поцеловал Липу. У него закружилась голова.
– Кажется, три раза нужно? – проговорил он, не выпуская руки Липы.
– Целуйте три, – ответила она просто.
Сергей стал ее целовать без счета.
– Липа… дорогая!.. – шептал он прерывистым от волнения и счастья голосом.
– Сережа, милый!
– Эге, брат, да это ты тут христосуешься? – проговорил Александр, появляясь в коридоре. – А я-то голову ломаю, кто здесь так вкусно целуется. Молодец! Ха-ха-ха!
Сергей отошел в сторону. Липа, громко смеясь, скрылась в столовую.
Месяц мелькнул, как один день. Сергей был счастлив, как никто, и думал, что и конца не будет его счастию. Известие, переданное ему братом Иваном, поразило его, как громом. Ему и в голову не могла прийти мысль, чтоб отец мог когда-нибудь женить его брата на любимой им девушке. Все это случилось как-то неожиданно, стихийно. Отцы «торговались», часто распивали чаи в Митяговом, но домами знакомы не были; только он, Сергей, бывал в доме Алеевых, и никто, ни отец, ни мать, ни братья, никогда не интересовался узнать от него ни об образе жизни, ни о характере членов алеевской фамилии. Как это случилось?
А случилось крайне просто. Сидели как-то отцы за парой чаю и, потолковав о торговых делах, коснулись собственной домашней жизни. Тут только Аршинов узнал, что у старика Алеева, кроме сына, есть еще и дочь на возрасте. У него тотчас же мелькнула мысль о женитьбе Ивана, и он, не откладывая дела в дальний ящик, поставил вопрос ребром:
– Женихи есть?
– Да как тебе сказать? – замялся Алеев. – Женихов много, да толку в них мало.
– А я тебе с толком найду, хочешь?
– Кто же от добра отказывается?
– За моего Ивана отдашь?
Алеева даже в жар бросило от такой неожиданности. Породниться с Аршиновым счел бы за большую честь и не такой купец, как Алеев.
– Да ты, как это, – подозрительно посмотрел он на Аршинова, – всурьез али так, для разговору?
– Я, брат, такими вещами шутить не привык. Ивана моего знаешь?
– Достаточно знаю.
– Парень добрый. Звезд с неба не хватает, но дело знает. Ума большого нет, но умишком Бог не обидел. У другого и этого нет.
– Знаю, парень хороший.
– Почтительный, не нигилист какой-нибудь. Нонче, брат, того и гляди, вырастишь сына, думаешь, помога тебе, а он глядь – в нигилятину ударится, умнее себя никого в свете не считает.
– Бывает, – согласился Алеев, – ах, как это по нынешнему времю бывает!
– Да у меня вот сичас третий сын Сергей…
– Ужли нигилист? – с испугом уставился Алеев на Аршинова.
– Ну уж это ты хватил! Да я бы давно из него дух вышиб. Переучил я его не в меру, начитался разной дряни, ну и нет уж того почтения, понимаешь?
– Как не понять! У меня Сашка тоже, твой Сергей часто к нему ходит, сидят и читают.
– Не купцы! – решил Аршинов. – А кто виноват? Наша слабость. Допустишь, а потом и начнешь локоть кусать. Иван не такой. Девка-то у тебя добрая?
– Да с чего же ей не доброй быть? В страхе Божием воспитали.
– Это главное. Так мы с Иваном к тебе завтра. Завтра что у нас такое?
– Середа.
– В четверг мы приедем вечерком посмотреть. Понравится, и дело кончено! Так?
– Ничего супротив не имею, давай Бог час добрый.
Так и решили. На другой день Аршинов сказал об этом решении жене, а приехав в лавку, передал его Ивану.
– Слушаю-с, – коротко ответил тот отцу.
Купец, которого чуть не сбил с ног Иван, пробыл у старика Аршинова недолго. Не прошло и десяти минут, как они оба спустились вниз и отправились в трактир.
Сергей отложил объяснение с отцом до вечера. Целый день он провел в нервной ажитации, отвечал невпопад приходившим покупателям, писал бессмысленно счета, рвал их и рад был радехонек, когда наконец на Спасской башне пробило пять часов.
Отца не было. Он пришел на минутку из трактира, сделал кое-какие распоряжения и отправился с двумя иногородними покупателями обедать в Патрикеев.
Сергей поехал домой.
Дом Аршинова стоял на одной из пустых улиц Замоскворечья, тишина которой в течение дня нарушалась лишь криками разносчиков да торговок, а ночью – лаем собак, единственных сторожей обывательского добра и покоя. Был он двухэтажный, с неизбежным мезонином, «тресолями» по-замоскворецки, с высокими глухими воротами и длинным забором, утыканным гвоздями; фасадом дом выходил на широкий, поросший травою двор, а позади его тянулся громадный тенистый сад с беседками и маленьким прудом, в котором весело играли в солнечные дни золотистые караси.
В нижнем этаже на одной половине помещалась контора и жили приказчики, а на другой – старший сын Аршинова, Андрей Афанасьевич. Бельэтаж занимал старик. Собственно говоря, он занимал всего две комнаты, остальные же слыли «парадными» и пустовали; в них собирались члены семьи только в торжественные дни, когда по случаю какого-нибудь празднества были приглашаемы посторонние гости. Таких дней набиралось в году не более десяти, и тогда «парадные» покои оживали, светились огнями, кипели весельем и затем снова погружались в мертвую тишину до следующего празднества. Столовая была общая, помещалась внизу и выходила окнами в сад.
В мезонине было всего три комнаты: одну занимал средний сын Афанасия Ивановича – Иван, другую – Сергей, а третью – дальний родственник Аршиновой, проторговавшийся купец, живший у Аршинова на хлебах из милости.
Звали его Аркадием Зиновьевичем, по фамилии Подворотневым, но знали его все больше под кличкой Во всех отношениях благодаря привычке Подворотнева употреблять эту фразу в разговоре кстати и некстати. Высокий, с благообразной физиономией, длинной седой бородой, всегда тщательно одетый в черный долгополый сюртук, из-под которого выглядывали концы манишки, перевязанной черною косынкой, он, несмотря на свои лета, держался прямо и слыл ходоком, не знавшим устали. С утра и до обеда, то есть с семи и до двух часов дня, Подворотнев успевал обегать все монастыри, забегал мимоходом в Кремль и приходил к обеду без всяких признаков усталости.
Этот «моцион» он совершал чуть не каждый день и приносил со счастливой улыбкой своей благодетельнице Арине Петровне поклоны и просфоры от разных батюшек и матушек, которым богобоязненная купчиха творила втайне разные «дары и жертвы».
Перед Ариной Петровной он благоговел, а на Афанасия Ивановича смотрел как на человека, которому повезло в жизни «во всех отношениях». Из детей больше всех он любил Сергея за его простоту и приветливость. Комнаты их были рядом. Чуть не каждый вечер Аркадий Зиновьевич, покашливая, стучал в дверь Сергея и спрашивал:
– Ангел мой! Можно войти, во всех отношениях, или нельзя?
Войдя в скромную, на холостой манер обставленную комнату Сергея, он крестился на икону, затем, поздоровавшись за руку, садился в угол на излюбленное им кресло с высокой спинкой и, подпершись рукой, справлялся сперва о торговых делах, городских новостях, а потом переходил на более интересовавшие его вещи: не пишут ли в газете о том, что народился антихрист, не появилась ли новая звезда с хвостом и почему в аглицком парламенте может всякий говорить, что ему вздумается?
Сергей говорил ему, что видел, слышал, читал, и старик уходил в свою «келью», довольный собой, и Сергеем, и всем светом.
Характер у него был мягкий, сердце – доброе и отзывчивое. Чужое горе его трогало до слез, а на обиды и шутки, отпускаемые иногда на его счет, он смотрел как на должное возмездие за его вины и грехи житейские.
– Жизнь, – говаривал он, – море ненасытное, ангел мой. Нынче оно спокойно, а завтра, глядишь, забурлит и поглотит кораблики, а на корабликах-то люди. Греха одного сколько, во всех отношениях. Так и человек: нынче он живет по правде, по совести, а завтра – хвать: то одному зло причинил, то другому боль растравил, а возмездие не дремлет, ангел мой, во всех отношениях, не дремлет!..
Сергей очень любил Подворотнева и часто поверял ему свои тайны и надежды. Тайну любви, впрочем, он не поверял никому и только теперь, пораженный намерением отца, он решился прежде всего рассказать все матери.
Арина Петровна сидела в своей спальне, когда вошел к ней Сергей, только что возвратившийся из города.
– Сереженька, ты? – справилась та, с любовью и гордостью посматривая на стройную фигуру сына.
– Я, мамаша.
Сергей поцеловал руку матери и сел возле нее.
Арина Петровна отложила в сторону чулок, который она вязала, сняла очки и погладила по голове сына.
– Чайку не хочешь ли, а?
– Нет, мамаша, спасибо… в городе пил.
– Ну, скушай чего-нибудь… мы сегодня ватрушки с творогом пекли, твои любимые.
– И есть не хочется, мамочка.
– Да ты уж здоров ли, голубчик? – затревожилась Арина Петровна. – Не ест, не пьет… нездоров и есть.
– Право же, здоров… не беспокойтесь, пожалуйста… неприятность у меня только одна.
– С отцом? – испуганно всплеснула руками та.
– Нет, но… может.
– Сереженька! Родной мой! Сдержи себя, помни заповедь: «Чти отца твоего»!
– Я и чту его, и уважаю, но ручаться за себя не могу… все зависит от него самого.
– Да что такое случилось? Господи!
– Мамаша, вы не пугайтесь, ради бога. Пока ничего не случилось, но может случиться то, что я перестану его и любить, и уважать. Вам ничего не говорил папаша?
– Про тебя? Ни словечка, голубчик.
– А про брата Ивана?
– Говорил, утром нонче говорил. Женить его хочет… Что ж, это дело законное, святое дело, Сереженька.
– А на ком – говорил вам?
– И это сказывал. У Алеева, вишь, дочь есть… да тебе лучше знать, Сереженька, ты у них в гостях бываешь.
– На Липе?
Сергей встал со стула и подошел к окну.
– А уж, право, голубчик, не знаю, как ее зовут, может, и Липой.
– Так этой свадьбе, мамаша, не бывать. Я люблю Липу. Слышите, родная, я люблю, и Липа меня любит!
Арина Петровна совсем растерялась.
– Да как же это так, Сереженька? – бормотала она. – Господи! Да что же это будет?
– И я ее не уступлю Ивану… никогда! Мамочка! Добрая моя, хорошая! Я так вас люблю, как ни один сын не может любить свою мать… душу, жизнь, все отдам за вас! Ближе вас да Липы у меня никого нет на свете, так неужели вы за мою любовь к вам пожелаете мне несчастия?
– Что ты, что ты? Христос с тобой!..
– И знайте, мамаша, если вы не уговорите отца отказаться от его мысли – женить Ивана на моей Липе, я… я не знаю, что я сделаю. Когда у человека отнимают его счастье, он забывает все: и долг, и честь, и узы родства!
– Сережа! – простонала Арина Петровна.
– Я убью Ивана, если только он осмелится это сделать!.. Пусть меня сошлют на каторгу, повесят, расстреляют… пусть делают, что хотят, но Липы я ему не отдам.
Сергей задыхался. Арина Петровна, трясясь от волнения и испуга, простирала руки к сыну и беззвучно шептала:
– Сережа! Сережа!
– Мамочка! Дорогая! – припал Сергей на плечо к матери. – За что? За что?
– Постой, погоди… ах, глупый… ну что ты, ей-богу! – говорила Арина Петровна, приходя в себя. – И меня перепугал, и себя растревожил… Погоди, я переговорю с отцом.
– Ангел, мамочка! Переговорите, ради бога!
– Нонче же переговорю, успокойся… ах ты господи! Убью вдруг: да рази можно такие слова, Сереженька?.. Да ты и помыслить об этом не смей… Заступница-матушка, да что же это такое?.. За мои грехи ты мне испытание посылаешь… Да расскажи ты мне, как вы слюбились-то, батюшки мои!..
Сергей рассказал историю своей любви.
– Нет, девки-то, девки-то нонче какие пошли, а? Да в наше время мы и на мужчину-то взглянуть стыдились, а она – накося!.. Совсем свет наизнанку вывернулся… ох, совсем… недаром блаженненький Андрюша глаголет, что знамения пошли.
– Мамочка, дорогая моя! Ты видишь сама, что мы любим друг друга.
– Да уж вижу, вижу… нонче же скажу отцу все, только ты не суйся, слышишь, все дело можешь испортить, а ежели не в духе приедет, завтра скажу.
– Да завтра они смотреть Липу едут.
– И пусть едут, эка важность! Да мало ли девок смотрят? Не на всех же женятся. Может, Афанасию Ивановичу твоя зазноба-то и не пондравится.
– Липа не понравится? Да такого и человека на свете не найдешь, чтоб ему она не понравилась, – ведь это ангел, мамочка!
– Постой, все девки для таких молокососов, как ты, ангелы, а настоящего мужчину, как твой отец, не проведешь… Ты на фабрику завтра?
– На фабрику, мамочка.
– И отлично, я все это дело устрою, без тебя отцу скажу, они посмотрят твою кралю-то, тем и кончится. А ты долго там пробудешь?
– Дня два, три.
– И чудесно. Ежели Афанасий Иванович и вспылит, так сорвать не на ком будет, а в два дни он утихнет совсем. Ах ты господи! Вот грехи-то!.. Сроду такой истории не видывала, чтоб до замужества девки мужчин любили…
– Мамочка, сердцу приказать нельзя… Неужели вы не любя шли за отца?
– Вот глупый! Ах, глупый ты, Сережа! – всколыхнулась Арина Петровна. – Да как же это мужа не любить? Что ты, что ты… Иди лучше к себе, ну тебя, а я переговорю, ступай.
Сергей обнял крепко мать и отправился в свою комнату.
Арина Петровна долго сидела, скрестив руки на коленях, и покачивала головой, обдумывая план атаки на грозного Афанасия Ивановича.
– Брат на брата, сын на отца… последние, ох, последние времена настали! – шептала она, поднимая свои добрые глаза на икону.
Сергей, поднявшись к себе в мезонин, открыл окно, выходившее в сад, и вздохнул всею грудью. Его так и обдал запах черемухи. В саду по дорожкам прыгали, чирикая, воробьи; в кустах плакала малиновка.
«Все живет в природе жизнью, полною довольства и счастия! – подумалось ему. – Только одни люди портят себе жизнь и отравляют ее другим… Бедные воробьи! Как вам это человечество должно завидовать!»
Сергею стало невыносимо грустно.
Его тянуло туда, к его дорогой Липе. Ему так много надо было сказать ей, предупредить ее о предстоящем смотре, поглядеть ей в ясные очи и уйти вполне успокоенным, что она его, только его одного любит и никогда никому, кроме него, не будет принадлежать.
А уйти было нельзя: надо было ждать приезда отца и его распоряжений относительно поездки на фабрику.
Сергей долго обдумывал, как дать весточку Липе, наконец засел за письменный столик и стал писать письмо.
Не успел он еще и окончить письма, как за дверью раздался голос Подворотнева.
– Можно войти, во всех отношениях?
– Пожалуйста! – обрадовался Сергей, торопливо запечатывая письмо. – Здравствуйте, добрый мой Аркадий Зиновьевич!
– С чудесным майским вечером, Сергей Афанасьич! – пожал старик протянутую руку и уселся в уголок.
– А вас сама судьба ко мне прислала! – усмехнулся Сергей. – Завтра утром я еду на фабрику, а мне нужно непременно доставить письмо одному человеку. Если бы вы были так добры, Аркадий Зиновьевич…
– С удовольствием доставлю, во всех отношениях! Кому именно?
– Алеевых вы знаете?
– Как же, как же-с… бывал прежде у них, – вздохнул Подворотнев, – компанию разделял…
– Вы дадите мне честное слово, Аркадий Зиновьевич, что вы никому не скажете о том, что я вам скажу?
– Даю-с, во всех отношениях, даю-с.
– Благодарю вас. Видите ли, в чем дело. Завтра утром вы отнесете вот эту книжку молодому Алееву.
– Сашеньке? Хорошо-с…
– Кланяйтесь ему и скажите, что я очень благодарю его за нее. Вместе с тем постарайтесь увидать Олимпиаду Сергеевну. Вы знаете ее?
– Липочку-с? Во всех отношениях…
– И передайте ей это письмо, но сделайте так, чтобы этого никто не видал.
Старик поднял брови и пристально посмотрел на Сергея.
– Передать-с, но… значит, это тайна, во всех отношениях?
– Тайна для других, но не для вас. Я привык вам верить, Аркадий Зиновьевич. Дело в том, что мы с Олимпиадой Сергеевной любим друг друга, а отец завтра едет смотреть ее для брата Ивана…
Подворотнев встал и зашагал по комнатке.
– Однако, Сергей Афанасьич, это того-с… во всех отношениях… давайте письмо… Скажите, какое стечение может произойти!.. Передам-с… Во всех отношениях, передам, поезжайте с Богом на фабрику…
Старик взял письмо, завернул его в газетную бумагу и бережно положил в боковой карман.
– Сергей Афанасьич, папаша приехал и вас требует! – проговорила горничная, появляясь в дверях.
Сергей торопливо застегнул сюртук и, пожав руку старику, бросился к отцу.
На другой день Сергей рано утром уехал на фабрику.
Накануне вечером, получив различные инструкции от отца относительно этой поездки, он зашел проститься к матери.
Арина Петровна успокоила Сергея и, отпустив его, долго крестила вслед.
Сергею не спалось. Долго он ворочался на своей складной, походной, как он говорил, кровати, обдумывая беду, неожиданно разразившуюся над его головой. Мрачные картины рисовались его воображению. Он чувствовал сердцем, что его счастию пришел конец, что дорогая ему девушка станет женой его брата и что виновником его несчастия будет один только отец. Родной отец!
– Отец… Что я ему сделал? За что он хочет сделать меня несчастным? – вырвалось у него. Ему стало душно. Он открыл окно и жадно потянул ночной прохладный воздух.
В саду было темно. Только на темно-синем фоне неба, в которое словно вросли молчаливые купы деревьев, ярко горели звездочки, да на краю горизонта в молочной дымке плыл серп молодого месяца.
Сергей уставился на блестевшие в вышине звезды и погрузился в раздумье.
Очнулся он под утро. Торопливо умывшись, он быстро оделся и осторожно постучал к своему старому другу.
– Кто тут? – тихо спросил тот.
– Я, Аркадий Зиновьевич, Сергей.
– Скажите, – отворил тот дверь, – а я спросонья-то, во всех отношениях, и не разобрал вашего голоса.
Старик был в халате и ермолке, которую ему когда-то подарил на память приятель, казанский татарин, и которую он «худовласия ради» всегда надевал на ночь.
– Доброе утро, ангел мой, уезжаете?
– Уезжаю, Аркадий Зиновьевич.
– Давай бог путь скатертью, во всех отношениях, а мне, знаете, не поспалось.
– Я тоже плохо спал.
– То-то мне показалось, как будто окно отворилось. Нехорошо, ангел мой, едете, собираетесь в путь, а не спите…
– Не мог, вы знаете, что у меня на душе.
– Перемелется – мука будет, ангел мой, равнодушнее надо быть ко всему, во всех отношениях.
– Хорошо вам говорить, Аркадий Зиновьевич, вы дожили до таких лет, когда уже никакие душевные волнения человеку незнакомы…
– Трудно, знаете, это судить.
– И затем, любили ли вы когда-нибудь, как я?..
– Любил-с, во всех отношениях, любил-с! – усмехнулся старик и засунул руки в рукава халата.
Сергей сел и посмотрел с любопытством на Подворотнева.
– Простите, я не знаю почему, но этого никак не предполагал.
– Ничего-с. Наружность, знаете, бывает обманчива, во всех отношениях. Каюсь, любил, да еще как… чуть с ума не спятил-с.
– Вы, Аркадий Зиновьич?
– Я-с. Вон до чего дошел, три раза к проруби на Москве-реке подходил… Известно, глуп был, во всех отношениях, ну, и любил горячо, жарко, даже, можно сказать, и кого любил-то еще-с, – дуру-с.
– Как дуру?
– Дурищу, во всех отношениях, то есть я сам теперь, как вспомню, на себя удивляюсь, как я мог до такого самозабвения дойти, до проруби, то есть.
Старик тряхнул головой, отчего ермолка съехала на левое ухо и придала Подворотневу самый отчаянный вид.
– Жил я в ту пору у Серпуховских и втюрился в дочь соседа: может, слыхали фамилию Колошматина?
– Нет, не слыхал.
– Известная в то время фамилия была. Нужно вам сказать, что сады наши бок о бок сходились, во всех отношениях, ну, и познакомился я с ней через забор. Девка была лупоглазая и пухлая. Настей звали. Целый день, бывало, сидит в саду на скамейке и ест то лепешки, то яблоки, то орехи, во всех отношениях; говорить с ней о чем начнешь – молчит. «Вы, – говорит, – разговаривайте, а я буду слушать; сказочки нет ли у вас хорошей, так сказочку, а то песню спойте». Просто дура-с, а втюрился. Простой, что ли, она мне очень показалась, али русая коса за сердце хвостом зацепила, влюбился, во всех отношениях. Как утро настает, так в сад и тянет; нет Насти – тоска берет.
– Что ж, вы ей в любви-то объяснялись, Аркадий Зиновьич?
– Как же-с, без этого нельзя, какая же это любовь, ежели без объяснений, объяснился, во всех отношениях: познакомился-™ я с ней в мае-с, а в июне и признался, в заборе-то, знаете, между досками щели были, так я в щелочку, во всех отношениях: упал даже на колени в крапиву и все руки обстрекал.
Сергей рассмеялся.
– Смешная история, – расхохотался и сам Подворотнев. – Я ей говорю: «Настенька, я вас люблю, во всех отношениях, полюбите меня», а она мне в ответ: «И рада бы, – говорит, – я полюбить, да маменька твердит, что рано еще, просто дура, во всех отношениях», а мне в ту пору это бог знает, как понравилось. Только в июле вдруг подходит раз к забору и кричит: «Аркадий Зиновьич, бегите скорей, что я вам скажу-то!» Подбежал к забору и спрашиваю: «Что, Настенька?» – «А то, – говорит, – что я теперича вас полюбить могу, потому вчера тятенька за ужином слово настоящее сказал!» – «Какое слово, Настенька?» – «А такое: пора, говорит, тебе, дуре, замуж идти! Ну что ж, говорю, замуж так замуж: я, тятенька, за соседа, за Аркашку, пойду!»
Возликовал я тут, понимаете, во всех отношениях. «Настенька, – говорю, – для такого радостного приключения нам беспременно поцеловаться надо». – «Что ж, – говорит, – целуй через забор!» Так и поцеловались: она доску забора со своей стороны чмокнула, а я со своей, и верите ли, до чего глупость простиралась: до сентября мы таким манером целовались, и в голову даже не приходило, чтоб через забор махнуть, во всех отношениях, да-с! Счастливее себя человека не находил, а растолстел за лето так, что покойный тятенька
сколько раз ругаться принимался, потому то и дело одежу перешивать приходилось, во всех отношениях.
– Да с чего же вы толстели-то, Аркадий Зиновьевич? – со смехом спросил Сергей.
– Как с чего? Во-первых, от счастья-с, а во-вторых, от лепешек, во всех отношениях… Ведь мы с Настей за лето-то, я так полагаю, не одну тысячу оных уничтожили-с. В одном месте забора щель была весьма порядочная, так она, моя зазноба-то, в эту щель мне лепешки все и пропихивала… Стоим возле забора, истребляем лепешки и в доску чмокаем. Блаженство, во всех отношениях! К осени запросился я у родителей вступить в законный брак с Настенькой. Родители и руками и ногами. «Это на дурище-то вздумал? Ни за что. Нет тебе нашего благословения!»
Начал я, ангел мой, в ногах у них валяться. И чем больше я валяюсь, тем пуще родители ожесточаются; даже таску родитель к отказу стал присовокуплять. Целый сентябрь в ногах провалялся, а в октябре слышу вдруг – Настеньку замуж выдали. Что со мной в ту пору было, ангел мой, я и рассказать вам не сумею, просто спятил, во всех отношениях, и к проруби стал ходить… уж и сам не знаю, как очувствовался. И все прошло, ангел мой… Встретил я как-то, год спустя, свою любовь: едет на гитаре и подсолнухи грызет. Я ей поклон, а она на меня с таким изумлением смотрит, словно в первый раз в жизни меня увидала. Хороша любовь, во всех отношениях? А я чуть-чуть было из-за нее в прорубь не нырнул.
– Это вы для моего утешения, Аркадий Зиновьевич, все говорите?
– Правду говорю. А вам ехать пора.
– Пора, пора, – заторопился Сергей, вставая. – А вы не забудете моей просьбы?
– Да разве это можно, во всех отношениях? Напьюсь чайку и отправлюсь исполнять вашу комиссию. Ах, молодость, молодость!.. Прощайте, ангел мой, Сергей Афанасьевич!
Сергей уехал. Подворотнев оделся и сошел вниз, в столовую, где молча сидела за самоваром вся аршиновская семья.
Подворотнев поклонился молча Афанасию Ивановичу и присел к столу.
– Что, нонче опять побежишь Москву-то мерить? – справился у него Афанасий Иванович, дуя на блюдечко.
– Побегу-с… Погода приятная и тепло, во всех отношениях…
– Не всю еще, значит, столицу измерил? – пошутил Аршинов, видимо, находившийся в хорошем расположении духа.
– Трудно, Афанасий Иванович, такую дистанцию измерить-с… Еще Грибоедов, царство ему небесное, изволил заметить, что Москва – дистанция огромного размера.
– Это что за Грибоедов такой?
– Писатель-с известный… Величайшую комедию «Горе от ума» написали-с.
– Писатель! – поморщился Аршинов. – И ты от Сережки, я вижу, ученостью заразился. Смотри, Зиновьич, попадешь ты на старости лет в нигилисты.
– Не попаду, Афанасий Иванович… У нигилистов Бога нет, а я Его, Создателя, в сердце ношу, во всех отношениях…
Сыновья Аршиновы поднялись со своих мест, простились с матерью и отправились в город.
– Иван, на минуту! – остановил Афанасий Иванович в дверях среднего сына. – У меня чтоб к семи часам быть готовым, слышишь?
– Хорошо-с! – ответил тот и, помявшись несколько секунд на месте, вышел.
Подворотнев заторопился. Обжигаясь горячим чаем, он кое-как допил стакан и юркнул в дверь.
Аршинов посмотрел ему неодобрительно вслед, покачал головой и, громко звякнув чашкой по блюдцу, ушел в свой кабинет, посредине которого стоял письменный стол красного дерева и табуретка, обтянутая кожей. На стенах висели фамильные портреты и вид фабрики, рисованный художником, несомненно отъявленным врагом перспективы. Из труб этой фабрики валил дым толстым, черным столбом и упирался прямо в облако бледно-розового цвета, а по двору фабрики бежали, подняв три ноги, запряженные в телеги лошади, заезжавшие своими ушами в окна третьего этажа.
Остальное «убранство» кабинета заключалось в старом шкафе со стеклянною дверью и нескольких стульях, обтянутых зеленым сафьяном.
Афанасий Иванович сел к столу, вынул из него разграфленную тетрадку и, надев круглые очки, стал заносить в нее какие-то цифры.
Скрипнула дверь.
Афанасий Иванович оторвался от тетрадки и увидал Арину Петровну.
– Занят ты, Афанасий Иванович? – робко справилась она, потупляя глаза.
– Так, кое-что записываю, – ответил тот. – Что случилось?
Арина Петровна редко заходила в кабинет мужа, и то только по какому-нибудь экстренному случаю.
– Ничего не случилось, а так это, думаю, уехал он в город или нет.
Афанасий Иванович посмотрел на жену сверх очков и положил перо.
– Несешь ты какую-то околесную. Садись, коли дело есть.
– Дела, Афанасий Иванович, никакого, – заторопилась Арина Петровна.
– Денег, что ль, надо? – недоумевал Афанасий Иванович.
– Зачем? Нет, не надо, я сяду.
Арина Петровна подвинула стул к письменному столу и утерлась платочком.
– Афанасий Иванович, я к тебе вот зачем! – начала она прерывистым голосом. – По делу я, по семейному, только ты не сердись, Афанасий Иванович.
– Да говори, что такое?
– Видишь ли, Афанасий Иванович, ты, пожалуйста, не подумай, что я тут… я ни при чем, Афанасий Иванович.
– Заладила: Афанасий Иванович да Афанасий Иванович! Я давно Афанасий Иванович! – насмешливо проговорил Аршинов, облокачиваясь на стол. – В чем дело?
– Дело такое, Афанасий Иванович, что его надо обдумать хорошенько.
– Да ты говори, что за дело такое, а я уж его обдумаю, – добродушно ответил тот.
– Видишь ли, я, как мать, это должна, ты пойми, как мать, дети для меня все равны, что Андрюша, что Ваня, что Сережа, все больны моему сердцу, Афанасий Иванович.
– Да не мямли ты, пожалуйста, ну равны, ну а дальше что?
– Ты сегодня едешь смотреть невесту для Вани?
– Еду. Об этом я тебе вчера говорил, и ты мое намерение одобрила.
– Не езди, Афанасий Иваныч, нельзя ехать.
– Это почему? – сдвинул тот брови. – Аль за невестой изъяны водятся?
– Что ты, что ты, Господь с тобой, из такой семьи, и вдруг… Нельзя ехать, Афанасий Иваныч, ее… эту… понимаешь… Сережа любит.
Аршинов посмотрел сперва с удивлением на жену, а затем раскатился хохотом.
– Ха-ха-ха! Уморила! Ой, уморила!
– Афанасий Иваныч, не такое это дело, чтобы смеяться.
– Постой, глупая! Наш Сергей ее любит?
– Наш, кому же еще?
– Однако у него губа не дура. То-то я гляжу, что это он бесперечь к Алеевым таскается, а он, изволите видеть, вон для какого развлечения! И крепко любит? По-книжному, поди, а?
– Не знаю как, но только любит.
– Ночи не спит, звезды считает, песенки сочиняет, а? Так, что ли?
– Афанасий Иваныч!
– А ты, старая, нюни и распустила. Мальчишка, молокосос, начитался глупых книжонок и забрал себе в голову, что Алеев ему пара… Э-эх, старая! Говорил тебе раньше, дери Сережку, дери, а то пути не будет, вот тебе на мое и вышло. Любовь материнская тоже: как это можно драть ребенка, деликатного он сложения, и вдруг ему горячих всыпать. Слепота куриная, а не любовь! Лозы не попробовал – ума не запас, а ты вот что скажи Сергею, сам я с ним и разговаривать не желаю.
– Не сын он рази тебе?
– Не умею я с ним разговаривать, ни я его не пойму, ни он меня. Сергей для меня немой, а я для него глухой, так ты скажи ему: выкинь дурь из головы и займись делом. Алеева тебе не пара, и ты ей не жених.
– Почему не пара? Почему?
– А потому, что, во-первых, по-моему, ему рано жениться, а во-вторых, еще потому, что Алеев не отдаст за него дочь.
– За Сережу не отдаст? За Сережу? – удивленно всплеснула руками Арина Петровна.
– Да, за Сережку. Им нужен зять-купец, а не какой-то нигилист.
– Афанасий Иваныч, Богу ты ответишь за такие слова.
– И отвечу, а на Алеевой женю все-таки Ивана.
– Господи! Да ведь они любят друг друга.
– Глупости! Книжки все это и больше ничего, выйдет замуж и Сергея забудет.
– Афанасий Иваныч! Я тебя во всю жизнь мою не просила ни о чем, рабой твоей была покорной и творила волю твою. Ужли ты моей первой и последней просьбы не исполнишь? Сделай счастливым Сережу навек.
– Арина Петровна, достаточно мы, кажется, с вами поговорили об этом предмете, пора и кончить. Я тебе сказал, что Алеев не отдаст дочь за Сергея, и кончено…
– Понимаю тебя… Ты не хочешь за Сережу сватать… к чему эти притворства, Афанасий Иванович?
– И не хочу. Сватал за Ивана и вдруг подставлю Сергея. За кого меня Алеев сочтет, а?
– Объяснись. Скажи, что не знал, что они любят друг друга…
– Довольно! Яйца курицу начинают учить! Я сказал, значит, сделал…
– Это твое последнее слово, Афанасий Иванович? – проговорила, бледнея, Арина Петровна и поднялась со стула.
– Распоследнее, Арина Петровна-с… Я дураком ни перед кем не был и не буду, а наипаче того чрез такого сына, как твой Сергей…
– Бог с тобой. Ты отец и властен делать что хочешь, но помни, Афанасий Иваныч, что ты этой свадьбой троих несчастными сделаешь…
– Бабьи сказки.
– Не сказки, а правда, Афанасий Иваныч… и Ивану счастья не будет, и Сергея с Липой загубишь…
– Пустой разговор… а уж ежели Сережке оченно захотелось жениться, так я его после Ивана же женю на Серовой…
– На Серовой? На хромой и косой?
– Самая настоящая пара будет. Она в пенционе обучалась, у трех профессоров опосля в уроках упражнялась – для Сережки клад, а не жена. Оба дураки и оба ученые! Ха-ха-ха.
– Сердца у тебя нет, Афанасий Иванович, вот что!.. Ни сердца, ни стыда, ни совести. Самодуром ты весь век свой прожил, самодуром и умрешь… только помни, дашь ты ответ на Страшном суде за свое самодурство…
– Это что еще за новости? – стукнул кулаком по столу Афанасий Иванович.
– Изверг ты, а не отец… да! Изверг… Слышишь, Афанасий Иванович? Всю жизнь я молчала и тебе не перечила, а теперь все скажу… Не трогай мою плоть и кровь!..
– Вон! – поднялся с табуретки, трясясь всем телом, Аршинов.
– Не на то я породила тебе сына, чтоб ты издевался над ним да зверствовал… И на тебя власть и суд есть… там… слышишь… там… в небесах…
– Вон, говорят тебе, – побагровел весь Аршинов, делая шаг к жене, – или я тебя…
– Убей! Убей!.. Слова не скажу… молиться за тебя стану… пожалей только Сережу… Афанасий Иванович!.. Есть Бог на небе! Есть!
Арина Петровна упала в кресло и зарыдала истерически.
– Баба и… дура! – прошипел Аршинов и, выйдя из кабинета, так хлопнул дверью, что все стекла задрожали. – Эй! Лошадь! – крикнул он испуганной горничной, метавшейся в страхе по комнатам.
Алеевы в это время тоже собирались уезжать из дома в город. Старик, за очень редкими исключениями, всегда выезжал вместе с сыном, для которого это совместное путешествие от Таганки до Ильинки просто было пыткой. Старик, развлечения ради, пилил всю дорогу Александра и читал ему родительские наставления, не шедшие, разумеется, далее набившей оскомину азбучной морали.
Обыкновенно Александр ехал молча, уставясь в широкую, наваченную спину кучера; слушая брюзжание отца, он думал только об одном: скоро ли они доедут до цели путешествия?
Лавка Алеева находилась в Гостином же дворе, только ближе к Ильинке. Подъехав к Гостиному двору, старик слезал с дрожек и, как ни в чем не бывало, ласково обращался к сыну с одним и тем же вопросом: «Сашенька, я думаю, отпустить Пимена домой?»
Кучера Пимена отпускали, и старик, взяв под руку сына, шел с ним в лавку и разговаривал уже совершенно о других предметах.
Такова уж была привычка у старика. Кучер Пимен рассказывал, что Алеев читал нотации сыну даже тогда, когда тот по какому-нибудь случаю выезжал в город раньше или позже отца. Едет старик один и все-таки, по заведенному порядку, шпигует отсутствующего сына. Шпигованьем этим он увлекался до того, что, подъехав к Гостиному двору, задавал все тот же стереотипный вопрос: «Сашенька, отпустить Пимена домой?..» Затем, спохватившись, он строго смотрел на улыбавшегося Пимена и кричал: «Пошел домой, болван!..»
– Ну, Александр, ты готов?! – крикнул старик, расчесывая бороду перед зеркалом в гостиной.
– Совсем, папаша, – ответил тот, застегивая на ходу серенькую куртку.
– Поедем в город… выходи, я сейчас… матери только несколько слов скажу…
Александр вышел на подъезд.
Старик хлопнул по боковому карману, вынул оттуда бумажник, напоминавший своими размерами целый саквояж, развернул его и вытащил несколько кредиток. Бережно свернув их вчетверо, он застегнул сюртук на все пуговицы и развалистою походкой направился в столовую, где за самоваром сидела сама Алеева и допивала чай.
– Аль что забыл, вернулся? – спросила она мужа.
– И то забыл… Вот тебе деньги… вина хорошего купи, закуски… ужо к нам гости приедут…
– Ну вот! Завсегда ты этак-то… на травлю ехать – собак кормить.
– Не одно у меня в голове дело… просто из ума вон…
– Какие гости-то будут?
– Аршиновы, отец с сыном…
– С Сереженькой?
– С Иваном… средним…
– Ну что ж, я очень рада… Я и то Сереженьке-то сколько раз пеняла: отчего-де все один да один к Саше ездишь… прихватил бы брата, который неженатый…
– Ну, вот он самый этот неженатый нонче и приедет с Афанасьем Иванычем. Чтоб все было хорошо, слышишь?
– Да уж это известно… Чай пить приедут?
– Чай… в беседке, в саду вели сервировать… а на другом столе вино с закуской…
– Можно и так сделать. Пирожки я нонче с визигой заказала, так пирожки подам…
– Ну, пирожки-то ты убери подальше. Не идут они к этому. Какое это угощение!
– Да так, отчего же… промежду прочим-то?
– И промежду прочим убери. Да, вот еще что, – побарабанил Алеев себя по лбу пальцами. – Липа чтоб поприоделась как следует…
– Да она и так у нас, слава богу, раздетая не ходит.
– Ну, что ты мне там поешь? – сдвинул он брови. – Вобче говорю, чтоб почище… ленточку там, где следует, бантик приколи… Кажная чтоб бабья глупость на своем месте была… слышишь?
Алеева с удивлением посмотрела на мужа. В первый раз в жизни услыхала она от него такие распоряжения насчет туалета Липочки. Обыкновенно он никогда не замечал, во что одеты жена и дочь, а только ругался самым откровенным образом, когда ему приходилось платить по счетам модных магазинов и портних.
– Хорошо, скажу ей, – ответила Алеева мужу, смотревшему на нее в упор, – только она ведь у нас своендравная… захочет – оденется, а не захочет – ни за что не станет…
– Ну, это своенравие, сударыня моя, я не признаю и слышать о нем не хочу. Я сказал, значит, так и будет. Придет мне желание в рогоже ее гостям показать – собственноручно в рогожу зашью и покажу… девчонка, да чтоб родительских приказов не исполняла, – это чтоб я больше не слыхал. Поняла?
– Поняла, Спиридоныч… Как не понять! Я так это, а то она рази может твоих приказаний не исполнить?
– Да скажи еще ей, чтоб она поласковей да поумней себя вела с молодым Аршиновым…
– Она и то, Спиридоныч, ласкова с ним да приветлива…
– Ты про кого говоришь?
– Про Сережу Аршинова…
– Мне до этого дурака дела нет. Я говорю тебе про Ивана, который нынче с отцом у нас будет.
– Ну какой же Сережа дурак, Спиридоныч? Совсем зря ты его обижаешь… да я от него, окромя учтивых слов, ничего глупого не слыхала.
– А ты слушай, что я тебе говорю. Пустой парень, и больше ничего. Сам отец его мне таким аттестовал… слышишь?
– Слушаю, только совсем это он занапрасну…
– Ну, мне твоих мнениев не надо. Иван Афанасьич – дело совсем другое… и парень деловой, и к отцу уважителен…
– Не знаю я его…
– Вот и узнаешь, может, даже и зятем назовешь…
– Так они смотреть Липу приедут?
– Да. Ну, теперь я в город поехал…
– Спиридоныч, постой… а как же мне Липе-то… сказать об этом али нет?
Алеев задумался.
– Да отчего ж не сказать? Секрету в этом для нее никакого быть не может. Рано ли, поздно ли, а должна же замуж выходить. Девки что птицы: как пооперятся, так сичас и из гнезда вон.
Проговорив эту сентенцию, Алеев круто повернулся, нахлобучил на самые уши цилиндр и вышел на двор, где у крыльца в дрожках уже сидел Александр и, в ожидании отца, разговаривал с кучером.
Выезжая из ворот, они раскланялись с Подворотневым, встретившимся с ними почти у самого их дома.
– Александр, ведь это Подворотнев, кажется? – спросил Алеев у сына.
– Кажется, он, папаша…
– Да, вот она, судьба-то, – проговорил тот в раздумье, – первые в Москве рысаки у него были, а теперь вон пешком Москву-то вымеривает… а все от гордыни, Александр. Кабы слушался во младости родителей, никогда бы до таких степеней не дошел.
Алеев сел на своего любимого конька и поехал.
Подворотнев между тем подошел к воротам алеевского дома и заглянул в калитку.
Дворник, проводив хозяина, затворил ворота и исчез. На дворе никого не было, кроме старой собаки Кудлашки, глодавшей кость под навесом каретного сарая.
Подворотнев направился к крыльцу. Кудлашка бросила кость и побежала с глухим лаем к незваному гостю.
– Шарик… Жучка, как тебя, во всех отношениях? Что ты, господь с тобой! – кричал Подворотнев собаке, отмахиваясь от нее книгой, которую он держал в руках.
Однако гостю, несмотря на такую защиту, пришлось бы плохо, если бы в одно из открытых окон бельэтажа не высунулась русая головка Липы и не закричала на собаку.
Подворотнева впустила в переднюю какая-то старушка в люстриновом темном платочке и посмотрела на него из-под Руки.
– Да тебе, батюшка, кого надоть-то? – спросила она у Аркадия Зиновьича, утиравшего платком вспотевшее от ходьбы лицо.
– Мне бы Александра Сергеича повидать, – ответил тот, ставя решительно свою шляпу на подзеркальник.
– Да они, батюшка, сию минутую с самим в город уехали.
– Так-с. Очень это прискорбно, во всех отношениях, но, во всяком случае, многоуважаемая хозяйка Анна Ивановна дома обретается?
– Дома, дома, батюшка… так ты к хозяйке желаешь?
– Жажду-с, старушка божия…
– Пойдем кверху, коли так… Кудлашка-то тебя не попортила, батюшка?
– Чуть-чуть, но сердиться на Кудлашку вашу оснований не имею, ибо собачья должность в том и заключается, чтобы гостей портить, во всех отношениях…
Старушка ввела Подворотнева по широкой лестнице с железными вызолоченными перилами в большую светлую залу с громадною люстрой, завешенной от мух кисеей.
– Как, батюшка, о тебе доложить-то? – спросила старушка.
– Скажи, старушка божия, так: старый, мол, знакомец ваш, Подворотнев, лицезреть желает хозяйку дома сего.
– Приворотнев, сказываешь?
– Подворотнев, ангел мой, а не Приворотнев… По-дво-ротнев. Самая, можно сказать, низменная фамилия, во всех отношениях. Подворотнев. Запомнишь?
– Как, батюшка, не запомнить! Фамилия не бознать какая мудрящая.
Старушка скрылась во внутренних комнатах. Подворотнев прошелся по зале, посмотрел в открытое окно на двор и сел на кончик стула, захватив книгу под левую руку и прижав ее к сердцу.
Прошло минут с пять. Где-то кто-то кашлянул. Аркадий Зиновьич вскочил со стула и одернул сюртук.
Вошла та же старуха, что впустила Подворотнева, и так же, глядя из-под руки на гостя, улыбалась беззубым ртом.
– А ведь я, батюшка, твою фамилию-то, кажись, перепутала, – проговорила она, подходя к нему. – Криворотов, что ль?
– Подворотнев, матушка! – с сожалением покачал тот головой. – По-дво-ротнев… подворотню-то упомнишь?
– Ну, как не упомнить… уж очень фамилия-то несуразная… идешь, идешь и забудешь… Подворотнев, Подворотнев, Подворотнев, – твердила старуха, скрываясь.
Подворотнев улыбнулся и зашагал по зале, задавая себе вопрос: перепутает опять его фамилию старуха или не перепутает?
Ожидать ему на сей раз пришлось недолго. Явилась молодая горничная и, проговорив: «Пожалуйте-с», повела Аркадия Зиновьича в столовую, в дверях которой стояла хозяйка и с любопытством смотрела на шедшего к ней гостя.
– Многоуважаемой Анне Ивановне бью челом и низко кланяюсь! – поклонился Подворотнев хозяйке в пояс.
– Батюшки! Аркадий Зиновьич! – всплеснула та руками. – Ужли это вы?
– Я-с, многоуважаемая, я-с, во всех отношениях! – крепко пожал он протянутую руку хозяйки. – Сколько лет, сколько зим не имел счастия лицезреть вашу персону…
– Давно, ох давно, Аркадий Зиновьич! Грешно, батюшка, старых знакомых забывать, сколько лет-то хлеб-соль водили… пожалуйте за стол-то…
– Было время, Анна Ивановна, было-с! – вздохнул глубоко Подворотнев, усаживаясь за самовар. – Жил я в достатке, и люди мной не гнушались, а теперь мал бех и ничтожен, во всех отношениях.
– А все же грешно забыть: бедность – не порок.
– Это действительно что не порок, тем более что на моей совести ни одного упрека нет… Все отдал, со всеми расплатился, и, ежели сам остался без гроша медного за душой, во всех отношениях, зато кажному человеку могу прямо в глаза глядеть.
– Слышала я в те поры, что вы как-то по-чудному расплатились, – улыбнулась хозяйка, наливая гостю стакан чаю. – Говорил мне Спиридоныч и ругал даже вас.
– За что-с, многоуважаемая?
– А за то, что все отдал и сам без копейки остался, сделку бы могли сделать.
– Сделку-с? – улыбнулся Подворотнев. – Совесть у меня такая глупая в те поры была, ни на какие сделки не шла.
– А я сколько раз про вас вспоминала и у Спиридоныча спрашивала. «Не вижу, – говорит, – совсем из глаз пропал… слышал, что живет у Аршиновых, только и всего». У Сереженьки про вас тоже спрашивала…
– Премного благодарен вам за память, во всех отношениях…
– Хорошо вам жить-то, Аркадий Зиновьич?
– Благодарение Богу и благодетельнице Арине Петровне, живу, как у Христа за пазухой… да и много ли мне, старому грешнику, надо? Теплый угол да кусок хлеба, только и всего, во всех отношениях…
– А очень вы постарели, Аркадий Зиновьич…
– Укатали сивку крутые горки. Был конь да уездился… от греховной жизни это, многоуважаемая Анна Ивановна, – грешил, во всех отношениях…
– Охо-хо-хо! – вздохнула Анна Ивановна, подвигая гостю стакан. – Пожалуйте, Аркадий Зиновьич… и какая досада: может, каких-нибудь пяти минут Спиридоныча дома не застали…
– Не судьба-с… Бог милостив, не раз, поди, еще встретимся на жизненном-то поприще… а я больше к вашему сыну Александру Сергеичу… брал у него наш Сереженька книжку читать…
– У них постоянное чтение идет…
– Так точно-с. Сереженька-то сейчас на фабрику уехавши, так и просил меня занести книжку Александру Сергеичу… Будьте столь любезны передать оную по принадлежности, во всех отношениях…
– Передам, отчего не передать…
Старые знакомые разговорились, вспоминая старое, и незаметно просидели за самоваром часа два.
– Засиделся я у вас, многоуважаемая, – проговорил, вставая из-за стола, Подворотнев, – и к обедне в Донской опоздал…
– Посидите еще, Аркадий Зиновьич… я сичас вам дочь свою покажу… вы ее еще махонькой зазнали…
– Олимпиаду Сергеевну? Очень буду счастлив познакомиться со взрослою девицей, которую когда-то на руках тетешкал, во всех отношениях…
Алеева послала за Липочкой. Подворотнев ощупал в кармане письмо Сергея и улыбнулся.
Липочка, как ветер, влетела в столовую и внесла с собой струю весеннего воздуха.
– А я, мамочка, в саду была! Понюхай цветки! – проговорила она, нагибая матери головку, всю сплошь убранную живыми цветами. – Хорошо пахнут?
– Очень хорошо… а ты что же, не видишь разве гостя?
Липочка отскочила от матери и поклонилась Подворотневу.
– Не узнаешь?
– Нет! – качнула она головкой. – Позвольте, кажется… ах, нет… нет, не узнаю!
– Аркадий Зиновьич Подворотнев!..
– Подворотнев?.. Не помню…
– Забыли-с! – вздохнул тот, с удовольствием смотря на Липочку.
– Ах да, вспомнила! Ха-ха-ха! – раскатилась звонким смехом Липочка. – Букет, букет, ха-ха-ха!
– Вспомнили-таки, во всех отношениях! – засмеялся и Подворотнев.
– Какой букет? Я позабыла что-то, – проговорила Анна Ивановна.
– А это так вышло-с, – ответил Подворотнев, – они-с меня все букет привезти просили, что им тогда – лет шесть было? Да не больше-с! Я и привез букет из крапивы, шутки ради.
– Ха-ха-ха! – засмеялась Липочка. – Помню, как я вас шлепала этим букетом и как вы от меня бегали и вертелись волчком.
– Ха-ха-ха, забавная история, во всех отношениях!
– Очень рада вас видеть! – пожала Липочка Подворотневу руку. – Это так давно было.
– Весьма-с, вы за это время, Олимпиада Сергеевна, успели и вырасти, и похорошеть-с.
– Неужели? – кокетливо склонила головку на плечо Липочка, и яркая краска зажгла ее щеки. – Разве я маленькая дурнушкой была?
– Так себе… но зато теперь-с – букет, во всех отношениях.
– Из крапивы? Ха-ха-ха…
– Из роз-с, из роз-с… я у Сергея Афанасьича часто спрашивал: какие вы стали? Описывал он вас подробно, но ежели бы встретить на улице – ни за что бы не узнал…
– Ах да, ведь вы у Аршиновых живете! – вспыхнула Липочка до самых век. – Что он… его давно у нас не видно…
– Уехал на фабрику… дня на три… и просил меня занести книжку Александру Сергеичу… однако мне пора, во всех отношениях… и так я у вас засиделся безмерно.
– Заходите, Аркадий Зиновьич, – встала из-за самовара Алеева, – всегда будем рады…
– Не премину-с, не премину… передайте мое почтение уважаемому Сергею Спиридоновичу… да вы не беспокойтесь меня провожать, ангел мой…
– Ничего… труда никакого… я так была рада после стольких лет…
– А я-то как рад-с… во всех отношениях… сидите, многоуважаемая Анна Ивановна, меня Олимпиада Сергеевна проводит…
– С удовольствием, Аркадий Зиновьич! – ответила Липочка и схватила под руку Подворотнева.
– Честь имею кланяться, многоуважаемая, и желаю вам всякого успеха в жизни-с! – раскланялся Подворотнев с Алеевой и вышел из столовой.
Они молча прошли две-три комнаты и очутились в зале.
– Аркадий Зиновьич, передайте, пожалуйста, Сергею Афанасьевичу, чтоб он немедленно же по приезде пришел к нам…
– Хорошо-с, – пробормотал старик и, остановившись, оглянулся во все стороны. – Вам-с… письмо-с… просил… виноват, во всех отношениях…
Он сунул в руку растерявшейся Липочке письмо и быстро спустился вниз, кряхтя и вздыхая.
Липочка даже не простилась с Подворотневым. Она подбежала к окну, дрожащими от волнения руками развернула первое письмо от Сергея, пробежала его и вскрикнула… Этот крик долетел до Подворотнева, вышедшего с подъезда. Он поднял кверху голову и, увидав бледное как полотно лицо Липочки, охнул.
– Нехорошо-с… даже очень нехорошо, во всех отношениях! – пробурчал он себе под нос и, надвинув шляпу, зашагал с алеевского двора.
«Не может быть! Не может этого быть!» – шептала побелевшими губами Липочка, читая послание Сергея.
Неужели всему конец? Приедет этот, другой, посмотрит ее, как лошадь у барышника на выводке, и решит ее судьбу.
Но ведь она не знает его совсем, и он ее не знает, и она должна сделаться его женой, любить его в то время, когда любит другого, его же родного брата.
Она зажмурила глаза от этой ужасной перспективы и упала на стул.
Что делать? Неужели отказаться от счастья и идти замуж, как идут сотни, тысячи купеческих дочек, за того, кого выберет не сердце девушки, а суровая родительская воля?
«Надо бороться, но как? Боже мой, что я должна делать, научи меня!» – лепетала Липочка, припав головкой к стенке стула и еле сдерживая рыдания: идти к матери, рассказать ей все и просить ее защиты, но она сама дрожит пред отцом и слепо исполняет каждое его желание… Брат? Но что может сделать ее брат, который сам избегает всяких объяснений с отцом и старается как можно реже попадаться ему на глаза?
«Сегодня смотрины! – прочитала она еще раз письмо Сергея. – И мне никто ни слова, ни отец, ни мать, ни брат… за человека даже не считают! – с горьким чувством проговорила она, пряча письмо в карман. – Вещь я, товар, который нужно сбыть повыгоднее первому встречному дуралею-покупателю!»
Липочка вскочила со стула. По бледным щекам ее текли слезы и крупными каплями падали на грудь.
– Липа! – раздался в дверях голос матери. – Пройдемся в сад… Хочешь?
– Нет, не хочу, – отвернулась та к окну.
Анна Ивановна, сложив руки на желудке, медленною походкой подошла к дочери и села на стул.
– А мне тебе сказать кое-что надо… да ты что это, глупая, – увидала она катившиеся по лицу дочери слезы, – никак ревешь?
– И не думала вовсе.
– Да чего тут не думала, слезы так градом и катятся. О чем это такое, а?
– Так, мамаша, голова болит.
– Так о голове и плакать? Ах, глупые девки! Нашатырю надо понюхать, а они – реветь. Слезы-то что значит не покупные… Спала долго, ну и того…
– Должно быть, от этого, – согласилась Липочка и села рядом с матерью.
– Сичас нашатырю понюхай, а то хрену велю натереть. К вискам ежели приложить да к затылку – через полчаса всю боль как рукой снимет.
– Ничего не надо, и так пройдет.
– Пройдет ли? Ой, девка, послушайся матери… Погоди, я тебе сичас спирту принесу.
– Не надо, мамаша, я знаю, что и когда мне нужно делать.
– Ну, как знаешь, мне только, чтоб к вечеру ты здорова была.
– А что такое особенно вечером предстоит?
– А то, глупая, что к нам нонче хорошие гости приедут.
– Аршиновы?
– Да ты это откуда знаешь?
– Слышала.
– Ну тем и лучше, что слышала, а зачем приедут, не слыхала?
Липочка ничего не отвечала.
– Тебя глядеть. Старик Аршинов второго сына женить хочет, Ивана… Видала ты его где?
– Никогда.
– Говорят, уж оченно парень-то хороший: и умен, и почтителен…
– Это кто же говорит, мамаша?
– Отец.
– Ах, папаша! А другие что говорят?
– А до других мне ни до кого дела нет. Уж ежели отец такого о нем мнения, значит, счастливой ты навек будешь, лишь бы ему только пондравилась…
– Вы думаете?
Анна Ивановна посмотрела сбоку на дочь и нахмурилась.
– И что это у тебя, Липа, за манера такая с матерью говорить? Что это за глупый вопрос такой: вы думаете?.. Ничего я не думаю, да и не бабье вовсе это дело – думать… Коли отец намерен тебя за Аршинова выдать, значит, он лучше нас с тобой знает, счастлива ты будешь или нет…
– А если папаша ошибается?
– Отец? Что ты, что ты, перекрестись! – замахала на нее руками Анна Ивановна. – Да когда же это бывало, чтоб отец ошибался?
– Ах, мамаша! Для вас он – непогрешимый папа, а для меня такой же простой смертный, как и все.
– А ты это вольнодумство-то изволь выкинуть из головы, слышишь? Скажи, пожалуйста, какого духа набралась! Так этот дух-то, сударыня, и вышибить можно… Избави бог, ежели отец услышит такие слова…
– И пусть слышит, а замуж за Ивана Афанасьича я не пойду ни за что.
Анна Ивановна оторопела. Она похлопала глазами и закачала головой.
– То есть как же это не пойдешь? – спросила она, с удивлением смотря на дочь. – И отца, значит, не послушаешься?
– И не послушаюсь…
– С нами крестная сила! – совсем растерялась та. – Да как же это… да как ты смеешь, а? Да где это видано, чтоб дети своих родителей ослушивались? Господи! Впервой такие богопротивные слова от своего же порождения слышу…
– Мамаша, прежде всего скажите вы мне одно: человек я или вещь?
– Да что ты меня все глупыми вопросами сбить норовишь? Не глупее я тебя…
– Вы не хотите ответить мне, так я за вас отвечу. Я человек, а не вещь, и распоряжаться мною, как вещью, не имеет права никто…
– Даже родители?
– Даже родители…
– Да ты где же этакой закон вычитала, а?
– Таких законов, мамаша, не пишут. Они должны быть известны каждому человеку, уважающему человеческое достоинство в других…
– Совсем рехнулась, совсем! – замахала отчаянно Анна Ивановна на дочь. – Ну, Липа, смотри, быть тебе без косы сегодня…
– Вот ваши законы: насилие и деспотизм… Эти законы, мамаша, кажется, тоже нигде не писаны…
– Одурела, совсем одурела! – поднялась со стула Анна Ивановна. – С тобой, сударыня, я не сговорю, а ты вот попробуй с отцом поговори, он тебе и покажет твои законы… Господи, вот до чего я дожила!.. Дети начинают родителей учить… опомнись, Липа… эй, опомнись! Я с отцом век изжила и знаю его лучше тебя. Ты его детище, и его воля над тобой.
– Мама! А если я… люблю другого?
– Ты? Любишь?
– Люблю, мама, больше жизни люблю…
Анна Ивановна с испугу присела.
– Господи! – забормотала она. – Как же это я… да меня он живую в землю за это… ах, батюшки… Липа! – простонала Анна Ивановна. – Врешь ты… пугаешь только меня…
– Я никогда не лгала, мамаша… ах, если б вы только могли понять, что вы со мной делаете!
– Да как же ты так, а? Да как ты смела нас срамить?
– Чем? Разве сердце не вольно любить, кого хочет? И, наконец, разве это преступление, что я полюбила хорошего человека?
– Кого? Кого?
– Сережу, мама…
– Сердце мое чуяло. Недаром он к нам зачастил. Ах, голубчики, что же мне теперь делать-то? Постой!.. Дурь все это, Липа… Напустила ты на себя воображение, вот и все.
– Мама! Посмотри ты на меня…
– От книжек это вышло, глупая… читали вместе, ну и возмечтали… Ах, эти проклятые книжки! Недаром их так отец не любит… Врешь, мечта это все… мечта…
Анна Ивановна забегала по зале, комически всплескивая своими коротенькими полными ручками.
Воспитанная в традициях доброго старого времени, она никак не могла допустить, чтоб ее дочь, которую, кстати сказать, она видала только в антрактах между чаями да отдыхами, могла забыться до того, что влюбилась в первого встречного мальчишку.
Пуще же всего она «пугалась» не за дочь, которой в перспективе представлялась безрадостная жизнь с нелюбимым человеком, а за свою собственную шкуру, уже поотвыкшую от «выделки» такого дубильных дел мастера, каким был Сергей Спиридонович Алеев.
– Живую в землю зароет! Живую! – говорила она, бегая по зале, и чувствовала, как бегали у ней по спине мурашки в ожидании предстоящего «взыска». – И как это мне, дуре, в ум не пришло. Ходит балбес, книжку читает. Липа завсегда у Саши торчит, а мне хоть бы что!.. Ах, мало меня учил Спиридоныч, ох мало!..
Анна Ивановна подбежала к Липе и пытливо посмотрела на нее.
Липа сидела с опущенною на грудь головой и плакала.
– Липа!.. Постой, не плачь. Ну, что хорошего: наплачешь глаза и жениху не пондравишься…
– Оставьте меня в покое! – проговорила та, с мольбой протягивая руки к матери.
– Глупая!.. Ты рассуди: ну что такое Сергей этот? Смазливая рожа, только и всего, а ты на Ивана-то, на Ивана-то обрати внимание… Сокол, говорят… и умен-то, и солиден… и у отца в любви… Батюшки, что же это я мелю-то? А все со страху… ой, со страху-у-у… – Анна Ивановна, подсев к Липе, обняла ее и заплакала. – Липа! Голубушка моя! – причитала Анна Ивановна, вытирая кулаками глаза. – Пожалей ты меня-то, Христа ради… На мне это… все это… с меня он за все взыщет… плюнь ты на Сергея, Липа, ей-богу же, Иван лучше, поверь ты матери, Христа ради!..
Липа, несмотря на свое горе, чуть было не расхохоталась, смотря на свою мать, поставленную в такие трагикомические обстоятельства.
Ей было и смешно и грустно. Липа видала свою мать редко, говорила с ней еще реже. Только тут впервые она поняла, до чего была придавлена и принижена в лице ее матери женщина, носившая громкое имя хозяйки и жены замоскворецкого купца. Только теперь она поняла, сколько душевных мук и страданий, сколько бесплодной борьбы за свое личное «я» должна была перенести и пережить бедная женщина, чтобы дойти до такого состояния, когда одно только слово «муж» наводило на нее панический страх.
Липа обняла Анну Ивановну и ушла в сад.
«Бедная мама, ничего она не может сделать! – думала Липа, идя по дорожкам расчищенного сада. – Но что же я-то сделаю? Что? Неужели же Сережа не успел объясниться с отцом? А впрочем, его отец не лучше моего – одного поля ягоды… Господи, научи меня! Научи!» – Липа схватилась за пылавшую голову и шла по дорожке, не видя ничего перед собой.
– Липушка-а… ты? – донесся до ее слуха старческий голос.
Липа вздрогнула и остановилась.
Под березками в тени на курганчике, поросшем желтыми цветочками, сидел старик лет семидесяти, в легком кафтанчике с расстегнутым воротом, из-за которого выглядывала белая, как снег, русская рубашка с двумя золочеными пуговками…
Желтовласая голова старика была открыта. Облокотись на локоть левой руки, он лежал на курганчике, отгоняя веткой черемухи надоедливых мух, и блаженно улыбался, наслаждаясь майским утром.
Липа осмотрелась и, увидав старика, бросилась к нему.
– Дедушка, милый! – проговорила она, становясь на колени и целуя деда во влажный лоб.
– Здравствуй, Липушка! Здравствуй, красавица! – улыбался тот, нежно осматривая Липу.
– Прости, дедушка, что я сегодня не зашла к тебе утром, не до того было.
– Ничего, я и сам дошел сюда… А хорошо на чистом воздухе. Липушка, ах, как хорошо!.. Садись рядком-то, садись, коза!..
Липочка села и пригладила деду растрепанные волосы.
Дед Липы, отец Анны Ивановны, Иван Андреич Муравин, давно уже проживал у зятя, снимая у него отдельный флигелек, выходивший в сад. Торговые дела свои он ликвидировал, или, вернее сказать, передал племяннику лет десять тому назад. Выдав единственную дочь Анну Ивановну замуж за Алеева и похоронив вскоре после этого жену, он вел свои торговые дела уже не с тою энергией, которая обыкновенно присуща настоящему коммерсанту. Торговал больше по привычке и для своих служащих.
– Обижать их не хочется, живут с мальчиков, и вдруг я кончу дело… Хороших людей обижать нельзя, пускай живут, – говорил он на увещания зятя, видевшего, как старика обирали эти служащие.
– Да ведь обирают они вас! – говорил Алеев.
– Э, голубчик! – отвечал Муравин обыкновенно зятю. – Они – люди молодые, им жить хочется, а мне что надо? Аннушку я наградил по совестя, капитал для черного дня у меня есть… чего еще мне больше желать? Разживутся от меня – спасибо скажут, а помру, и панихидку, гляди, отслужат. «Хороший, – скажут, – был хозяин… и сам хлеб ел, и нам вволю давал…», а ведь всех денег, душа, в одну горсть не соберешь… мала наша горсть для этого, голубчик, не по жадности нашей мала… всему, значит, есть предел: и желанию, и горсти.
И жил старик и радовался на хорошую жизнь своих служащих. Подрос племянник, сын его сестры, живший у него же в приказчиках, и пришел как-то к дяде просить благословения на женитьбу.
Старик посмотрел на него добродушно и полюбопытствовал:
– А что за ней… за невестой-то… берешь что?
– Ничего, дяденька, – откровенно сознался тот.
– Как же это так, душа, у ней ничего и у тебя ничего… из двух ничего и вовсе выйдет ничего.
– Голова есть, дяденька, руки-с…
– Руки-то, я знаю, есть… вот в том-то и беда, что у нас руки привешены… Ах, эти руки, у холостого работают, а у женатого вдвое… и ничего не поделаешь, голубчик, расход велик: то жене душегрейку, то, глядишь, ребятишки пошли… Любишь, стало быть, невесту-то?
– Люблю, дяденька-с, а уж как она меня любит…
– Да? Это хорошо. Невелика штука, ежели наш брат любит, а вот уж это настоящее счастие будет, коли девушка нашего брата полюбит… Так ничего за ней нет?
– Ничего, дяденька-с…
– Ну что ж, если она тебя любит, я за ней и приданое дам!
И передал старик, не говоря больше ни слова, все свое дело племяннику. Выплатил тот дяде какую-то сумму и зажил припеваючи, а Муравин продал свой дом и переехал на житье к зятю.
С зятем, несмотря на то что снимал квартиру в его доме, он виделся редко. Не то чтобы он его недолюбливал за его деспотические отношения к дочери, а просто не хотел ему мешать быть хозяином в своем доме.
К дочери он относился так же, как большинство отцов относятся к своим дочерям. Ни тепло, ни жарко. Зато детей Анны Ивановны он любил без ума. И дети платили ему тем же. Александр забегал к деду утром, а Липа сновала к нему целый день.
Для Муравина дети его дочери были единственным утешением и развлечением. Он почти никуда не выезжал и все время обыкновенно проводил в чтении жития святых – это зимой, а летом лежал на курганчике в саду и созерцал природу.
– Ну, коза, здорова? – справился дед, подставляя внучке для прически реденькую бородку, пожелтевшую у самого корня. – Постой, у меня для тебя гостинец припасен.
Дед полез в карман кафтанчика и вынул оттуда апельсин.
– Кушай, коза, на здоровье…
Привычка оделять гостинцами внучат у Муравина осталась с тех пор, когда еще и Саша и Липа под стол пешком ходили.
Дедушка как будто бы не замечал лет внучат, а внучата, не желая обидеть деда, принимали его гостинцы, как маленькие дети, и уничтожали дедовские апельсины, груши, пряники и орехи.
– Спасибо, дедушка! – проговорила Липа, целуя деда снова.
– Кушай, кушай, королек ведь… видишь, какая кожа красная… Что, королек? Ну, да уж я знал, что королек. Разносчик Андрей божился раз пять, что корольки все. Сладкий? Ну, кушай, кушай, коза… Да ты что это, как будто у тебя глаза заплаканы, а?
– Ах, дедушка, милый мой дедушка, если бы ты знал только, как я несчастна! – припала к плечу деда Липа.
– Вот те на! Да полно, постой… Ах ты, коза! Право, коза! Ну что ты, право?.. Постой!
– Дедушка, ты ничего не знаешь… Меня отец хочет выдать замуж…
– Замуж? Ну, чего ты плачешь? И замуж надо идти… Всему предел есть, Липушка…
– Дед, дед!
– Ну что дед, дед… Ты не бойся, я тебе и замужем буду гостинцы носить! – пошутил Муравин, но, увидав отчаяние Липы, отнял ее руки от лица и посмотрел ей в глаза. – Липушка! Голубчик! Не хочешь ты замуж, да? Да скажи же, душа…
– Дедушка, дорогой мой… люблю я… ты пойми: люблю я…
Дед отыскал валявшуюся в траве широкополую поярковую шляпу и надвинул на самые уши.
– Другого любишь? Не того?
– Сережу… знаешь, Сережу Аршинова… он был у тебя…
– Ну, ну?
– А отец хочет выдать за его брата, Ивана… Сегодня и смотрины назначены…
– Вот как!.. За пьяницу отдать хочет? За цыганского гуляку? Ах, Спиридоныч, Спиридоныч…
– Дедушка, милый, посоветуй ради бога, что мне делать, я просто голову теряю…
– Постой, коза… С матерью ты говорила?
– Что мать?
– Правда, правда… вся она в его лапе… Ну, погоди… Пусть Иван тебя посмотрит, это ничего, это, Липушка, не беда… Худого в этом я ничего не вижу.
– Ну, а потом, дед?
– А потом… спросит же отец тебя, нравится жених или нет? Скажи, что нет, любишь другого, и кончено, и аминь…
– И ты думаешь, отец посмотрит на это?
– Не посмотрит? Ну, это мы посмотрим, коза, как он не посмотрит… – Дедушка вскочил на ноги и грозно замахал веткой черемухи. – Я… я сам тогда… слышишь, Липушка? Сам к нему пойду, да, сам! Пусть он со мной поговорит! Я ему скажу, все скажу, все, да! Я ему отпою, все отпою.
Дед так отчаянно махнул веткой, что сшиб с себя шляпу.
Его бледное лицо, обрамленное сединами, дышало гневом и юношескою отвагой.
Липа бросилась на шею к деду.
– Дедушка! Дедушка! – проговорила она, давая волю накипевшим слезам.
– Липушка! Душа! Перестань! Перестань, голубка, – шептал он, смотря на вздрагивавшие от рыданий плечи Липы, на ее белую, тронутую легким, как дымка, загаром шейку, перерезанную змейкой-косой, и гладил морщинистою с синеватыми жилами рукой русую головку своей милой внучки…
В шестом часу вернулся, в сопровождении Александра, старик Алеев и застал жену в спальне, где она, готовясь к приезду гостей, возилась с прилаживанием наколки на голову.
– Все готово? – коротко спросил он, сбрасывая с себя сюртук.
– Все, Спиридоныч: и стол в беседке накрыт, и закуски всякие приготовлены.
– Дай сюртук, который почище, да манишку.
– Сию минуту.
– Постой кидаться-то, успеешь… Липу приготовила?
– Одевается сичас, голубенькое платье с цветочками велела ей надеть, к лицу оно ей.
– Ну, уж это ваше, бабье, дело, я в этом ни уха ни рыла не понимаю, а говорила ты ей насчет смотра-то?
– Говорила, Спиридоныч, как не сказать, на всю жизнь этакое дело.
– Ну, и что ж она? Как приняла?
– Обнаковенно, в слезы ударилась.
– Девичья слеза что божья роса – до первого солнышка.
– Страшно тоже, Спиридоныч, девичью волю на бабью неволю менять.
– Глупости, не век же ей на родительской шее сидеть, пора и мужнина хлеба попробовать… Сюртук!
Анна Ивановна бросилась к гардеробу. Алеев умылся, расчесав свою бороду, надел чистую манишку и, облекшись в новенький сюртук, прошел прямо в сад.
Солнце садилось за колокольню соседнего храма и бросало потухающие, красные лучи на вершины вязов и лип алеевского сада.
Сергей Спиридоныч прошел его вдоль и повернул к решетчатой беседке, приткнувшейся задним фасом к забору соседа.
Пол просторной беседки был устлан коврами, а стол, стоявший посредине и окруженный стульями, окрашенными под цвет беседки зеленой краской, и покрытый белоснежной скатертью, был заставлен чайным прибором и бутылками.
Алеев оглядел беседку, посмотрев на свет бутылки, понюхав икру и, оставшись, видимо, довольным и тем и другим, повернул обратно к дому.
По одной из дорожек шла Липа, держа в руках едва распустившуюся ветку сирени. Увидав отца, она нахмурила брови и, всматриваясь пытливо в лицо старика, пошла к нему навстречу.
– A-а, Липа! – улыбнулся Алеев, подставляя для поцелуя дочери сперва свою заплывшую жирную руку, а затем лоб. – Ты что такая хмурая, а?
– Я? Я ничего, папаша, – ответила та, нюхая сирень.
– Сичас к нам Аршиновы приедут.
– Я это уже от мамаши слышала.
– Так ты того, будь с ними поласковее, – проговорил мягко Алеев, критически оглядывая дочь с ног до головы.
– Я со всеми, кажется, любезна.
– Аршиновы – не все… Слышишь?
– Слышу.
– И помни это…
– Буду помнить, папаша…
– Спасибо. Почем знать, вдруг понравишься Ивану Афанасьичу… жених завидный…
Липа молчала. Алеев, прождав напрасно ответа, почувствовал некоторого рода неловкость. Он чувствовал, что ответа не будет, а продолжать разговор на эту тему – то же самое, что вопиять в пустыне. Алеев снял картуз, вытер платком лоб и посмотрел на небо.
– Кажется, дождя нонче не будет? – полувопросительно обратился он к дочери, усердно нюхавшей ветку сирени.
– Кажется.
– Однако я пойду… вдруг приедут, а я не встречу, нехорошо… да и тебе бы не мешало встретить…
– Зачем? Я останусь здесь, папаша.
– Ну, ну, – сделал уступку тот, хотя внутренне и возмущаясь противоречием дочери. – Самовар чтоб был готов…
– Вы домой идете, скажите мамаше! – повернулась та и медленными шагами направилась к беседке.
Алеев посмотрел вслед дочери, нахмурив брови, и быстро зашагал к калитке, выходившей из сада на двор.
У калитки уже стояли Аршиновы, Афанасий Иванович с сыном Иваном, и разговаривали с хозяйкой, просившей жестами пожаловать гостей в сад.
– A-а, гости дорогие! – бросился Алеев к ним, снимая на ходу картуз и раскланиваясь. – Милости просим сюда, на вольный воздух…
Аршиновы вошли в сад и поздоровались с Алеевым.
– Жена, самовар! – крикнул хозяин, держа в обеих руках протянутую стариком Аршиновым руку. – Очень, очень обязан вашим посещением, Афанасий Иваныч, душевно рад!
– Спасибо за ласку! – проговорил Аршинов, держа на отлет шляпу. – А ну-ка, показывай свои владения…
Гости, в сопровождении хозяина, пошли по дорожкам. Иван, прилизанный и припомаженный, шел сзади стариков и рассеянно посматривал на затейливо разбитые клумбы и круглые, как шапки, кусты сирени и жасмина.
Ему было не по себе, майский воздух, запах сирени тянули его за город, туда, в Марьину Рощу, где в одном из домиков жила черноокая цыганка Паша, с которой он свел дружбу в период кутежей и загулов. Маленькая, сухопарая, увертливая, как змея, смуглянка рисовалась его воображению и манила к себе в маленький садик с разросшимися кустами бузины, в этот укромный и далекий от родительских взоров приют, в котором он проводил дни и ночи, прожигая и жизнь, и отцовские деньги. Зачем он сюда приехал? И что он тут будет делать? Говорить с купеческою дочкой, в которую влюбился его брат? И приятного мало, да и говорить не о чем.
Иван посмотрел со злостью на жирную отцовскую шею, красными складками спускавшуюся за воротник манишки, и вздохнул.
«И на кой шут меня женят, спрашивается? – чуть не вслух подумал он, шагая за стариками. – Ну женюсь я, а потом? Все равно к Пашке уеду… нонче же уеду, не могу… тянет…»
Иван незаметно свернул с дорожки и пошел по траве.
– Иван! – окликнул его Афанасий Иваныч.
Иван вздрогнул, пришел в себя и, испуганно смотря на родителя, бросился к беседке, к которой подходили старики. Из беседки вышла Липа и молча поклонилась Аршинову.
– Моя дочь! – представил Алеев Липу, победоносно улыбаясь. – Прошу любить да жаловать!
– Очень приятно-с! – осклабился Афанасий Иванович, с видом знатока окидывая фигуру Липы быстрым взглядом. – Нас полюбите, барышня… а это мой сын Иван… рекомендую.
Липа поклонилась Ивану и попросила гостей в беседку.
Она была бледна, но спокойна. Взглянув мельком на Ивана, растерянно следившего за всеми движениями отца и старавшегося подражать ему, она улыбнулась презрительно и села за стол.
Явилась и Анна Ивановна, запыхавшаяся от суеты, а следом за ней и самовар, принесенный курчавым кучером с серьгой в ухе.
Разговор, как это часто бывает с лицами, мало знакомыми друг с другом, вначале не клеился. Липа молча разливала чай, Анна Ивановна подвигала гостям варенья и пастилы, а Алеев не сводил глаз с Аршинова, предупреждая малейшее его желание. На выручку подоспел Александр. Разговор мало-помалу сделался общим. Говорили все, кроме Ивана, отвечавшего односложным «да» и «нет».
Он смотрел исподлобья на Липу и мысленно сравнивал ее со своею мучительницей, смуглянкой Пашей.
«Куда ей… далеко до Пашки!» – решил он, залпом выпивая остывший стакан чаю.
Александр спросил у старика Аршинова про Сергея.
– На фабрику послал, – ответил тот и тотчас же обратился к Липе с вопросом: – Чай, надоел он вам своими глупостями?
– Какими глупостями? – вспыхнула та.
– Так, вообще… недалек он у меня, все книжками бредит…
– Вы находите, что это худо?
– Пустые люди только, барышня, этими глупостями занимаются…
– Книжка – далеко не глупость! – резко проговорила Липа. – Говорить так о книжках могут только люди ограниченные.
Алеев откинулся на спинку стула, Анна Ивановна помертвела.
– Вот как-с! – с удивлением пробормотал Аршинов. – Не знал-с я этого, извините-с.
«Ах, шут возьми, – подумал он, чувствуя, как у него вдруг вспотела лысина, – девчонка-то тоже, видно, ученая».
– Извинять мне вас не в чем… Прежде чем судить…
– Липа! – возвысил голос отец, сверкнув глазами и вместе с тем сладко улыбаясь. – Ты бы лучше, заместо разговоров, прошлась бы с Иваном Афанасьичем и сад ему показала.
Липа молча встала и вопросительно посмотрела на Ивана.
Иван весь съежился, словно собирался чихнуть, и торопливо поднялся со стула.
Иван и Липа вышли из беседки. Александр поднялся было тоже, чтобы следовать за молодыми людьми, но тотчас же и сел под молниеносным взглядом отца.
Старик Алеев, рассыпаясь в извинениях за выходку дочери, налил рюмки.
– Это ничего, Спиридоныч, – ухмыльнувшись в бороду, остановил рассыпавшегося хозяина Аршинов, – молода, жизни не видала… попадет в руки к настоящему мужу, весь дух выветрит.
– Да уж это конечно, муж – первое дело… Прошу покорнейше осчастливить.
Старики чокнулись.
Иван и Липа между тем молча шли по дорожке. Иван шел несколько сзади Липы и, посматривая на пышную косу девушки, покашливал слегка, не зная, с чего начать разговор.
– Я слышала, – прервала молчание Липа, – у вас очень большой сад?
– Да-с, большой, даже весьма большой, пруд есть, караси-с…
– Как жаль, что у нас нет пруда!
– Вы, значит, любите карасей?
– Нет, я люблю воду.
– Для купанья это действительно приятно. У нас теплица тоже есть, для цветов. Вы любите цветы?
– Очень.
– У нас их пропасть. Папаша любит, чтоб в саду дух хороший был.
– То есть запах?
– Да-с. Мамаша тоже любит это…
– Я слышала от Сергея Афанасьича, что ваша мать – превосходная женщина.
– Ничего-с, родительница хорошая.
– Сергей Афанасьич просто молится на нее.
– Врет все.
– Как врет?
– Разумеется, врет. Мамаша – не икона, чтоб на нее молиться, а во-вторых, он и в церковь-то редко ходит. Какой уж он молельщик!
Липа закусила губу, чтоб не расхохотаться.
– Вы меня не так поняли, Иван Афанасьич. Я хотела сказать, что ваш брат обожает вашу матушку.
– Наша обязанность такая, чтоб любить и уважать родителей.
– Не хотите ли присесть? – предложила Липа, садясь на лавочку.
– Благодарю вас. Можно. Сергей вам, кажется, часто надоедал своими визитами?
– Мы всегда ему были рады.
– Значит, вы книжки тоже любите читать?
– Люблю. А вы?
– Когда мне читать, помилуйте… Это человеку, который ничего не делает, можно этими пустяками заниматься.
– Сергей Афанасьич читает же, и много читает, значит, находит же он для этого свободное время.
– У него часть другая. Он у нас конторским делом занимается.
– А у вас какая же часть? – насмешливо посмотрела Липа на собеседника.
– У меня – торговая-с. Разве одно дело в голове? Не до книг-с. Газеты и то иной раз некогда прочитать, ей-ей! Вы не верите?
– Не верю. Если б была охота, всегда нашли бы время.
– Охоты особенной не чувствую. Не привык как-то, да и в школе еще книжки-то надоели; бывало, зубришь, зубришь, а тебе все кол да кол от учителя, а от родителя таска. Как возьмешь книжку, так школу и вспомнишь… иногда, знаете, и прочтешь, если что интересное.
– А театр вы любите?
– Между прочим, отчего же… цирк, по-моему, гораздо любопытнее… А вы цыганское пенье любите?
– Я никогда не слыхала, как поют цыгане.
– Неужели? – встрепенулся Иван. – Ну, вот погодите, бог даст… – Иван закашлялся и тотчас же поправился. – Услышите где-нибудь… Помилуйте, как же это не слыхать цыган?
– Как видите, не слыхала, – улыбнулась Липа.
– Душу всю отдать за пенье можно-с! – заволновался Иван, ерзая по скамейке.
– Вот как!
– Да-с. Чувства у них, сердца много-с. Запоет иная цыганка солой романс, ошалеть можно.
– Что же особенного в их пении?
– Рассказать это трудно, Олимпиада Сергеевна, надо самому послушать. За сердце хватает и всю душу наизнанку выворачивает. Я знаю одну цыганку, то есть слыхал ее, голос – бархат, контральта, можно сказать, у ней такая, что другой во всей Европе не найдешь, запоет она «зацелуй меня до смерти», так сам чувствуешь, как умираешь, заслушаешься, все на свете позабудешь, просто в тунбу какую-то обращаешься! Бей тебя в это время, режь – на все плевать!
– Однако вы отчаянный цыганоман, – насмешливо улыбнулась Липа.
– Люблю-с.
– И часто вы слушаете их пение?
– Редко-с, – вздохнул искренно Иван, – папаша у меня на этот счет строг, воли не дает, вот, бог даст, женюсь, так посвободней будет.
Липа встала.
– А Сергей Афанасьич любит цыганское пение?
– Где ему, дураку, разве он может понимать цыган?
– Разве? – поддразнила Липочка.
– Натура у него совсем другая-с. Чтоб понимать цыганское пение, нужно натуру широкую иметь, а у него никакой, по-моему, натуры нет. Болтать умеет, а натуры нет-с. Олимпиада Сергеевна, если вы желаете, я могу устроить…
– Что устроить?
– Цыганский концерт-с… попрошу папашу, он и пригласит хор. Когда прикажете?
– Благодарю вас, у меня, должно быть, тоже никакой натуры нет: никакого желания нет их слушать.
– Напрасно-с… очень даже напрасно-с.
Липа повернулась к беседке.
– А вон и молодежь наша идет! – крикнул Аршинов. – Иван, ну что, как их сад против нашего?
– Меньше, папаша, но хорош-с.
– Нравится тебе, а?
– Очень, папаша.
– Милости просим, барышня, к нам, наш сад посмотреть… Хе-хе-хе!..
Липа поклонилась и села за стол.
У Аршинова от выпитой мадеры заиграли на лице розовые пятна. Он, видимо, находился в отличном расположении духа и подмигивал Алееву, покачивая головой на Липу и Ивана.
Александр грустно посмотрел на сестру и вышел из беседки.
Липа равнодушно помешивала ложкой чай и думала о Сергее.
«Что будет? Что будет?» – мучительно задавала она себе вопрос и вздрогнула от хохота отцов, раскатом несшегося по саду.
– Так, так, Спиридоныч, а? – говорил Аршинов, вставая.
– Да уж не перетакивать стать, Афанасий Иваныч, – ответил тот.
– Ну, давай поцелуемся!
Старики обнялись троекратно и стали прощаться.
– Ну, барышня, прощай! – ласково похлопывая по руке Липы, ухмылялся Аршинов. – Востер у тебя язычок, ох востер, ну да бог с тобой: я добрый, не сочту за вину. Что ж в гости опять не зовешь, аль не любы, а?
– Проси, Липа, – толкнула в бок дочери Анна Ивановна.
– Милости просим, очень рады вас видеть, – проговорила та автоматично.
– Рада будешь… Ой, так ли, барышня?
– Я всегда рада хорошим людям.
– Умница. Дай я тебя поцелую за умное слово. Спиридоныч, дозволяешь?
– За честь должна считать, что обращают на нее внимание, – ответил тот, подпихивая окаменевшую Липу к Аршинову.
Липа зажмурила глаза. Ее обдал теплый винный запах, и затем она почувствовала, как к ее правой щеке прикоснулись влажные губы и жесткие усы.
Она отшатнулась, вышла из беседки и быстро пошла домой.
– Липа! Липа! – кричал ей отец. – Постой!
Липа побежала, словно за ней гналась целая свора разъяренных собак. Задыхаясь, вбежала она в свою комнату и, бросившись в постель, зарыдала, как ребенок.
– Продана… продана, – шептала она сквозь рыдания, – все кончено… все!
– Бедная моя! Дорогая Липочка!..
Липа подняла голову. У постели, наклонясь над ней, стоял Александр и с состраданием смотрел на сестру.
Аршиновы в это время катили домой.
Иван, сидя боком в пролетке, глядел безучастно на вереницу встречных и пеших, и проезжих.
Липа, Алеевы и вообще вся процедура «смотрин» у него вылетела из головы тотчас же, как только они выехали из ворот алеевского дома.
В его голову гвоздем засела смуглянка, которую он не видал больше недели. Если б не отец, с которым ему поневоле пришлось возвращаться домой, он давным-давно уже катил бы в тихий приют возле Марьиной Рощи.
«Как только улягутся старики, так я сейчас и шаркну туда, – решил он, радостно улыбаясь. – Чай, соскучилось по мне фараоново племя. Эх, Пашка, Пашка! Вельзевул ты в юбке, проклятая!»
Иван так скрипнул при этом зубами, что задумавшийся Афанасий Иванович поднял голову и посмотрел на сына.
– Ты что говоришь, Иван? – спросил он.
– Я-с? Ничего, папаша, я, кажется, молчал-с.
– Ну, как тебе невеста? А? По сердцу, что ли?
– Как вам, папаша, так и мне, – уклонился тот от прямого ответа.
– Не я жениться на ней стану, чай.
– Как вам-с.
– По мне – девка добрая. Ветер в голове есть, ну да это не суть важное, поумнеет замужем, и семья ихняя вся мне по нраву.
– Люди хорошие, папаша.
– Значит, нравится?
– Олимпиада Сергеевна-то?
– Ну да.
– Ничего-с, ежели вам она нравится, так и мне-с. Вы, папаша, человек опытный, много на своем веку людей перевидали, а я что же-с?
– По-моему, лучше невесты и искать нечего, – погладил свою бороду Афанасий Иванович. – И приданое настоящее, я толковал с отцом, сто тысяч дает.
– Только-то? Я больше предполагал.
– Это за тебя-то больше? – иронически проговорил Аршинов. – А ты и за это скажи спасибо.
– Я знаю это-с, – поспешил тот, – благодаря вам-с, конечно.
– То-то, вот, благодаря нам-с! Вести себя не умеешь.
– Я, кажется, папаша, стараюсь, – съежился Иван, строя невинную рожу.
– Стараешься ты с цыганками кутить. Я, брат, все знаю. И ежели гляжу на тебя сквозь пальцы, значит, ты должен понимать это и стараться остепениться.
– Что же, я, папаша, готов; разумеется, иной раз от скуки и дозволишь, так ведь я в меру, папаша, другие и не то себе дозволяют.
– Мне другие не указ. Женишься – и аминь. Чтоб я больше о твоих глупостях и не слыхал никогда. Слышишь?
– Слушаю, папаша. Известно, женатому человеку не подобает канителиться.
– То-то, смотри у меня. Помни: холостой гуляет – себе только повреждает, а женатый гуляет – всю семью разрушает.
– Будьте покойны, папаша… Конечно, ежели Олимпиада Сергеевна меня будет любить.
– Почему же она тебя любить не будет? Что ты, урод? Дурак круглый? Какого еще ей мужа надо?
– Конечно, вы, папаша, умный человек и все далеко видите, а я, откровенно сказать, я насчет своего супружеского счастья не уверен-с… неподходящий я ей.
– Это ты своим умом дошел? – рассмеялся Афанасий Иванович.
– Своим-с… вы полагаете, что я так уж ни о чем и судить не могу-с?
– Ну, я тебя, Иван, утешу. Успокойся, брат, ума большого у тебя нету.
– Значит, я прав, что такой муж, как я, ей не подходящ.
– Кто ж ей подходящ, по-твоему?
– Кто-с?.. – замялся Иван. – Вообще, ей, папаша, нужен человек ученый.
– Вот как! Да она сама-то в каком ниверситете обучалась?
– От книжек поумнела-с!
– А кто тебе не велел самому от книжек поумнеть? – иронизировал Аршинов. – Нет, Иван, у кого ума нет, тому, брат, и книжки ума не прибавят. Чтоб умна она была, я этого вовсе не вижу. Просто девчонка нахваталась разной дичи и хвастает ею. Коли б умна была, так гостям глупостей не говорила, а она с первого же шагу со мной сцепилась. Молодость – глупость, только и всего. Выйдет замуж – другая станет… Пойдут дети – куда и книжки с завиральными идеями полетят. В девках – горячится, в бабах – смирится. Такой уж им предел свыше.
– Все это так-с, папаша… одно только вот… Сергей-с.
– Что Сергей? – сдвинул брови Аршинов.
– Препятствовать может.
– Сергей? Скажи, пожалуйста, какое пугало!
– Он на меня как вчера кинулся: «Не смей, – кричит, – на Олимпиаде Сергеевне жениться, я ее люблю и она меня любит».
– Ну, эту любовь можно и плетью вылечить.
– А я все-таки, папаша, предупреждаю вас: бог знает, что у Сергея на уме… вам самим известно, какой он у нас нигилист.
– Глупости! Дурак твой Сергей, да и девчонка дура. Повидались, может, раз десяток друг с другом и решили, что влюблены… у ней эта любовь после венца пройдет, а Сергея мы тоже женитьбой вылечим.
– Вам, конечно, виднее, папаша, но все-таки я должен иметь в виду такой факт-с.
– Перестань! Глупости! Сурьезу в этом я никакого не вижу.
– Да сурьеза-то промежду них я и сам так думаю, что не было.
– Ну и, значит, выкинь ты Сергея из головы. Влюблены! Да какая же это девчонка до свадьбы не влюбляется? Все, Иван, они из одной матушки-глины сделаны. И тот хорош, и этот прекрасен, а как выйдут замуж, так лучше мужа никого и на свете нет! Знаю я бабью натуру очень хорошо.
– Разумеется, вам известно, папаша… только все-таки я Сергея боюсь.
– Вот наладил, право!
– Вы не знаете его, папаша; отчаянный он человек.
– Сергей отчаянный? – с изумлением приподнял брови Афанасий Иванович.
– Да-с, Сергей. Он на все пойдет. У него сейчас пистолет куплен. Для чего, спрашивается? Убьет, папаша.
– Кого убьет?
– Меня-с. Ей-богу, убьет. Ему что? Он, вот, как-то начал насчет души говорить, так у меня душа в пятки ушла. Для него чужая душа все равно что наплевать.
– Пустяки, а где этот пистолет-то?
– У него на стенке висит-с.
– Нонче же убери.
– Уберу-с. Только ведь он, папаша, завсегда другой может купить.
Афанасий Иванович задумался. В первый раз он серьезно подумал о Сергее, которого до сих пор считал за пустого, непригодного к делу человека. И ум, и время у Афанасия Ивановича всегда были поглощены делами. Жена и дети существовали для него, как и для всякого увлеченного своим делом коммерсанта, только как цель, для которой он работал, вкладывая в эту работу всю наличную энергию и все силы своего ума. Заглядывать же в душу каждого члена семьи у него не было ни времени, ни охоты, ни нужды. Жена – жена и есть, в сущности, баба, у которой вся дорога от печи до порога. Дети – все дети, то есть Иваны, Андреи, Петры, до последнего издыхания главы семьи обязанные покоряться и слушаться во всем отца. Философия домостроя не дозволяет никаких уклонений в сторону, и поэтому Афанасий Иванович, воспитанный в правилах домостроя, не интересовался никогда внутреннею жизнью жены и детей. Только тут, в первый раз, Афанасий Иванович задал себе вопрос: «Что за человек Сергей?»
– Папаша, приехали-с! – дотронулся Иван до плеча отца.
Афанасий Иванович вздрогнул, посмотрел на свой дом и вылез из пролетки.
– Андрей дома? – справился он у выбежавшей на крыльцо горничной.
– Дома-с, в саду, кажется.
Аршинов молча прошел в сад и крикнул:
– Андрей, тут, что ль, ты?!
– Здесь, здесь, папаша! – показался из-за кустов старший сын Афанасия Ивановича и остановился в почтительной позе.
– Пойдем, мне надо посоветоваться с тобой, – озабоченно проговорил Афанасий Иванович, беря под руку Андрея.
Андрей вытянул, как гусь, голову вперед и насторожил уши.
– Со смотрин я, – начал Афанасий Иванович и остановился.
– Ну, что же-с, – спросил Андрей, – пондравилась?
– Девка-то? Ничего. Подходяща.
– Я сам так думаю, что для Ивана партия хорошая.
– Хороша-то хороша, да запятая махонькая есть, обдумать нам надо.
– Обдумаем, обдумаем, папаша, да вы присядьте на скамеечку лучше, сидя-то голова спокойнее работает-с.
Аршиновы уселись и принялись обдумывать план действий.
Иван зашел к матери, перекинулся с ней несколькими словами и поспешил в комнату Сергея.
Из окна он увидал сидевших в саду отца с братом и улыбнулся.
– Обмозговывают! – проговорил он вслух. – Андрей все в затылке чешет, стало быть, я им хорошую загвоздку запустил…
Иван осмотрелся и презрительно щелкнул по корешкам книг, стоявших на полках.
– Книгоед настоящий! Ишь ты, сколько их набрал, на хороший полок не уложишь, а где ж его пистолета-то? Неужли с собой взял?.. Стой, вот он… как его взять только… вдруг возьмет да и выпалит?.. Ну его к шуту, еще убьет сдуру…
Иван прислушался и крикнул:
– Аркадий Зиновьич, вы дома?!
За стенкой послышалось кряхтенье.
– Дома, значит… подите-ка сюда на минутку…
– Ах, это вы, Иван Афанасьич! – появился на пороге Подворотнев, застегивая на ходу сюртук. – Добрый вечер, во всех отношениях!
– Я вас вот зачем, папаша приказал пистолет от Сергея отобрать, а я, признаться, не умею с ним обращаться: возьмешь, а он вдруг выпалит.
– Да он, кажется, незаряженный.
– Все одно. Уберите-ка вы его к себе, а Сергею, если хватится, скажите, что папаша взял.
– Хорошо-с. Да для чего же, собственно, Афанасью Ивановичу пистолет Сереженьки понадобился?
– Да так, знаете… убрать его с глаз долой и от греха дальше.
Подворотнев взял пистолет и пристально посмотрел на Ивана.
– Странно… даже, во всех отношениях, странно-с… Неужели Афанасий Иванович такую мысль допустил, что Сереженька себя лишить жизни может?
– Не себя, так другого кого-нибудь. По-моему, такие игрушки не след иметь глупому человеку.
– Действительно, – улыбнулся хитро Подворотнев, – оттого, должно быть, вы и не хотите к себе пистолетик-то взять?
– Ну его! – засмеялся Иван, не поняв шутки старика. – Еще во сне сниться станет… А я, Аркадий Зиновьич, сичас невесту смотрел.
– Вот как-с! У кого же, ежели это не секрет, во всех отношениях? – прищурился тот.
– У Алеевых.
– Так-с. Ну, и что же-с? Понравилась вам? – спросил старик, перекидывая пистолет с руки на руку.
– Так себе. Девка здоровая, лупоглазая. Косища, словно каната, толстая. Уберите вы пистолет, ей-богу, выпалит!
– Хе-хе-хе, трусите, во всех отношениях?
– Не трушу, а неприятно ожидать: вот-вот хватит.
– Уберу-с, будьте покойны, ну а вы-то невесте понравились?
– Да отчего ж не понравиться? – хвастливо поднял Иван голову. – Что я, хуже Сергея, что ли? Да унесите вы пистолет, ну вас…
Иван торопливо скрылся в свою комнату и завалился на постель.
Подворотнев посмотрел ему вслед, усмехнулся печальной улыбкой и положил пистолет на стол.
– Плохо, Сереженька, во всех отношениях, плохо! – проговорил он и, заперев на ключ комнату Сергея, ушел в свою келью.
В десять часов аршиновский дом уже спал. Ворота были заперты. По двору бегали, глухо лая, собаки. По заведенному исстари порядку, ключ от замка, которым запирались ворота, после ужина приносили к хозяину в кабинет, и тогда уже нельзя было никому ни войти, ни выйти из аршиновского дома.
Молодые Аршиновы между тем ездили и в гости, и в театры и возвращались домой и в два, и в три часа; для многих, знакомых с порядками, заведенными Афанасием Ивановичем, было загадкой, каким образом сыновья могли и уезжать из дома вечером, и приезжать обратно поздней ночью.
Афанасий Иванович сам был озадачен, однажды узнав в разговоре от знакомого купца, что у него накануне были на именинах и Андрей с женой, и Иван с Сергеем.
Он долго ломал голову над этою задачей и только благодаря простой случайности открыл секрет просто отпиравшегося ларчика.
Прогуливаясь как-то в саду и осматривая подгнившие столбы забора, выходившего в глухой переулок, он наткнулся на калитку, запертую внутренним замком.
Афанасий Иванович хлопнул себя по лбу и расхохотался.
– Ну, народ! – похлопывая себя по бедрам, покачивал головой Аршинов. – Просто жулики, ей-богу! В голову другому не придет такую лазейку прорезать…
Сыновьям, однако, Афанасий Иванович и виду не подал, что открыл их лазейку, и только улыбался, если Андрей или Иван просились у него в гости.
К этой-то лазейке и пробирался Иван, когда все улеглось в аршиновском доме.
Приласкав бросившихся к нему собак, он нырнул в сад, окутанный мглой сумерек, и скрылся в кустах.
Через пять минут он шел уже по переулку, напевая цыганский романс и вглядываясь в темную даль.
На углу переулка стояла извозчичья гитара.
– Степан, ты?! – крикнул Иван, подходя к извозчику.
– Я-с, Иван Афанасьич, – откликнулась фигура, торчавшая на передке.
– Молодец, люблю! – бросился тот на гитару. – Понял, значит, давеча мою пантомиму, когда я ехал с отцом.
– Как не понять, помилуйте-с… вы только свистните, а мы уже смыслим.
– Пошел!
Рысак лихача рванулся с места, взмахнул хвостом и потонул во мраке ночи.
У рыбинского мещанина Федора Головкина, державшего хор цыган и жившего около Марьиной Рощи, в это время шел дым коромыслом.
В большой зале, ярко освещенной настенными канделябрами, происходила оргия.
Молодой купец Митя Блуждаев, в компании с отставным, прокутившимся дотла гусаром Лупаревым, которого Блуждаев держал при себе в качестве адъютанта по разгульной части, кутил у цыган третьи сутки.
На столах красовалась целая батарея донского, под столами валялись пустые бутылки. Вдоль стен сидели цыганки в яркопестрых костюмах и гремели хоровую. Блуждаев был пьян, как стелька. Он сидел на диване и, ероша и без того спутанные на голове кудри, пил стаканами донское и плакал слезами пьяного человека.
Отставной гусар, с потасканным лицом и ярко-красным носом, сидел возле Блуждаева и, отчаянно крутя левой рукой длинный ус, правой дирижировал хором, неистово пристукивая каблуком.
– Так! Жги! Ловко! Чище, идолы! – покрикивал гусар. – Люблю! Митя! Друг!.. Выпьем!
– Милые мои! – ревел Блуждаев, хватая себя за грудь и обрывая пуговицы у жилета. – Эфиопы-черти! Убейте меня! Ради бога, убейте!
– Митя, плюнь, выпьем! – твердил гусар, опуская усы в стакан.
– Убейте, эфиопушки! – плакал Митя, размазывая по лицу ладонью слезы. – Не могу я больше жить на свете после этого… тяжко мне, фараонушки… Дюжину шампанского! – перестал он вдруг плакать. – Стой! Стой, анафемы!..
Хор остановился.
– Плясовую… Тр-рогай!
Хор моментально тронул «Сени». Со стула сорвалась красивая смуглая цыганка и, сверкая черными, как агат, очами, ветром пронеслась по зале.
– Пашка, молодец! – орал Блуждаев, хлопая отчаянно руками и совсем перевешиваясь через стол. – Сатана! Люблю! Пашка!
Пашка замерла на мгновение посредине залы и, сверкнув агатами на Блуждаева, змеей поползла к нему, перегибая свой стан и вздрагивая плечами. Блуждаев схватил себя за волосы и впился глазами в цыганку. Гусар топал ногами. Цыганка сделала прыжок и под самым носом обмиравшего от восторга купца так отчаянно перетряхнулась всем корпусом и таким обожгла его жгучим взглядом, что Блуждаев застонал, словно его ударили ножом в сердце, и упал на диван.
– Пашка! – вскрикивал он, отчаянно взмахивая руками и сбивая со стола бутылки и стаканы. – Сюда, Пашка, сюда!
Гусар бросился к плясунье, схватил ее в охапку и посадил на колени к Блуждаеву.
– Все бери, все, только поцелуй! – кричал он, бросая на пол скомканные радужные бумажки.
Цыганка усмехнулась, влепила в мокрые пьяные губы купца поцелуй и в одну секунду очутилась у двери. В дверях стоял Иван Афанасьевич Аршинов и вызывающе смотрел на Блуждаева.
А Блуждаев, разлакомившись поцелуем цыганки и неистово крича: «Бис, Пашка, бис!», ловил руками воздух и, поймав голову своего гусара, заключил его в объятия.
– Пойдем, желанный, в сад, – шепнула цыганка Аршинову и скользнула в дверь.
Иван шагнул за ней и чрез минуту очутился в садике, слабо освещенном двумя-тремя фонарями, качавшимися на кустах бузины.
– Сюда, желанный, сюда! – говорила цыганка, скользя тенью по дорожкам. – Вот скамеечка, тут, садись.
Иван сел. Цыганка обвила его шею руками и словно огнем опалила его губы поцелуем.
– Что пропал, Иван Афанасьевич? Аль забыл уж свою «смуглянку»? – спрашивала она, прижимаясь к Аршинову.
Иван усмехнулся самодовольно и, повернув голову цыганки, посмотрел ей в глаза.
– Соскучилась? – спросил он.
– Вот как соскучилась, Иван Афанасьевич, и сон потеряла, и аппетиту никакого не стало.
– Ну?
– Провалиться на этом месте, желанный, коли вру…
– Я тоже, Пашенька, по тебе соскучился, да никак нельзя было… знаешь отца?
– У-у-у, беда! – затрясла та головой. – Был он как-то намедни у нас со своими покупателями – подступиться нельзя, так волком и глядит.
– Ха-ха-ха! – закатился Иван. – Неужели и ты его лаской не прошибла?
– Ничего не берет. Сидит да исподлобья на всех и глядит… и скупой-прескупой, не то что ты, Иван Афанасьич…
– Да я что, я добрый…
– Добрее да желаннее тебя я на свете человека не видывала.
Цыганка чмокнула снова Аршинова и захныкала.
– А у меня, желанный, опять несчастье: сестрица Маша пишет из Рыбинска, погорели недели две тому, все, как есть, дотла сгорело.
– Ладно. Я помогу.
– Вот спасибо, желанный! Век за тебя сестра Бога молить будет!
– Кто это у вас? – спросил Аршинов, перебивая цыганку и прислушиваясь к пению, доносившемуся из комнат.
– Блуждаев Дмитрий Федорыч. Знаешь?
– По фамилии слыхал.
– Третьи сутки у нас гуляет, богатый и тароватый купец.
– Ужли третьи сутки?
– Третьи, Иван Афанасьич!
– Счастье же вот людям, а я двое суток погуляю и сичас от папаши трепка формальная.
– Паша! Паша! – кричал гусар, появляясь в саду.
Он шел по дорожкам и цеплялся поминутно за кусты.
– Это что за чучело? – нахмурился Иван.
– А это с Блуждаевым приехавши…
– Не отвечай ему, ну его к лешему!..
Гусар прошел мимо сидевших на скамейке Аршинова с цыганкой и, попутавшись по кустам, выругался и скрылся в комнатах.
– Хмельны, оба хмельны, желанный… Спеть песенку прикажешь?
– Погоди, надо поговорить с тобой сперва.
Но говорить не пришлось. На террасе показалась грузная фигура Блуждаева, поддерживаемая гусаром.
– Пашка! Эй! – крикнул он, потрясая в воздухе бутылкой шампанского. – Адъютант, почему нет эфиопки, а?
– Придет… ты поверь уж моему слову.
– Почему нет? – орал Блуждаев, колотя бутылкой по перилам террасы. – Найди в моменту…
– Да придет, погоди… ах, как ты глуп, Митя!
– Желаю Пашку, и кончено… Пусть «Очи» споет… Пашка-а! Змея!
– Не ори, придет, я знаю женщин… я, брат, на женщин миллион спустил, ты то пойми, – уговаривал его гусар, толкаясь носом в плечо Блуждаева, – мил-ли-он! Придет! Деньги есть – придет… пойдем хор слушать… выпьем…
– Не могу без ней… «Очи» желаю!.. Найди! Из земли вырой!
– Да нет ее здесь… ты пойми… видишь – нет.
– Ничего не вижу… Друг ты мне али нет?
– Друг, Митя…
– Найди Пашку… Она здесь… я видел, как она с каким-то балбесом ушла… а? Я деньги трачу, не жалею ничего, а она провалилась вдруг… тащи сюды хозяина, я его бить буду, обращению учить.
– Я пойду к нему, Иван Афанасьич, – поднялась цыганка со скамейки, – спою ему «Очи» и назад вернусь…
– Прочь, – отпихнул Аршинов в сторону цыганку, – я с ним поговорю сам…
– Пашка! Змея! – надрывался Блуждаев. – Где ты?
– Она со мной! – проговорил Аршинов, вырастая под самым носом Блуждаева.
Тот отшатнулся и схватился за гусара.
– С тобой?
– Со мной. Она для вас пела, а теперь будет петь для меня, понял?
– Гусар! Что же это такое, а? Ведь это грабеж, а? Не допущай этого, гусар…
– Мы этого не допустим! – проговорил тот, выступая вперед.
– Плевать я на все хотел, вот что! – ответил Аршинов.
– Что-о? Плевать? Бей его! Гусар, руби!
Бутылка засвистала в воздухе и ударила в плечо Аршинова.
– A-а, так вы вот как, ну посмотрим!
Он плюнул по старой школьнической привычке в ладони и, сжав кулаки, бросился на кутил…
На другой день Афанасий Иванович встал рано. Умывшись и помолившись Богу, он сошел в сад, обошел все дорожки, зашел в оранжерею и, поговорив с садовником, прошел в столовую, где за самоваром уже сидели Арина Петровна и Андрей.
Он ласково поздоровался с женой и сыном и справился об Иване.
– Ивана, папаша, нет, – ответил Андрей.
– Не ночевал?
– Надо думать, что не ночевал.
Афанасий Иванович сморщился и молча выпил стакан чаю.
«Загулял, – подумал он, – ну что же, пускай уж погуляет напоследках».
Выехав в город, он послал за Алеевым и отправился с ним к Митягову.
У Митягова они засиделись до вечерен и вышли оттуда с покрасневшими лицами.
Аршинов отправился в лавку, а Алеев проехал прямо домой.
– А где же Липа? – справился он у жены.
– Да в саду, гляди, гуляет.
– Ну что, спрашивала ты ее, как ей жених?
– Спрашивала, – с боязнью проговорила Анна Ивановна, – да так она как-то все… ни да ни нет, только, по-моему, Спиридоныч, Сереженька куда умнее и пригляднее Ивана Афанасьича.
Алеев посмотрел на жену и постучал себя указательным пальцем по лбу.
– До старости ты дожила, а здесь до сей поры ветер гуляет. По-твоему, Сергей хорош, а по-моему, Иван. Понимаешь, – повторил он с удареньем, – по-моему, Иван.
– Я, Спиридоныч, что же… и по-моему тоже, Иван Афанасьич – паренек великолепный и из себя мужчина настоящий… известно, девушки глупы; забьют что себе в голову – ничем не выбьешь.
– Стало быть, Липе Сергей нравится больше?
– Да я рази это говорила? Христос с тобой, Спиридоныч!
– Без уверток. Так, что ли?
– Да это ничего, Спиридоныч, мало ли, кто девушке нравиться может.
– Так-с. Значит, ей Сергей по нраву?
– Не знаю, Спиридоныч, ей-ей, не знаю.
– Не знаешь, а мелешь, мельница пустая.
– Да ты, Спиридоныч, сам лучше ее урезонь… право, лучше этак-то будет.
– Урезонивать мне глупую девчонку нечего. Прикажу – и кончено. Скажите, какая принцесса! Иван не нравится! Бову-королевича, что ль, для нее из-за границы выписать?
– Скажи ты ей это, скажи.
– И скажу. В саду она?
– В саду, Спиридоныч… ох, господи, господи.
Алеев прошел в сад и увидал Липу, сидевшую в раздумье на скамейке под липами.
Он подошел к дочери и окликнул ее.
Липа вздрогнула и подняла голову.
– Это вы, папаша? – проговорила она и поцеловала отца.
– Сядем, Липушка. Фу ты, благодать нонче какая… Полное благорастворение воздусей… Что это ты бледная какая? Аль не поспалось?
– Должно быть…
– От волнения это все бывает. Ну, как тебе Иван Афанасьич пондравился?
– Никак, папаша…
– Плох разве?
– И не плох, а мне не нравится.
– А ты ему больно пондравилась. Нонче старик Аршинов мне передал это известие.
Липа молчала.
– Просят руки твоей.
Алеев подождал с минуту ответа и нахмурился.
– Так какой же ответ твой будет, а?
– Я за него замуж не пойду, папаша! – ответила Липа, отодвигаясь от отца.
Алеев вспыхнул и уставился на дочь.
– Это на каком же основании?
– Он мне не нравится.
– После пондравится.
– Никогда, папаша! – чуть не крикнула Липа.
– Вздор, сударыня, вздор! Мужчина красивый, дельный.
– Я его не люблю.
– Полюбишь. Я дал уж им согласие.
– Папаша!
– Это дело конченое. Я своего слова назад не возьму.
Липа вскочила со скамейки и, задыхаясь, смотрела на отца.
– Я не пойду за него, ни за что не пойду. Слышите, папаша! Я люблю другого, Сергея Афанасьича люблю.
– Вот как! – побледнел Алеев. – В любовь без спросу родителей изволили заиграть… Ах ты, мразь этакая! Да как ты смеешь это отцу говорить, а? Да ты что, распутная девка али дочь?
– Папаша, за что вы меня оскорбляете?
– Молчать! Ты меня оскорбляешь, а не я, ты заповедь забыла: «Чти отца твоего», так я тебя сызнова учить начну… Оскорбляю я ее! Завела себе любовника да еще отцу этим похваляется. Чтоб больше я от тебя об Сергее слова не слыхал, слышишь? В землю тебя своими руками зарою, а за Сергея не отдам. Иван за тебя сватается, за него и выйдешь.
– Папа, папа…
– Слезы? Реви сколько хочешь, но если ты завтра к Аршиновым в слезах выйдешь, при них изувечу… Девчонка! Дрянь!
Липа упала на скамейку и зарыдала.
Алеев поднялся со скамейки и пошел навстречу Муравину, вышедшему из беседки.
– Здравствуйте, Иван Андреевич, – проговорил Алеев, стараясь улыбнуться и протягивая руку старику, – греетесь на солнышке-то?
– Греюсь, Сергей Спиридоныч, греюсь! – улыбнулся старик, смотря из-под руки на зятя. – Липушку не видали?
– А вон она там сидит! – мотнул Алеев головой. – Да, вот, кстати, – мелькнула у него мысль, – сватается за нее хороший жених, Иван Афанасьевич Аршинов, а она ломается. Будьте добры, Иван Андреич, уговорите ее, все-таки лишнее слово для дела полезно будет.
– А почему же она не хочет идти за него, Сергей Спиридоныч? – прищурился старик на зятя.
– Да забрала себе глупость в голову, будто в Сережку влюблена. Просто глупая девчонка, у которой еще ветер в голове гуляет.
– А если она и в самом деле его любит?
– Ну, и вы туда же! – досадливо махнул рукой Алеев. – Что старый, что малый.
– Этим, Сергей Спиридоныч, шутить нельзя… да-с! Сердце – не игрушка-с.
– Просто глупости, говорю, выйдет замуж и глупость забудет. Поговорите, пожалуйста, ей.
– Нет-с, извините, на такое дело я и уговаривать не стану.
– На какое дело? – раскрыл удивленно рот Алеев.
– А на такое-с, на распутство-с. Вы думаете, она хорошею женой Ивану Афанасьевичу будет? Любить его станет? Никогда-с. Рана-то в сердце у ней останется и до смерти не заживет… да-с!
– Я думал, вы здраво рассудите, а заместо того ахинею понесли.
– Ахинею? Нет, Сергей Спиридоныч, не ахинею, а правду горькую вам говорю. За что вы ее, голубушку мою родную, губить хотите? А? Отец вы ей али лиходей? Любит она Сережу, за него и отдайте.
– Ну, это уж мое дело, за кого отдать, и учить меня в этом я никому не дозволю! – проговорил Алеев, насмешливо посматривая на тестя.
– Учить вас? Куда мне, Сергей Спиридонович, учить! Мне впору у вас поучиться, как людей губить.
– На ваши дерзости я плевать хотел.
– Плюйте, плюйте, вы ведь глава тут, что хотите, то и творите, только, по-божески ежели судить, Сергей Спиридоныч, подло, низко так с родною дочерью поступать… да-с! Коли совести у вас нет и любви к своему детищу, так хоть Бога побойтесь, накажет Он вас за это… да-с! Карающая десница страшна, Сергей Спиридоныч, бойтесь ее, бойтесь…
Алеев побледнел. А Муравин, трясясь от волнения, стучал палкой по земле и смотрел вызывающе на зятя.
– И я-то хорош, – прошипел Алеев, – разговаривать вздумал с выжившим из ума…
– А вы с большим умом на погибель дочь свою ведете… Эх, Сергей Спиридонович, Сергей Спиридонович… Придет час, за все ответите, а за Липушку втрое… слышите? Втрое ответите… Такой отец, как вы, – хуже пса… и пес своих детей от ворога оберегает, а вы свое детище прямо ворогу в руки отдаете… Змей вы стоглавый! Змей!
– Старый дурак! – позеленел Алеев и зашагал к дому.
– Змей! Змей! – кричал Муравин, грозя палкой удалявшемуся зятю. – Липушка моя… нет у тебя отца… Змей лютый, змей!
Липа бросилась к деду.
К одной из станций железной дороги подошел пассажирский поезд. Из вагона первого класса вышел, держа в руках саквояж, Сергей Аршинов и, поздоровавшись с начальником станции, быстро прошел сквозь грязный вокзал на широкую площадь, замощенную только у подъезда.
Сергей окинул взглядом стоявшие у вокзала экипажи и, увидев краснощекого парня в красной рубашке, важно восседавшего на козлах дрожек, крикнул ему:
– Андрей, подавай!
Краснощекий парень подкатил к подъезду и раскланялся с Сергеем.
Сергей сел, и дрожки, ныряя в выбоинах и рытвинах, повернули за постройки, окружавшие вокзал, и покатили по гладко убитому шоссе.
Вдали, версты за три от вокзала, зеленел лес, левее, сверкая на солнце и извиваясь в прихотливых изгибах, лениво текла река.
От леса тянул прохладный ветерок и волнами катился по изумрудному ковру полей.
В безоблачном небе звенел жаворонок, а с реки несся тревожный гам вспугнутой стаи уток.
Сергей с наслаждением потянул в себя чистый весенний воздух и залюбовался расстилавшеюся перед его глазами картиной простора. Давно знакомая картина; но как она была отрадна сердцу Сергея! Всякий раз, как только ему приходилось быть на фабрике, он наслаждался ею и чувствовал себя свободным и беспечным, как птица. Он улыбался и этой сверкавшей серебром речонке с ее крутыми берегами, поросшими кустарником, и говору зеленого леса, подернутого синеватой дымкой испарений, и пению птичек, распевавших немолчно свои любовные песенки в весеннем воздухе, напоенном ароматом полевых цветов и смолистых сосен, красневших на опушке леса. В такие минуты, минуты общения с природой, он забывал всю горечь и пошлость городской жизни, с ее мелочными тревогами и заботами, и с чисто юношеским восторгом отдавался охватывавшему его волнению.
– Андрей, ведь это дикие утки кричат? – спросил он у своего кучера, улыбаясь счастливой улыбкой.
Андрей посмотрел на реку и вытянул кнутом лошадь.
– Дичь, Сергей Афанасьич, – ответил он и, повернув свою красную загорелую «лупетку», оскалил белые, как сахар, зубы. – Да тут и гуси бывают; намедни двенадцать штук вдруг, покеда за ружьем домой бегал, улетели.
– Как же ты смеешь стрелять до Петрова дня? – улыбался Сергей.
– А чего же их не стрелять, коли они сами под ружье лезут? – ответил Андрей и раскатился дробным смехом. – Не лезь!
– Ну, что у нас, все благополучно?
– Все-с слава богу. Третево дни один из Денисовки в машину рукой попал, так помяло малость, а то ничего, слава богу.
– В больнице лежит?
– Свезли. Жена уж оченно убивалась, потому руку-то у него отняли… левшой теперича стал, – добродушно добавил Андрей, подхлестывая лошадь.
– Как же это он так?
– От глупости от своей… поправить там что-то хотел, ан вон какое дело вышло – руки лишился.
– Семейный?
– Восемь ртов на его шее сидят… Жена, я тебе скажу, Сергей Афанасьич, так в голос и голосит…
– Что же директор?
– Жемс Иваныч-то? Да дилехтору что же… нехристь ведь…
– Что ты чушь болтаешь, Андрей? Он такой же христианин, как и мы с тобой.
Андрей повернулся, посмотрел недоверчиво на Сергея и тряхнул головой.
– Может, и хрестьянин, да веры жестокой… штраховать было хотел…
– Кого?
– А Никифора… которому сичас руку отняли.
– Андрей, не городи вздора! – вспыхнул Сергей.
– Сичас помереть, Сергей Афанасьич… потому в машине через эсту Никифорову руку порча произошла.
– Негодяй!..
Сергей хотел еще что-то прибавить, но смолк. Он знал отлично порядки, заведенные на фабрике его отцом и англичанином-директором, этою «ходячей машиной», как называли его все служащие на фабрике. Теперь директора играют совсем не ту роль, какую играли тридцать лет тому назад. Директора-англичане на фабрике были тем же, чем были управляющие-немцы у помещиков во времена крепостного права, то есть были полновластными хозяевами и вводили порядки по своему усмотрению, не справляясь ни с нравами, ни с обычаями фабричных, ни с их человеческими потребностями, а преследуя только одну заветную цель: не пренебрегая никакими средствами, эксплуатировать труд в пользу хозяйского кармана.
Афанасий Иванович, приезжая на фабрику, прежде всего бежал в контору и требовал штрафную книгу. Просмотрев штрафы, он шел на фабрику, где, встретив директора, или улыбался, или хмурился. Расположение духа его всецело зависело от цифры штрафов. Чем больше было штрафов, тем слаще улыбался Афанасий Иванович, и, пожимая правою рукой руку директору, левою похлопывал его по плечу и приговаривал:
– Дела у нас, кажись, того… Слава те господи!
– О, ес! – отвечал обыкновенно Джемс Иванович, рыжий весноватый мужчина, с круглой бородкой и маленькими мышиными глазками.
Но если штрафов было мало, Афанасий Иванович являлся на фабрику пасмурным, как сентябрьское утро, и, едва здороваясь с директором, цедил сквозь зубы:
– Глядеть за порядками надо больше… за порядками глядеть!
– О, ес! – отвечал также директор, а проводив хозяина в Москву, принимался штрафовать живого и мертвого.
Сергей знал эти, как он говорил, «подлости», возмущался ими, краснел перед каждым рабочим за отца, и только!
Протестовать он не мог. Да и какое мог иметь значение его протест в глазах такого отца, каким был Афанасий Иванович? Ровно никакого.
Ранее он пробовал просить отца о различных снисхождениях к рабочим, но потерпел фиаско, махнул безнадежно рукой на фабрику и, как человек, лишенный всякого авторитета и права, скорбел только о меньшем брате и, где возможно, помогал ему из своего кармана.
Путники въехали в лес, сразу обдавший их холодом и сыростью.
– А сколько соловьев у нас, Сергей Афанасьич, – прервал молчанье Андрей, – страсть!
– Много? – спросил Сергей, отрываясь от своих нерадостных дум.
– Штук восемь… новый один прилетел.
– А ты, что ж, их считал?
– Да как же! – совсем повернулся Андрей на козлах. – Я их всех наперечет знаю.
– Охотник, значит?
– Я? Страсть! – мотнул головой тот и радостно уставился на Сергея. – Да ведь и птица какая, Сергей Афанасьич, просто малина! Красота, а не птица! Вот тута, – ткнул он кнутовищем в воздух, – старый соловей поет… лет семь здесь живет… ну, только стареть начал, нету уж чистоты этой, настоящей…
Сергей улыбнулся.
– Ей-богу, – побожился Андрей, приняв, вероятно, улыбку хозяйского сына за недоверчивость к его рассказам о соловьях, – а вот в Девкином яру, Сергей Афанасьич, соловей проявился – все медные отдашь…
– Хорош?
– Вечерком беспременно сходите послухать. Ах, какой соловей! Много я ихнего брата слыхивал, а такого впервой довелось… Вот тута тоже соловушка ахтительный…
– Чем же хорош тот, что в Девкином яру живет?
– Всем-с. Регент, а не птица-с. Чисто вот по камертону поет, ей-богу… ах, да и только; в вечернюю зорю он, по-моему, хуже поет… в утреннюю не в пример… Вы любите соловьев, Сергей Афанасьич?
– Люблю.
– Завтрева утречком отправимся… И вечером хорошо поет, но утром куда!
Андрей махнул рукой и совсем перевернулся к Сергею, перекинув одну ногу через козлы.
– Ты смотри лошадь, Андрей…
– Ничего-с… Исправник наш смирный, он теперича по прохладе-то шажком и отдохнет… Я нонче утром в четыре часа к нему отправился.
– К кому?
– К соловью-с, в Девкин яр подошел, он и защелкал… уж Ефим Андреич меня ругал, ругал… вот как пужал – инда рубаха взмокла…
– За что ж он тебя ругал?
– А за соловья-с… ровно он на меня чару напустил… стою и слушаю, прихожу домой, ан десять часов… вот как бодрил меня, Ефим Андреич.
– Должно быть, соловей хорош! – рассмеялся Сергей.
– Из Девкина яру-с? Регент просто. И шут его знает, каких, каких только он колен не выкидывает… сперва, знаете, тыркать этак начнет, тырр… тырр… тырр… потом чавканье пустит со свистом, раскатит свист по лесу, конца не видать, а после на манер юлы начнет, фиу… фиу… а потом как вдарит: тр-р-р-р-р… ровно вот серебряные двугривенные по каменному полу рассыплет… тпру! Тпру!
Исправник, заслушавшись рассказов Андрея, свернул с дороги и побрел лесом.
Андрей быстро направил его на путь истинный и хлестнул кнутом.
Лес редел. Сквозь купы деревьев виднелись строения, а на безоблачном фоне неба вырезалась громадная фабричная труба.
– Погоняй, Андрей! – проговорил Сергей.
– Слушаю-с.
– Джемс Иваныч, я думаю, теперь дома, завтракает.
– Теперича? Теперича дома. К им сродственница из англичанской земли приехала в гости.
– Родственница?
– Сродственница. Когда она прибыла, дай бог памяти? Да, в субботу… Жемса Иваныча супруга стречать их на вокзал ездила.
– Ему родственница или ей?
– Доподлинно не умею сказать. Слышал, что племянница, а чья – господь их ведает, известно – нехристи, рази у них разберешь, но барышня чудесная… вчерась я ее на фабрику к Тулупову возил… к тамошнему дилехтору в гости.
Сергей молчал. Он вспомнил о Липе и вздохнул.
– А у нас, Сергей Афанасьич, – продолжал болтливый Андрей, – нехорошее затевается.
– Что такое?
– Да так это… недовольны все… штрахами… ну, и… галдят.
Сергей насторожил уши.
– Ты откуда это знаешь?
– А слышишь тоже, как рабочие говорят, ну и…
– И что же?
– Нехорошо-с. Кому что, а нехристю пуще всех достанется… уж оченно он всех штрахами доел… из долгу ведь не выходят… прямо агличанин без всякой меры орудует.
– Кто же больше всего волнуется? Ты говори мне, Андрей, без опаски, я тебя не выдам.
– Господи, да рази я что супротив вас… жалко мне только… несчастье может произойти, а больше всего ткачи галдят.
– Я так и знал…
– В воскресенье в Девкином яру собралось их человек двести… сперва это песни горланили, хороводы водили, плясали, а я тут прилунился… признаться, соловья своего слушать ходил, ну, и приткнулся… а потом вдруг, гляжу, в кружок все собрались… слышу, говорит кто-то… я через плечи глянул. Весь просто диву дался… Васька Питерец речь держит… слова от него николи не слыхал, а тут вот как рассыпался, все ткачи рот разинули…
– Я его не знаю?
– Как, чай, не знать! Он во втором корпусе под рукой Федула Ермилыча стоит.
– С черною бородой?
– Вот, вот…
– Знаю теперь… Что ж он говорил?
– Не могу знать, потому я сичас бежать вдарился… Шут их знает, влопаешься еще с ими в беду… но думаю так, что агличанину нехорошо может произойти.
Сергей задумался. Эта новость, впрочем, для него не была новостью. Он давно уже ждал этого протеста.
«Отец приедет, – думал он, – изругает рабочих и в результате последствия могут быть гораздо хуже, чем они могли бы быть… и потом Андрей… возможно, что он и переврал, и преувеличил все… надо сперва всмотреться хорошенько самому и потом уж принять какое-либо решение».
Сергея из раздумья вывел стук копыт лошади, грузно ступавшей по деревянному мосту, перекинутому через реку. Он поднял голову и увидал знакомые строения аршиновской фабрики.
Был обеденный час. На улицах, кроме возчиков, везших товар на широких полках на станцию, почти никого не было.
Возчики молча снимали шапки и кланялись Сергею.
– Куда прикажете, Сергей Афанасьич? – повернулся к нему Андрей.
– В контору.
Минуты три спустя дрожки остановились у двухэтажного деревянного дома. Низ был занят конторой, вверху жил директор; рядом с этим домом стоял небольшой одноэтажный каменный домик, в котором обыкновенно останавливались приезжавшие на фабрику хозяева.
Сергей соскочил с дрожек, вошел в низенький подъезд, повернул направо и очутился в конторе, по стенам которой тянулись конторки и шкафы.
В конторе никого не было, все обедали.
Сергей прошел вдоль конторы, повернул налево и вошел в комнату, над дверями которой была надпись «Касса».
В кассе сидел малый лет тридцати, нечто вроде артельщика, и дразнил толстого серого кота, развалившегося на окне.
Увидав Сергея, малый кинулся ему навстречу и чуть не свалил стоявший посредине комнаты стул.
– Ивана Дементьича нет? – спросил Сергей, кивнув головой малому.
– Никак нет-с, Сергей Афанасьич, ушли обедать-с.
– Возьми этот саквояж и передай ему – здесь деньги, – а я пойду к Джемсу Ивановичу.
– Слушаю-с, – торопливо проговорил тот, подхватывая на лету саквояж.
Сергей вернулся назад, поднялся по широкой деревянной лестнице во второй этаж и вошел в открытую дверь.
В передней никого не было. Он сбросил с себя пальто, посмотрелся в висевшее в простенке зеркало и вошел в первую комнату, сплошь заставленную растениями. Меблировка этой комнаты была проста. Вдоль стен тянулись стулья, в углу стояло фортепиано, на гладко выстроганных стенах висели гравированные портреты английской королевской фамилии и Пальмерстона.
Сергей окинул ленивым взглядом знакомую обстановку и прошел в соседнюю комнату.
– Кто тут? – окликнул его по-английски молодой женский голос.
– Я, – отозвался Сергей и столкнулся лицом к лицу с молоденькой, стройной блондинкой с темно-голубыми глазами и крошечным, совсем почти детским, ротиком.
Блондинка взглянула спокойно на Сергея и переспросила:
– Кто же вы?
– Я?.. Сын владельца этой фабрики, Сергей Аршинов, мисс! – проговорил он, улыбаясь и протягивая ей руку.
Блондинка с голубыми глазами жеманно присела.
– Очень рада, – проговорила мисс, протягивая Сергею худую руку с синеватыми жилками. – Алиса Раймунд, племянница мистера Джемса… Вы хотите видеть дядю?
– Да, мисс… Он не спит?
– О нет… я ему сейчас скажу о вас.
– Будьте любезны.
Мисс выпорхнула, шумя платьем, в соседнюю комнату и тотчас же вернулась в сопровождении дяди. Джемс Иваныч был в рабочей кожаной куртке, высоких болотных сапогах и в шотландской шапке, сдвинутой на затылок.
– Молодой хозяин… очень рад, – проговорил он сквозь зубы, ловким движением губ перебрасывая сигару из одной стороны рта в другую, – прошу садиться… моя племянница Алиса.
– Мы уже знакомы, – перебил его Сергей.
– О! – издал восклицание директор. – Алиса, принеси нам кофе.
Алиса исчезла. Директор сел за круглый стол, заваленный альбомами и английскими иллюстрированными изданиями, и вытянул ноги.
Сергей тоже сел и пытливо посмотрел на Джемса Ивановича.
– Все у вас благополучно, Джемс Иванович? – спросил он, закуривая папироску.
– О, ес! – ответил тот, откидывая назад голову и пуская в потолок кольца дыма. – Все идет своим порядком.
– Папа вам просил передать поклон.
– Мерси. Он здоров, надеюсь?
– Совершенно.
– Собирается на фабрику?
– Ничего не говорил.
Англичанин снова перебросил сигару во рту и засунул руки в карманы.
– Вы привезли деньги? – спросил он.
– Да. Я отдал их в кассу.
– Отлично!.. Пойдете посмотреть на фабрику?
– Пойду.
– Отлично. У нас все в порядке. Алиса, скоро кофе?
– Несу, дядя! – показалась та в дверях с кофейным прибором.
– Спасибо, дитя. Поставь на стол и уходи.
Алиса поставила поднос, посмотрела на Сергея и присела. Сергей раскланялся. Алиса ушла.
Джемс Иванович, не торопясь, налил из серебряного кофейника две чашки кофе и потянулся за графином с выпуклою надписью Cognac.
– Рюмку коньяку, Сергей Афанасьич? – вопросительно поднес он графин к чашке Сергея.
– Нет, мерси… не пью.
– Не пьете? Ах да… это Иван Афанасьич любит коньяк, а вы действительно не пьете! – хлопнул он себя с улыбкой по лбу и налил в свой кофе коньяку. – Надеюсь, все здоровы: и Андрей Афанасьевич, и Иван Афанасьевич, и ваша матушка?
– Благодарю вас, все здоровы.
– Отлично.
Джемс Иванович понюхал кофе и залпом опрокинул чашку в рот.
Наступило молчание.
– Вы когда же обратно в Москву? – прервал молчание директор, наливая себе вторую чашку кофе.
– Хотелось бы завтра, но… не знаю, удастся ли… Видите ли, в чем дело, Джемс Иванович, до меня дошли слухи о наших фабричных.
Англичанин вытаращил свои маленькие глазки на Сергея и выплюнул окурок сигары.
– О фабричных? – переспросил он и стал наливать коньяк в кофе.
– Да. Вы, я полагаю, уж об этом слышали?
– Ничего! – невозмутимо проговорил англичанин, посматривая с любовью на графинчик.
– Странно. Вы директор фабрики и не знаете, что делается у вас под носом! – горячо произнес Сергей, нервно помешивая ложечкой кофе.
– О, будьте покойны, молодой хозяин! – спокойно ответил тот. – Я знаю все, что мне нужно знать… Что же касается рабочих, то Россия – не Англия, и русский рабочий – не английский. Если вы намекаете на стачку, то она возможна только там, где заработная плата слишком мала и недостаточна для прокормления семьи рабочего. У нас этого нет. Да и вообще материальное положение русского рабочего в тысячу раз лучше, чем в Европе… Прочтите статистические сведения, и вы сами убедитесь в этом…
– Я и не спорю.
– В таком случае о каких бы то ни было стачках не может быть и разговора… Все это вздор!
– Вы думаете?
– Убежден.
– Может быть, эти слухи и несправедливы, но мне кажется, что все-таки пренебрегать ими не следует…
– Чем же недовольны рабочие?
– Штрафами.
– Старая песня! Рабочий, нанимаясь к нам, добровольно подчиняется фабричным условиям. Не нравятся ему условия – не работай. Насильно никто держать не станет…
– Все это так, но… я слышал, что штрафы чересчур уж, как бы вам это сказать, бесцеремонно налагаются… Вы штрафуете за все и про все… Мне передавали, что рабочий подвергается штрафу даже за то, что он чихнет нечаянно! – иронизировал Сергей.
– Это вздор. И только? Больше никаких причин неудовольствия нет?
– Есть. Главное зло – ваша харчевая лавка, где рабочие обязаны брать все припасы чуть не за двойную цену… и с этим бы они еще могли мириться, если б эти припасы были хорошего качества, а то сплошь и рядом им отпускается такой товар, который прямо надо выбрасывать в окно…
– Припасы должны быть высокого достоинства, а если продают скверные – виноват приказчик, который заведывает лавкой.
– Прогоните его и возьмите другого, более добросовестного…
– Не могу. Приказчик этот находится под особым покровительством Афанасия Ивановича.
– Хорошо, я попрошу отца, чтоб его сменили.
– Скажите. Но все-таки вы напрасно волнуетесь… Если б существовали какие-либо неудовольствия, они давно бы были мне известны… Мне кажется, это не более и не менее как сплетни, созданные моими врагами… О, эти враги! Я смеюсь над ними! – заключил директор, допивая кофе и вставая с кресла.
Сергей тоже поднялся.
– Вы куда? – спросил его Джемс Иванович. – Не хотите ли пройтись со мной по фабрике, чтобы убедиться в нелепости глупейших слухов?
– С удовольствием.
Сергей часа два ходил по фабрике и ушел к себе более или менее успокоенным. Ни один из рабочих не заявил ему неудовольствия, напротив, все с довольною улыбкой раскланивались с молодым хозяином и охотно удовлетворяли его любопытство относительно работ. Только один ткач, которого фабричные звали Васькой Питерцем, отвернулся от Сергея, когда тот проходил мимо него, и сделал вид, что не замечает молодого хозяина.
Сергей приписал этот случай чистой случайности и, придя в свое помещение, засел за обед, приготовленный стариком-поваром, уволенным за старостью барином-помещиком и нашедшим приют на фабрике Аршинова.
После обеда он прилег на диван и унесся мыслями в Москву.
«Чем кончатся смотрины Липы? Что скажет она? Что сделает отец?»
Тысячи вопросов закопошились у него в голове, и ни на один не нашлось ответа.
«Как можно скорей в Москву! – решил он. – Завтра же с вечерним поездом уеду… утром раздадут деньги – и марш!»
Скрипнула дверь. Сергей поднял голову и увидал заглядывавшего Андрея.
– Взойди, Андрей, я не сплю, – сел Аршинов на диван.
– Может, вздремнули бы.
– Нет, я так прилег, ходил по фабрике, устал немного… да ты взойди…
Андрей вошел, затворил за собой дверь и остановился в нескольких шагах от Сергея.
– Изволили говорить с Жемсом Иванычем? – таинственно проговорил Андрей, озираясь на открытые окна.
– Говорил, как же… Джемс Иванович не верит.
– Где же ему верить! – засмеялся Андрей. – Гордый человек и больше ничего-с… Самолюбец.
– Да верно ли ты, Андрей, слышал?.. Может быть, рабочие так толковали о разных пустяках…
– Господи! Своими ушьми слышал… По моему рассуждению, Сергей Афанасьич, вам у нас денечков пяток прожить следует…
– Я завтра хотел ехать в Москву.
– Обождите-с. Завтрашнего дня выдача будет, может, что и объяснится в эвто время-с…
– Думаешь, обождать?
– Обождите-с. Рабочие все вас любят и противу вас никакого неудовольства не имеют, стало быть, вы их во всякое время уговорить можете…
Сергей задумался.
«Несколько дней прожить… а там, в это время, может быть, решится вопрос о моем счастье… Остаться я все-таки должен во что бы то ни стало… Бог знает, что может произойти… без меня!»
– А без вас тут, – проговорил Андрей, как будто бы отвечая на мысль Сергея, – такая каша может завариться, что и Жемсу Иванычу не расхлебать…
«Останусь… дня три-четыре подожду, и, если в это время ничего не случится, могу уехать со спокойною совестью», – подумал Сергей и велел Андрею поставить самовар.
– Готов-с! – доложил тот. – Я как приехал с вами, в тот же секунд самоварчик взбодрил… сию минутую распоряжусь-с…
Распорядился Андрей действительно быстро: не прошло и пяти минут, как самовар, пыхтя и ворча, кипел на столе, окруженный, как наседка цыплятами, чашками и прочими атрибутами чаепития.
– Заварить прикажете, Сергей Афанасьич? – спросил Андрей, запуская руку в конвертик с чаем.
– Завари.
– Слушаю-с.
Андрей загремел чайником, тряхнул головой и покосился на Аршинова.
– Жемсову племяшку-то видели? – справился он, подставляя чайник под кран самовара.
– Видел! – улыбнулся Сергей. – А что?
– Ничего-с, барышня, по видимости, аккуратная.
– Особенного ничего в ней нет.
– По-моему, тоже, особенностей-то в ей никаких, Сергей Афанасьич! – авторитетно проговорил Андрей и, завернув кран, с шумом проехался чайником по подносу.
– А тебя она, должно быть, очень интересует? – продолжал улыбаться Сергей.
– Арина Васильевна-то?
– Какая Арина? Алиса она.
– По-нашему, Арина-с… и куфарка Жемсова сичас ее Ариной величает, и Гаврила, который у их прислужающий… Барышня, можно сказать, совсем поджарая-с… все одно, по-моему, что лошади ихние: стати есть, а корму ни шиша! Тоща-с!
– Да тебе-то, Андрей, какая печаль, тоща она или жирна?
Андрей осмотрелся и подлетел к Сергею.
– Да ведь они, Жемс Иваныч-то, для вас, собственно, Арину-то Васильевну выписали.
Сергей расхохотался:
– Как для меня? Что ты чушь городишь?
– Ей-богу-с… и куфарка ихняя, и Гаврила, который прислужающий, то же самое говорят.
Сергей нахмурился.
– Если это шутка, так очень глупая шутка.
– Какие шутки, помилуйте! – замотал головой Андрей, словно обижаясь на недоверчивость Сергея. – Всурьез для вашей милости выписана… намедни я с Гаврилой как-то разговорился… грешным делом, зашли с ним «под елку» и всю душу наизнанку выворотили.
– Что же говорил тебе Гаврила? – поинтересовался Сергей, подсаживаясь к самовару и наливая себе стакан чаю.
– Про разное-с, а там и хозяев коснулись… ну, тут Гаврила все начистоту выложил. Ишь сам-то, Афанасий Иваныч, сколько раз, быдто насчет вас тоись разговоры разговаривал.
– Что же именно?
– Разное-с, – уклончиво проговорил тот, – только промежду прочим такое быдто слово произнес, дескать, ученый он у меня, так думаю я его ученой какой ни на есть женить… А Жемс-то Иваныч быдто на это и говорит: «Есть, – говорит, – у меня племянница ученая, на разных языках может и всякую еографию знает», ну, Афанасий Иваныч на это и говорит Жемсу Иванычу: «Выписывай, – говорит, – может, мой дура…» Кхе, кхе… виноват!
– Не стесняйся, пожалуйста, – вспыхнул Сергей, наклоняясь над стаканом, – ты меня ничем не удивишь.
– Виноват-с… это Гаврила, а не я-с, ну, известно, Жемс Иваныч-то и возрадовался, сичас же телеграмму задвинул: приезжай, Ариша! Конечно, англичанину лестно-с.
Горько стало на душе Сергея. Он понимал, что отец, в силу известных одному лишь ему причин, мог не любить его, даже мог презирать, если он такое презрение заслужил чем-нибудь, но дискредитировать его в глазах целого света, относиться к нему, как к постороннему человеку, – он этого не мог понять.
Сергей пережил многое: чуть не каждый день он встречал от отца и братьев одни только обидные насмешки да упреки в какой-то «учености», о которой они, конечно, не имели ровно никакого понятия, смешивая каждого грамотного, мало-мальски любящего книгу человека с «ученым», этим пугалом замоскворецкого невежества и ханжества.
Он много перечувствовал, живя в семье, где, кроме матери, женщины с любящим сердцем и гуманным взглядом, были все чужды и его сердцу, и его уму; но такого оскорбления он не ожидал.
Его судьба решилась заранее; ему, как «ученому дураку», выписывалась такая же «ученая дура», и об этом говорилось, не стесняясь прислуги, и где же? На фабрике, где сын хозяина, заменяя зачастую самого хозяина, должен быть авторитетом, которому беспрекословно подчиняются целые тысячи муравьев громадного муравейника, называемого фабрикой.
Сергею стало душно. Он залпом выпил стакан и подошел к окну, выходившему в сад.
Облокотившись на подоконник, он долго сидел, погруженный в раздумье, из которого вывел его посланный от директора с приглашением на «вечерний чай».
– Поблагодарите Джемса Ивановича, я уже чай пил, – проговорил Сергей, вставая, – и потом… я устал.
Посланный ушел.
Сергей прошелся по комнате и наткнулся на Андрея, стоявшего недалеко от окна в позе «ожидающего приказаний».
– Ты здесь еще, Андрей?
– Здесь-с… где ж мне быть, как не возле вас? – размахнул тот руками. – Прикажете убирать самовар?
– Убирай.
Андрей потоптался на месте и затем, схватив с налета самовар, повернулся к Сергею.
– А соловья мово, Сергей Афанасьич, нонче не послушаем-с?
– Нет, Андрей, я устал… не могу… завтра утром, если хочешь.
– Слушаю-с. Утром даже лучше-с.
– Ну вот и отлично. Я отдохну, как следует. Кровать мне приготовлена?
– Все, как следует, в аккурате… Утром, как можно, ежели ясное утречко, вот какую руладу пустит – растаять можно, ей-богу! – улыбался Андрей, сверкая и глазами, и зубами.
– Отлично! – улыбнулся Сергей, с удовольствием смотря на своего Андрея, обвороженного соловьем. – Завтра утром ты меня и разбуди.
– Разбужу-с, помилте, как для такого случая не разбудить? Только вы сичас ложитесь спать, а то не выспитесь.
– Высплюсь, не беспокойся. Рано ли твой певун просыпается?
– Соловей-то? В четыре утра-с.
– Раненько!
– Птица аккуратная, Сергей Афанасьич, у ей все вовремя, не так, как у людей, справедливая птица.
– Так в четыре часа меня и разбуди.
– Беспременно-с, мне, главное, ваше мнение насчет соловья дорого, а не токма что, и опять же, ежели утро настоящее будет, – рай в лесу-с! Люблю я лес, Сергей Афанасьич, летом, не ушел бы, кажись, из него.
– Ты очень любишь природу, как я вижу.
– Да, уж насчет природы в лесу раздолье-с… и травка всякая, и козявка мудреная, и птичка… вы видали, как лес просыпается?
– Не видал.
– Посмотрите-с, и зимой лес хорош, в особливости как он заиндевеет. Чистый чертог-с, но летом для глазу приятнее много. Летом, как можно! Зайдешь в лес, сядешь, а кругом тебя всякая животная Бога хвалит, инда слеза пробьет. Так я в четыре вас побужу, можно-с?
– Пожалуйста.
– Слушаю, будьте покойны. Окна закрыть прикажете?
– Зачем?
– Я сам так думаю, что прохладнее будет… Спокойной ночи, Сергей Афанасьич!
Андрей, широко размахивая локтями, вышел из комнаты.
Сергей долго сидел у стола, обдумывая происходившие события и вспоминая свою дорогую Липу, и только когда уже стало совсем темно, он разделся и бросился в прохладную постель.
Разбудил Сергея фабричный свисток. Он встал с постели, подбежал к окну и выглянул на площадь. Горизонт горел, освещаемый лучами всходившего солнца, хотя над фабрикой еще висел предрассветный сумрак.
С востока тянул легкий ветерок и мало-помалу разгонял тени проснувшегося утра.
Сергей жадно потянул прохладный, сыроватый воздух и отошел от окна, невольно вздрагивая от ветерка, забравшегося к нему за ворот ночной сорочки.
– Половина четвертого, – проговорил он, посматривая на часы, – скоро и Андрей придет… надо одеваться…
Он накинул на себя отцовский халат и подошел к окну, выходившему в сад.
В саду царила тишина. Только несколько воробьев чиликали лениво на ветках акаций да гудел свисток, созывая рабочую силу на труд.
Сергей долго прислушивался к монотонному пенью свистка, затем умылся, надел длинные сапоги, фуражку и вышел на крыльцо.
– Батюшки, Сергей Афанасьич, ужли встали? – словно вырос из земли Андрей, протирая кулаком заспанные глаза.
– Как видишь, Андрей…
– Скажите на милость, чему такую оказию приписать?
– Свистку. Слышишь?
– Понимаю-с. Которые не совсем к нему привычные – проснутся беспременно… Самоварчик взбодрить не прикажете?
– Хорошо бы… да не поздно ли будет?
– Ничего-с, поспеем… я с вечеру Степанычу наказывал, может, забыл по старости лет… Эй, Степаныч… дрыхнешь, что ль? – отворил Андрей заднюю дверь, пролетев метеором коридор.
– Вона! – раздался за дверью старческий голос. – Да я уж пять раз «Богородицу» с «Отче нашим» прочел…
– Богобоязненный ты у меня, сичас провалиться! – похвалил Степаныча Андрей. – А самоварчик взбодрил?
– Вона! – ответил тот тем же тоном. – Кипел, кипел… два раза углей подсыпал…
– Золото ты у меня, старичок, ей-богу… давай его сюды… Сергей Афанасьич, – подлетел он к молодому хозяину, задумчиво смотревшему на черный столб дыма, подымавшегося к небу красивою дугой из фабричной трубы.
– Что, Андрей?
– Готов-с. Пожалте чай кушать! – проговорил тот, исчезая.
Сергей выкурил папироску и, когда вошел в столовую, увидал на столе самовар и Андрея, наливавшего ему в стакан чаю.
– Пожалте, Сергей Афанасьич, вот сливки-с, а вот и булочки, тепленькие-с. Степаныч для вашей милости собственно постарался.
– Спасибо. Да ты налей себе-то чаю.
– Не пью-с.
– Как не пьешь?
– Не балуюсь-с. Матушка, как меня на фабрику в услужение отпущали, так зарок на меня положили: чтобы отнюдь я ни вина, ни чаю не пил.
– Вот как!
– Так точно-с, потому вино душу губит, а чай – сердце сушит-с… не потребляю-с.
– И ты ни разу не нарушил этого зарока?
– Помилте, как же я могу супроти родительницы? Покедова родительница жива – ее воля завсегда надо мной, зачем же я грех на душу стану брать?
– Вот ты какой, Андрей, я этого вовсе и не ожидал, говорят, фабричная жизнь портит людей.
– Портит-с. Малодушных-с. А у кого сичас совесть не пропала – ни за что такого человека фабрика испортить не может. Пиво я пью, это точно, и то потому, что родительница на пиво зарок не положила.
– И пивом можно душу погубить! – рассмеялся Сергей.
– Никак не возможно-с, да какой же в пиве хмель? Тьфу, и больше ничего! Выпьешь три бутылки, раздует всего, а в голове, окромя веселости, никакого хмеля, ей-ей-с… Еще прикажете стакашек?
– Нет, не хочу… пойдем.
– Пойдемте-с.
Андрей скатился с лестницы, крикнул: «Степаныч, убери самоварец-то!» – и в секунду очутился на улице, напяливая на дороге на свои плечи что-то вроде «спинжака».
– Мы через парку пройдем, Сергей Афанасьич! – говорил он, завертывая в переулок. – Максимыч, по воду, что ль? – крикну и он старику, ехавшему с бочкой.
Мужик раскланялся с Сергеем, хлестнул лошадь и, повернувшись на сиденье, ответил Андрею:
– По воду… Жемсу Иванычу.
– Дилехтуру? Валяй, Максимыч! Он те награду за это: штрах в книжку! Старайся, – разрешил Андрей и, спохватившись, закрыл рот рукой. – Виноват-с, Сергей Афанасьич!
– Ничего, меня, пожалуйста, не стесняйся, – ответил Сергей и последовал за Андреем, быстро зашагавшим по парку.
– Это малиновка-с, Сергей Афанасьич, слышите?
– Слышу.
– А это пеночка плачет… создал же Господь Бог такую птицу… и в радости, и в горе – все хнычет.
Сергей засмеялся.
– Право-с, – подтвердил Андрей. – И люди такие есть-с: дай ты им хушь мелион, все на свою долю плачутся. А в кукушку вы веруете, Сергей Афанасьич?
– Не верую, – смеялся Сергей.
– Напрасно-с. Кукушка правильно предсказывать может.
– Глупости, Андрей.
– Зачем глупости? Я сам допрежде в кукушку не веровал, ну, только пришел такой час, что поверил окончательно.
– В какой же ты час кукушке поверил?
– Да уж известно, не в добрый-с. Собирали мы как-то грибы в лесу с ребятами. Мне в те поры лет четырнадцать было, не больше. Слышим: кукушка кукует; ну, все и давай загадывать, сколько кому годов на свете жить. Загадал и я: считал, считал и счет потерял. Ребята даже смеяться зачали: «Кощей, – говорят, – ты у нас Бессмертный будешь». Только я возьми да и крикни: «Кукушка, кукушка, сколько моему батюшке лет жить?» И что же бы вы думали, Сергей Афанасьич: кукукнула, проклятущая, два разика и смолкла. Я опять ее пытать – и сызнова кукукнет два разка и замрет. Прихожу домой с грибами и говорю матушке: «Так и так, родительница, нашему батюшке всего только два годка жизни осталось». – «А ты это, Андрюшка, – говорит, – откуда знаешь? Что ты за пророк такой?» – «И не я, – говорю, – матушка, пророк, а кукушка. Кукушку насчет батюшкиной жизни спрашивал» Ну, тут, известно, родительница за такую штафету давай меня пужать хворостиной – и здорово попужала…
– И следовало.
– Да уж как следовало-то, и говорить нечего… Только что же, вдруг, Сергей Афанасьич, ровно через два года, день в день, батюшка дух испустил… Вот тут и не веруй!
– Случайность и больше ничего.
– Случайность? Хорошо-с. Я это дозволяю. Прошлым летом со мной сичас какой случай вышел: иду я это Девкиным яром, и вдруг кукушка: ку-ку, ку-ку. Я ей и крикни маханально-с: «Кукушка, сколько лет мне холостому быть?»
– Ну, и что же твоя кукушка на это? – улыбался Сергей.
– Кукнула раз, и шабаш! Я вдругорядь ей вопрос, и в третий. Кукнет однова – и аминь!.. Аспид, а не птица-с!
– Постой, это было прошлым летом?
– Прошлым-с.
– Год прошел?
– Невступно-с.
– Все равно. Невесты у тебя нет?
– Нету-с.
– Значит, твоя кукушка соврала.
– Никак нет-с! – вздохнул Андрей.
– Вот тебе раз, я тебя не понимаю, Андрей.
– Эх, Сергей Афанасьич! – махнул рукой тот и потупился. – Вам сказать я могу-с, потому душа у вас ласковая да до нашего брата доходчивая… в Машутку я врезамшись, вот оно-горе-то кукушкино!
– В какую Машутку?
– Слесаря Семена Петрова дочь. Тоись так я в ее врезамшись, Сергей Афанасьич, что мне одно теперича осталось: либо под венец с ней, либо на сук, который понадежнее супроти других.
– Вот оно что! – протянул Сергей.
– Так точно-с. Без браку, как я сичас гляжу, не обойдешься. А вы говорите, в кукушку нельзя веровать! Нельзя не веровать, Сергей Афанасьич, как она, проклятая, скажет, так, значит, тому и быть.
– А она-то тебя любит, Андрей? – полюбопытствовал Сергей.
– Какого же ей рожна еще? Известно, любит.
– Говорила, значит?
– Про что-с?
– Что любит тебя?
– Ну вот, тоже скажете… да рази у этого идола добьешься резону? Долбня, а не девка.
– Да почему же ты думаешь, что она тебя любит?
– Господи! Да неужто я не вижу? Такие с ейной стороны поступки со Святой пошли, что все ребята Машуткину любовь заметили. Дерется-с!
– Вот те на! Как дерется?
– Известно, ручищами. Подойдешь это к ей поговорить, скажешь слово, она тебя вдруг ни с того ни с сего – хлясть… И ручища же у Машутки, Сергей Афанасьич, недаром у ей отец в слесарях, все одно что молот. Намедни так меня по спине огрела, что цельную неделю плечо пухло… сичас провалиться! Встретился я с ей опосля и говорю: «Марья Семенна, будьте настолько добрые, деритесь полегче, потому у меня спина на манер подушки вздулась», а она в ответ что же-с: «Я, – говорит, – тебя, лешего болотного, еще и не так уважу, дай только срок!» Как не любить, Сергей Афанасьич, любит-с!.. А вот и Парашин луг-с.
Сергей с Андреем вышли из парка и остановились перед зеленеющим лугом, покрытым росой. В полуверсте чернелся Девкин яр, обвитый туманом, поднимавшимся с луга и речонки, разрезавший красивыми зигзагами лес и луга.
– А где же солнце? – спросил Сергей.
– А оно вон за облачко спряталось, – ответил Андрей, повертывая голову налево.
Сергей тоже повернулся.
На далеком горизонте плыло темное багровое облако, совершенно закрывшее своими прихотливыми очертаниями всходившее солнце. Только гребень облака трепетно сверкал серебром и, дрожа от горячих поцелуев лучей, таял, как дым, в воздушном пространстве и переливался разноцветными волнами.
Сергей залюбовался на эту картину. Было что-то волшебное в красках облака, умиравшего в объятиях солнца… Вот оно стало светлее, прозрачнее. Темно-багровые краски мало-помалу перешли в нежно-розовые, а гребень заалел, как личико девушки, в первый раз поцеловавшей милого ее сердцу… Еще момент – и из-за гребня брызнул миллион бриллиантов, разлетевшийся по всему горизонту.
– Ах, какая прелесть! – вскрикнул Сергей, хватаясь за руку Андрея.
– Хорошо-с, но я видал много чудеснее-с! – ответил тот.
– Лучше этой картины ничего быть не может.
– Бывает-с. Я раз, Сергей Афанасьич, какую историю на восходе видел-с… Облачко так же вот зашло, заслонило солнышко… Только вдруг посереди облака дыра обозначилась, вроде окошка-с…
– Понимаю.
– Так солнце в эвто окошко такую луч пустило, что я даже замер на месте-с… Ей-богу… Красота! Кругом, понимаете, темь, а в эвто окошко все одно, что сноп разных цветов, и как быд-то в эвтой луче ангелы крылышками трепетают-с… Осияние полное, и переливы притом. Пал я это наземь и плачу, вот как плачу, Сергей Афанасьич, слезы, ровно у рабенка, в три ручья… Уж оченно божественно вышло-с, и сичас, как представлю эвту картину, так на душе сладость какая-то… А вот и солнышко вдарило!
Солнце, действительно, залило светом луг, который засверкал миллионами искр.
Сергей с Андреем пошли по этому ковру и быстро достигли опушки Девкина яра.
Андрей свернул вправо и, поднявшись на отлогое взлобье яра, крикнул отставшему от него Сергею:
– Проснулся уж, Сергей Афанасьевич, и руководствует!..
Сергей вбежал на пригорок и сел на сваленную дряхлостью березу.
Шагах в пятнадцати от них, в кустах калины, щелкал соловей.
Андрей, весь отдавшись наслаждению, наклонился вперед и замер.
Сергей рассмеялся на смешную фигуру своего спутника и закурил папиросу.
Соловей оказался действительно настоящим артистом и рассыпался удивительно замысловатою трелью.
– Каков, Сергей Афанасьич? – прошептал Андрей, подходя на цыпочках к Сергею, словно боясь неосторожным движением спугнуть певуна.
– Превосходный певец! – ответил тот.
Андрей расплылся в блаженную улыбку и зажмурился.
Соловей щелкал долго и, кончив отчаянно-трескучею руладой, смолк.
Андрей сдернул с головы картуз, хватил им по березе и плюнул.
– Тоись такого подлеца, Сергей Афанасьич, помрешь, а не услышишь… один во всем мире… На том конце яра другой есть… хорош, слов нет, но супроти эвтого не выдержит ни в жисть!..
Солнце взошло довольно высоко и сильно припекало, когда Сергей с Андреем вернулись домой.
– Однако восемь часов уже, – проговорил Сергей, подходя к дому.
– Восемь? А у меня пролетка не мыта… В девять надо супругу Андрея Ефимыча на вокзал везти, и задаст же мне теперича Андрей Ефимыч феферу, вот какого соловья пропоет, и Девкин яр забудешь!
Андрей бегом припустился по улице, а Сергей, утомленный четырехчасовою прогулкой, прошел в садик, прилегавший к дому владельца фабрики, и разлегся на скамейке в беседке.
Незаметно он заснул под щебетание птиц, порхавших по кустам, и проспал до тех пор, пока его не разбудил все тот же Андрей, на этот раз выглядевший мокрой курицей.
– Сергей Афанасьич, двенадцать часов-с! – говорил он, теребя Сергея за руку.
– Разве? – вскочил тот. – Однако я заспался…
– Пожалте к Жемсу Иванычу, просить велели.
Сергей подумал. Ему очень не хотелось идти к директору, в особенности после того, как он узнал, что для него специально выписана из Англии Алиса.
– Глупо это, ужасно глупо, – бормотал он, потягиваясь, – как будто бы я боюсь ее!
– Завтрак, Гаврила сказывал, совсем особенный для вашей персоны заказан, – доложил унылым голосом Андрей.
– Особенный? – усмехаясь, переспросил Сергей.
– Так точно-с, вчерашний день к вечеру повариху-англичанку с Тулуповской фабрики от тамошнего дилехтура привезли…
Сергею стало смешно. Он посмотрел на Андрея и удивился кислому настроению соловьиного охотника.
– Что с тобой, Андрей?
– От Андрея Ефимыча досталось, – почесал тот в затылке, – возил, возил по каретному сараю, инда дурь взяла…
– И все за соловья?
– Из-за его, проклятого… Пожалте к дилехтуру! – крикнул Андрей сердито, словно Сергей именно и был тем соловьем, за которого его Андрей Ефимыч возил по каретному сараю.
Сергей, улыбаясь себе под нос, поднялся со скамейки и направился к «дилехтуру».
Директор накормил Сергея на славу. В течение всего завтрака Алиса строила гостю глазки и усиленно подливала старый херес, от которого сам директор приходил в телячий восторг, закатывая глаза и облизывая губы. Сергей, после утренней прогулки, плотно поел, выпил рюмку прославленного хереса и, считая свою миссию оконченною, поднялся из-за стола тотчас же, как только поднялся сам хозяин.
Джемс Иванович сделал было попытку оставить Сергея поболтать с Алисой, но тот, отговариваясь усталостью от прогулки, ретировался, улыбаясь и целуя ручку у Алисы.
Алиса, краснея, поцеловала его в темя и пригласила к обеду.
Сергей пробормотал на это приглашение что-то вроде «постараюсь» и вышел вместе с директором, торопившимся на фабрику.
– Вы куда теперь намереваетесь? – спросил у него Джемс Иванович, пуская тонкие струйки сигарного дыма.
– Кажется, пойду спать, – ответил Сергей, чтоб отделаться от англичанина.
– Прекрасно, – кивнул тот сигарой, – сон – отличное средство для пищеварения… легкого вам сна! Не забудьте, мы обедаем в шесть.
– Если я не уйду куда-нибудь, – с удовольствием, – проговорил уклончиво Сергей и, пожав руку директору, зашел в контору.
В конторе, когда вошел туда Сергей, стоял гул от голосов конторщиков и косточек, выбивавших на счетах отчаянно-торопливую дробь.
При появлении Сергея гул замер, словно по мановению палочки волшебника. Все конторщики наперерыв бросились навстречу Сергею и, пожимая ему руку, справлялись об его здоровье.
Сергей поздоровался со всеми и прошел в кассу, где толстый рыжий кассир, в цветной ситцевой сорочке и парусинном пиджаке, сидел за своим столиком и пил короткими, но глубокими глотками квас со льдом.
– Здравствуйте, Иван Дементьич! – протянул Сергей руку толстяку.
– Здравствуйте, Сергей Афанасьич! – грузно приподнялся тот со стула. – Прошу садиться… Жарко-с!
– Отпиваетесь? – мотнул тот головой на графин с квасом.
– Облегчаюсь, так сказать. Прошу садиться.
– Деньги верны?
– Разумеется. Ну, что у вас в Белокаменной нового?
– Ничего, конечно.
– Папаша и… как их… намедни прочитал в газетах хорошую итальянщину… тутти, тутти…
– Tutti quanti? – рассмеялся Сергей.
– Се вре-с! – подтвердил толстяк, произнося с умыслом вместо «врэ» – «вре».
– Все благополучны. Вы тут как?
– А что нам делается, – беззаботно махнул рукой кассир, – живем по народным российским присловицам: день да ночь – сутки прочь, лег – свернулся, встал – встряхнулся… Квасу не хотите ли? Чудодейственный!
– Чем же это?
– И пот гонит, и равнодушие к жизни наводит…
– Разве?
– Попробуйте, – пододвинул кассир графин к Сергею. – От жары, знаете, – продолжал кассир, – кровь волнуется, приливает к мозгу и заставляет его работать, а квас, кристальным ледком угобженный, реакцию производит…
– В желательном направлении?
– Именно-с, Сергей Афанасьич; перестаешь думать и благодушно начинаешь упражняться в плевании в потолок.
– Это хорошо, – иронизируя, проговорил Сергей.
– Да уж на что лучше, – продолжал тот в том же духе, – рай Магометов, да и только.
– Значит, живется хорошо?
– Хорошо. И будем мы так жить до той поры, пока мыши наши бездумные головы не откусят.
– А есть все-таки мыши? – нахмурился Сергей.
– И большое количество-с. – Толстяк покосился на артельщика, стоявшего у окна и с любопытством вслушивавшегося в разговор Сергея с кассиром, и залпом выпил стакан квасу. – И, смею вам доложить, Сергей Афанасьич, – продолжал свою аллегорию кассир, – что в самом недалеком будущем эти мыши нам головы отгрызут неукоснительно, ибо оные мыши весьма недовольны котом, который лопает их зря и без счету…
– Нехорошо, – покачал головой Сергей.
– Коту-то? Полная finita-c, по-моему… И по заслугам; не блуди!
– Следовало бы его предупредить.
– Сколько раз предупреждали, – отмахнулся толстяк, – и слышать ничего не хочет… умнее себя никого не считает и на всех с презрением взирает.
– Напрасно.
– Все так думаем, а кот ничьему гласу не внимает… а мыши головы подымают, и весьма даже гордо-с…
– Слышал я… неужли сам этого не знает?
– Московский-то? Вот на!.. Да ведь он что же, он на все глазами кота смотрит. Хороший, дескать, кот, никакого мышиного возмущения не допустит… большая ошибка-с: убедятся они в этом, да будет уж поздно-с…
Сергей помолчал.
– Раздачи еще не было?
– Вечером будет. Надолго к нам?
– Не знаю. Думаю, что завтра или послезавтра уеду.
– Так-с. Все-таки, на всякий случай, предупредите родителя.
– Непременно, непременно… а пока до свидания.
Сергей простился с кассиром и отправился бродить по улицам. Везде было тихо и безлюдно, разве только какая-нибудь баба, утешая разоравшегося ребенка, вынесет его на улицу и начнет пугать или прохожим нищим, или бежавшей мимо собакой.
Возвращаясь домой, он увидал стоявшего на крыльце Андрея, махавшего ему обеими руками.
– Что, Андрей, случилось? – поторопился Сергей, ускоряя шаг.
– Да ничего особливого, Сергей Афанасьич, окромя письма, которое сичас на ваше имя донесли со станции.
Андрей достал из кармана «спинжака» письмо и подал его молодому хозяину.
– От отца, – проговорил он, взламывая сургуч и доставая из конверта вчетверо сложенный листок бумаги.
Сергей сел на скамейку, стоявшую у крыльца, и стал читать письмо.
«Любезный сын Сергей! – писал старик. – С получением сего письма распорядись о немедленной отправке в Москву товара (тут следовало название и количество товара), а затем, по моему мнению, лучше всего будет, ежели ты останешься на фабрике некоторое время, потому, во-первых, что твое дело здесь и конторщик Григорьев завсегда может исправить, а во-вторых, фабрику без всякого надзору оставлять не след; я англичанину не очень доверяю, а ты парень неглупый, можешь видеть, как дело идет, и ежели что неправильно, немедля отпиши и свое мнение по этому случаю. Так будет лучше и мне спокойнее. Мать тебе кланяется и посылает родительское благословение. А чтоб тебе лучше было наблюдать за директором, бывай у него почаще, я уж об эвтом ему писал, чтобы тебе не было скучно… Твой отец Афанасий Аршинов».
Сергей вспыхнул и затем побледнел.
Он сразу понял отцовскую механику. Его под благовидным предлогом удаляли на фабрику затем, чтоб он не мешал в Москве сватовству брата, а здесь, на фабрике, посещая ежедневно директора и сталкиваясь невольно с Алисой, он от одной только скуки мог увлечься ею и невольно сделать то, чего хотел старик Аршинов.
– За какого же он меня, однако, дурака считает! – с горечью проговорил Сергей, разрывая на сотни кусков отцовское письмо. – Воображает, что я поверю ему и прельщусь его доверием. Доверие! Хорошо доверие! Быть шпионом директора! Господи! Да когда же, когда я вырвусь из этого проклятого болота! Бежать, бежать без оглядки из темного леса. Идти в дворники, в поденщики, в бурлаки, только бы не знать этих каждодневных оскорблений и подлостей! А Липа? Бедная моя! Что с тобой они теперь делают? Одна, без воли, без защиты. Я, кажется, с ума сойду! С ума сойду! – простонал Сергей, входя в свою комнату и бросаясь на постель. – Надо написать ей! – вскочил он, подбегая к столу. – Пошлю это письмо Аркадию Зиновьичу, а тот передаст его.
– Сергей Афанасьич! – проговорил Андрей за спиной Сергея.
– Андрей? – повернулся тот. – Это ты? Голубчик, я напишу письмо, а ты снеси его на станцию и отправь в Москву.
– Слушаю-с.
– Приди чрез полчаса, не мешай мне.
– Слушаю-с. Только там сичас, Сергей Афанасьич, от ди-лехтура пришли.
– Что ему от меня нужно?
– А как же-с, насчет обеду-с… Кушать просят-с.
– Пошли ты, Андрей, всех их к черту… Слышишь?
– Слушаю-с. Это я могу с удовольствием.
– Скажи, что я занят, сыт и, вообще, не пойду к ним.
– Слушаю-с. Да уж я их вот как уважу, пущай чувствуют, потому Степаныч в большой обиде, готовил вам обед, а вы к дилехтуру…
Андрей повернулся и вышел, размахивая руками:
– Вот тебе и тулуповская повариха, не заладила! Да где ей супротив нашего Степаныча! Не выстоит!
«Дорогая моя! – писал Сергей Липе по уходе Андрея. – Нужно ли писать тебе о том, что я люблю тебя и как люблю тебя. Твое сердце лучше и больше всяких писем знает и чувствует всю беспредельность и глубину моего к тебе чувства. В моей душе, в моем сердце нет ни одного уголка, который не был бы занят тобой, моя неоцененная Липа. Мои губы и во сне, и наяву шепчут всегда только три слова: „Я люблю тебя“. Я счастлив, любя тебя, и хочу быть счастливым на всю жизнь… Неужели ты сама этого не хочешь? Надо бороться, моя дорогая, и биться за свое счастье до последнего вздоха. Впрочем, твое сердце подскажет тебе, что надо сделать для того, чтоб завоевать это счастье. Я верю тебе и жду той минуты, когда мы, может быть, и измученные борьбой, но счастливые, как никто в мире, подадим друг другу руки и скажем друг другу на людях: „Я люблю тебя!“»…
Прощай, мой ангел, мое счастье, моя жизнь. Люблю тебя, верю и схожу с ума от тоски.
Твой Сергей».
Сергей перечитал наскоро письмо и хотел было разорвать его и написать новое, в котором он должен был уведомить Липу о том, что его умышленно удалили на фабрику, но раздумал, вполне уверенный в том, что Липа и без этого поймет махинацию, устроенную их родителями.
Письмо это Сергей вложил в коротенькую записочку к Подворотневу и, отправив его с Андреем, засел обедать.
Ел он мало, едва дотрагиваясь до кушаний. Неотвязные мысли лезли в его голову и расстроили нервы до крайности.
Чтоб развлечься немного, Сергей отправился прогуляться в парк и наткнулся на Алису, которая шла к нему навстречу с букетом луговых цветов.
Волей-неволей он должен был беседовать с ней и затем отправиться к Джемсу Ивановичу на вечерний чай.
Посылая ко всем чертям и директора, и его жеманно улыбавшуюся племянницу, Сергей скрепя сердце просидел, почти не разевая рта, чуть ли не до десяти часов вечера и был рад-радехонек, когда его, наконец, отпустили домой.
– Снес-с, Сергей Афанасьич! – встретил его на крыльце Андрей.
– Спасибо, Андрей. Покойной ночи!
– Баиньки, значит? – справился Андрей, скаля зубы. – Что ж это ж, это дело доброе, спокойной ночи, приятного сна-с!
– Спасибо.
– Никаких приказаний от вас не будет-с?
– Нет, Андрей… Впрочем, если я просплю, разбуди меня пораньше.
– Часов в восемь, что ль-с?
– И в семь можешь, – хочу завтра, если хороший, ясный день будет, прогуляться в Осиповский лес. Говорят, там красивые места есть, а быть не пришлось.
– В Осиповском лесу-с? – с недоумением проговорил Андрей. – Какая уж там красота-с, глушь одна.
– Да?
– И притом ни одного соловья не жительствует, какая уж эта местность!
– Все-таки пройдусь, тебя с собой возьму.
– Покорнейше благодарю-с, только я нонче, накануне, значит, предупрежу Андрея Ефимыча насчет острастки.
– Какой острастки?
– А насчет волосьев-с. А то они, Андрей Ефимыч-то, не разобрамши дела, вскинутся и зачнут взыскивать.
– Ах да, предупреди! – улыбнулся невольно Сергей, вспоминая утреннюю физиономию Андрея.
Андрей пробурчал еще какое-то пожелание своему молодому хозяину и растаял в сгустившихся сумерках вечера.
Сергей лег спать. Он не помнил, когда и как он заснул, но спалось ему скверно.
Всю ночь ему снилась Липа, бледная, с заплаканными глазами; она протягивала к нему руки и молила о защите.
Сергей просыпался, вскакивал с постели и, перевертывая подушку, засыпал снова затем, чтоб его разгоряченному воображению представлялась та же Липа, со скорбным выражением лица и молящими о защите глазами.
Было около семи часов утра, когда Сергей проснулся от довольно бесцеремонного толчка.
Откинув одеяло и повернув голову, он прищурился.
Яркий свет солнца, смотревшего в окошко, растворенное против постели Сергея, врывался в комнату целым снопом и бил прямо в глаза.
У постели Сергея стоял Андрей с перепуганным, мертвенно-бледным лицом и тряс за плечо молодого хозяина.
– Это ты, Андрей? – поднял тот голову с подушки. – Что случилось?
– Началось-с, Сергей Афанасьич, – прошептал Андрей, со страхом озираясь на ярко пылавшие от лучей восходящего солнца окна.
– Что началось? Да говори скорей, дурак! Пожар?
– Рабочие-с буйствуют…
Сергей вскочил с постели, подбежал к окну и сильным ударом руки отворил ставни. Несколько разбитых стекол со звоном полетели на мостовую.
Утренняя свежесть охватила полураздетого Сергея и дрожью поползла по его открытой груди. Он лег на подоконник и прислушался.
Издалека доносились крики толпы. По улице бежали бабы и дети.
Сергей посмотрел на фабричную трубу и побледнел.
Фабрика безмолвствовала.
– Андрей, как это началось? – оторвался от подоконника Сергей и начал быстро одеваться.
– Всю ночь, Сергей Афанасьич, ткачи пьянствовали…
– Ну? Ну, а теперь где они?
– Лавку разбивают-с. Господи, что ж теперича с нами будет?.. – волновался Андрей, подавая хозяину платье и помогая ему одеваться.
– Сколько их?
– Человек двести-с.
– А остальные?
– Остальные не касаются, кто в сторонке стоит, а кто домой ушел.
– Почему же фабрика не работает?
– А они паровщиков арестовали и паровую заперли-с.
– Директор где?
– Не могу знать-с, я первым делом сбегал на происшествие, а потом вдарился в конюшню и в дрожки Исправника заложил-с. Сергей Афанасьич, уедемте поскорей от греха.
– Куда уедем? Ты совсем угорел, я вижу.
– На станцию уедем. Ну их, Сергей Афанасьич, еще неприятность вам могут произвести-с.
– Однако я никак не предполагал, Андрей, что ты такой трус.
– Я трус? Ну, это напрасно-с…
– Разумеется, трус. Испугался пьяной толпы и хочешь бежать.
– Господи, да для вас же я хлопочу… что мне… мне плевать.
– Для меня хлопочешь напрасно. Я никуда не уеду, а ты можешь идти, куда хочешь.
– Я от вас уйду? Ну уж это неслыханное дело! – с неудовольствием проговорил Андрей. – Для вас это я, а коли вы остаетесь, значит, я сичас Исправника распрягу… Трус! И скажут же что, ах ты господи! Я на медведя еще мальчишкой один на один ходил.
– Живей картуз!
– Сию минуту-с.
Сергей отпер конторку, стоявшую в простенке, достал оттуда револьвер, сунул его в карман пиджака и, в сопровождении Андрея, бросился к директору.
Его встретила мисс Алиса, одетая в дорожное платье с хлыстиком в руке.
– Это вы? Как я рада! – схватила она за руки Сергея. – Теперь мы спасены.
Сергей посмотрел исподлобья на испуганное личико англичанки, на ее растрепанную шевелюру и тревожно бегавшие во все стороны глазки и улыбнулся.
«Нет, Липа бы так не испугалась!» – подумал он и, осторожно освободив свои руки из рук вцепившейся в него мисс, спросил поспешно:
– А где же Джемс Иванович, мисс?
– Он там, у себя… ах, мистер, если б вы только знали, что мы пережили за этот час, там бог знает что происходит!
– Кажется, особенного ничего, – попробовал Сергей успокоить перепуганную Алису. – Пьяная толпа произвела дебош и только.
– О нет, совсем не то! – замахала торопливо та ручками. – На фабрике бунт!
– У страха глаза велики.
– Совсем нет, вы знаете, мы хотели уехать к Тулупову, и нас не пустили… они расставили караульных и, как видите, вернули назад.
– Вы хотели уехать, мисс?
– Да, да… и я, и тетя, и дядя.
– Как? Директор? Сам директор? – с негодованием проговорил Сергей. – Однако!
– Но, мистер, вы не знаете этих мужиков.
– Напротив, мисс, я их отлично знаю.
– Нет, не знаете… это ужасный народ, и потом они все так злы на дядю.
– Согласен с вами, но мне нужно его видеть. Извините, мисс.
Сергей оторвался от Алисы, схватившейся за борты его пиджака, и прошел в кабинет. В кабинете никого не было.
«Вероятно, в спальне», – подумал Сергей и крикнул:
– Джемс Иванович!
Ответа не было.
Сергей прошелся по комнате, постучал в дверь и снова крикнул:
– Джемс Иванович! Это я, Аршинов! Мне нужно вас видеть.
– Апчхи! – раздалось где-то в комнате.
Сергей с удивлением оглянулся, посмотрел на шкаф, под письменный стол и пожал плечами в недоумении.
– Апчхи! – раздалось снова. – О, эта скверная русская прислуга, никогда не выметает пыль из-под мебели! – проговорил по-английски Джемс Иванович и высунул свою голову из-под стоявшего в углу дивана с бахромой, опускавшейся почти до полу.
Сергей чуть не расхохотался, несмотря на серьезность минуты.
– Стыдитесь, вы директор, главное административное лицо на фабрике, – сказал он, – и прячетесь при первой же опасности, да и есть ли опасность, это еще вопрос.
– Для меня опасность большая, они теперь грабят лавку и затем придут убить меня.
– Я вам ручаюсь, что вы будете целы, пойдем и уговорим толпу.
– Ни за что! Я так испугался, что не в состоянии двинуться с места… Апчхи! Ах, эта проклятая русская прислуга… Сергей Афанасьич, идите один, вы такой молодой, такой красивый, они наверно вас послушают, – лепетал англичанин, отчаянно тараща глаза на Сергея.
– Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно! Я предупреждал вас вчера, вы не хотели верить, а теперь прячетесь под диван, бросая фабрику на произвол судьбы. Так поступают только трусы и…
– О, ес! Я согласен с вами, во всем согласен и поэтому прошу вас, ради бога, устройте вы это дело, я не могу, я разбит и убит, слышите шум? Они сюда идут, сюда, уходите, Сергей Афанасьич, не пускайте их!
Голова директора скрылась под диваном.
Сергей понял, что дальнейшие переговоры с англичанином не поведут ни к чему, и решил действовать единолично.
Он ощупал револьвер в кармане и бросился на улицу.
В передней его схватила Алиса.
– Ради бога, мистер, что нам делать? – спрашивала она, тревожно заглядывая в глаза Сергея.
– Сидеть дома, мисс! – ответил тот и спустился вниз.
На крыльце директорского дома стоял Андрей в заломленном на правое ухо картузе и отчаянно сложенными на груди руками и широко растопыренными ногами.
Сергей вышел на крыльцо.
– Сюда бегут, Сергей Афанасьич! – проговорил Андрей. – До дилехтура добираются!
Вдали действительно показалась толпа фабричных, которая, гикая и свистя, неслась по улице форсированным маршем.
Сергей стиснул зубы и уставился на плывшую к нему толпу озорников.
– Впереди Васька Питерец, главный коновод всему, – доложил ему Андрей. – Видите, в красной рубахе и плисовой жилетке.
– Вижу. Затвори двери и стой у них.
– Готово-с! – весело отозвался Андрей, у которого страх как рукой сняло.
– Не знаешь, становому дали знать или нет?
– Послан гонец, Сергей Афанасьич. А лавку они здорово распотрошили! Глядите: у кого банки в руках, у кого мешки…
Сергей шагнул вперед и опустил руки в карманы.
Толпа приближалась.
– Мы ему покажем дворянство! Всякий тоже нехристь мудровать над нами станет, ну уж это надо погодить! – орала толпа. – Мы его в паровой искупаем! Ловко! Вали, ребята! Айда! – раздавались голоса фабричных вожаков.
Толпа, подбадривая друг друга, бегом припустилась к директорскому дому и замялась, увидав стоявшего на крыльце Сергея.
– Хозяйский сын! Его не трогать! Он нам худа никакого не делал!
Толпа в один момент сгустилась у крыльца и вопросительно уставилась на Сергея, невозмутимо стоявшего на верхней ступени крыльца.
Андрей, со скрещенными на груди руками, привалился спиной к дверям и спокойно рассматривал лица передних фабричных.
– Что вам нужно, ребята?! – крикнул Сергей.
– Директора! – ответил Васька Питерец и бросился на крыльцо. – Прочь с дороги!
Сергей лицом к лицу столкнулся с фабричным.
Фабричный пьяными, нахальными глазами окинул хозяйского сына, схватил его за рукав и моментально полетел с крыльца, сбитый с ног ловким ударом Сергея.
– Шапки долой, – крикнул Сергей, вынимая из кармана револьвер, – и ни с места! Если кто-нибудь из вас хоть шаг сделает вперед, я пущу тому пулю в лоб!
Толпа смолкла и, переглядываясь, стала снимать картузы.
– Вы что же это, голубчики, бунтовать вздумали, а? В Сибирь захотели? – заговорил Сергей, играя револьвером.
Толпа заговорила.
– Что? Говорите кто-нибудь один.
– Мы с дилехтуром желаем! – выкрикнул бородатый фабричный, выступая вперед.
– Директора на фабрике нет, а хозяин здесь я. Говори, что вам надо?
– Насчет харчей… уж оченно харч плох, – нерешительно зачесал в затылке фабричный, следя за эволюциями револьвера.
– Знаю. Слышал, – отрывисто ответил Сергей. – Это вина не наша, а приказчика, который сегодня же будет уволен. Слышите?
– Слышим, как не слыхать, покорнейше вас благодарим, Сергей Фанасьич! Уж будьте таким благодетелем, ослобоните от аспида.
– Я вам даю слово, что сегодня же его не будет. Дальше! Что еще, ребята?
– Вот тоже насчет штрахов, одолели! За все про все ди-лехтур штрахует, уж будьте ласковы, взойдите в наше положение.
– Штрафы пишутся на все по фабричным правилам. Правила эти вам известны.
– Оно конечно, это действительно, – заговорили в толпе, – только уж оченно обидно.
– Стой! Если вы были недовольны штрафами, почему не жаловались хозяину?
– Дилехтуру говорили, Сергей Фанасьич!
– Директор – такой же служащий, как и вы. Нынче он здесь, завтра – его нет. Ваша прямая и первая обязанность была идти к хозяину и жаловаться, а вы пошли кривым путем, путем грабежа и насилия. Вы разбили и разграбили лавку, а знаете ли, что бывает за разбой и грабеж?
Толпа молчала.
– Я понимаю вас, ребята, вы поступили в этом случае как неразумные дети, не заботясь о последствиях, одним словом – вас подбили на незаконное дело.
– Подбили! Это верно! – заговорили в толпе. – Мы люди темные, кто же знает, – сказали: валяй, сдадутся, ну, п… прости, Христа ради, Сергей Фанасьич!
– Постойте! Мне вас жаль, от души жаль, ребята… я знаю, что вы хорошие, честные работники, у каждого из вас есть жена, дети, которые сыты только тогда, когда у вас есть работа, что же вы делаете? Вы идете на разбой, забывая, что ваши дети перемрут с голода, потому что за разбой одна дорога: сперва острог, а затем каторга, подумали ли вы, что вы делаете?
– Это они вот все, Васька да Микитка! Народ отчаянный, ах, жулики! – голосили в ответ. – Сергей Фанасьич! Пожалей детишек-то наших!
– Хорошо. Слушайте, ребята. Вот мое решение: я спишу вам половину штрафов по последнему расчету, скрою от начальства ваше буйство, но с условием: во-первых, вы должны мне выдать коноводов, а во-вторых, сию же минуту приняться за работу, согласны?
– Вот как!.. Ай да Сергей Фанасьич, душа-человек! Ребята, вяжи Ваську с Микиткой. Спасибо тебе, Сергей Фанасьич, развязал ты нас, ребята, ура Сергею Фанасьичу!
Толпа грянула «ура» и, кидая картузы в воздух, с шумом двинулась на фабрику. Не прошло и пяти минут, как на площади перед директорским домом, кроме связанных двоих коноводов, не осталось ни одного человека.
Коноводы, понурив головы, стояли перед Сергеем и ждали своей участи.
Сергей сошел с крыльца и посмотрел с сожалением на брошенных толпою главарей.
Те еще ниже опустили головы.
– Запомните раз навсегда, – сказал он, – толпа всегда останется толпой. Сейчас она идет за вами, а чрез полчаса – идет за другим и отдает вас самым предательским образом в руки врага. Я враг ваш, но, на ваше счастье, враг великодушный. Я прощаю вас, ибо вы не ведали, что творили. Андрей, развяжи им руки!
Андрей молча развязал руки коноводов и еще отчаяннее заломил картуз на затылок.
– Получите в конторе расчет и удирайте. Помните только одно: если вы через час не уйдете отсюда, становой арестует вас как грабителей, и тогда уже я не буду в состоянии освободить вас… Прощайте!
Сергей отвернулся от недоумевающих фабричных и пошел к директору.
В гостиной он увидал Алису, сидевшую в углу. Она закрыла глаза, заткнула пальцами уши и шептала молитвы.
– Мисс! – проговорил Сергей, улыбаясь. – Можете открыть глаза, все кончилось!
Алиса вскочила с кресла и уставилась на Аршинова.
– Вы живы?
– Как видите…
– А бунтовщики?
– Бунтовщики? Какие? В России, мисс, бунтовщиков нет, есть только несчастные люди, которых, как стадо баранов, ведут на гибель мерзавцы. К сожалению, зачастую страдают не пастухи, а бараны… Но у нас, слава богу, кроме хозяйского кармана, кажется, никто не пострадает… а ваш дядя?
– Ах, как я рада!.. Дядя не знаю где, он там…
– Понимаю, под диваном, – пробормотал Сергей и вошел в кабинет директора.
– Джемс Иванович, все кончилось! Вылезайте из своего убежища!
– Неужли? – раздался под диваном радостный голос англичанина. – Я так и знал, что все пустяками кончится… Апчхи! Нет, ваша русская прислуга положительно ни к черту не годится.
Мистер, кряхтя и чихая, вылез из-под дивана и, отряхивая одной рукой пыль с коленей, другую протянул Сергею.
– Разумеется, вы прикрикнули, и они разбежались. Я мог бы и сам то же самое сделать, но… Апчхи!.. Эта проклятая пыль, у меня непременно будет насморк, вот увидите… Фу! Неужели же, в самом деле, все кончилось?
Сергей рассмеялся и подвел директора к окну.
Из фабричной трубы густым черным столбом валил дым и расплывался по темно-синему небу.
Никогда Афанасий Иванович не был так взбешен, как в то злополучное утро, когда, вопреки обыкновению, Иван явился с трехдневного кутежа не в лавку, а домой.
Афанасий Иванович только что напился чаю и, разнеся жену и кухарку за недокипяченую якобы воду, бросился в сад, чтоб несколько утишить бушевавший в нем гнев на Ивана, словно в воду канувшего после смотрин.
Следом за ним, вздыхая и крестясь, на цыпочках шел Андрей и со страхом взирал на мощную фигуру старика, широкими, развалистыми шагами вымерявшего сад.
В конце одной из аллей Афанасий Иванович круто повернулся и лицом к лицу встретился с Андреем. Оба молча посмотрели друг на друга и, не проронив ни слова, разошлись: один налево, другой направо.
Только уже пройдя порядочное расстояние, Афанасий Иванович остановился и крикнул сыну:
– Андрей!
Андрей повернулся и, сделав несколько грузных скачков, остановился против отца.
– Что прикажете, папаша?
– Куда девался Иван, а?
– Кутит-с, так полагаю.
– Кутит! Ну, кути день, кути два, а это что ж такое выходит? Может, убили его, кто его знает.
– Его не убьют, папаша, – спокойно проговорил Андрей.
– Ты думаешь?
– Кому он нужен, спрашивается? И какой в нем такой особенный антирес? Просто очумел с радости, что хорошую невесту нашел, и кутит-с.
– Это на правду схоже, только ты пойми, хорошо ли это, что жених и вдруг без вести четвертые сутки пропадает?
– Конечно, похвального в этом, папаша, очень мало-с, но все-таки есть утешение: женится – переменится.
– Да Алеевымто что я горожу, ты спроси меня? Болен, говорю… Катар в сердце у него.
– И я тоже сказываю, что болен и что доктор велит дня три-четыре в постели пробыть.
– Да болезни-то такой нет, ты пойми, дурень. Нету катару сердца.
– Как нету-с?
– Как не бывает! Вчера доктора спросил одного, так он вот как хохотал, чуть не помер со смеху, и дернуло меня такую болезнь сочинить!
– Это ничего, папаша. Скажите, что ошиблись, только и всего.
– Все это чудесно, а его нет. Надо искать Ивана и найти во что бы то ни стало, потому завтра я Алеевых к себе на обед пригласил, и ты пойми, если Иван и завтра не явится, что я Алеевым скажу? Гордость-то моя пострадает от этого аль нет?
– Свинья-с он, папаша, и даже совсем бесчувственная свинья! – сокрушительно мотнул головой Андрей.
– Надо искать и найти, слышишь, по всем гулевым вертепам искать. Вертепы-то знаешь?
Андрей, разумеется, отлично знал все «вертепы», в которых бывал и холостым, и женатым, с нужным покупателем, конечно, но, зная характер отца, отрицательно завертел головой.
– Что вы, папаша, господь с вами! Откуда же мне их знать, да я сроду в такие распутные места не заглядывал.
– А все-таки надо искать, разошли приказчиков, артельщиков.
– Пошлю-с, известно, найдем, только все-таки он против вас свинья: знает, что дело заварилось, и вдруг такую неприятность вам.
– Негодяй!
– Неблагодарный человек, папаша, чувств настоящих у него нет, и дурак при этом, авось женитьба его изменит к лучшему направлению.
– Давай-то бог! А искать все-таки разошли. Да не сидит ли он где в добром месте, как ты полагаешь?
– Не думаю я этого, папаша. Ежели бы сидел где, давным-давно бы нам его на поруки сдали. Просто либо пьет без просыпа, либо спит от выпивки до выпивки.
– Наградил меня Бог сыновьями, нечего сказать, – вздохнул Аршинов. – Тебя я исключаю, ты не такой совсем.
– Покорнейше вас благодарю, папаша, за теплое слово.
– Про тебя и речи быть не может, а эти, что Иван, что Сергей – одно сокрушение с наказанием.
Андрей чмокнул в плечо Афанасия Ивановича и прослезился.
Старик посмотрел с нескрываемым удовольствием на Андрея и затем отправился к себе, наказав еще раз сыну разослать служащих искать блудного сына.
Не успел Афанасий Иванович войти в свой кабинет, как ему в ноги повалилась что-то бурчащая фигура какого-то взлохмаченного человека.
Старик откинулся в испуге назад и с недоумением нагнулся над растянувшимся на полу человеком.
– Кто это? Что надо?
Всклокоченная голова приподнялась от полу и уставилась опухшими глазами на старика.
– Иван! – вскрикнул Афанасий Иванович, опускаясь в кресло.
– Папашечка, простите, – подполз тот на коленях к отцу и припал к его сапогу.
Афанасий Иванович отдернул ногу и, как разъяренный тигр, накинулся на сына.
– Распутник! Фармазон! – тяжело дыша, шептал старик, отталкивая сына, который живо вскочил на ноги, оправил шевелюру, почистил запылившиеся колени и юркнул в дверь. – Стой! – загремел Афанасий Иванович, ударяя кулаком по столу с такой силой, что стоявшая на нем чернильница подпрыгнула и веером разбрызгала чернила. – Поди сюда, каналья пьяная!
Иван вернулся и смиренно вытянул руки по швам.
Старик долго смотрел на побуревшую от попойки физиономию сына, на грязную и измятую манишку, на которой вместо галстука болтался какой-то обрывок черного с белым, покачал головой и плюнул прямо в глаза Ивану.
– Тьфу, бесстыжие твои глаза! – проговорил Аршинов, сжимая кулаки.
Иван, моргая глазами, достал платок из кармана пиджака, вытерся не спеша, сложил затем платок аккуратно вчетверо, положил обратно в карман и, склонив голову, принялся рассматривать носки нечищеных сапог.
– Сичас чтобы спать ложиться, слышишь?! – проревел старик, гневно смотря на сына.
– Слушаю, папаша, лягу-с…
– И спать до утра завтрашнего числа, слышишь?
– Слушаю, папаша, просплю-с…
– Чтоб к завтрашнему вечеру у меня твоей пьяной морды не было, понял?
– Слушаю, папаша… не будет-с.
– Завтра у нас обедают Алеевы… я им сказал, что ты нездоров был…
– Слушаю, папаша, – словно эхо отзывался Иван, не сводя глаз с носков своих сапог, – нездоров-с был…
– У-у, харя противная! Брысь!
Иван не трогался.
– Убирайся вон!
– Слушаю-c… уйду, папаша.
Иван переступил с ноги на ногу и нерешительно поднял голову.
– Ну? Чего мнешься? Марш отседова!
– Папаша, там я… виноват-с, в последний раз это, папашечка. Клянусь Богом-с!
Афанасий Иванович понял.
Он медленно поднялся с кресел, подошел к Ивану и положил ему руки на плечи.
Иван вздрогнул и присел невольно. Коленки у него дрожали, а глаза бегали из стороны в сторону, ища защиты.
– Сколько, распутник? Сколько? – проговорил старик, впиваясь, как клещами, пальцами в плечи Ивана.
– Шесть, папаша-с… в последний раз, ей-богу-с.
– Шесть тыщ? Записку дал?
– Векселечек-с… не верят записке, папаша.
Иван не договорил и покатился, как скошенный сноп, из кабинета в гостиную.
Ударившись о какой-то предмет, не то о стул, не то о тумбу с часами, Иван вскочил на ноги и стремглав бросился в свою комнату.
Афанасий Иванович вышел из себя. Он бегал по длинной анфиладе комнат и ругался так, что слышно было на улице.
Все живущее в доме окаменело. Только один Андрей улыбался ехидно, стоял, прислонясь к колонне в зале, и ждал конца «родительского гнева».
– Нет, каков негодяй, а? – выскочил в залу Афанасий Иванович, схватывая за руку Андрея. – Шесть тыщ прокутил! Шесть тыщ! Да он сам, негодяй, шести монеток не стоит.
– Наслание Божие, папаша, – смиренно проговорил Андрей, подымая глаза к потолку. – Надо претерпеть-с.
– В три дня, Андрюша, ты пойми, – стонал старик, – в три дня такую сумму спустить… ведь за это его на Конной плетьми драть надо!
– Не поможет, папаша… горбатого, говорят, только могила исправляет, да и то едва ли-с.
– Нет, куда он шесть тыщ мог прожить, ты мне вот что скажи? Куда? В карты проиграл?
– Иван, папаша, в азартные игры не играет-с, это я верно знаю-с.
– Так куда же? Куда?
– Сичас он мне, мимо пробегая, сознался, что два благородных патрета попортил… вообще дагеротип на сторону свернул.
– Благородных, говоришь?
– Так точно-с. А благородные патреты, папаша, возвышенный прейскурант соблюдают.
– Пошли выкупить вексель… Спроси у этого негодяя, кому дал, и выкупи.
– Слушаю-с, сегодня же будет исполнено.
– Это что у тебя за письмо в руках? – увидал старик письмо, которое Андрей вертел между пальцев.
– От Сергея, к вам-с, с фабрики.
Афанасий Иванович подошел к окну, распечатал послание сына, в котором Сергей подробно доносил отцу о последних событиях на фабрике; прочитав его и скомкав, он разразился новой бранью.
– Мальчишка! Щенок! Читай!
– Что такое, папаша? – подскочил Андрей к отцу.
– Нет, ты прочитай, какие он там колена выкидывает! Рабочие буйствуют, а он их прощает и половину штрафу скащивает. Он разорит меня!.. В гроб меня вгонит!
– Папаша, успокойтесь… Авось, Бог даст, все уладится к лучшему, – утешал Андрей отца, расправляя скомканное письмо брата.
– Читай!.. А?.. Хорошо?.. Что ж это такое, Андрей?
– Тсс!.. – качал тот головой, пробегая письмо. – Вот уже справедлива пословица: «Как ты дурака ни крести, он все в воду лезет». От одного дурака шесть тысяч убытку, от другого вдвое больше.
– Убить мало за это! Нет, что я теперь с ним сделать должен, а?
Старик в бешенстве забегал по зале и стучал кулаками по колоннам.
Андрей спокойно следил за эволюциями отца и вздыхал на всю залу.
– Слушай! – остановился Афанасий Иванович. – Пошли сичас же депешу, чтоб Сережка ко мне на глаза явился.
– Этого сделать нельзя, папаша.
– Ну?..
– Он нам все дело испортит. Не угодно ли вам прочитать еще вот это письмецо-с? – тихо проговорил Андрей, доставая из бумажника письмо.
– Чье письмо?
– Сережкино, папаша, к Олимпиаде Сергеевне-с.
– К невесте Ивана? Как оно к тебе попало?
– Сообразил я, папаша, что с фабрики от долгой разлуки разные цидулки полетят, ну, я наказал строго-настрого, чтоб все письма с фабрики, к кому бы они писаны ни были, хоть к вам, хоть к мамаше, – перво-наперво мне на просмотр доставляли.
– Да это-то как к тебе попало? К Олимпиаде, говоришь, оно?
– Действительно, к ней, папаша, только ведь и там я карантин устроил. Предварил старика Алеева на всякий случай, а тот распорядился по моему указанию. А эта цидулка, папаша, адресована на нашего Во всех отношениях, чтоб он передал ее по получении. Понимаете?.. Да вы прочтите обе, сами увидите.
Афанасий Иванович прочитал обе записки Сергея и поцеловал Андрея.
– Молодец! Спасибо! Мне бы это и в голову не пришло.
– Оно лучше так, папаша, выйдет, и от нее к нему письма не попадут, и от него к ней тоже, – получится в некотором роде забвение ихних глупостей-с.
– Верно, Андрей, верно…
– Да уж вернее этого ничего быть не может-с… а Сергея ежели сичас вы с фабрики выпишете – нам полный ущерб нанесется, во-первых, он покатит первым долгом к Алеевым и на манер фабричного бунту там произведет, человек глупый и притом горячий, а это теперь для нас самое лучшее будет, ежели мы Сережку с фабрики не спустим.
– Так-то так, да он там еще, гляди, какую-нибудь штуку выкинет, нонче на двенадцать тыщ наказал, а завтра на двадцать накажет…
– Не допускаю я этого, папаша, фабричных он помирволил, значит, они сичас надолго затихли, а для успокоения вашего я нонче же секретное предписание Джемсу Иванычу напишу, чтоб он Сергея держал в полном подчинении, так как у него никакой доверенности от вас нет.
– Это хорошо. Напиши нонче же…
– Будьте покойны, напишу… теперь другое-с; по моим соображениям, нам надо свадьбу Ивана свертеть как можно скорее-с. Алеев против этого, я так полагаю, спорить и прекословить не станет.
– Он? По его – хоть завтра венчай.
– Ну вот, видите, папаша, как это складывается великолепно. В десять дней свадьбу скрутим, а там и беспокоиться нечего. Приедет Сережка, увидит, что Олимпиада Сергеевна чужой женой стала, и покорится.
– Да. Это умно. Так и сделать надо. А?
– Как вам угодно, папаша, воля ваша, я только предлагать могу, что, по моему разумению, хорошо, а может, на ваш взгляд, и иначе выходит.
– Нет, умно. Только вот что меня беспокоит: а вдруг Сергей прилетит с фабрики, ведь он на все пойдет.
– Не прилетит-с, вы ему завтра же письмецо тепленькое отправьте, я вам сам составлю-с, вы только подпишите-с: дескать, благодарю тебя, любезный сын Сергей, за все твои распоряжения, которые нахожу весьма и очень умными.
– Это Сережкины-то распоряжения умны? На двенадцать тыщ, если не больше, отца нагрел.
– Ах, папаша! Надо же дурака по губам помазать. Из дурака через это после всякие веревки вить можно; а в конце письма припишем: «Прошу, дескать, любезный Сережа, остаться на фабрике недельки две, покеда всякие волнения утихнут, потому я на англичанина не надеюсь и ему не доверяю». Поняли, папаша?
– Понял. Министр ты у меня, Андрей.
– Куда уж нам, папаша, – потупился Андрей, – как могу-с и что для дела полезно-с. Он нам мешать не будет, а мы тем временем свадьбу сыграем.
– Постой. А если кто-нибудь даст знать Сергею на фабрику?
– Нет возможности, папаша. И на фабрике я насчет карантину распорядился, чтобы никаких писем и никаких посланных, окромя что от вас, до Сергея не допускать. Вчера еще я об этом писал с нарочным Джемсу Иванычу.
– Все ты предвидел! Далеко ты у меня, Андрей, пойдешь! – хлопнул по плечу сына Афанасий Иваныч и, подойдя к окну, забарабанил по стеклу пальцами. – Так, действительно, хорошо будет! Все устроим и… конец! Негодяй! Шутка! Двенадцать тысяч штрафу смахнул! – Афанасий Иванович сдвинул брови, уставился в одну точку и задумался.
Сергей лез ему в голову. Он злился на него в душе за понесенные убытки, ругал его, как коммерческий человек ругает неумелого помощника, который идет наперекор хозяйской воле и желанию, и вместе с тем досадовал, что сделал это именно он, Сергей, тот самый Сергей, которого и он, и братья, и все знакомые называют не иначе, как «ученым дураком» и никуда не годным человеком.
Странное дело: Афанасий Иванович чувствовал, что там, где-то глубоко у него в душе, есть крошечный уголок, полный жалости и сострадания к этому «ученому дураку», не знавшему никогда отцовской ласки и не слыхавшему от него ни одного теплого слова.
Он досадовал на эту «жалость к дураку» и все-таки жалел, насильно вызывая перед собою образ Сергея.
– Такой же ведь, сын же! – бормотал он. – Неудачен вышел, а все-таки…
Афанасий Иванович круто повернулся к Андрею.
– Хорошо ли, Андрей, мы делаем? – проговорил он. – Может, и всамделе они любят друг друга?
– Глупости, папаша! – ухмыльнулся тот. – Любовь-то это они в романах вычитали, ну и затянули от скуки канитель. И опять, папаша, коммерческого расчета нет Сергея на Алеевой женить. За Ивана со ста тысячью, окромя Алеева, никто не даст, это уж надо прямо говорить, а за Сергея сичас невеста с полмиллионом готова.
– Кто? – встрепенулся старик.
– Лещакова. Сирота круглая, а опекун вчера мне в Троицком какую вдруг новость открыл: видела, говорит, наша дура вашего Сергея и теперь спит и видит, как бы за него замуж выйти. Полмиллиона, папаша, – для фирмы вклад чувствительный!
– Верно! Лещакова? Там больше полмиллиона. Я сам духовную видел.
Афанасий Иванович, потирая руки, хлопнул по плечу еще раз Андрея и в веселом расположении духа отправился в город.
Коммерсант восторжествовал над отцом.
На другой день аршиновский дом принял праздничный вид. «Парадные» комнаты были открыты и ждали гостей. В саду и на дворе с раннего утра дворники и садовники наводили чистоту, подметая пыль и посыпая красным песком дорожки и обширный двор. К полудню наехали «кондитеры» и взяли в полон кухню, предварительно выгнав из нее кухарку, ругавшую на чем свет стоит «кастрюльных разбойников».
Обед готовился небольшой, но «парадный», с громкими названиями блюд. Сам кондитер, высокий худощавый старик с бритым подбородком и тощими седоватыми бакенбардами, бегал из кухни в залу, где официанты накрывали стол, и обратно, покрикивая то на поваров, то на лакеев.
В два часа приехал из города Афанасий Иванович и зазвал к себе в кабинет кондитера.
– Ну как, Артамон Иваныч, у нас дела? – ласково потрепал он кондитера по плечу.
– Слава богу-с, Афанасий Иванович, все в порядке. Сервировочку заметили?
– Хороша, – одобрительно кивнул тот головой.
– Министерская-с. Такой сервировки во всей Москве ни у кого не найдешь-с…
– Ври больше.
– Честное слово-с. Да вы спросите, после кого я ее купил-с. После князя Арапникова-с…
– Знавал, знавал.
– Первый, можно сказать, вельможа был-с… а уж для мамону своего-с ничего на свете не жалел.
– А наследники?
– Куда им-с? Один за границей учится, а другой в Италию картины писать уехал… Все гнездо дворянское разорили, все распродали да раздарили. У меня сичас и повар тоже вместе с сервизом от Арапникова взят… стар уж стал, язык деревенеть начал, но мастер великолепный.
– Смотри, Артамон, чтоб обед был на славу… У меня нонче торжество предстоит: сына хочу женить, так надо как следует невестину родню насытить.
– Останутся довольны. Вино-то прикажете выдать?
– Сам выдам. Я, брат, со счетом выдам, ты так и скажи своим фициантам, и со счетом бутылки приму… а то я ихнюю натуру знаю: бутылку на стол, а две под фалды.
– У меня, Афанасий Иваныч, таких слуг нет-с… Я сам такими пренебрегаю.
– В каждого не влезешь, а ты пришли-ка ко мне старшего для приема.
Афанасий Иванович выдал по счету вино, переоделся в новый черный сюртук и позвал жену.
– Ну, Арина Петровна, прифрантилась, что ль? – справился он у жены, которая, шурша шелковым платьем, вышла к нему в кабинет.
– Совсем готова, Афанасий Иваныч.
Аршинов скосился на Арину Петровну и ухмыльнулся.
– Совсем другая баба стала в наряде-то.
– Я всегда такая.
– Ну, это твое мнение, а мое мнение совсем другого сорта… Все у тебя готово?
– Все. Стол накрыт…
– Стол до тебя не касается, это кондитерское дело… Чай, фрукты?..
– Все готово.
– То-то. У меня чтоб ни в чем не было задержки. А Иван? Где он?
– Ваня все время был дома… Час тому назад я видела, как он по саду бродил…
– Пришел в себя?
– Да чего же ему приходить? Человек как человек.
– Э-эх, – досадливо махнул рукой Афанасий Иванович, – ничего ты не понимаешь!.. Поди и вели прислать его ко мне… да, постой!.. Вот еще что! – проговорил он, поглаживая бороду. – Вынь-ка на всякий случай образ из божницы…
Арина Петровна затуманилась.
– Значит, решил окончательно? – упавшим голосом спросила она мужа.
– Это что еще за глупый вопрос? Что решил?
– Благословить… Ваню… с Алеевой…
– Во всяком случае…
– Афанасий Иваныч, хорошо ли ты обдумал, какое дело хочешь совершить?
Афанасий Иванович вспылил:
– Не у тебя ли ума стану занимать? Опоздали-с, Арина Петровна… мне, слава богу, чужого ума, да еще бабьего, теперь не нужно… Извольте делать, что вам говорят, а рассудить мы и без вас рассудим…
– Бог с тобой, делай как знаешь, Афанасий Иваныч, но только помни: и за счастье, и за несчастье своих детей ты один виновен будешь…
– Не раздражай ты меня… Слышал я это все от тебя не раз, следовательно, пора и бросить… Пошли ко мне Ивана!
Арина Петровна вздохнула и с поникшей головой вышла из кабинета мужа.
Афанасий Иванович прошелся несколько раз по комнате, сел за письменный стол, щелкнул косточками счет и, вскочив с места, снова зашагал по кабинету.
– Проклятые бабы! – выругался он. – Возьмут да и испортят расположение духа. Тьфу! Дурь все это, глупость, книжки окаянные, – плевка не стоят, а тебя расстраивают… Кто тут топчется? – крикнул он, заслышав шаги.
– Я, папаша, – появился в кабинете Иван, – видеть желали-с?
Афанасий Иванович нахмурился и осмотрел с ног до головы сына.
Иван был разодет франтом, расчесан и надушен так, что Афанасий Иваныч чихнул несколько раз.
– Обрадовался, дурень! – проворчал он. – Эк от тебя душищами-то разит… цельную банку, что ль, на свою глупую башку опрокинул?
– Нечаянно передушил-с…
– Нечаянно! У тебя все нечаянно: и пропал на три дня нечаянно, и вексель выдал нечаянно… Твой, что ль? – вынул он из бумажника вексель и ткнул его сыну под нос.
Иван покосился осторожно на вексель и потупился.
– Да ну, говори, – этот, что ль?
– Кажется-с… вероятно, он-с…
– Шут тебя знает, дурака, – заволновался Аршинов, – «кажется, вероятно»… смотри лучше!
– В шесть тысяч? Мой-с! Помню, что вексель в шесть подмахнул, но какою рукой подписывал, левой ли, правой ли… весьма возможно даже, что обеими.
– Тьфу! – скомкал старик вексель и швырнул комок в лицо сына. – И морду-то как следует в порядок не привел.
– Я старался, папаша.
– Старался ты, а над правым глазом что?
– Легкий ушиб-с.
– Замажь.
– Замажу, папаша, это легко сделать-с, совсем незаметно будет.
– Помни мой наказ: чтоб эти похождения были в последний раз, до свадьбы никуда ни шагу, слышишь?
– Клянусь, папаша, никуда не уйду, я больше с грусти зачертил-с…
– С какой грусти?
– Да как же, папаша, разве не обидно, что Олимпиада Сергеевна только об Сережке и мечтает?
– Глупая девчонка!
– А все-таки обидно.
– А ты старайся понравиться ей. Вот приедет к обеду, встреть ее на крыльце и букет поднеси.
– Слушаю-с.
– Девчонки любят, когда за ними ухаживают, а что о Сергее она мечтала, так в этом опасного ничего для тебя нет: выйдет за тебя замуж и Сережку забудет; все, брат, бабенки на одну колодку: с глаз долой – из сердца вон.
– Ну нет-с… не всегда так бывает! – вспомнилась Ивану вдруг цыганка с ее жгучими страстными ласками. – Другие, напротив, папаша, чем дольше не видают, тем больше о том человеке мечтают.
– Это бабенки сами говорят, а ты, с большого ума, и веришь… э-эх, Иван-простота! Как с тебя, дурака, вексель в шесть тысяч не взять? Дуры еще! В двадцать могли взять.
– Зачем же-с? Она честная, папаша.
– Кто честная?
– А цыга…
Иван сообразил, что глупо проговорился, и, закрыв рот ладонью, со страхом посмотрел на отца.
– Так это на цыганку мои денежки пошли, а?
Иван побелел.
«Шут меня дернул! – пронеслось у него в голове. – Ну, значит, опять трепка сызнова, ах ты господи! Что я за несчастный человек такой!»
– Негодяй!.. Следовало бы тебе за цыганок башку перечесать, да боюсь, невеста испугается… Вон, грабитель!
Иван торопливо было юркнул в дверь, но остановился на окрик отца.
– Стой! Поди сюда!.. Слушай, балбес: если ты теперь дозволишь себе опять такую выходку – из дому прогоню, слышишь? Прокляну и выгоню, как червь пропадешь…
– Воля ваша, папаша, – бормотал Иван, пятясь к дверям от отца, наступавшего на него со сжатыми кулаками.
– Вон! И чтоб больше я не слыхал о твоей пропаже, своими руками свяжу и отправлю в часть драть…
Иван не слушал продолжения. Он поспешно спустился вниз и очутился в саду.
– Беда с этими родителями, – бормотал он, шагая по дорожке. – И не довернешься – бьют, и перевернешься – бьют… Ах, когда-то я, наконец, на чистую волюшку попаду? Кажется, чего бы я не дал, только б из этой опеки дворянской выбраться… ну, вот женюсь… сто тысяч возьму… то есть отец возьмет, а не я… И опять кабала: жена первым долгом: ты куда? А отец прямо в морду: ты где был? Тьфу! Вот она, жизнь-то наша подневольная, анахимская!.. Ни тебе разгуляться, ни тебе душу отвести… а Пашка-то… Что теперь с Пашкой-то? – вспомнил он про цыганку. – Как сказал ей, что женюсь, так белее мела стала… «Отравлюсь», – говорит… и отравится, сердце чувствует, что отравится, потому по уши в меня врезалась…
Иван остановился и мрачно посмотрел на развесистую липу.
– Липка меня так не будет любить, как Пашка! – решил он, закуривая папироску. – Где ей!.. Во-первых, она сколько время Сережку в уме продержит… отуманил ее, бестия, книжками… А потом, живности такой нет, как в цыганке… Пашка – дьявол, огонь адский неугасимый… вопьется в тебя губами, так и чувствуешь, что душа из тебя вон выпирает… умертвить может поцелуем… а эта что? – презрительно мотнул он головой. – На словах все романы да романы, а на деле, поди, и поцеловаться-то как следует не умеет… кислятина! Ах, Пашка!.. Положим, тоже и с Пашкиной стороны не совсем благородно; накутил я на две тысячи, а взяли вексель в шесть… ну, да уж это такая нация, не может без хорошего проценту купеческого сына любить…
Размышления Ивана были прерваны появлением дворника, торопливо доложившего ему о приезде Алеевых.
Иван бросился со всех ног в дом, схватил приготовленный букет из белых роз и опрометью ринулся в переднюю, где уже стояла его мать и старший брат с женой.
– Где ты болтаешься? – шепотом уязвил его Андрей, пихая в спину. – Хорошие, настоящие женихи по часу невесту на крыльце ждут, а ты на шапошный разбор являешься… иди!
Иван вылетел на крыльцо, держа за спиной букет, и встретил Алеевых, высаживавшихся из четырехместной коляски.
Первым вошел на крыльцо старик Алеев и облобызал троекратно Ивана, подавшего старику впопыхах левую руку, так как в правой он держал букет для невесты.
Следом за стариком Алеевым вошла его жена и Александр. После всех на крыльцо взошла Липа.
Липа была бледна. Ее румяное личико осунулось и похудело. Под лихорадочно блестевшими глазами лежали темные круги. Она лениво подняла глаза на Ивана, бросившегося к ней с букетом, молча протянула ему руку, взяла букет и тотчас же передала его брату.
Также молча она поздоровалась с Аршиновыми и, пройдя две-три комнаты в сопровождении Ивана, выступавшего за ней журавлем и тщетно чуть не в сотый раз справлявшегося о драгоценном ее здоровье, очутилась в парадной зале, посредине которой стоял сервированный для обеда стол, утонувший в цветах и зелени.
Липа опустилась на первый попавшийся стул и только тут заметила, что рядом с ней, расплываясь в широкую гостеприимную улыбку, сел Иван.
– Вы как будто бы не в духе нонче, Олимпиада Сергеевна! – заговорил Иван, стараясь заглянуть в глаза Липы.
– Я? Напротив. С чего вы это взяли?.. – ответила та машинально, не вдумываясь в смысл слов.
– Так-с… по наружной видимости это заметно-с… а впрочем, может, я и в ошибку впадаю.
– Действительно, впадаете в ошибку, – проговорила Липа, стараясь отогнать от себя беспокойные мысли.
– Извините-с, пожалуйста… как вам наш дом нравится?
– Дом? – Липа подняла голову и обвела взглядом залу. – Хороший дом.
– И весьма поместительный-с… Кроме того, отделка дорого папаше обошлась… вообще папаша, Олимпиада Сергеевна, для своего удобства денег не жалеют-с…
– Это видно! – отодвинулась та. – А где помещается у вас Сергей Афанасьевич?
– Сергей? Вверху-с… там у него комнатка небольшая… Вам очень интересно его помещение?
Липа пристально посмотрела на иронически улыбавшегося Ивана и холодно проговорила:
– Меня интересуют только люди, а не комнаты.
– Так-с. Значит, вас Сергей интересует? – предложил тот вопрос.
Липа молча встала и пошла к матери.
Иван сконфузился.
«Кажется, я ей глупость завернул? – подумал он. – Черт бы побрал этих образованных невест: то недоговоришь, то переговоришь… То ли дело Пашка: что ей ни скажи, все ладно да складно выходит… хохочет, змея, и тебе в ответ, не хуже твоего, пули отливает… Не угодно ли тут на каждом шагу осторожность соблюдать… ну уж это дудки… как только женюсь, всю политику к черту пошлю! С бабами, да по нотам еще разговаривать – смерть чистая!»
Хозяин пригласил дорогих гостей откушать хлеба-соли. Ивана, разумеется, посадили рядом с Липой, относившейся ко всему безучастно. Он болтал, но осторожно, боясь попасть в неловкое положение, и в течение всего обеда упрашивал Липу кушать как можно больше, на том основании, что это для здоровья хорошо.
Липа едва прикасалась к кушаньям, и если бы ее спросили, что подавали за обедом, она бы задумалась над ответом.
Липа была разбита и уничтожена. Отправляясь на обед к Аршиновым, отец заявил ей безапелляционно, что она должна выйти за Ивана.
Между ею и отцом произошла бурная сцена, победителем из которой вышел, конечно, ее отец, не признававший никаких «но» и клявшийся всем адом, что повезет ее под венец с Иваном живую или мертвую. Для него это было безразлично.
Липа бросилась к матери, к брату и – что она могла найти у людей, подавленных деспотизмом отца? Ничего, кроме слез и сожалений. Плакать и жалеть себя она могла отлично и сама. Единственная надежда у ней была на деда, но и тот, крестя свою дорогую внучку и рыдая над нею, как ребенок, сознался, что ничего не может сделать против родительской власти.
Липа поняла свое отчаянное положение и замерла. Именно замерла. Ее горе было так велико, она чувствовала себя такой несчастной, униженной и оскорбленной в самых лучших, дорогих ее душе, чувствах, что в ее возбужденном мозгу царил такой хаос мыслей, одна другой ужаснее и безотраднее, что она ходила, одевалась и говорила, как заведенный автомат, лишенный смысла и собственной воли.
Она ниоткуда не ждала счастия. Сергея не было в Москве, да и что мог сделать Сергей, выросший и воспитанный на тех же домостройных началах, как и она сама? Правда, она могла уйти из родительского дома… но куда?.. Она воспитывалась по-купечески: умела вязать кружева для подушек и полотенец, умела спать до двенадцатого часа дня и больше ничего не умела. А он? Может ли он, сын миллионера-купца, добывать трудом столько, чтобы они существовали безбедно, не омрачая своего счастия грошевыми расчетами и учетами?
Она знала Сергея за умного, честного человека, беззаветно преданного ей и душой и сердцем, но она совсем не знала, умеет ли и может ли он трудиться и добывать себе самостоятельно кусок хлеба.
«Надо его видеть, – лихорадочно думала она, не слушая пошлые анекдоты Ивана о каких-то двух старых девах, – непременно увидать Сергея и решить… так нельзя… что-нибудь одно: жизнь или смерть…»
– Когда же он приедет с фабрики? – вырвалась вслух у ней думка.
– Кто-с, Олимпиада Сергеевна? – любезно улыбаясь, спросил сидевший против нее Андрей.
– Я говорю про Сергея Афанасьича! – опомнилась Липа, стараясь улыбнуться. – Его одного недостает здесь.
– Он не на фабрике-с! – доложил тот, улыбаясь еще слаще.
– Где же он? – спросила Липа.
– В имении-с гостит у своей невесты-с… Она, положим, еще не нареченная, но дело к тому клонит-с. У Лещаковой Ольги Андреевны… Может, слыхали-с?
Вилка выпала из рук Липы. Она, бледная как смерть, откинулась на спинку стула и судорожно схватилась руками за край стола.
– Это ложь! Ложь! Слышите? Ложь! – проговорила она, задыхаясь.
– Напрасно не верите, Олимпиада Сергеевна-с… Папаша, подтвердите, пожалуйста, мои слова, которым не доверяют вполне, – все так же приятно улыбаясь, произнес Андрей.
– Совершенно справедливо! – мотнул головой Аршинов, с недоумением посматривая на старшего сына. – Пировать так пировать! Нонче одна свадьба, завтра другая… Так, что ли, сват? – ударил он по плечу старика Алеева.
У Липы зазвенело в ушах.
Не верить Аршиновым Липа больше не могла. Да и ничего невероятного в женитьбе Сергея на Лещаковой не было: ей приказали выходить за Ивана, а ему – жениться на Лещаковой. Право сильного было на стороне родителей, детям же предоставлялось одно-единственное право: задушить в себе зародившиеся чувства и беспрекословно повиноваться родительской воле.
«Стерпится – слюбится!» – вспоминалась несчастной девушке поговорка, получившая в Замоскворечье с незапамятных времен права гражданства и превратившаяся в неотразимый аргумент родительского убеждения. Перед ней пронеслась целая фаланга подруг и знакомых девушек, таких же несчастных и лишенных всякой самостоятельности Липочек, Манечек, Верочек, которые так же, как и она, платили дань сердечному влечению и затем, рыдая и проклиная свою судьбу и деспотизм отцов, выходили под утешительную поговорку «Стерпится – слюбится», за тех, кого указывал им родительский выбор.
На душе у Липы от этих воспоминаний стало холодно и пусто. Она безмолвно уставилась на Андрея, с аппетитом убиравшего за обе щеки индейку, и на этом лоснящемся от жиру и невозмутимо спокойном и самодовольном лице читала свою будущую безотрадную жизнь.
«Все, кроме счастия!» – горько подумала она и чувствовала, как у ней на истерзанном сердце закипают жгучие слезы.
Обед кончился. Липа встала, шатаясь, из-за стола, спокойно поблагодарила стариков за хлеб-соль, причем старик Аршинов счел своим долгом расцеловать свою будущую невестку, чмокая ее сальными губами на всю залу, и подошла к окну, выходившему в сад.
– Иван, – раздался голос старика Аршинова, только что отчмокавшего стариков Алеевых, – ты бы показал Лимпияде Сергевне ранжереи наши.
– С удовольствием, папаша, – засуетился Иван, стремительно допивая стакан донского и торопливо вытирая губы салфеткой. – Олимпиада Сергевна, не угодно ли со мной прогуляться в сад и оранжереи?
Липа не слыхала его и продолжала смотреть в сад.
Иван покраснел, как рак, провел ладонью по голове и кашлянул.
Липа вздрогнула и с недоумением посмотрела на Ивана, гладившего свой затылок.
– Не угодно ли прогуляться? – повторил свой вопрос Иван.
– Куда прогуляться? – переспросила та, приходя в себя.
– В сад наш, посмотреть оранжереи-с.
– Пожалуй, мне все равно.
Иван, улыбаясь, подставил ей руку, свернутую кренделем, но Липа, не обратив никакого внимания на такую галантерейность, пошла навстречу спешившему к ней брату; лицо у Александра было озабочено, лоб нахмурен.
Он ласково пожал «крендель» Ивана и извинился, что похитит сестру на несколько минут.
– Я приведу ее к вам в сад! – бросил он жениху, торопливо отводя Липу в гостиную, где не было ни души.
– Липа, ты на себя не похожа, моя милая, – ласково пожурил он сестру, – помни, что ты не у себя…
– Знаю, Саша, знаю, – простонала та, – но если б ты мог видеть мое сердце…
– Липа, неужели я не вижу, как ты страдаешь?.. Надо победить себя.
– Легко сказать…
– Не заплачь только, ради бога… мамаша и я, мы оба просим тебя: будь мужественной…
– Хорошо, я знаю, что мне надо делать, но скажи мне, ради всего святого: ты веришь в то, что говорили о Сергее?
Александр потупился.
– Ты молчишь? Значит, это правда? Да?
– Как тебе сказать, – пожал плечами тот, – положим, я знаю Сергея за честного человека, люблю его, как брата, но… у него такой же отец, как и у нас…
– Значит, это правда, правда, Саша? Да? Да? – настаивала Липа, теребя борта жакетки Александра.
– Боже мой… успокойся, прошу тебя… ты в возбужденном состоянии…
– Я? Напротив, я спокойна, как никогда… Отвечай мне прямо и откровенно: он женится?
– То есть его женят, ты хочешь сказать, – это большая разница. Липа…
– Ну, женят… насильно женят… как и меня замуж выдают…
– Полагаю, что так, хотя и плохо в это верю.
– Разве ты заметил что? – с жадностью ухватилась Липа за сомнение брата. – Да говори же, говори, ради бога…
– Видишь ли… только успокойся ты, пожалуйста… Я не стану говорить до тех пор, пока ты не придешь в себя… и так уж за столом ты сидела приговоренной к смерти…
– Говори, я совершенно теперь спокойна, Саша… Видишь сам, как я спокойна… видишь?
– Беда с тобой просто… Говоришь, что спокойна, а сама меня душишь.
– Говори! – оттолкнула Липа от себя брата. – Ты не веришь в то, что Сергей женится?
– То есть не хочется верить… Все-таки было бы раньше об этом что-нибудь слышно… не правда ли?
– Правда, совершенная правда.
– И затем, насколько я его знаю, он мне непременно проговорился бы о том, что ему приготовлена невеста… Тебе еще он, может быть, и поостерегся это сказать, но скрывать от меня я положительно не вижу никаких причин.
– Правда, Саша, правда!
– Все это, вместе взятое, вызывает сомнение: но, с другой стороны, если б он был на фабрике, а не у невесты, что мешало бы ему написать несколько строк тебе или мне?
– И это правда, Саша.
– Тем более что он обещался мне писать каждый день. Я ему послал уже три письма и ни на одно из них не получил ответа. Ясно, что его нет на фабрике и что он действительно находится в имении Лещаковой.
– Бедный мой, бедный Сережа!
– Я спрашивал сейчас у Во всех отношениях, и тот недоумевает как относительно его женитьбы, так и относительно его местопребывания.
– Олимпиада Сергевна-с, ужли вам брат дома не надоел? – раздался за их спиной голос старика Аршинова. – Пожалуйте в сад, чай кушать.
Молодые Алеевы извинились и пошли вместе со стариком в сад.
У самой калитки стоял Иван с новым букетом и щурился от косых лучей садившегося солнца.
– Прошу принять, Олимпиада Сергеевна, – подлетел к ней Иван, – из своих теплиц-с.
Липа взяла букет и кивком головы поблагодарила его за любезность.
Старик Аршинов мигнул Ивану и, подхватив под руку Александра, увел его в оранжерею.
– Не угодно ли наши оранжереи осмотреть? – предложил снова Иван, идя рядом с Липой.
– Благодарю вас, когда-нибудь в другой раз, лучше пройдемся по саду.
– С удовольствием-с. Сад у нас очень хорош, и тени много, и воздух чистый, вот эта беседка в китайских вкусах, а энта, вон, в уголке, в русском штиле вроде избы.
Липа посмотрела на беседки и молча продолжала идти.
Иван снял цилиндр, вытер шелковым платком лоб и нагнулся к Липе.
– Олимпиада Сергеевна, у меня до вас маленькая просьба-с.
– Что вам угодно, Иван Афанасьич?
– Не сердитесь на меня.
– За что же я буду на вас сердиться?
– Ах, Олимпиада Сергеевна, неужели вы предполагаете, что я ничего не чувствую-с? Я много чувствую, да-с.
– С чем вас и поздравляю.
– Покорнейше благодарю-с. И чувствую я, и вижу все, у вас большое расположение к Сергею явилось, это так, я против ничего и не говорю: Сергей и красивей меня, и ученее, и барышням в разговорах потрафлять может.
– Как будто вы раньше совсем другое говорили, – проговорила Липа.
– Чужое я говорил-с… с чужих слов пел, а теперь я вижу все и очень вас сожалею. Простой я человек, Олимпиада Сергеевна, по-простому чувствую и говорю-с… Родители наши порешили нас соединить узами. Конечно, на это их воля, от Бога им ниспосланная, только, по моему мнению, союз наш будет совсем против совести… Вы мне очень ндравитесь, потому я никого не любил и не люблю-с… из женского сословия, а вы к Сергею симпатию имеете, следовательно, мне и вас от души жалко, да и себя тоже-с…
Липа остановилась и пристально посмотрела на Ивана.
– Какая моя жизнь? – продолжал Иван. – От родителей я ни жалости, ни ласки не видал, а от вас, окромя попреков, что ваше счастье загубил, ничего услыхать не надеюсь. А я ли, Олимпиада Сергеевна, гублю вас? Скажите на совесть?
– Нет, не вы.
– Говорил ли я вам, что влюблен в вас и желаю жениться?.. Не говорил-с. Просил ли я папашу, чтоб он меня на вас женил? Богом клянусь, слова единого не произносил… Жалости я стою, а не сердца-с…
– Я и не сержусь на вас, Иван Афанасьич, – с чувством пожала ему руку Липа. – Я вижу только, что мы оба несчастны. Вы женитесь на девушке, которую не любите…
– Позвольте-с… это неправда-с, вы очень мне ндравитесь…
– Но это далеко до любви, – покраснела Липа, выдергивая свою руку из пухлых рук Ивана.
– Почем знать-с?.. Сердца моего вы не знаете, а характеру и подавно. Я отчаянно могу влюбиться, ей-богу-с, да я и сейчас чувствую, что душу за вас готов отдать; в глазах у вас столько доброты ангельской, что так вот и тянет к вам. Я уж наперед знаю, что самый разнесчастный человек буду, обземь лбом буду биться, ноги ваши целовать, и заместо этого одно только равнодушие от вас получу.
– Вы, кажется, хороший человек, Иван Афанасьич, я так мало вас знаю.
– Узнайте-с, узнайте-с, Олимпиада Сергеевна, и ежели в ту пору скажете, что я ничего не стоящий в своей жизни – наплюйте мне в глаза…
– Скажите, почему вы не откажетесь от меня? Неужели вы не могли сказать отцу, что я люблю другого, что и вы, и я будем весь век несчастны?
– А вы говорили своему папаше?
– Говорила.
– И я говорил. А что из этого вышло? Нет, Олимпиада Сергеевна, против рожна прати трудно-с. На то воля наших родителей, они и в ответе за нас перед Богом… Скажите по совести, очень я противен вам?
– Кто вам сказал, что вы мне противны?
– Это не ответ-с.
– Другого и быть не может. Мои симпатии – для вас не тайна!
– Это к Сергею-с? Знаете, что я вам скажу, Олимпиада Сергеевна? Вам надо его забыть-с… Да-с!.. Не стоит он вашей любви, сердцем это чувствую, а сердце лгать не умеет-с…
– Ах, если бы я только могла забыть!
– Должны-с. Не стоит он вашего мизинчика, как перед Богом вам говорю-с. Ну, хорош он, умен, по-вашему, на разговоре собаку съел, а дальше что-с? Негодяй он, по моему нутреннему убеждению.
– Не смейте его ругать, он этого не заслужил.
– Он? Заслужил вполне. Не соперник ему эти слова говорить, а мужчина-с! Да-с! Мужчина! А всякая хорошая девушка, на мой взгляд, должна ценить в человеке не слово, не язык его, а поступки мужчинские… Извините, Олимпиада Сергеевна, может быть, я не ясно очень выражаюсь, но вы сами поймете меня-с… Настоящая, умная девушка не тряпку любить должна, а мужчину, у которого характер дубиной сломать невозможно, а не токмо что родительским приказом. Вы взгляните на меня хорошенечко, попристальнее-с, вот так-с, покорнейше вас благодарю. Что я такое на ваши глаза? Неуч, урод, папашенькин покорный слуга… Да не качайте головкой, ваше мнение я насквозь вижу, а полюби вы меня так, как Сергея любите, да разве я вас отдал бы кому-нибудь и женился на ком мне папашенька прикажет? Издох бы, удавился раз десять, утопился и вас бы с собою вместе утопил, это уж будьте покойны, а живою вас другому не отдал бы! Честью вам своею клянусь!
Липа смотрела во все глаза на разгорячившегося Ивана и ушам своим не верила: тот ли это человек, каким его создали и чужие разговоры, и собственное наблюдение?
– А он… верно женится? – спросила Липа.
– Кому охота вас обманывать… Рано ли, поздно ли сами об этом узнаете. Нет, Олимпиада Сергеевна, это не любовь-с: люблю за углом, а как папаша погрозил, так я за сто верст отскочил… Это… это негодяйство, по-моему, подлость-с… Да я бы на его месте за тысячу верст вас умчал. Сами не поехали, силой вас увез бы и протестов никаких не взял бы во внимание; любишь – иди за мной на край света, худо, хорошо ли нам там будет – сама увидишь, а колебаться не дозволю: тебе мука, и мне мука; тебе счастье, и мне счастье. Все наше, что Бог пошлет, а чего нет, того не взыскивай!.. Правду я говорю, Олимпиада Сергеевна, или нет?
Липа не ответила. Она сознавала больше инстинктом женщины, чем холодным рассудком, что Иван прав, и впервые в ее душе раздался горький упрек человеку, которого она считала выше всех и которому отдала самые лучшие порывы своего девического чувства.
Иван увидел, что по бледным щекам ее покатились слезы, и растерялся.
«Ну вот! – думал он, обмахиваясь платком. – Ах, шут возьми! Еще папаша подумает, что я ее в слезу вогнал. Беда с этими бабами! Ревут там, где смеяться надо, и хохочут там, где плакать требуется. Чем я ее растревожил? Кажется, все слова по папашиному да по братцеву рецепту говорил!»
– Олимпиада Сергеевна! – с отчаянием проговорил он. – Вы плачете?
– Я? Нет… я ничего…
– Какое ничего?.. В три ручья слезы льются. Наши папашечки бог знает что подумать могут… Меня обвинить могут, что я вас расстроил.
– Это я так, ничего… Я теперь совсем спокойна, видите? – улыбнулась Липа, отирая глаза.
– Ну вот и чудесно! А я страсть как перепугался.
– Вам жалко меня? Да?
– Ах, и не говорите, Олимпиада Сергеевна! – махнул рукой Иван. – А откуда у меня к вам такая жалость взялась, сам не понимаю.
– Спасибо вам за участие, вы хороший человек, Иван Афанасьевич, дайте мне вашу руку!
Иван расплылся в блаженную улыбку и, окинув победоносным взглядом Липу, повел ее в беседку, откуда доносился говор голосов и звон стаканов.
– А вот и мы-с! – проговорил весело Иван, вводя Липу в беседку и усаживая ее на стул. – Сестрица, – обратился он к жене Андрея, разливавшей чай, – позвольте чашку чаю Олимпиаде Сергеевне, только как можно послаще.
Липа покорно уселась в китайское кресло и машинально взяла чашку с чаем.
Иван, улыбаясь, подвинул Липе варенье, пастилу, апельсины и, закинув ногу на ногу, потянулся за стаканом.
Андрей вопросительно посмотрел на него. Иван поймал этот взгляд и ухмыльнулся в ответ, лукаво прищурив левый глаз.
По губам Андрея поползла довольная улыбка и утонула в стакане, который он поднес к своим раскидистым усам.
Липа была как в чаду. Словно во сне пережила она те два-три часа, в течение которых Алеевы оставались у Аршиновых. Ей казалось, что все, что ни говорила она, что ни делала, совершалось не ею, а другою, совершенно постороннею девушкою. Она видела и слышала, как эта девушка говорила, смеялась, целовалась со всеми, но она не чувствовала, что все это делала не кто другая, как она сама.
Пришла она в себя только дома.
Только тут, в этой маленькой, уютной комнатке с кисейными занавесками, со строгими ликами святых, выглядывавших из золотых риз божницы, она вспомнила все: и счастливые, радостные лица стариков, и красное, вспотевшее от волнения лицо Ивана, и обручение, и поцелуи, и шампанское, шампанское без конца.
Обручена!..
