Место для жизни
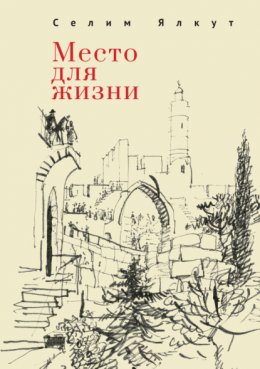
Осень в Израиле
В Израиле время течет по-особому. Конечно, суждения досужего наблюдателя не выглядят достаточно весомыми, но, нельзя не заметить, здешняя история и современность затасованы в одну колоду так плотно, что не знаешь заранее, какую карту из нее вытянешь. Не иначе, как сам Всевышний позаботился и затасовал. От Египта остались пирамиды, от Рима – Колизей, а где древнее население? Атлантиду до сих пор ищут, примерно там, где история вытекает из Всемирного Потопа. С Ноя что спрашивать, когда он сам чуть не утонул? Cпасибо, что слонов перевез. А с крокодилами поспешил, хоть в Израиле их до сих пор разводят на специальных фермах. И с Араратом непонятно, с какой стороны на него смотреть. В общем, есть проблемы…
Можете не верить, но время в Израиле не укладывается кругами, примерно, как причальный канат, а огибает Конец Света и движется дальше, присовокупив к старому, Ветхому Завету еще и Новый. Вечность подождет, в мире все так устроено. Савланут, савланут… что в переводе с иврита – терпение, терпение…
Израиль живет с понимающей и грустной улыбкой. Здесь, сейчас, и не иначе, как свыше. Пока есть, кому молиться и кому воевать. А там увидим. Почему нет, когда – да!
В центре Иерусалима, на улице Кинг Джорджа (Короля Джорджа) держится остаток стены старого дома с надписью Талифа куми. Встань и иди. Рядом скверик в несколько маслин с завлекающим Добро пожаловать, вход в магазин с модной одеждой, лестница, столики кафе – городской коктейль из сутолоки, архаики, азарта и коммерции. Здесь неплохо проповедовать, возвестить о близком конце света, потревожить спешащую на переходе толпу. Ей и так достается. Гремят взрывы. Рыжая красотка с забрызганным кровью лицом. Парень на носилках, ноги в джинсах мелко подергиваются. Растерянный чернокожий солдатик в еврейской молельной шапочке на проволочных кудрях. Ослепительные девушки, туристы, одежные манекены, ортодоксы-датишники – черный сюртук, шляпа, легкий наклон головы, плавные мягкие движения.
Небольшой оркестрик зарабатывает на жизнь. Аккордеон, скрипка, кларнет. Иногда кларнетист берется за саксофон. Блестящие чешуйки монеток, утренний улов в скрипичном футляре. Рио-Рита. Еврейские мелодии. Вальс парижских бульваров. Дорогой длинною. В Архангельском порту, стояла на шварту… Жанетта поправляла такелаж…
Перекресток старого Иерусалима.
Сердце города.
Лестница в небо
Гило – линия холмов, отделяющая Иерусалим от знаменитого предместья Бейт-Лехем или Вифлеем. Гило, как гребень волны, с двух сторон обрывается в арабский мир. С наружной – россыпь вечерних огней Вифлеема, с внутренней – усаженные туей, маслинами и низкорослым кустарником, выцветшие от солнца террасы, стекающие к арабским деревням, отделяющим Гило от самого Иерусалима.
Удивительнее всего на самой горе. Удивительнее тем, что мы не привыкли замечать днем. Небо. Вот что интересно именно здесь. Оно рядом и даже вокруг, горизонт во все стороны аккуратно заправлен под красную черепицу, накрыт ею для устойчивости. Горы ведут себя крайне деликатно, они не заслоняют горизонт. Купол будто поддут снизу, и сам наблюдатель сейчас не на земле, а внутри него – этого купола и пребывает в странном возбуждении, готов совершить нечто неожиданное. Можно прокричать небу, задрав голову и приставив руки ко рту, а еще вернее – попытаться залезть. Удивительное и вовсе невероятное где-нибудь в другом месте, кажется здесь вполне реальным. Если пытаться, то именно здесь. Особенно в сумеречный осенний день. Облака зависают над головой – пепельные, розовые, с белой подкладкой, движутся непрерывно, одно над другим. Так смешивают карты после очередной игры, прежде чем собрать их в колоду и продолжить партию. Наблюдая за этим движением, почти невозможно отказаться от мысли, что делает это кто-то там наверху, уже чуть заметный в кружении калейдоскопа. Вот она проступает холеная кисть игрока в случайном солнечном луче, блеснет дорогим камнем и скроется. Нет ничего достовернее иллюзии. Она не обманет, есть еще нечто там внутри, в акварельных многослойных просветах, выдох-вдох, опять выдох, движение расправленных легких, грудной клетки. Вот приоткрылась ослепительная синева, вновь меркнет, потом, как на экране, видишь биение сердца, темную пульсирующую тень в окружении прозрачной дымки, таинственной, как сбросивший листву лес. Вечер. Мерный шум небесной раковины, приставленной к самому уху. И наблюдатель, захваченный игрой воображения, внутри этого движения. И готов действовать. Разве этого недостаточно, чтобы увидеть сон, который когда-то приснился Иакову? Лестница, ведущая в небо, буднично приставленная к просвету в облаках, как к лазу на чердак. По лестнице снуют ангелы, вверх-вниз. Ангелы заняты делом, так рабочие готовят сцену, меняют декорации, так внимательные официанты готовят праздник, угощение. Иаков, как бывает с первым гостем, пришел слишком рано, застал последние приготовления. Вот они деловито копошатся – небесные жители. Странно, конечно, что ангелы пользуются лестницей, как простые смертные, а не летают. Возможно, наяву Иаков увидел бы их именно летающими. Но знаки редко даются озабоченному дневному сознанию. Доктор Фрейд додумался до того, что было давно известно. Иаков первым опустил свой сон в мировую копилку знаменитых сновидений. Потом к приходу доктора их были там уже тысячи – сны перед битвой, перед болезнью, изменой, любовным свиданием, роковой встречей, внезапным богатством, предательством, насильственной смертью – перед каждым из предчувствий, предсказаний, надежд, страстей, и внезапным окриком судьбы. Иаков был первым в бесконечной череде. Камнем, на который клал голову во время сна, он отметил место и назвал его Вефиль – Дом Божий. Как можно было назвать его иначе, после того, что он видел? Он встал со сна другим. Стало ясно, куда возвращаться, скитания обрели смысл. Прежде чем провести линию, нужно поставить кончик карандаша в исходную точку. Определить место.
Лестница – хорошее нужное приспособление, особенно если один ее конец упирается в облака. Ясно, что не заведет в гнилое, гиблое место. Наверху лучше и чище. Под горой, в месте, где заканчивается мусульманская деревушка, и автобус въезжает в город, стоит малопонятное, на первый взгляд, сооружение. Это она. Лестница Иакова. Настоящая лестница, скелет, с ребрами на просвет. Стремянка, как положено, постепенно сужающаяся к верхушке и напряженно изогнутая, как трап к самолету, только круче. Указатель – Вефиль. Мы его как раз проезжаем. Сегодня лестница не достает до облаков, они чуть выше. Ангелов не видно. Вокруг осенняя явь, сумеречный пейзаж, начало большого города.
Самые знаменитые восхождения в небо совершались именно отсюда. Не в Непале, не с космодромов, без многотонного альпинистского снаряжения и огнедышащих ракет. Первая ступень, вторая ступень… Ничего нет этого. Мохаммед подъехал, слез, привязал коня, тоже, кстати, за камень, их здесь так много, что без камней нигде не обходится, хоть строить, хоть побивать, и полез сквозь семь небесных сфер, пока не добрался до самого Аллаха. Конь остался ждать хозяина, тоже ангельского происхождения с павлиньим хвостом. Таким его запомнили очевидцы. А до него еще один вознесся. Ангел отвалил камень от входа в пещеру, где лежало тело. И еще сидел, дожидался, пока подойдут люди. Убедился и только тогда исчез. И все они, кто поднялся отсюда, возвращались. Оставим сомнения сомневающимся, их не переубедить. И не нужно. Сомнения можно скрыть под иронией, отправив на небо самого барона Мюнхаузена. Но кто оставит камень здесь на земле и назовет его Вефиль – Дом Божий? Оставит, чтобы вернуться.
Дорога на Бершеву
На юге осень приходит незаметно, мелкими шажками, чуть потревожит и отступает. Медлит, тянет время, дает привыкнуть прежде, чем утвердится окончательно. Дождик прошел, тучку занесло. Небо побелело и выцвело. Постепенно подступает это настроение и смиряешься с ним легкомысленно, без огорчения северян – что было и прошло. Этого нет. Тут ничего не запасаешь впрок – ни загара, ни дров, ни банок с вареньем. Зачем? Осень – не сезон, а, пожалуй, передышка от бесконечного знойного лета. Только станет надоедать, и вот уже Иудейская пустыня пылает буйным весенним цветом.
И все же самые сильные ощущения дает именно осень. Страна проступает в ней загадочно и размыто, как проступают абрисы и силуэты из-под плывущего над землей тумана. И пытаешься угадать, что там, в этом сумраке, и сам туман кажется растекшимся беспокойным временем, в которое вглядываешься почти наугад, что там за завесой. Осенний сумрак сродни тревоге, поселившейся в беспокойной еврейской душе. Она там, и, кажется, навсегда.
В такое бессветное осеннее утро, еще до шести, я вышел на дорогу и стал ждать автобус на Бершеву. Предстояло совершить междугородний переезд длиной в два часа. Расстояние здесь измеряют временем, ровно через половину страны. Сами можете судить. Автобус подкатил мягко, я вошел, и сразу окунулся в сосредоточенное молчание рано вставших людей. Впереди еще сидели, а дальше сонные запрокинутые головы торчали, ни одна прямо, а сломленные сном. Мест сзади казалось много, но я решил остаться при входе и уселся наискось от водителя. Не оборачиваясь, он сказал резко, я не понял – кому и что, но сзади, от молчаливых мужчин объяснили на русском. – Это он вам. Пересядьте. Вы закрываете обзор. – Родной язык забывается так, как подступает глухота, человек перестает его слышать и говорит от того громко и будто спотыкаясь. Впереди сидели офицеры или старослужащие, больно серьезны были их лица. Я взял сумку и послушно отправился вглубь автобуса, ощущая себя в некоторой степени изгоем. И удивился, потому что с виду полупустой автобус оказался полон. Везде спали, не заметные из-за высоких спинок, и везде погромыхивало, позвякивало в такт убаюкивающему плавному движению. Повсюду в проходах были свалены мешки и, небрежно растыканное между сиденьями, стояло и лежало оружие. Все выглядело на редкость буднично, даже полудетские белесые в утреннем свете лица парней и девочек, которые явно не хотели терять времени и старались удержать единственное, что еще осталось от воскресенья – несколько минут беспокойного дорожного сна. Cтранный мир подростков с оружием, без радостного ожидания игры, мир без приключения, кипучей романтики, мир работы и обязанностей. Это было ощущение войны. Мое поколение не испытало его, оно лишь присутствует, как растворенная в крови углекислота, и отзывается, не узнанное и не пережитое, слабым напоминанием прошлого. А здесь все наоборот – известное до последнего закоулка сознания, перетекающее из недели в неделю, изо дня в день предчувствие хрупкости и неизбежных потрясений. Взрывов, крови, расставаний и потерь, и в этой будничности – изнанка жизни этой страны, ее выбор и стойкость в каждодневном и привычном утреннем разъезде.
Остановились на окраине Иерусалима. Девочка в хаки, в очках, с золотой цепочкой в распахнутом вороте армейской формы – удивительно узнаваемая еврейская девочка-подросток садилась в автобус. Она догнала нас на мотоцикле и теперь стояла под окном, прощаясь со своим парнем. Она еще о чем-то договаривалась, явно рассчитывая на близкое будущее, и в этом тоже была особая надежда войны. Она целовала, взяв в руки голову возлюбленного и притягивала ее, будто пила, запрокидывая к своему лицу пластмассовую луковицу шлема. Прощались у нас на глазах, вернее, на глазах тех, кто не спал, потому что кроме водителя и меня, никому до этой сцены не было никакого дела. Прощались безоглядно и жадно, но водитель не торопил, будто понимание этих минут входило в его прямые обязанности. Мотоциклист развернулся назад к Иерусалиму, она вошла, измученная прощанием и всей ночью, последние хлопья которой расплывались и гасли, открывая время бессолнечному дню. Она опустилась напротив, на единственное незанятое место и тут же уснула. Мы скатились с горы, буднично проехали деревню Вифлеем, и все так же, погруженные в дремоту, покатили сквозь арабские деревни вглубь страны.
Лавки были еще закрыты. Они выходили прямо к дороге, сплошь расписанные причудливой арабской вязью, ее изящном плетением, с острыми зазубринами, мягкими полуокружиями, и темными точками поверх взволнованной глади письма, знаки непонятного алфавита всматривались в нас своими зрачками. Надписи звали к восстанию. Все стены были сплошь заполнены чернью и сочащимся алым, в подтеках, в избытке ярости и гнева. Целыми кусками было закрашено, будто цензурой. Так, впрочем, и есть. Легко догадаться, большой фантазии не требовалось.
Арабские городки плотно заставлены, будто слеплены из цельного куска, и ползут, растекаясь по холмам, перебивают соты жилищ столбиками минаретов и скупыми пятнами зелени, а поверх слитой воедино массы, выступая навстречу небу, свободно расставлены среди пальм просторные белые особняки и дворцы. Городок на холмах, как книга, распахивался сразу весь с его вбитой в камень безнадежной заурядностью и убожеством и выставленной напоказ кичливой завершенностью богатства. Тяготы бытия и опоры миропорядка над ними, за окнами автобуса – молитва и авторитет.
Остановка. Базарчик у дороги, стол, раннее чаепитие стариков в черных одеждах и белых головных накидках, перехваченных шнурками. И тут же высокая насыпь с колючей, накрученной мотками проволокой, вышка, обычная вышка лагеря, наверху два солдатика с оружием, досужие и настороженные, полулежат, навалившись на ограждение. Устроились прямо над этим базарчиком, над составленными вдоль дороги ящиками, с шлейфом рассыпанных фруктов, над ощутимой даже издали неопрятностью, над этими стариками, городком из глины и камня, неохотно встречающим бессолнечное ноябрьское утро. В автобусе проснулись, засобирались. Стали выходить, забрасывают оружие за спину и бредут гурьбой к посту, над которым свисает недвижно полинялый, выцветший и, пожалуй, рваный флаг со звездой Давида. На всех военных постах, мимо которых пришлось проезжать, они были точно такими – затрепанными, и нигде не новыми, молодцеватыми, обещающими праздник и скорую победу. Нигде не было флагов столь далеких от парада и торжества. Врытый в землю танк, ряды проволоки, насыпь вокруг лагеря, брезент огромных палаток.
И так вдоль всего пути. Деревни лениво просыпаются, открылись лавки, стайки подростков бездельно толпятся возле авторемонта. Мягкая волнующаяся линия гор сопровождает движение. Чахлые сосны, ржавые потеки осыпи, каменные изгороди, рассекающие склоны, терраса за террасой, ряды олив, тусклые слюдяные отсветы, серая, затертая в пыль земля, виноградники, укрытые от птиц многометровыми полотнищами. И вновь террасы, набегающие на дорогу, будто поворотом циркуля выхваченные из первозданной неопределенности, плоские, уложенные кругами холмы, ничто не задерживает взгляд, одинокие, затерянные под низким небом фигуры. Бедуин гонит корову, поперек безжизненного косогора, среди бесцветной выгоревшей земли, отчего сам его поход кажется загадочным и бесцельным. Арабка, тянет ослика, еще две, перебирают камни на распаханном поле, земля усыпана этими камнями, будто только их она рождает с завидным и отупляющим постоянством. Горелые остовы машин, брошенные на обочине, как раньше бросали павших лошадей, оставляя гиенам, ветру и солнцу довершить остальное. И еще пост, и еще флаги с упрямой звездой, выбеленные солнцем, изодранные яростным ветром пустыни, брезент бесконечных палаток, руки часовых на винтовках.
Автобус пустеет, выходят все, офицеры и старослужащие, ребята и девочки. Идут без строя, гурьбой, только молодежь кажется немного потерянной. Привычка к войне и оружию не дается просто, солдатами нигде не рождаются. Как и местные подростки, казалось бы, безразличные к нашему автобусу и его пассажирам. Обруч мира, стягивающий эти деревушки и городки, кажется таким непрочным. Только насыпь, проволока, стволы во все стороны, изодранный флаг. Здесь нет передовой и нет тыла, здесь нельзя словчить и выгадать, здесь все равны. Тут, на оплавленном солнцем плоскогорье, среди этих городков, среди камня и металла, среди нетерпимости, подозрительности и вражды тянутся линии судеб. Здесь крайние сразу все, кто не стал прятаться, кто готов принять эту участь и ответить перед своим Г-подом.
А вот, даже удивительно, затесался ортодокс в сюртуке и шляпе, черных туфлях, будто списанный с персонажей Дж. Свифта. И с неизбежной духоподъемной книгой. И тоже спешит куда-то.
Танец
Бершева (Беер-Шева) двадцать пять лет назад, быстро растущий израильский город, прилепившийся к Иудейской пустыне, знаменит бедуинским базаром. Шуг – базар, и репатрианты, быстро освоившие торговое пространство нового языка, так и говорят – сходить на шуг. Сюда заворачивают кочевые племена бедуинов, свободно пересекающие границу между Израилем и Иорданией. Это несомненная примета Востока: война – войной, но торговля – торговлей. Поскольку к бедуинскому племени не приставишь таможню, здешняя толкучка славится низкими ценами. Более всего знаменита коммерция украшений – бесчисленные сережки, броши, цепочки из серебра, втрое ниже, чем в любом другом месте Израиля. Пока караван идет, в оазисах стучат бойкие молоточки, плавится металл в тигельках, тянется серебрянная нить. Среди бедуинов немало русскоязычных, вполне узнаваемых, часть грузинских евреев вернулась к кочевому образу жизни. К чертям земледелие, тучные нивы и тощие пастбища, да здравствует коммерция и бог ее Меркурий. да здравствует изобилие кочевых шатров до отказа забитых футболками, джинсами, платьями, юбками, рубашками, бельем и прочим ширпотребом. Пригород Бершевы с разглаженной грунтовой дорогой в ухабах, с кучами сбитого в камень песка незаметно переходит в пустыню и растекается в мареве, не оставляя даже чахлого кустика равнодушному взгляду, только пыльный жар, за которым дальний берег Мертвого моря, где нет ничего израильского, где Иордания, и тяжелый от зноя восток, утыканный нефтяными вышками.
С городской окраины пустыня представляется безликой и неинтересной. Уже за полдень оттуда к базару выходит группа молодых людей. С виду американцев, может быть, европейцев. Высокий красавец в бурнусе, слегка небритый, устраивается, лежа на боку, на базарный прилавок, выкладывает на себя длинную трубу, поддерживает ее снизу голой пяткой. Труба исторгает хриплый звук гoлодного мычания. Или страстного, так лучше. Под мычащим прямо под рундук усаживается его приятель, одетый вполне цивилизованно – в черную майку и шорты, он с парочкой небольших барабанов, похожих на половинки арбуза. Есть еще третий, тоже с трубой современного вида. Они хорошо сыграны, быстро начинают восточную мелодию, задают монотонный ритм. Играют профессионально, не иначе, как джаз ориентального, так называется все, что связано с востоком, направления.
Суть зрелища в девушках, взявшихся танцевать тут же на выбитом в камень проходе базарного ряда. Их двое. Привлекательная рыжая, одетая в сари/ она работает только руками, раскачиваясь в ритме музыки. Погоду делает ее напарница. В прозрачных шароварах, в платке, повязанном наискось, оставляя открытыми плечо и живот, грациозная, с красивым сосредоточенным лицом, застывшим, как маска, она заполняет пространство, очертив круг плавным циркульным движением вытянутого вперед носка. Выверен каждый шаг, жест. Танец однообразный, мерный, волнующий, сладострастный. Тянется долго. Руки не стихают, не останавливаются ни на мгновение, будто водоросли шевелятся под невидимым течением в глубине вод. Каждый всхлип трубы, постоянный рокот барабана, призывный рев восточного инструмента – все переплавлено в танец. Круг за кругом, страстные конвульсии живота, луч солнца, скользящий по лицу, застывшая маска царственной куклы, озноб тела. Труба уступает пространство звука барабану, выжидает, вновь вступает, рвется бешеный вой. Танцовщица движется, нанизывая, наматывая круги невидимой нитью, блестящая птица в огромной клетке из золота и жара предвечернего солнца, потом замирает, начинает опадать, ниже, распластывая тело, уходит, как в пучину, в твердь базарного пятачка, под ногами вялых от жара зрителей, тянется уже по земле, еще и еще, замирает в шпагате, уронив голову, застывает между базарных рядов. Глаза толпы. Покупателей немного. Последний удар раздается над ней, уже неподвижной, визгливо мычит труба и взбрыкивает барабан. Наступает тишина. Она держит ее долгую минуту, никак не меньше, вокруг молчат, народ застыл, только поодаль в овощном ряду перекликаются мальчишки, собирают нераспроданный товар. Тут из базарной харчевни вываливают толстяки – оплывшие щеки, масляный блеск, золото во рту, мелкая угольная щетина. Смотрят на распростертую с сытым интересом, оценивают. Она сейчас встает, медленно, будто со сна, загипнотизированная собственным движением и его внезапным обрывом, финальным рывком в тишину, берет с прилавка сброшенную туда большую черную шляпу и идет с ней по кругу. В глазах нет ничего, ни выражения, ни отклика, они остановлены, взгляд ее видит сейчас только себя, и тот мир, в который она покинула буквально вот-вот. Если подают, она благодарит полупоклоном, легко, по балетному, чуть присев и отведя назад ногу. Руки движутся. Лицо скрыто оцепенелой улыбкой. Что за ней – благодарность или презрение? Что заслужили мы – зрители? Что смотреть ходили вы в пустыню? Как клялся когда-то Ирод обольстительной танцовщице – чего не попросишь у меня, дам, вплоть до половины моего царства. Голова – вот достойное вознаграждение, легенда, голова с потухшими глазами, голова на мраморном прилавке мясных рядов в небрежно затертых подтеках крови… Шум далекого пира доносится, кажется, не исчезая вовсе, искусство требует жертвоприношения – буквально и немедленно на наших глазах. Мир застывает на мгновение, и, гася магию предания, откликается трезвым голосом века. Те, кто мог быть укрощен ее гневом, чувствуют. У них свое оружие, своя сила. Толстяк с презрительным выражением достает бумажку, танцовщица подходит, замирает в привычном полупоклоне, тянет шляпу, облегчая встречное движение, а он теперь медлит, деньги липнут к руке. Вот его власть, его месть. Почти не меняя линии благодарного поклона, она чуть распрямляет спину, поднимает голову и глядит. Та же улыбка, ничего не меняет. Он держит деньги, даже оглядывается на приятелей и только потом стряхивает деньги щелчком и презрительно, именно как подачку, в шляпу. Возьми. Таков его ответ, вызов на равных. Вот цена ее красоты, ее танца, вот приговор презирающего cытого высокомерия. Она идет дальше, ничем не выдав себя. А музыканты, не обращая внимания на сборщицу, заняты своим, подхватывают инструменты и идут прочь. За базаром. Там дорога раздваивается, одна – в город, другая – к близкой пустыне.
Страна изобилия
Вениамина М. я раньше не знал, хоть среди общих знакомых знать его полагалось. Про него – еще до отъезда человека вполне взрослого и самостоятельного – так и говорили: – Как вы не знаете? Этот тот самый М. – сын доцента М. Считалось, что не знать доцента М. совсем невозможно. Другие корни генеалогического древа Вениамина М. были для меня неизвестны, но доцент в тогдашнее советское время звучало почти как титул. Тем более, что титул, как известно, можно было купить за деньги (Ротшильд когда-то так и поступил), а доцента так просто не купишь. Раньше так было. Сейчас в подземных переходах запросто продают Трудовые книжки и всякие Дипломы. Но зачем теперь покупать доцента, когда почти за ту же цену можно купить профессора или академика? Сам Вениамин дело доцента М. продолжать не стал и отбыл в Израиль. Тогда это было связано с трудностями, но теперь времена переменились, и сын доцента появился у нас, как скворец из пионерской песни, возвестивший приход весны. Конечно, сравнение натянуто и может быть использовано лишь с одной целью, показать, что, вернувшись, Вениамин попал как бы в другую страну. И потому знакомые, пережившие эти годы безвыездно в наших краях, говорили с волнением: – Вы знаете, приехал Веня М. – сын доцента М. (вы его должны помнить). Совсем другой человек. Сами увидите.
Свести нас обещал общий приятель. Меня интересовала судьба израильских друзей, разделивших в те давние годы Вениаминову участь первопроходца. Да и сам я, признаюсь, задумывался, наступает время, когда хочется перемен. Встреча с М. назрела. Приятель сообщил, что М. заедет к нему на работу, и по пути домой они могут быть у меня. Бывших земляков передавали друг другу, как драгоценные сосуды, исполненные, если не мудрости, то полезной информации. И еще неизвестно, что важнее.
Давно это было, теперь молодежь не поверит. Время для организации застолья было не простое, но бутылка водки и банка рыбных консервов у меня имелись. Я сходил за редиской и стал дожидаться гостей, надеясь, что М. окажется не слишком привередливым. Но не дождался. Оказалось, с утра он отправился в недальнюю провинцию к родителям жены. Его представления о пригородном сообщении явно устарели, автобусы не ходили по причине отсутствия бензина, и наш иностранец вернулся домой лишь к ночи. Состояние счастья определяется ценой усилий, затраченных на его достижение, так что странник вернулся очень счастливым.
Вскоре М. пригласил меня к себе. Квартиру ему оставили (или сдали?) давние знакомые. Когда я пришел, М. разговаривал по телефону. Он был невысок, благообразно седовлас и покрыт равномерным средиземноморским загаром. Сейчас в середине мая загар смущал. У нас М. оказался проездом по пути в Скандинавию. Что-то в этом было подлинно европейское, отправиться в путешествие загоревшим и свежим, а вернуться цвета белых ночей. Сразу видно хозяина собственной судьбы. Захотел и поехал. В Скандинавию? А почему нет? Мне такое было в диковину.
М. проводил меня в комнату, устроил на диване, а сам вернулся к телефону. Разговор длился не менее часа и был для меня поучителен. Звонила школьная учительница английского языка, из тех, что десяток лет живут гамлетовскими сомнениями (женщины им тоже подвержены), собирают информацию, взвешивая шансы, а затем эту информацию перепроверяют при каждом удобном случае. За этот час я узнал об Израиле больше, чем за всю предыдущую жизнь. Сведения были сугубо практические, вплоть до цен на свет и воду в различных районах Иерусалима. Это не была специальная коммерческая информация, просто учительнице было важно знать все. Когда включают отопление. По каким показаниям удаляют желчный пузырь. С какого возраста принимают на работу в массажный салон (племянница очень хочет), и какие нужны для этого рекомендации. И правда ли то, что про эти салоны говорят. Судя по размаху интересов, у учительницы была большая родня, и каждый хотел извлечь из М. что-нибудь полезное. Часть разговора я пропустил, потому что задремал, и открыл глаза, когда Вениамин объяснял в каком возрасте лучше всего делать обрезание.
Из разговора М. вышел чуть уставшим, просил называть его запросто Веней, и мы отправились на кухню пить чай с печеньем. Чая в продаже не было, Веня заварил хозяйские остатки сразу на все время пребывания в Киеве и теперь понемногу освежал, добавляя кипяток. Печенье после очередного подорожания не заслуживало прежнего пренебрежительного отношения. Как и было задумано передовыми экономистами, переход к капитализму проходил поэтапно. Вначале повышали цены (и это теоретически правильно!), потом следовало ждать, когда в соответствии с неумолимыми законами рынка новые собственники рассуют по карманам плоды приватизации и начнут насмерть сражаться друг с другом за благосклонное внимание потребителя. Так мы теперь назывались. И ничего личного.
Моих израильских друзей М. не знал.
– Почему-то принято считать, – назидательно сказал он, – что в Израиле все друг с другом знакомы. Но Израиль сравнительно большая страна. Люди разные, из разных стран. Я, например, работаю с эфиопом.
– С эфиопом?
– Да, с эфиопом. Специалист по технике безопасности. Не слишком крепкий? (Это про чай). Или долить? Берите сервилат. Можете руками. Вилки куда-то подевались.
Колбаса была невиданного оранжевого цвета. Я откуда-то знал, что оболочкой настоящей колбасы, по крайней мере, с гордым названием сервилат, служат кишки животных (промытые, конечно). Так я считал и теперь, и поэтому никак не мог придумать, какое из живых существ, кроме канарейки, может иметь подобную окраску. И быть съеденным. Но сам М. отнесся к колбасе благодушно, и я не стал привередничать.
– Я тоже работаю по технике безопасности. – Пояснял Вениамин (я так и не смог перестроиться и сохранил за М. полное имя). – А это – профсоюз. Рабочая партия. Авода. Но не рекомендуется обсуждать, кто за кого голосует. Я за Аводу.
– А эфиоп за кого?
– Не знаю. Хоть эфиопы консервативны. Я же говорю, мы это не обсуждаем. Я и дома не обсуждаю. Жена моя, например, за Ликуд.
– А Ликуд – это кто?
– Правые. Сторонники капитализма, если так, в целом.
– А на семейных отношениях не сказывается?
– Конечно, единодушие лучше.
– Как у Владимира Ильича с Надеждой Константиновной?
– Не идеализируйте. Там тоже были сложности.
Просто вы не все знаете.
– Знаю. Открылись глаза.
– Жена едет на Мертвое море. – Сказал М., предупреждая дальнейшее обсуждение непростой темы. – Плохо с суставами. Каждый год ездит. Знаете, там у них был курьезный случай. Старушка – бывшая балерина, а у балерин суставы – профессиональная болезнь. Шли друг за другом, в море выгорожены специальные бассейны. Держались за поручень, как в балетном классе. Она ногу высоко подняла, решила молодость вспомнить. А назад вставить не может.
– Куда вставить?
– В море. Нога легкая, а вода плотная от соли, как резина. Не принимает. Так и стояла, нога лежит на воде, и ни в какую. Пока впереди не спохватились. Она последней шла. Утонуть там нельзя, но вы же понимаете, как в таком возрасте на одной ноге. Это вам не маленький лебедь.
– Старенький, скорее…
– Море здорово помогает. Приедете, сами увидите. – М. глянул на часы. Я не переставал восхищаться благородной золотистостью его загара.
– Ого, полтретьего. В шесть ко мне должны придти. Давайте сходим в магазин, по дороге еще вспомните. Спрашивайте…
По доброте душевной Вениамин не терял надежды рассказать что-нибудь, специально для меня. А мне, как назло, в голову ничего не лезло.
М. захватил пустую банку. – Для кваса. – Пояснил он. И мы отправились. Бывший Гастроном поражал безлюдьем. Белые полки уходили куда-то в перспективу зала. Я испытывал неловкость. Нынешним переменам я не сочувствовал, и тут радоваться было нечему. Что подумают иностранцы? Раньше об их мнении заботилась мнительная советская власть. Но теперь этой власти не осталось, и ответственность легла на мои плечи. Прибедняться не хотелось, а гордиться было пока нечем. Прошлое ушло, а будущее еще не наступило. Оставалось настоящее, во всей своей застывшей белизне, каким оно представляется философу–идеалисту или полярнику.
Но полки не были пусты. Все они были заполнены прозрачными кулечками с непонятным содержимым белого цвета. – Мука? – Подумал я, удивляясь (муки никак быть не могло), и попытался пошутить: – Прямо, кокаин. – У нас как раз пошли голливудские фильмы с такими на вид кулечками.
– Крахмал. – Коротко пояснил М. Он был сосредоточен и не отвлекался.
– Зачем? – Спросил я. – Окна заклеивать?
– Нужно чем-то полки заполнить.
Тоже правда. Мы бодро продвигались в глубину зала. М. явно что-то искал. – Здесь она должна быть. Здесь. – Он разбросал мешки, похожие на сошедшую с гор снежную лавину, и я увидел под ними знакомый цвет. М. подхватил оранжевый батон, и одинокие, как геологи, мы направились дальше.
– Угу. – М. повернул в соседний ряд. Видно, он хорошо знал местность. Я плелся следом. Здесь крахмала было меньше, но был. М. вытащил кулек, поднял над головой, встряхнул и остался недоволен. – Нужно было сразу брать. А теперь раскрошилось.
Внутри кулька я распознал печенье. – Ложкой можно есть. – Предложил я. – Ложки есть?
– Есть.
– И мы двинулись дальше. – Три часа. – Сказал М. Я понял, что он действует по какому-то плану. – Сейчас хлеб должны завезти.
И действительно, где-то в недрах магазина раздался шум, и стали таскать лотки с хлебом. Замелькали люди. Но мы были первыми. М на ходу подхватил две свежие булки. Он справлялся с ситуацией, будто не покидал страну, не пережил многолетней разлуки.
– Все-таки Чернобыль много съедает. – Сказал я, извиняясь. – Дети.
– И селедку? – М. спросил на ходу. Он весь был в поиске.
– Что, селедку?
– Почему селедки нет?
Ответа я не нашел, а М. не спрашивал. Мы еще раз прошлись по магазину. М. зацепил загорелой рукой трехлитровую банку с огурцами. Огурцы были похожи на запчасти от колесного трактора, что обязательно появятся на исстрадавшихся от социализма полях и огородах. Более подходящего сравнения я не нашел, а М. поставил банку обратно, вытер руку о прилавок и выразил нелепое желание купить торт. – Их должны подвезти вместе с хлебом. Я видел в прошлый раз. – Сказал он упрямо.
Но раз на раз, как известно, не приходится. – Ладно, печенье есть. – Сказал Вениамин, не унывая.
Мы вышли из магазина. Шел мелкий дождь. Май в этом году оказался неласковым.
– Интересно, – сказал М., – какая в Копенгагене погода? А то я зонтик не взял. Удивительно, в Иерусалиме жара началась, и у меня из головы совсем вылетело.
– В Копенгагене, наверно, зонтики есть. Предположил я.
– Сейчас у нас на зонтики большая скидка. Пояснил М. – А в Копенгагене вряд ли. Ничего, может, дождя и не будет.
Под навесом, как бы вопреки сумеречному пейзажу, стояла бочка с квасом. Совершенно никчемный по нынешней погоде объект выглядел как оптимистическая примета подступающего капитализма. Вениамин рванулся, высвобождая из кулька пустую банку. Квас продавал человек восточного вида. Он, видно, распознал в М. иностранца, заполнил банку до краев и почтительно закрыл полиэтиленовой крышкой.
М. вышел под дождь, обвешанный покупками и, видимо, довольный собой. – Частный сектор. – Сказал он. – И в дождь, и в ветер.
– И в звезд ночной полет… Давайте, банку понесу. – Предложил я.
– Ничего. – Сказал М. – Кулек израильский, выдержит.
Аргумент был сильный, и мы отправились домой. М. тащил на себе трубу сервилата, булки, вздувшийся кулек с печеньем и банку с квасом. Мне он так ничего и не доверил.
– Ходили–ходили. – Уныло сказал я. – А толком ничего не купили.
– Да вы что – М. повернул ко мне загорелое иностранное лицо и сказал, почему-то понизив голос. – Да вы что. – Он сделал попытку развести занятые покупками руки. – Это не слыханно. Ведь это за доллар. Ну, два от силы. Не больше. – И пошел быстрее, видно, опасаясь, что в гастрономе пересчитают цены (они и вправду прыгали каждые два часа) и бросятся за нами в погоню.
Из семейной хроники
У меня было три тетки. Они вспоминаются все вместе, объединенные родством, как цветы в полевом букете, скромное цветение каждого усиливает и оттеняет окраску всех остальных. В отдельно взятой судьбе всегда, как кажется, царит случай. Только сопоставив ее с другими, особенно, родственными, и взяв, в свою очередь, такое сопоставление как точку отсчета для этих других, видишь, что закономерность прячется, как тень, позади случайности, то становясь заметной в беспощадном свете сравнения (тогда мы говорим: – этого и нужно было ждать), то исчезая, казалось бы, бесследно, когда критерий для сравнения отсутствует. Надеюсь, вы понимаете…
Старшая из теток недолго была замужем. Она состояла в партии с двадцать седьмого года и была человеком идейным. Между разводом и партийностью существовала, надо думать, определенная связь. Идеологическая одержимость не знает компромиссов. Она ориентирована на мир героев и соратников по борьбе, где мужу с его мелкими слабостями и вульгарным аппетитом просто нет места. Своего единственного сына Леонида тетка воспитала в том же несгибаемом духе. Я смутно помню его лейтенантские погоны и уважительное (с голоса родственников) название войск – пограничник. Он, очевидно, был хорошим служакой, много лет отбыл на Камчатке и Курилах. Там – среди штормов, снегопадов и катастрофической неустроенности быта еврейская национальность не помешала ему дорасти до майора и даже послужила (зная Леонида, я уверен, что именно так и было) дополнительным стимулом в повышении боевой и политической подготовки. О его сыне – моем племяннике этого не скажешь, но речь сейчас не о нем.
Две другие тетки были беспартийными и имели мужей. У одной – Давид, у другой – Лазарь. У Давида в то время, о котором пойдет рассказ, родилась девочка Лина, а у Лазаря такое же событие должно было случиться буквально на днях. Забегая вперед, скажу, что это был Виктор – мой двоюродный брат. Так обстояли семейные дела в августе сорок первого года, когда им нужно было эвакуироваться. Собрались все, кроме тетки-коммунистки, которая отправилась рыть окопы и в городе отсутствовала. А уезжать пришлось немедленно. Штаб военного округа, где служил мой отец, спешно снарядил эшелон для семей сотрудников. Были места, и отец помог устроиться, всем в одно купе. В отдельный вагон загрузили продовольствие. То ли печальная судьба города была известна штабным лучше, чем остальным, или сыграли роль родственные чувства, в общем, продуктов не пожалели. Среди неумолимо надвигающейся беды они оказались устроены так, что можно только мечтать. Осталось выбраться из города.
Сидели в вагонах неотлучно. Эшелон мог отойти в любой момент. Мост через Днепр раз за разом бомбили немцы, приходилось выжидать, чтобы проскочить между налетами. Стояла страшная жара. Только бы немцы не разрушили пути. Тут на станции загремел репродуктор и объявил, что все мужчины девятьсот пятого тире девятьсот десятого года рождения подлежат мобилизации и должны явиться в военкоматы по месту жительства. Давид и Лазарь глядели друг на друга и слушали, как репродуктор раз за разом попадает в даты их рождения с точностью, которой не хватило в тот день немецким летчикам. Мост впереди уцелел, дорога была открыта. Репродуктор долго хрипел, прежде чем отключился.
Давид встал, потер ладони, будто разогревал их перед работой, и стал вытаскивать на свет чемодан. Он был рабочим на мебельной фабрике и успел укрепить чемодан металлическими уголками.
– Ты что? – Тихо спросил Лазарь.
– Как что? Ты разве не слышал? Нужно идти. Я удивляюсь, что они нас до сих пор не призвали.
– Куда идти? – Заволновался Лазарь и выглянул в коридор. Места были заняты плотно. Слышали все, и их одногодки тут были и тоже слышали, но никакого движения не ощущалось. Ни звука вокруг, приходилось разговаривать вполголоса.
– Куда идти? – Драматически повторил Лазарь. – Мы уже едем. Едем.
– В военкомат. – Упрямо сказал Давид. – Ты же слышал.
– Ненормальный. Какая разница, что я слышал. А если бы я не слышал. Если бы я в туалете был. Или спал. Я очень хочу спать. Если бы не эти бомбы, мы бы уже были там. – Лазарь махнул рукой, показал направление. – Так что, мы виноваты? Нас здесь нет. Нет, ты понял? Ты видишь, все сидят. Никто никуда не идет. Сколько среди них девятьсот пятого года. Я тебя уверяю.
– Но мы здесь. – Возразил Давид. – Слушай, очень прошу. Ты должен остаться. Мужчина обязательно нужен. – Он показал на жену, застывшую в странном оцепенении, погладил по голове дочь и кивнул в сторону второй тетки – жены Лазаря. Та сидела, откинувшись, уперев руки в скамью. Большой живот мешал дышать, к тому же – жара, не хватало воздуха. Виктор должен был появиться со дня на день. Давид оглядел четырнадцатилетнего Леонида, который был готов оспорить слова об отсутствии мужчин, но больше говорить ничего не стал. Теперь он задумался над чемоданом.
– Ладно. Ничего брать не буду. Домой заскочу, а там дадут все, что нужно.
– Но мы уже едем. – Сказал Лазарь с отчаянием. – Ты что? Послушай, у меня идея. Давай подождем полчаса. Если будем стоять, я с тобой пойду. Точно пойду. Договорились. Так или нет?
– Будьте здоровы. – Давид показал, что вопрос решен, поцеловал дочь, а двинувшуюся было жену остановил рукой. – Не ходи за мной. Вы езжайте. Скоро все кончится, через несколько месяцев, и встретимся.
– Я совершенно мог этого объявления не слышать. – Сказал Лазарь, ни к кому не обращаясь, когда Давид вышел. – Я уже давно мог спать. Как только мы переедем мост и не будем нервничать, я лягу. А что делать?
И тут же тронулись. Так быстро, что успели увидеть Давида, он сосредоточенно шел по тропинке рядом с насыпью. Пыльное окно было закрыто, он не разглядел их. Встал и махал кепкой, пока эшелон не прошел.
Больше Давида никто не видел, кроме дедушки. Давид зашел попрощаться по дороге в военкомат. От Давида дедушка узнал, что наши уехали благополучно. Все это дедушка написал в единственном письме, отправленном до того, как вошли немцы. Он сообщал, что в городе спокойно, неожиданно много продуктов, и он иногда сомневается, стоило ли уезжать. За себя он точно рад, что не поддался на уговоры. Тем более, сейчас, когда начала спадать жара, бабушка чувствует себя намного лучше, и они, освободившись от заботы о детях, все время проводят вместе. Бабушка болела сердцем и, как выяснилось спустя несколько лет, успела умереть своей смертью. А дедушка почти сразу после ее похорон отправился в Бабий Яр. Он был верующим, когда-то преподавал по воскресеньям в еврейской религиозной школе. Я думаю, он собирался спокойно: дети успели уехать, жена умерла. Иегова позаботился, избавил его от тревоги за близких.
Дедушкино письмо, как и единственная открытка от Давида, пришли до востребования в конечный пункт назначения эшелона. Почта тогда в военное время работала лучше, чем сейчас в мирное. Давид сообщал, что его определили солдатом, вот-вот будут отправлять, и теперь он, зная, что семья в безопасности, совершенно спокоен за будущее. Эта открытка сохранилась. Чернила порыжели от времени и стали похожи, как ни банально сравнение, на запекшуюся кровь. Вместе с открыткой Лина хранит справку из Министерства Обороны – ответ на запрос, где сказано, что ее отец действительно служил в воинской части за номером таким-то и пропал без вести. С открыткой Лине повезло. В ней был указан номер полевой почты. А иначе, как докажешь? Так бы Давид и ушел с поезда бесследно.
Тетка, которая рыла окопы, успела выскочить из города буквально под носом у немцев. Она оказалась в Астрахани, куда перебрался и ее сын Леонид, прежде чем подошло его время отправляться на войну. Он успел, захватил последние месяцы, и даже солдатскую медаль За отвагу успел получить за бои в Венгрии. И куриной слепотой успел переболеть прямо в окопе. Как ему все это удалось, не представляю.
Остальные жили на Урале. Лазарь остался единственным кормильцем, тетки работали попеременно – нужно было нянчить детей. Прощальный наказ Давида Лазарь выполнил сполна. На производстве Лазарь сначала был рабочим, но потом выдвинулся и стал начальником участка по производству козырьков для офицерских фуражек. Нужное дело, хоть и не первое, которое приходит в голову при мысли о войне.
Настоящий успех пришел к дяде Лазарю после войны, когда родственники вернулись из эвакуации. Он стал фотографом. То было озарение, дар свыше. Зная беспокойную натуру дяди Лазаря, ничего лучше придумать было невозможно. Он неплохо зарабатывал и без конца влюблялся в женщин, которых фотографировал. Кажется, он готов был трудиться бесплатно. Это был непрерывный волнующий процесс, в котором работа с пленкой, реактивами, фотобумагой служила второстепенным дополнением к творческому акту, досадной данью за высокие минуты вдохновения. Главное было, конечно, в самих моделях. Тут дядя Лазарь намного опередил время. Вся витрина его заведения была сплошь завешана фотографиями хорошеньких женщин. Теперь на месте этой витрины огромный массив Союза Художников со скульптурами муз, налепленными на пустой фасад, а тогда места были непарадные, затертые годами прозябания и войны. Дома, как и люди, пропадают в безвременьи – безликие, унылые, неопрятные, с сырыми подворотнями, встроенными сапожными будками, приемом старья… и среди них единственная витрина на вековом заборе – застекленная, с замочком сбоку. Еще шаткая калитка во двор, наружная лесенка в тамбур… и дядя Лазарь собственной персоной. И, что удивительно характеризует целомудренную простоту того времени, витрина с фоточками оставалась целой зимой и летом, без взлома, вандализма или похабщины. Представьте себе. А ведь было на кого поглядеть. В витрине дядя Лазарь демонстрировал плоды вдохновения. Те давние фото были будто прообразом нынешних бронзовых муз, и, если говорить о некоем особом духе (теперь говорят – ауре) этого места, то дядя Лазарь, бесспорно, способствовал его зарождению. Как человек, подправляющий самого Творца, он, очевидно, мог называться художником, и сам, кстати, никогда в этом не сомневался. Витрина пользовалась успехом, сняться у дяди Лазаря считалось престижным. Он был тонкий знаток и психолог. На портретах женщины сидели (единственная поза, которую тогда можно было вообразить) удивительно разные, кокетливые, неприступные, надменные, улыбчивые, со строгими косами, уложенными венчиком, с легкомысленным перманентом, с короткой прямой стрижкой, открывающей шею, вернувшей довоенную моду после трофейных фильмов и одного нашего отечественного. Секретная миссия, если помните, где холодная красавица в эсесовской униформе оказалась трогательной московской комсомолкой и погибла за рулем авто, пытаясь вырваться из горящего Берлина. Какие то были кадры! На экране – весна сорок пятого, предвестница безнадежно забытой мирной жизни. И та же весна в душе дяди Лазаря. Он никогда не говорил: – сфотографировал, сделал фото, снимок, а только – портрет. Сделал портрет. Не иначе. И он был прав.
Можно представить, как точным движением скульптора он брал в свои руки женскую головку, как касался чуткими пальцами щек и розовой мочки уха, как изменял поворот, наклон лица, приближал подбородок к вытянувшейся с готовностью шее или, наоборот, удлинял линию, запрокидывая голову, чуть назад и вбок, от чего сами по себе приоткрывались зовущие губы, отходил для прикидочного осмотра, вновь возвращался, подправлял посадку, и раз, и два, не уставая, пока не достигал совершенства, выдвигал чуть вперед теплое плечико, не забыв отряхнуть с него невидимые равнодушному глазу пылинки, как пощелкивал пальцами укротителя над своим ухом, уточнял, пытался зафиксировать переменчивое направление женского взгляда, ловил, да что там!, создавал его выражение, каждый раз свое – кокетливое (глазками в сторону и чуть вверх), томно влекущее (исподлобья), роковое (и это удавалось), как последним жестом, уже прикидочно глянув в глазок аппарата, помогал распустить на виске локон страсти, приглаживал его, отстранясь, ловил перспективу, еще раз проверял свет, накидывал на голову черную попонку и – внимание, снимаю – изящно отводил в сторону крышку объектива, держа на отлете мизинец с артистическим ногтем, тронутым желтизной проявителя. Можно вообразить, как он создавал свою наивную и самоуверенную фотомодель и тут же влюблялся, и ликовал, и погибал, подобно альпинисту, под вызванным им самим обвалом.
То были его звездные дни. Можно вообразить, с какой неохотой дядя Лазарь возвращался по вечерам домой, в убогий флигель, застрявший в ряду таких же двухэтажных и одноэтажных домишек, выстроившихся вокруг большого шумного двора с его корытами, тазами, развешанным бельем, деревянным туалетом в дальнем углу, окольцованным белой полосой хлорки, двором, где все давно знали друг друга до последней картофелины на дне кастрюли с борщом, где он по-соседски, почти бесплатно снимал застолья, свадьбы, похороны, где его тонко организованная натура фотомастера должна была уживаться с пролетарской бесцеремонностью какого–нибудь дяди Коли и даже подыгрывать ему во избежание пьяного недоразумения.
В единственную комнату нужно было проходить через крохотную кухню, где постоянно гудел примус и запах керосина густо висел в воздухе, тетушка не только использовала горючее по прямому назначению, но и смазывала горло моего брата Виктора, излечивая его этим ненавистным средством от частых ангин. Что может быть досадней и пошлей для переменчивой натуры артиста, чем наш убогий послевоенный быт? Теперь мне смутно помнится, под влиянием настроения дядя Лазарь несколько раз уходил из дома. Тогда в детали меня, естественно, не посвящали, а сейчас выяснять уже не у кого, да и незачем. Поэтому я вспоминаю те давние события, как бы в отраженном свете, через случайно застрявшие в памяти и непонятые тогда впечатления детства, в частности, обиды моего отца, который нежно любил тетушку и не прощал дяде Лазарю его романтические порывы. С годами похождения дяди Лазаря, однако, становились короче, а периоды постоянства продолжительнее. Достоинства его интересной внешности слабели, добродетели тетушки проявлялись все очевидней, так что путем вычитания и сложения утвердилась крепкая семья. Наконец, как положено по закону соцреалистического жанра, счастье полностью восторжествовало, и дело завершилось получением новой квартиры, покупкой телевизора, мебели и, главное, кухни, на которой тетушка могла сполна проявить выдающееся кулинарное умение. Газовая плита сменила примус. Это была одна из верных примет того времени. Мудрая доброта тетушки и умение выслушивать, не перебивая, привели в их дом множество соседей, знакомых, родственников, сотрудников по кинофабрике, где тетушка всю послевоенную жизнь работала монтажницей. С нашей точки зрения, это было прекраснейшее место, на уровне кондитерской фабрики, а для культурных запросов – намного выше. Тетушка приносила Виктору кадрики из Тарзана и других шедевров, которые мы раскладывали по спичечным коробкам, а потом пускали через проектор на простыню, дополняя пробелы в изобразительном материале устным рассказом.
Приходили даже бывшие поклонницы дяди Лазаря, и тетушка, поднявшись над былой драмой, давала советы, чтобы, исправив любовную ошибку с ее легкомысленным супругом, они не повторили ее с кем-нибудь другим – более коварным и жестокосердным. Эти интересные подробности рассказала мне Люда – жена моего брата Виктора, красивая русская женщина совершенно славянского вида. Русоволосая сероглазая и к тому же учительница русского языка и литературы. Люду Виктор привез из Калининграда, где отбывал срочную армейскую службу. Там, на территории бывшей Восточной Пруссии Люда не имела о евреях ни малейшего представления, и первое, оказавшееся удачным, мнение сложилось у нее при общении с Виктором. Тетушка закрепила успех. В результате Люда стала горячей защитницей еврейского народа и получила настоятельную рекомендацию не посещать политинформации для педагогического коллектива. В школе, где она работала, ближневосточной проблеме уделялось немало внимания, а Людино мнение о евреях отдавало, по мнению лекторов, махровой сионистской пропагандой. Новообразованные слова как раз создаются для уточнения, так сказать, по факту сложившейся ситуации, и тут можно заключить однозначно, нравится это кому–нибудь или нет – Люда под влиянием тетушки объевреилась.
Спустя много лет я встретился с дядей Лазарем в больнице, куда его привезли с желудочными коликами. Подозревали пищевое отравление, нужно было понаблюдать дядю Лазаря пару дней, с пятницы до понедельника. Дядя Лазарь лежал в коридоре. Привезли его по скорой, в таких случаях привередничать не приходится, кладут на первое попавшееся место. В субботу я дежурил по больнице и заглянул к нему.
На дяде Лазаре была шелковая китайская пижама, называвшаяся Дружба. Под ней обнаруживалась голубая майка, чуть несвежая, как бывает, когда больного увозят из дома внезапно, неподготовленного. Мягкий живот дяди Лазаря зарос курчавым волосом и легко поддавался нажиму моих пальцев. Боли он не испытывал, хотя внимательно прислушивался к перемещениям моей руки, будто мы вместе общими усилиями искали нечто важное там внутри, и, пока я проводил инспекцию, он контролировал результаты своими средствами.
– О, здесь немного болит. – Быстро говорил дядя Лазарь, чтобы я не проскочил нужную точку. Моя рука забралась глубоко, почти под грудину. – О-о, болит. А ну, нажми еще раз. Да-а. Здесь немного болит.
– Все будет в порядке. – Сказал я твердо. Мою уверенность следовало передать сейчас дяде Лазарю. Он бдительно следил за моим лицом, пытаясь уловить следы сомнения в благополучных результатах осмотра.
– Ты думаешь, ничего нет?
– Все в порядке. – Я похлопал его по животу, натянул майку и запахнул пижаму. – Это вы что-то съели.
– Но откуда оно может быть? – Теперь, когда опасность миновала и приобрела новый сладостный оттенок счастливо завершенного приключения, дядя Лазарь не хотел расставаться с темой.
– Ну, мало ли. – Я старался, чтобы слова не выглядели легкомысленно и, вместе с тем, не заронили тревоги за будущее. – Съели, наверно, что-нибудь.
Дядя Лазарь лежал трогательно беспомощный и доверчиво смотрел на меня снизу вверх. Испуг еще таял в голубых глазах, не желая уходить окончательно. Обычный румянец покрывал щеки, только слева выполз тонкий склеротический паучок. Дядя Лазарь облизывал языком большие влажные губы, выдававшие гурмана и жуира, будто проверял устойчивость приятного состояния выздоровления, еще не доверяя ему окончательно, как слишком легко доставшейся победе.
– Ты же знаешь, как она готовит. – Сказал дядя Лазарь, имея в виду тетушку. – А я ничего не ел. Одни сырнички.
Опасаясь, что разговор выйдет на второй круг и, не желая ставить под сомнение кулинарные способности тетушки, я предположил:
– Ну, значит, что-то другое. Не обязательно дома.
– Зачем? – Удивился дядя Лазарь. – Зачем я буду где-то есть? Кому это нужно. Я тебе говорю, я ел одни сырнички. Свежие сырнички.
– Может быть, сметана.
– Сметана? – Задумался дядя Лазарь. – Нет, вряд ли. Мы всегда берем сметану у одной женщины. Если бы магазинная, я понимаю.
Я молчал, причину отравления установить не удавалось.
– Они тоже ели. – Сказал дядя Лазарь с легкой обидой. – И она сама ела. И Виктор, и Люда.
– И что?
– То, что видишь. Им ничего. А я здесь. Может, что-то другое?
– Самое настоящее пищевое отравление, – сказал я уверенно, – которое уже полностью прошло.
Дядя Лазарь лежал, не шевелясь, и доверчиво держал меня за руку, поглаживал, а когда его рука замирала, я, в свою очередь, похлопывал по ней, подтверждая, что все, действительно, в порядке. Седые волосы вокруг голого темени были подстрижены длиннее, чем следовало, выдавая былую принадлежность дяди Лазаря к творческой профессии, и живописно лежали на подушке. В полосатой пижаме дядя Лазарь выглядел благообразным пожилым джентльменом скромного достатка и смахивал, пожалуй, на Господа-творца в изображении Жака Эффеля, только без нимба, который, если честно, он не очень заслужил.
– Все будет хорошо. – Мы расцеловались, и я встал. Дело было зимой, началась эпидемия гриппа, родственников к больным не пускали. Как врач, я по-хозяйски переходил из отделения в отделение. Это придавало моему посещению дополнительную значимость. Я представил дядю дежурной медсестре и попросил уделить ему максимум внимания.
– Ты еще зайдешь? – Спросил дядя Лазарь на прощанье, чуть беспокоясь, на всякий случай. Свой человек, да еще врач в больнице придает уверенность.
Но в понедельник его уже не было. Он ушел в воскресенье утром под расписку, что снимает с медиков ответственность за свое здоровье. И мы не встречались несколько лет.
Возвращаясь ко второй тетке – жене пропавшего Давида, можно отметить, ее послевоенная жизнь оказалась совсем небогатой событиями. Замуж она больше не вышла, сама воспитала мою сестру Лину, много лет работала кассиршей в книжном магазине. Оттуда Лине кое-что перепадало. Я, как сейчас, помню первое послевоенное издание графа Монте-Кристо – два блестящих ящеричной зеленью тома с золотым тиснением на обложке. Какое это было сокровище. Сама тетушка ничего не читала. Из всей родни она была самой молчаливой, замкнутой, погруженной в себя. В гостях сидела особняком, почти не участвуя в общем разговоре, отвечала, когда спрашивали, и тут же гасла. Казалось, так бы и осталась сидеть, если бы ее не тормошили перед общим уходом. Говорили, что Лина очень похожа на тетушку в молодости. Вообразить это совершенно невозможно, Лина – человек веселый и шумный. Я думаю, тетушка так и не смогла распрямиться после потери, так и протащила ее сквозь всю жизнь до конца. Конечно, многие потеряли за войну мужей. И Давид, как видно, в тылу бы не усидел, не зацепился, пошел бы на фронт, и там, вполне вероятно, погиб. Это так. Но то, что она не отстояла его тогда, в те роковые минуты, не встала на пути, не повисла на шее камнем, не сунула ему в руки орущую Лину, не вцепилась в него, не продержала его те несколько мгновений, которые только и оставались до отправки эшелона, то, что она не сделала этого, а смотрела, не в силах постичь, что он уходит, вот так, просто уходит из ее жизни – это сломило ее раз и навсегда. Все мы с определенного возраста отсчитываем пройденную дорогу назад, до того перекрестка, где судьба могла сложиться иначе, повернуть не туда. У кого-то таких перекрестков несколько, а у тетушки оказался только один, и она так и осталась на нем, застывшая в своей беде, как жена Лота. Мне кажется, перед смертью она должна была испытать облегчение, освободившись от воспоминаний о единственном августовском дне, через который так и не смогла переступить.
Дольше остальных сестер прожила старшая тетушка – коммунистка. Она была добрым человеком. С годами идеология, казавшаяся когда-то главным делом жизни, ушла в глубину тяжким грузом сомнений. Только в суждениях она, пожалуй, оставалась категоричнее остальных. Конфликт между здравым смыслом, оболганной историей и счетом собственной памяти оказался для нее чем-то вроде самоедского романа, растянутого на многие годы и оборванного вместе с жизнью. Она пережила своих сестер, как бы выполняя некий общественный долг, и ушла, как сходит капитан с мостика тонущего корабля, убедившись, что все возможное сделано и сделано правильно. Последние годы она болела, и жизнь явно была ей не в радость.
Наиболее счастливой, бесспорно, оказалась жена дяди Лазаря. Я хорошо помню ее похороны. Был конец зимы. Свежий холмик посреди затоптанного грязного снега наспех обнесли проволокой. Хоронили густо, впритык друг к другу и родственникам следовало, не мешкая, позаботиться о некотором пространстве вокруг могилы, вплоть до сооружения постоянной ограды. Столбы и проволоку привез Линин муж. Он обещал сделать и все остальное, на его заводе постоянно выполняли такие левые заказы. Уже надели шапки, рабочие вскинули на плечи лопаты, все потянулись к автобусу. Как вдруг, вперед выступил дядя Лазарь. Это было неожиданно. Еще минуту назад он стоял между сыном и невесткой, и, казалось, сам нуждался в помощи. Я заметил, что он сильно постарел. Но тут он неожиданно сорвался с места и, оббегая, стал заворачивать назад к могиле.
– Идите сюда. – Кричал он. – Идите все сюда.
Он был в страшном, никогда мной не виданном возбуждении. Встал над самой могилой, внутри ограждения, среди влажной, свежевырытой земли, и, не видя, не слыша никого вокруг, достал ветхий рассыпающийся на страницы молитвенник, нашел нужную страницу и стал читать. Мало кто понимал, всего несколько стариков, остальные языка не знали. Но страсть была неподдельной. Читал дядя Лазарь довольно долго, повышая голос почти до крика, потом чуть смирял, разбавляя рыдание задушевной доверительной нотой, шел скороговоркой, просил, страдал, вновь проникался пафосом. Закончил чтение в полном изнеможении. Виктор взял отца под руку и помог переступить через проволоку, вернуться к живым. И сразу, как будто выпрошенное молитвой, вышло солнце, и снежная кладбищенская поляна под высокими соснами зажглась удивительным розовым светом.
Детали дальнейшего пребывания дяди Лазаря в нашем городе я оставляю за кадром. Они, с моей точки зрения, ничего не добавляют к теме. Единственное ощущение, которое можно передать, и так хорошо известно. Нет ничего более унылого, чем пятиэтажки шестидесятых годов с их затхлыми подъездами, сбитой до штукатурки краской, щербатыми перилами и дверьми под пыльным дерматином с ползущей наружу грязной ватой. Конечно, и здесь у каждого по-своему, но общее впечатление крайне унылое. Здесь тоскливо жить семьей и почти невозможно одному. Время замирает до полной одури и уходит бесследно, не запоминаясь.
Потом дядя Лазарь с семьей сына переехал в Израиль. Он был уже совсем стар и достаточно инертен. Поселились они в Хайфе в живописном арабском районе посреди города над самым морем. Район этот, уходящий с берега в гору, сейчас наполовину пуст. Большинство жителей сбежало во время Войны за независимость Израиля и пока не возвращаются, видно, ждут радужных для себя перемен. Но Аллах, озабоченный проблемой всемирной гармонии, мудр и справедлив не только к собственным чадам, и воля его скрыта за пологом неопределенности. Перемены явно не предвидятся. Тем не менее, дома берегут. Собственность священна, и дома должны простоять сто лет, прежде чем право прежнего владельца будет считаться утраченным. Самих домов время касается меньше всего. Серые коробки с пустыми черными окнами, с частыми небрежными следами пожаров, как будто размытой слезами косметической тушью, они рассчитаны на вечность. У здешнего камня достаточно упрямства стоять, сколько потребуется. Поэтому сами дома кажутся одной из форм горного скалистого склона и близкой пустыни, только более точной – этаким наглядным пособием по геометрии. Говорят, ровная линия убивает архитектуру. Вот этого здесь не скажешь. Человек одолжил у Бога прямую и пользуется ей, игнорируя подсказки природы – силуэт гор, изгиб морского берега, человек сам хозяйничает, размечает пространство под бытие, под жилище и кладбище. Земли здесь маловато, зато неба хватает на всех. Квартиры в арабских домах без большого комфорта, но дешевые, многие эмигранты начинают новую жизнь именно отсюда. По вечерам на улице темно, малолюдно и неожиданно шумно. Близкий порт оживляет здешнее захолустье, добавляет перца. Сюда сходятся наркоманы и дамы с репутацией – публика нервная и горячая, отоспавшаяся за день, жаждущая денег и кайфа. Недоразумения, впрочем, по местной традиции решаются криком, значит, мирно. Из всех возможных неудобств – это самое безобидное и для эмигранта – романтика поневоле вполне приемлимое. Только окна приходится закрывать на ночь.
В один из вечеров Люда заметила всплывшую над близкой горой ярко красную звездочку. Пока звездочка, подмигивая, плыла ей навстречу, Люда успела поразмыслить над природой необычного явления, загадала желание (что бы все было хорошо) и даже позвала Виктора вместе полюбоваться интересным зрелищем (такие маленькие открытия запоминаются и украшают новую жизнь). Но тут таинственная точка застыла, будто раздумав двигаться дальше, и резко пошла вниз. Раздался сильный взрыв. Завыли сирены. Объяснялось просто. Они приехали в Израиль во время Персидского кризиса, и точка оказалась иракской ракетой, выпущенной по местному нефтеперегонному заводу. Конечно, это можно было предвидеть, но все равно событие вышло неожиданным. Ракета не долетела до цели, упала, к счастью, на пустыре, но шума наделала много.
– Надевай противогаз. – Скомандовал Виктор. Как мужчина, он чувствовал ответственность.
– Ты думаешь? – Усомнилась Люда. Внизу под окном суматошно визжали женщины.
– Надевай. – Частые войны приучили израильтян к нерассуждающей дисциплине. Такова важная часть их патриотизма. Каждый должен беречь себя во имя общего выживания. Люде – русской душе привыкать было тяжелее остальных.
– Нужно щель под дверью заткнуть мокрой тряпкой. Распоряжался Виктор. – Объясняли ведь.
– Тогда завтра и противогаз наденем. – Сказал Саша – сын Виктора. Он рвался в армию и тяготился скучным тыловым бытом.
– Не умничай. – Прикрикнул Виктор, раздавая сумки.
– Сначала на стариков.
– Правильно. Давай, на деда натягивай. И ты, Люда, кончай курить. Газ не почувствуем.
Люда выключила свет и приникла к окну. Луна разбросала черные тени. Сирена выла, не переставая. Люди метались, выпадая из света во тьму.
– Папа, слушай Сашу. Ну что, все надели? – Сам Виктор натянул противогаз последним. Некоторое время сидели, глядя друг на друга. Потом дядя Лазарь стал трясти головой, пытаясь избавиться от спасительного устройства.
– Папа. – Виктор ткнул пальцем в окно, а потом показал себе на уши. Можно было понять: – Потерпи. Скоро все кончится. Слушай отбой.
Люда что-то говорила сквозь маску, но слова не были слышны. Только зря размахивала руками.
– Ты чего? – Жестом спросил Виктор. Люда отчаялась объяснить и сорвала противогаз.
– Как он может терпеть, когда вы ему кран перекрыли?
Действительно. Виктор глянул дяде Лазарю под маску и торопливо повернул вентиль. Грудь дяди Лазаря заходила, жадно вдыхая воздух.
Сирена утихла. Отбой. Противогазы можно было снять. – Еще в армию собрался. – Недовольно сказал Виктор сыну. – Папа, ты как?
Внизу стало шумно, улица оживилась. Полиция была занята в других местах и не мешала здешней счастливой жизни. А повод, как-никак, был.
– Люди веселятся. – Отметила Люда с завистью. – Одни мы сидим. Да еще в противогазах.
Тревоги повторялись каждый день. Ночные девы снялись хлопотливой стаей и отправились в центр города. В море встал на якорь американский авианосец, прогулочную стометровку утюжили бравые матросы. С ними было спокойнее. Но тише не стало. На горе Кармаль, которая амфитеатром опоясывает Хайфу, американцы установили перехватчики. Теперь иракские снаряды засекали со спутников в момент пуска, и ракеты поднимались им навстречу со страшным скрежетом и воем. Сирена, по сравнению с ними, казалась музыкой. Гора Кармаль была местом, известным из Библии. Здесь в пещере жил когда-то пророк Илья, известный огненным восхождением на небо. Теперь времена в чем-то повторились. Впрочем, вполне счастливо. Ни одна ракета больше не упала на город. Двое стариков умерли от сердечного приступа, не вынеся жуткого грохота. Семья Виктора дисциплинированно надевала противогазы. Хорошо смеяться, когда тревоги позади. Наконец, война закончилась, авианосец ушел, и прежние обитатели улицы заняли свои места. Люда открыла окна и стала приводить их в порядок. Первая счастливая примета мира запомнилась ей с младенческих времен.
– Теперь будем спать только с открытыми. Пусть орут, пусть делают, что хотят. Боже, как хорошо.
После войны Хайфа украсилась небольшой достопримечательностью. У перекрестка, от моря и в гору, стоит большой камень, даже кусок скалы, еще водруженный на фундамент. Каменный бок, обращенный к улице, идет гладкими уступами, вполне подходящими под сиденья, даже со спинками, устроиться можно удобно. С утра камень находится в тени, а вид с него открывается замечательный: прямо – на море, порт, а если присесть боком, приятно ощутив рукой прохладу скальной поверхности, – на перекресток, всегда оживленный в кипении южной толпы. Утром дядя Лазарь выходит из дома. На нем шорты, полотняный пиджак, чистая рубашка и жокейская кепка с большим козырьком и белой строчкой – MONTANA. Из-под кепки спаренными зеркалами блестят очки. Дужка чуть ослабла, и очки скошены на сторону, придавая облику дяди Лазаря небрежный шик. Дядя Лазарь, помогая себе руками, взбирается на самый верх, занимает место и погружается в приятнейшее созерцание. Сначала он провожает взглядом домашних, которые расходятся по делам, а потом с терпением натуралиста отдается наблюдению местной жизни. К морю он – человек сухопутный равнодушен, зато людской поток изучает с интересом, привычно выбирая хорошеньких женщин и провожая их медленным движением головы.
Следом за дядей Лазарем появляется длинный старик араб в белой бедуинской одежде. Накидка на голове перехвачена черным шнуром. При виде дяди Лазаря араб недовольно и громко ворчит. Раньше это было его законное место. Но будущее, как известно, принадлежит тем, кто рано встает, и опоздавший устраивается чуть ниже, на уровне сандалий дяди Лазаря. Араб тут же берется за четки и успокаивается. Но пейзаж и сейчас не полон. Спустя час выходит старуха-арабка, укутанная, как муж, во все белое, наружу торчит лишь резное личико состарившейся дамы пик. С самого утра старуха занята по дому и только сейчас присоединяется к компании. Старик араб не жалует и ее, разражается недовольным кудахтаньем, но жена, как и дядя Лазарь, не обращает на скандалиста никакого внимания. Ей достается место у ног мужа. Теперь композицию можно считать завершенной. Сидят они долго, несколько часов, в полном молчании, никак не интересуясь друг другом. Первым уходит дядя Лазарь. Люда возвращается с курсов (она учит иврит) и кормит дядю Лазаря обедом. Араб тут же занимает освободившееся место и сидит там до самого вечера. Раз в неделю картина меняется. Араб обнаруживает, что тронное место с утра пустует. Это его день, похоже, он победил настырного еврея. Араб забирается на самый верх и гордо восседает, как символ постоянства и долготерпения старой Хайфы. Но на следующий день дядя Лазарь возвращается. В пропущенный день он сдавал (натощак) кровь и мочу на сахар и теперь (с хорошими анализами) вновь занимает свое законное место. Араб ворчит в этот день громче обычного, потом смиряется и принимается за четки. Жизнь – есть жизнь, ее не переспоришь.
Осень в Акко
Есть видения, которое сопровождают с детства, сплавляя воедино образы книг, игры воображения, и собственного опыта – на взгляд, на слух, наощупь. Они – надежда на будущее, реальность иллюзии, той, что зовется мечтой. Они так и остаются – как кажется, не сбывшись. И встречают снисходительную усмешку, немного мечтательную, но все-таки снисходительную усмешку взрослого. С детством покончено. Затерявшись в общем строю, среди трудной работы, отмерянной импульсами света и тьмы – день-ночь, день-ночь… год за годом… (время – единственный командир над всеми сразу), мы окончательно расстаемся со сказкой.
Да, это так. Но есть особенная страна, отделенная от суетного мира. Она живет в воображении, напоминая все реже (ведь случай никак не представится), есть еще место, куда среди всех забот и тревог важно добраться. Там – предел, там – воплощение и рай, в который хотим заглянуть еще при жизни, убедиться, что он существует, не создан из легенд. Это – не химера, и первое впечатление должно стать предугаданным открытием. Только так можно придать фантазии достоверность – видом картинки, подтверждающей правоту воображения. Итак, вот что мы видим, поверх и вопреки меркантильной озабоченности бытием…
Громаду крепостной стены, встающей (это не образ, а именно то, что мы сейчас видим) прямо из моря, каменные ступени, уходящие в пенную глубину, рыжий пятак пристани, вымоченный в соли, залитый светом, сверкающим, как верхушка ромовой бабы, тронешь пальцем и ощутишь расплавленную клейкую массу.
Свет упрощает форму, заменяет объем электрическим контуром, плывущим под напором жаркого воздуха. Звуков не слышно, они пока не нужны и возвращаются постепенно. Сначала только картинка.
Запах, вот что приходит следом – растекшийся плотный рыбный запах сырости и тяжелой шевелящейся массы, отливающей изяществом и блеском смерти. И морозный, новогодний аромат давленых апельсин. Детство не знает банальностей, здесь ничего нельзя спутать. Избыточность слов еще впереди, готовит взрослый мир, в котором торжествуют самолюбие и успех, лицемерие и расчет. А здесь, в далеком прошлом все просто, можно не проверять.
Постепенно картинка насыщается звуком. Все, как в кино. По движению губ трудно определить происходящее, нужно действие, движение сюжета.
– Звук, – свистят в зале, – звук, сапожники… И вот он – звук, звуки, и теперь уже повторный придирчивый досмотр, сличающий призрачную игру воображения с достоверностью видимого.
Теперь нужно находить и наблюдать. Лодки, взобравшиеся на камень набережной, вперемешку с потрепанными автомобилями. Гирлянды белья на сахарной цитадели, крепкие сети, обвившие подножье стены. Оплавленные солнцем полуголые тела, шоколадные тени, высыпанные из рога времени, – левантийцев, греков, арабов, евреев – от столетия к столетию, к сегодняшнему дню. Тонкие иглы минаретов над круглящимися куполами, слитыми в единый силуэт, навстречу сияющему небу. Сумрак, затягивающий в разинутые горловины улочек, в чернь поглощенного света.
Базар укрыт виноградной лозой. Парень в джинсах крутит педали, развозит рыбу. Пластиковые кульки с уловом в корзине на багажнике шевелятся и негодуют на пути к скучающему ресторанчику. Жарко и спать хочется. Конец сезона.
Лабиринты с особенным сладковатым запахом слежавшейся за века земли, небрежные угольные отметины, ведущие в сердцевину подземелья. Многоярусная квадратная башня над поясом каменной галереи вокруг огромного двора, с пятном чахлой зелени посреди. Полное безлюдье, кладбищенская тишина. И внезапный скрежещущий звук адского будильника, рвущий остановленное время. Подросток, устроившись в глубине галереи, готовит апельсиновый сок. Режет плод, демонстрирует его зрелость, забрасывает в нутро древней соковыжималки и наслаждается. Будоражит разгуливающие по ночам призраки. Люди Христа, теснимые воинством Пророка, роком и холерой, отступили сюда, на последний клочок Святой Земли. Город сомкнулся над их убежищем, затолкал в бессолнечную глубину, лишил владения и памяти. Скрежет ржавого металла глушит звуки далеких труб, заунывное пение муэдзина несется с сияющих высот над каменным мешком. Надменный отрок небрежно отбрасывает выжатую апельсиновую мякоть. Как и было объявлено столетиями ранее: Аллах торжествует, Евангелие плачет… Тут и сок подоспел – пенистый, густой, сводящий рот кислотой.
- Старая Акко – седая карга
- Прячет от солнца сырые ступени
- В переплетениях угольной тени,
- Тянет меня за собой на рога
- К бесу и вниз, за подкладку времен,
- В дымный чертог циклопической кладки,
- Где, средиземной глотнув лихорадки,
- Сходит с ума сицилийский барон.
- Греков клянет – лекарей и попов,
- Папских прислужников в Иерусалиме,
- Злых сарацин, что летят из пустыни,
- Как саранча на цветенье садов.
- Крест у лица. Отпущенье грехов.
- Колокол мерно звучит за стеной.
- К близкой войне или к близкой кончине?
- Что же ему остается отныне?
- Вход или выход? На вечный покой?
- Неукротимый – он рвется вставать,
- Тянет к окну ослабелое тело,
- Море и парус вдали, на пределе
- Света. И так тяжело умирать…
- Кошка-разбойница лапой скребет
- Голову рыбью и жмурится сыто,
- Тянется сладко и трет деловито
- В липкую слизь перепачканный рот.
- Время застыло, а вечность течет…
Старая Акко – изворотливая ящерица, юркая притворщица на горячих камнях, хранящая на язычке вкус крови…
Кошек здесь много. Множество кошек, лениво разгуливающих, развалившихся, неслышно исчезающих живыми скрепами света и тьмы. Они не ищут здесь пропитания, они просто ждут, преисполненные достоинства, как боги ждут положенную жертву. С триумфами и поражениями живет мир, и кто-то должен за него отвечать. А кто не справляется – жертвовать.
Свод арки удерживает готовые сомкнуться стены. Лицо молодой женщины мелькнуло в окошке за узорной решеткой. В пространстве приоткрытой двери – бледном сиянии стоящего на ковре телевизора. И пустота…
Впереди свет, сверкающее море, взмах близкого паруса, а рядом, внизу за крепостными зубцами пенные гребешки, слизывающие тусклую зелень с подножия черных глыб. Мальчишки, беспечно свесившие ноги над бьющими водами. Вот это жизнь! Рисунки на стенах – купола, минареты, прилежно раскрашенные цветными мелками. Можно позволить себе детскую наивность – родиться и жить с ощущением хозяина на беззаботном и беспечном празднике.
Контрасты не признают компромиссов. Европа отступила, ее сыновья спорили здесь из гордыни и пафоса, которые создают и столь же неумолимо разрушают империи. Зажатая в каменные тиски византийская церковь, без креста, со сбитой каймой декора и мертвыми окнами, а рядом, с угла, среди все той же назойливой росписи магометанских красот треснувшая порыжелая мраморная стела в честь моряка Олдфилда. Он отражал осаду французской эскадры и пал сорока трех лет отроду. И еще полковник Волнер со своими людьми. Было это 7 апреля 1799 года. Именно здесь, на этих камнях. Два столетия назад…
На крепостном дворе брошена мортира с треснувшими деревянными колесами (вместо одного окончательно разваленного подставлены кирпичи), уткнула в небо короткий черный хобот с надетой на него рваной автомобильной шиной. Обыденно и небрежно. История – аттракцион с бегом вокруг стульев – их всегда меньше, чем бегунов, нужно успеть занять место по хлопку ведущего. Последний – нерасторопный и невезучий выбывает. Теперь он лишний.
Кто не успел – тот опоздал… Так решали свои споры давешние хозяева этого города…
Так и есть. Бег продолжается от столетия к столетию, Акко угадывает будущее, как ящерица – кровь. как цыганка – судьбу, и никуда не спешит…
Время застыло, а вечность течет…
Осень в Тель-Авиве
Цецилии
- Осенью в Тель-Авивских гостиницах ни души,
- Тускло светится мрамор и скучные бродят тени.
- Официанты по стенам стоят, как карандаши,
- Рассматривают уныло собственные колени.
- Лишнее электричество отключено
- Даже в святая святых – гостиничной синагоге
- Рядом с «Восточным залом». Всюду почти темно,
- Пусто. Остыл недолгий
- След от былых гостей. Зрелище живота
- Дается лишь для участников провинциального съезда
- Вместе с мужьями и женами человек примерно до ста,
- Иначе крутить невыгодно. Даром. И вся надежда
- Впредь на новый сезон. Иностранцев, старух, повес,
- Что, как гуси в полет, потянулись теперь до срока,
- В «Клеопатре» плюш их привычных мест
- Напоминает стихотворение Блока.
- Только в баре есть жизнь. Там седой пианист
- Артистичным глиссандо наводит на клавиши глянец,
- Мужчина и женщина – врач-окулист
- Гадают вполголоса – русский или испанец?
- Красотка и удачливый коммерсант.
- Он влюблен, но ведет себя, в общем, бесстрастно,
- А она пережила недавно роман
- И теперь упивается холодом и женской властью.
- Это – тоже игра. И хоть она не устает повторять,
- Что устала страдать и теперь ей никто не нужен,
- Он спокоен, уверен, согласен ждать,
- Одиночество – выбор намного хуже
- Равнодушия. Тем более есть прогресс:
- Сегодня они переставили мебель в его гостиной,
- Он разделся до пояса, но не лез,
- Приглашение вышло вполне невинным.
- Это стоит отметить. Ведь много Наташ и Нюсь –
- Эмигранток вполне достойных, но нищих
- Сочтут за честь проявить свой вкус
- И украсить стены его жилища
- Рядом с тусклым золотом пышных рам,
- Что скрывают объемные копии венского арт-модерна.
- Подскажи, дорогая, что нужно развесить там,
- Где есть еще место?.. Пока примерно,
- А потом, как захочешь… И этот скромный успех
- Вымораживает привычную тоску до рассвета.
- Время забвенья, как белка, щелкает свой орех,
- Вытряхивая боль из сердцевины сюжета.
- Все приходит в свой час. Он мурлычет, как кот,
- В такт партнерше и музыке. Складно, тактично.
- Пианист кивает и скалит рот
- И подыгрывает им интимно и лично.
- Знакомятся. Он – босниец и адвокат.
- Вдовец. Впрочем, это неинтересно.
- С двумя детьми на руках он рад
- Получить для начала вот это место.
- Удивляются вместе. Казалось, сполна,
- Сдана была карта, но вот невезенье.
- Цыганской серьгою зависла луна
- Над скучной водой голубого бассейна.
- Поцелуй на прощанье. Он настойчив и строг.
- Но она не готова. Звонит перед сном по привычке
- И слышит от лучшей подруги упрек:
- – Почему я должна узнавать твои новости
- от косметички?
Осень в Хайфе
Лихтенштейнам
- Черепаха, шагающая по дну пустого бассейна,
- Размеренно и упрямо, как заведено у черепах,
- Напоминает настойчиво и откровенно,
- Что осень случается даже в райских садах.
- Что прогнозы погоды, как странности отношений,
- Уже отмеряны и предсказаны небесами,
- Составлены предельно точно и достоверно,
- Как поминальный список, спрятанный за образами.
- Что уже приготовлено, но еще не надето
- Платье из ранних сумерек и багряной листвы,
- Что долги пересчитаны. И на смену лету
- Наступает время ясности и простоты.
Русские в Израиле
Наши бывшие, перебравшись в США, Канаду, Германию, любят рассказывать о бывшей стране проживания со снисходительной иронией. С теплом или без. Нейтральная эмоция. Приятно подтвердить свой выбор. Сравнивают, как правило, с американцами. Те ближе к идеалу…
А самих русских это как бы не касается. Ездят, осматриваются, осваиваются. В Израиле разных можно встретить.
… – По ихним меркам это называется алкоголизм. – Говорит дама в черных рейтузах и развевающейся фиолетовой накидке. – Вот это – алкоголизм? Мне смешно. Коля, глянь. – Поднимает над головой три бутылочки из-под Карлсберга, надетые на растопыренные пальцы. – Ох, не дай бог, чтобы я так пила.
– Что ты, Лидочка. – Пугается краснощекий добродушнейший усач. – А мне как тогда? – Уходят, взявшись за руки. Видно, им хорошо вдвоем и выглядят убедительно. Даже со стороны душа радуется. Ветрено, осень подступает, но погода пока держится. Наверху в парке громко ссорятся пенсионеры-доминошники. Сплошь наши, а то какие же. – Молчать. – Рвется старческий голос. – Я прошу ма-алчать…
…В Иерусалиме, в подвале дома под мраморной лестницей, там, где в мирных строениях складывают дворницкий инвентарь, открывается вход в пещеру, одну под другой. Евангельские святыни. Встречает ловкий, привязчивый малый, сочится гостеприимством. Мазнет лоб, приподняв козырек от солнца. Если не вознаградить, гостеприимный меняется невероятно, и презирает искренне, со всей полнотой натуры.
Нижняя пещера за поворотом, накрыта каменной толщей, иконы в нишах. Русская паломническая группа топчется, толпится у образов. Места мало.
– Поднимаемся, поднимаемся. – Подбадривает втиснутый в угол гид. Места, действительно, мало, но торопит уж слишком по-хозяйски.
Люди уходят неохотно. Остаются забравшиеся сюда самостоятельно. Впрочем, не только.
– Вы, вы. – Подсказывает зоркий чичероне. – Да, да. Я очень прошу. Вы всех задерживаете. Не прикидывайтесь американцем. Я сам из цэрэу. Я вас вижу.
…Наши люди плотно осели на берегу Мертвого моря. На лавочках под навесом общаются немолодые дамы. Добираются сюда на автобусе, сговорившись заранее, сразу на весь день. Ведут неторопливый разговор, вспоминают, например, Кишинев. Почему нет? Одни – Кишинев, другие – Киев, третьи – Бельцы. Осторожно выходят к мертвой воде, подрагивая студнем белокожих тел, совершают таинственные манипуляции с лечебной солью. Бережок каменистый и диковатый, тем более для столь знаменитого места.
– Тоже, между прочим, можно благоустроить. Разве американцы так оставили? Нет, конечно. А эти – такие же, как наши. Ну, хорошо, лучше. Но что, намного?
Тут подскакивают русские молодцы с подругами. Эти на машинах, торопятся и обязательно фотографируются. Благо, можно подобрать подходящую позу. Будто и не в воде.
– Миша, ты снял меня с морем или с горами тоже?
– Витя, подожди, я по-турецки сяду… – Руку забрасывает за голову, красота, ноги вверх. – Снимай, снимай, я тонуть начинаю.
Солнце съезжает, прощаясь, за линию гор, они теряют объем и застывают иссиня-темным строгим силуэтом. Небо полнится розовыми вечерними облаками, они покрывают зеркало вод, из пенной глади всплывает белая, вымоченная в соли луна. Горы за морем, с иорданской стороны начинают светиться, камень, остывая, отдает набранный за день жар. Краски еще соперничают, постепенно теряя силу, море безнадежно темнеет, пресный душ смывает осадок с последних купальщиков. И голос новой Венеры взывает из глубин.
– Вовик, давай ко мне… Ой, без рук лежу. Мамочка…
Сквозняк
Сквозняк в Израиле – важное достоинство квартиры. Есть такие, где накрывает с самого утра духотой, плотной, как резина. Не спасает даже вентилятор, разгонять застывший жаркий воздух все равно, что месить грязь. В рекламе при сдаче квартиры указывают (например): две комнаты и сквозняк. Два сквозняка (есть и такое) – почти невозможная роскошь. Сквозняк – кондиционер бедных. Галина мама говорит: – А мы думали, что c собой брать. Если бы я могла привезти те сквозняки, которые мы имели в Бендерах, мы были бы здесь шикарные люди.
Галина мама носит халат пятьдесят четвертого размера, сама Галя перешла недавно с сорок шестого на сорок восьмой. Махнула на себя рукой. Так она говорит.
Жалюзи в квартире весь день закрыты, стоит густой сумрак. Жильцы привыкли ориентироваться на звук. – Леня, не хлопай дверцей холодильника. – Кричит Галя сыну. В Бендерах она работала воспитательницей в детском саду, могла и на пианино подыграть. Здесь такой работы нет. Галя закончила кулинарную школу и пошла поваром во французский ресторан. Обучение обязательно. Нужно знать, например, марак фон бло – это такой суп. Сами повара дома готовить не любят, но Галя – исключение. Накормить кого-то вкусно – для нее праздник. Тут она в маму, можно представить, какие пиры могут задать эти женщины. Но нет мужчин, а Леничка плохо ест. Ребенок сидит на золотой жиле, нефтяной скважине и не понимает. Вырастет, вспомнит, будет жалеть. А пока хватает на бегу, что попало.
Событие, когда на субботу, не просто субботу, а праздник Субботы, который, как известно, начинается в пятницу после захода солнца, приезжает из Иерусалима Галина подруга Света. Приезжает вместе с сыном Яшей. Тот ходит на дзю-до и берет уроки шахмат. Яша – добродушный рыжий крепыш. Света воспитывает его в строго религиозном духе. Яша не смеет никого ударить, а насильника аккуратно переворачивает на спину и укладывает, плотно прижав сверху коленом. Это, в соответствии со строгими предписаниями Талмуда, разрешается. Шахматистом Яша станет едва ли. Не хватает сосредоточенности. Даже у евреев не всегда есть талант к этой игре. Но Яша умеет правильно собирать фигуры, как складывает его учитель, мастер спорта по шахматам. Тот терпелив и смотрит на свою миссию философски, найти заработок не так просто. Складывает он фигуры так. Сначала бережно укладывает в белый мешок белого короля, за ним ферзя, затем чуть более небрежно, но строго по ранжиру следуют ладьи, кони, слоны, и только потом сразу горстью ссыпает пешки. Как будто заполняет погребальный курган – князь, жена, колесница, слуги. Мешок уходит в сторону. Та же процедура и с черными, в другой мешок, не обязательно черный, но темный и именно так же. В конце салют легким хлопком закрываемой доски. Для мастера фигуры явно одушевленные, с ними мастер ходит в сражения, взламывает оборону противника, прорывается в ферзи. Он знает цену маршальского жезла в пешечном ранце. Но доска закрыта, реальность подступает со всех сторон, белобрысому ученику не терпится включить телевизор. Хороший мальчик. Но что знает он о красоте битвы? Тогда пусть платит.
За уроки платит Яшин отец. У того новая жена – американка. В свадебное путешествие они сплавлялись на плотах в каньоне Колорадо. На фотографиях – на память сыну вид у Яшиного отца всегда значительный. Тем более в походе, среди водоворотов, в спайке таких же бравых ребят, весь под брызгами. В оранжевом жилете смотрит он исподлобья. Напрасно антисемиты думают, что все евреи одинаковы. Есть такие, как Яшин отец. Он не станет показывать человечеству высунутый язык.
Итак, Света приезжает с Яшей. Добрая Галя готова принимать, готовить, хоть каждую неделю. Звонит в Иерусалим, сговаривается уже со среды. Но у Светы много других обязанностей и навещает подругу она нечасто. Вообще-то, Света – украинка, которая перешла в иудаизм, приняла посвящение – гиюр. Света – симпатичная женщина, про такую можно даже сказать – настоящий человек, талантлива, хорошо рисует. Все в жизни давалось ей с трудом, через боль, разочарования. Чужую несправедливость она переживает острее, чем собственную, за себя она может постоять. А вот других – жаль. Когда-то она попала в еврейскую компанию отказников, там и вызрела до нынешнего состояния. Своего Яшу она просто вымолила, и теперь не устает благодарить за него еврейского Б-га. Так здесь и напишем, через черточку, не произнося Имя целиком. Потому Света рьяно чтит закон Субботы – отдыхать, не делая ничего, не используя никаких механизмов, приспособлений, категорически избегая любой работы. Ведь даже для того, чтобы проехать лифтом, нужно нажать кнопку. А этого делать никак нельзя. В Киеве, когда Света стала отмечать Субботу, она взбиралась к себе на девятый этаж пешком. В Израиле это все, конечно, предусмотрено.
– Галка, – делится Света со своими иерусалимскими друзьями, – меня очень устраивает. Молочное, мясное, конечно, отдельно. Свет не зажигает.
Вообще, точное соблюдение обряда очень важно для новообращенных, Света готова обсуждать правила постоянно, даже странно, что не устает повторяться. Потому что это – не правила для нее, а клятва верности.
Сейчас к Свете приехал приятель из Киева, остался в Иерусалиме, пока она здесь с Галей. Она, конечно, ничего не навязывала, просто объяснила. А тот, хоть старался, а все равно пришлось половину посуды выбрасывать.
– Представляешь, запорола парильную (для овощей) сковородку. Поджарила блинчики. Теперь купила все разные, чтобы не спутать. – Это Света рассказывает сейчас Гале, та ахает. Переживает, как приключение. Хоть Галя не так строга. Обе они – женщины добрые, но у Гали доброта со слезой, менее суровая к самой себе (жизнь и так трудна), а Света – воительница, непреклонная. Еще во время учения в кулинарной школе, на практике Галя вынесла из ресторана две бутылки воды. Открытые. Знала, что нельзя, а все равно вынесла. Напиться бродяге какому-то. Чуть не уволили. Уволили бы точно, но она уже заканчивала школу, потому ограничились внушением и штрафом. Нравы такие, что кусок хлеба взял и уже – кража. Причем преступление не столько уголовное (подумаешь, бутылка воды), сколько нравственное, осуждается самым суровым образом. Внутри, в самом ресторане ешь, сколько влезет, разбрасывай, а вынести, хоть голодному, хоть от жажды полумертвому – ни-ни. Суровы законы.
– И ты стерпела? – Возмущается Света. – Я бы им по голове дала этой бутылкой.
Галя только вздыхает. В Светиной решимости она не сомневается ни минуты. Но та сидит дома, расписывает ткани, платки, которые быстро распродаются в старом Иерусалиме. Бывший муж подбрасывает на ребенка. А Галя здесь одна, приходится терпеть. Все это так, понятно, но гордый Светин нрав обломать нельзя. Только из-за сына она способна отступить, во всем другом – нет.
Подруги они сравнительно недавние, но отношения проверенные, сразу начались с испытаний. С голодовки протеста, которую женщины вели, отстаивая права. Там они познакомились.
Света всю жизнь болеет анемией. И зрение из-за этого пропало, и Яша родился чудом. В общем, болезнь реальная. И вдвойне обидно, потому что, только подходит срок идти получать пособие по болезни, гемоглобин начинает расти. В обычное время – не больше четырех, а тут, как назло, подскакивает почти до семи. А это – норма. Каждый раз законное пособие приходится выбивать. Свете оно нужно по-настоящему, без него семейный бюджет не сходится. И еще льготы, то-се, опять же очки бесплатные. Иногда ее крепко прихватывает, железо она пьет и колет почти постоянно. Приходится идти в Министерство к метепелет и убеждать. Метепелет – это чиновницы Сима и Таисия, обе – махровые наглые взяточницы. Барыги приезжают, жену из лимузина вытаскивать, хоть дверцу снимай. Золота на ней больше, чем на Киевской Софии. А сам – усатый шмыг и уже со справкой, сразу на год вперед. Ни совести, ничего. Со Светой разговор такой.
– Не могу дать. Неси заключение.
– Я тебе говорю. Через неделю еще раз сдам кровь, принесу.
– Тогда и получишь.
– У меня срок сейчас. Чего бы я просила.
– Не могу. Пойдешь на никайон (никайон – уборка помещения, на нее всегда есть запрос).
– С такими ногтями – никайон? – Света, конечно, может и дальше ныть, но предпочитает действовать – не в лоб, а по лбу.
– С такими ногтями? – Света вытягивает перед носом Симки руку, растопыривает пальцы. Руки у Светы очень красивые, пальцы длинные, тонкие, маникюр.
– Подстрижешь. – Наслаждаясь, говорит Сима.
– У тебя компьютер сгорит, пока я подстригу.
– Сейчас скину с пособия, будешь знать.
– Я тебе скину. Трахну по твоей железяке, будешь до конца дней чинить.
– А ты платить.
– Не буду. У меня денег нет. Что, трахнуть?
Сима смотрит и понимает, что Света может. Трахнет. С нее станется. И дает справку. Подло. Знает, что Света больна, но дает на три месяца, хоть может и на шесть, может даже на год. Но то для своих.
Женщины познакомились, когда правила ужесточили и добрую половину пособий отменили. Вица – международная женская организация затеяла голодовку протеста. Но власти с Вицей сумели договориться. Вица на этом деле поставила Моген Дэвид, что для христиан будет понятно, как – поставила крест. На голодовку вышло всего несколько непримиримых, хоть именно их предатели из Вицы обрабатывали больше всех. Не тут-то было. Поставили две палатки прямо перед кнессетом, переносной туалет. В кнессете сначала терпели, не хотели затевать скандал. Мыться женщины ходили в здание, по двое, сквозь охрану, специально пропуска пришлось выписывать. Потом у одной голодальщицы начался диабетический криз, увезли в больницу, поставили капельницу. Она потребовала вернуть. Вернули. Света вспоминает о своих подругах с уважением. Сама она отлеживалась тихо, чтобы не обострять анемию. Пронесло без осложнений, хотя сбросила двенадцать килограмм. Она и так худая, можно представить, что осталось.
У евреев все не так, как у других. Дон-Кихоты у них толстые. Когда власти стянули полицию и можно было ждать, что палатки ночью снесут, а женщин развезут по больницам, из киббуца явился толстяк. Ничей не сват, не брат. Просто толстяк – защищать голодальщиц. Поставил около палатки раскладушку и жил под солнцем и луной все время противостояния. Заговорили по телевидению. Подтянулись сочувствующие из провинции, среди них Галя, разобрали на попечение участниц голодовки. Гале досталась Света, так они познакомились.
Женщины едят долго, дети расхватали пирожные и унеслись на улицу. Добрая половина угощения остается нетронутой. Набирают эклеров и отправляются к Тамарке. Это еще одна подруга, но не близкая. По дороге встречают незнакомого деда, отдают все ему и возвращаются домой. Света довольна, не нужно носить. Суббота, ей не положено.
Вечером уже перед сном Галя мечтает. Она хочет съездить домой в Бендеры, навестить своих. Там остались родители мужа. Он – русский, инженер, но пошел шофером на междугородние рейсы, курил, умер в поездке от язвенного кровотечения. Говорят, был бы дома, спасли. Родители его живы. Галя точно знает, что живы, звонила уже после того, как закончились боевые действия в Приднестровье. Еще ей нужно обязательно навестить свой детский сад. Об этом она постоянно и сладко мечтает. Еврейский закон велит детям Израиля жертвовать на благотворительность десятину доходов. Без имени дарителя, не возбуждая тщеславия и гордыни. Эта десятина – благодарность Б-гу за жизнь – свою, близких, народа Израиля. Можешь отдавать сам, можешь отписывать синагоге, а они уже распорядятся по своему усмотрению. У Светы всегда полно знакомых, приезжают с бывшей Родины. Десятиной она распоряжается без посторонней помощи. И вообще, с Б-гом у нее отношения свои. Единственное нарушение – не удается соблюсти анонимность, как скроешь от гостей личность жертвователя. Поэтому Света высматривает, что нужно, покупает понемногу и подкладывает гостю. Отказов она не принимает, это просто невозможно. Это – не ее, как они не понимают. Не хотят? Значит, она отдаст в синагогу. Последний аргумент убеждает даже самых щепетильных.
У Гали свой замысел. Она должна съездить в Бендеры и привезти подарки сразу на всех. – Не возись с этим. Будешь сушить мозги, кому что. – Советует Света. – Подари деньгами. Меньше десяти долларов, конечно, нельзя.
– Они там бедные. – Вздыхает Галя.
Подруги считают. Выходит, только в садик – на сорок человек, дети, воспитатели. Еще дорога, потом Колиным родителям. Нет, не уложится она в тысячу. Но и до тысячи еще год собирать. Галя уже начала и твердо намерена довести дело до конца.
Вечером жара спадает. Комаров сейчас почти нет. Если включить специальный электрический отпугиватель, то окна можно открыть. И теперь, если устроиться на линии ведущего в кухню коридора, можно уловить медленное, но упрямое движение воздуха, крепнущее к ночи. Вот и пламя свечи пошло в сторону, зашевелилась тени на потолке. Медленно втянулся в комнаты счастливый сквозняк праздника Субботы.
На краю пустыни
Клавдии Бренер
В первые годы эмиграции Надя изрядно натерпелась. Все было на ней. Дочь сразу нашла работу, причем по специальности. Это была удача. Но домашние дела остались на Наде. Муж не в счет. И не нужно ему. Издал книжечку и живет. Снимает комнату в Тель-Авиве еще с каким-то. Она называет его покойный муж. Тут, конечно, есть ирония, но грустная. Учишься защищаться от одиночества. Если бы он помогал. В Союзе не так было заметно. Живет человек, когда все устроено, чего не жить? А здесь проявилось – при больных родителях, при отсутствии квартиры. Где они жили, квартирой назвать нельзя. Рядом с базаром. Она недавно была там и вспомнила. Сама бы не пошла, приятель приехал, она его водила по городу. Ходить она отвыкла, это да. На работу везут, с работы везут, с автобуса на автобус. А больше, что тут смотреть? Теперь вспомнила. Простыни свисают из окон. Здесь так сушат. Флаги капитуляции. Прозвучит труба, и они выйдут из этих дверей с поднятыми руками. Без ничего. Какой-то хлам, конечно, есть, но зачем, когда жизнь проиграна?
Сколько с тех пор прошло? Если честно, немного. Это в Союзе люди жили без всякого желания что-то изменить. Год и три, и десять. Она сама так жила и считала, все в порядке. Дом – один из первых на массиве, третий, если совсем точно. Стоял на песках. Ни метро, ничего. На работу ехала речным трамваем. И, казалось, все замечательно. Кто мог тогда подумать?
Сначала она мыла полы. Все так начинают. Подруга ездила к себе в Донецк. Пойди там скажи, что приходится чистить подъезды. А спрашивают. Так она – работаю с мрамором. Здесь полы и лестница под мрамор, вот она и придумала. Хотя, если постоянно держать чистоту, убирать нетрудно. Даже в той трущобе был порядок. Но вообще, это не передать. И главное, кажется, что не выбраться. Было такое настроение, она помнит, слава Б-гу, некогда опустить руки, пожалеть себя. И так каждый день. Сначала отец, потом мама. Здесь им продлили жизнь, если разобраться и поискать смысл, первые годы – это их. Всем сразу не может быть хорошо. Родители за голову держались, сколько здесь выбрасывают всякой еды. Невыносимо это наблюдать. На праздники особенно. Отец дважды пережил смертельный голод, именно – смертельный, целые семьи вымирали. Добрейший человек – он не мог видеть, как здесь обращаются с едой. Привычки формируются обстоятельствами. А отвыкнуть они не успели.
Евреи говорят: – Савланут, савланут. Потерпите, и все будет, как надо. Теперь родителей нет, дочь с мужем и внучкой в другом городе. Это, конечно, по союзным меркам, недалеко, но все-таки. И проблем, фактически, нет. Она – уважаемый человек, она достигла потолка. Больше ей не светит, и не нужно. Того, что есть, хватает. Недавно ей говорят: конечно, тебе хорошо. Это ей хорошо? Одной? Звонит какой-то Иосиф на автоответчик. Женщина, я хочу оказать вам помощь. Живет, наверно, где-то рядом, подглядывает, а показаться боится. Можно вообразить. Спасибо, не надо. А чему тогда завидовать? Говорят, есть чему. Она – начальник смены на заводе. Пошла рабочей, счастлива была, что взяли. И вот, за пять лет. Инженерный диплом нужен, конечно, но дело не в этом. Юда присмотрел своим подбитым глазом и предложил. Будете начальником. А это сорок человек. Два аргентинца, три марокканца, остальные все наши. Недавно она сказала одному, между прочим, полный русак. Дай название своей улицы. Он говорит, что-то там на а. Как – на а, эйн или алеф, здесь и так на а, и так. А он: – Чёрт его знает.
– А если без чёрта, ты что, не знаешь, как пишется твоя улица?
– Не знаю. А зачем? Пусть русский учат. Десять лет я здесь, а они ни слова, ни бум-бум. Между прочим, я Чарли своему по-русски говорю, садись, и он садится. В лужу садись, в лужу садится. А чего? В луже приятно, чисто, один дождик за год. Собака понимает. А этим скажешь по-русски: – Садись. Думаешь, сядут? Знаешь, пусть они себе на иврите, а я по-нашему.
Причем такой Серега не исключение. Чистых русаков у нее трое. Это Серега, Миша из Одессы и Абрамыч. Миша страдает, что попал, приходится работать.
– Какая жизнь была, Надюша, какая жизнь. Изюм в шоколаде. Утром референты ругаются, с дивана крошки не убираем. А мы только встали. В Египте три раза был. С мадам был, с подругами. Это же Одесса, прыг на пароход, и ты там. Главное, чтобы тихо. А здесь, пока тур возьмешь, пока доедешь, все уши просвистят, осторожно, бдительно, чтобы, не дай Бог, не тронули, как еврея. Это мне – русскому. А там без всякой охраны. Свободный человек, звучал гордо. Почему уехал? Это у вас уезжают, у нас бегут или увозят. Меня увезли. При деликатных обстоятельствах. А здесь я стал пролетарием. Это же надо, кошмар. Я ничего тяжелее вилки не поднимал. Ё-моё. Какое ругательство, это крик души. Вот тебе, Миша, квартира, вот тебе тачка. Здесь распишись, здесь, здесь. Раз-бор-чиво. На тридцать годиков вперед. Я говорю, Маня, им верить нельзя. Это же банк, это кровососы. Что, ты не видишь? Не видишь? Откуда. На пирамиду хотел залезть, не пустила. Ревнует. Какой смысл? А это смысл? Ей абы до хаты дотащить. А что потом пахать за это годами, она не думает. Ты – мужчина. Как вам нравится? Ах, Одесса. А Юде – эксплуататору, я что-нибудь тяжелое причиню, исключительно из классовой ненависти…
Юда – бывший полковник израильской армии, седой толстяк, хромой после ранения, с вмятиной на виске, потому один глаз постоянно прикрыт, будто дремлет. Зато другой сверкает. Сидит у себя наверху в голубятне. А потом спускается. Причем, неслышно, в самый неподходящий момент. Есть укромные места у автоматов с водой. С рабочими Юда не общается, он их выше, засек и сразу к Наде: – Они у тебя опять молятся. Или ты библиотеку открыла, чтобы они там сидели и читали?
Надя срывается в укрытие. Там Володя, ясно, уже не минуту и не две.
– Володя, – говорит Надя с укором (Володя ей симпатичен). – Я сколько раз прошу. Юда бегает. И опять вы. Возвращайтесь на место и примите рабочую позу. Хотите под увольнение?
Володя на ходу что-то сочиняет. Голова не здесь: – Надечка, вы замечательно выглядите. Как всегда и еще лучше. Я вам сегодня не говорил? Ну, так имейте в виду.
Это значит – отвяжись. Надя уходит, она его предупредила. Володя – журналист из Махачкалы. Какой журналист она не знает, но человек хороший. Марик – его друг, еще один здешний тип, здоровается так:
– Приветствую тебя, кавказский мой поэт.
Если Володя с Юдой заведется, будет плохо. Юда решает, кого сократить. Самое подлое, что может быть. Чуть уменьшили заказ и уже увольняют. Это для Нади объяснение, чтобы передала рабочим, а на самом деле предлог, потому что почти сразу берут новых. Юда приходит и объявляет. Двое. Абрамыча называет непременно. Это его карта в игре, Юда знает, что Надя за Абрамыча вступится. Формально Юда прав (равнодушные всегда правы), Абрамыч часто не выходит на смену. Он – техник из Свердловска, или, как его теперь, Екатеринбурга. Жена – еврейка. Уговаривала его, уговаривала. И в Америку, и сюда. А он – нет. Абрамов Николай Петрович, куда ехать. Пока не изнасиловали дочь. Теперь уже врачи настоятельно рекомендовали. У девочки постоянные нервные срывы. Думали, здесь пройдет. Лекарства, пожалуйста, врач русский, Абрамов говорит, что неплохой, но пока результата нет. Абрамов звонит вечером Наде и просит прикрыть. Он должен быть с дочерью. Наде его жаль до слез. На работе Абрамов безотказный, он увалень, с покорным погасшим взглядом. Добряк, сразу видно, но трахнутый этой жизнью (Надя, пока не знала второго смысла слова, позволяла при себе употреблять). Володя ему говорит: – Тебя, Коля, как подушку для иголок нужно пользовать. Ты большой и мягкий, воткнут, а ты и не заметишь.
Тогда же Володя с Мариком решили звать его Абрамычем. – Очень подходит. – объяснял Володя. Но если ты против, Коля, скажи. А так будет на одного еврея больше. Назло врагам. Ты же наш человек.
– Зови. – Разрешил Абрамов. Надя была рядом, он для нее подтвердил. – Пусть зовут. Москали проклятые.
– Почему, москали?
– А так. Потому что – Абрамыч.
Теперь Юда объявил: – Цыпина и Абрамов. – Против первой кандидатуры Надя не возражает. Эта Цыпина – завистливая, примитивная дура. Еще и заносчивая. В прошлом году завалила процесс. Юда начал так. – У тебя, наверно, муж очень богатый. И тебе работа наша не нужна. Так что, иди.
Надя тогда Юду еле уговорила. И после этого Цыпина решила с ним сама строить отношения. Мимо Нади. Это же видно, она думает, здесь ей Союз. Короче, у Юды свои резоны: – Значит, Цыпина и Абрамов.
И ждет, что Надя вступится. Она опять объясняет ситуацию. Юда, вообще, молодец, потому что сухарь и формалист. Национальность никакого значения не имеет, другой давно бы русских повыставлял. А этот – претензии только по работе. И, конечно, психолог. В армии выучился: – Хорошо, не хочешь Абрамова, давай свою кандидатуру.
Как Надя не крутится, а приходится дать. Ахмед – марокканец. Тоже много пропускает. Кого-то она должна назвать. Юда стрельнул глазом.
– Почему Ахмед?
– Много болеет. А Абрамова нельзя увольнять. Считайте, это личная просьба.
– Хорошо, пусть будет Ахмед. Ты сказала.
Наде тогда было паршиво. И тут подходит Абрамов: – Я слышал, Ахмеда увольняют. Я слова не имею, Надечка. Но хороший человек, неужели ничего нельзя сделать.
– Абрамов, отойдите от меня. – Говорит Надя. – На большое расстояние. Прошу ко мне сегодня не обращаться и ни о чем не спрашивать.
– К Юде у меня здоровое классовое чувство. – Говорит Марик. – Как в мафии. Ничего личного. Только классовое. Он по одну сторону баррикад, я по другую. – И Марик ребром ладони показывает на столе, где он, а где Юда. У Марика длиннющие пальцы, рука тонкая, совершенно непохожа на рабочую. Юда ест, хоть за отдельным столом, но в общем зале. Там же, где все. И так же стоит в очереди с подносом. Никаких себе поблажек.
– Я теперь могу оценить, как там в Союзе. Это же благодать, для начальства отдельный кабинет. Ты их не видишь, они тебя. Кусок в горло не лезет, когда эта рожа рядом. Двух людей я не перевариваю. – Марик разглагольствует, он из всей бригады самый живой и общительный. – Юду как пролетарий эксплуататора, и Наримана – лично. И всю их гадскую систему, со всеми этими автобусиками, с этими обедами. Никакой романтики.
Действительно, все организовано предельно. На работу и с работы автобусом, буквально к самому дому. И сидя, конечно, чтобы, не дай Б-г, не устать раньше времени. Чтобы доехать полному сил, здесь их из тебя высосут. Автоматы кругом, обед как в приличном кафе. Юда тем же питается, так что без обмана. Там, на кухне, хоть наших половина, а тоже работой дорожат.
– А Наримана я очень не люблю. Это уже по-человечески. – Повторяет Марик. – Нариман – бакинский еврей. Угодливый до тошноты. К Наде сразу: – Тетя Надечка.
– Нариман, у меня все племянники дома.
Отошел и снова проверяет: – Тетечка Надя.
– Я же вам сказала.
– Знаешь, напиши на Ольга, что плохо убирает.
– Почему, плохо?
– Ты видишь, я с утра иду, тряпка совсем сухой. Значит, плохо убирал.
– Ладно, давай работай.
Вечером опять подходит, льстивый: – Слушай, дорогая, не пиши на Ольга. Я подумал. Лучше не надо. Зачем неприятность.
Нариман очень туп. В цеху он, как был уборщик, так и остался. Рабочие получают намного больше, и Нариман хотел бы, но явно не справляется. Как-то Володя устроил переполох.
– Слушай, Нариман. Я тебе скажу, если ты не трепло.
– Какой трепло. Что такое?
– Неважно. В общем, слушай, только никому. Ты понял? Клянись Аллахом. В Баку открывают заводской филиал. Особняк купили. Сад. Шофера взяли. А представителя нет, ищут. И я подумал…
Тут и Нариман сообразил, что к чему.
– Ты понял? Правильно. Баку знаешь? Знаешь. Язык, писать умеешь. Производство, что тебе рассказывать. Молодой. Интересный. Красивый даже. Галстук на тебя наденут. Бабочку. Вот сюда. Я подумал, конечно, Нариман. Все подходит. Но есть один трудный момент.
– Слушай, скажи.
– Ты должен математику знать. И возьмут.
– Как знать?
– Экзамен будет. Тест нужно пройти. Здесь, знаешь, блат не годится, только тест. Могу показать, что бы ты заранее знал. Если ответишь правильно, значит, твой шанс.
– Давай, слушай.
– Вот, смотри. Рисую треугольник. Понял?
– Что?
– Треугольник. Видишь?
– Этот, да?
– Этот, этот. А ты мне докажи, что это треугольник.
– Как, докажи?
– Это и есть тест. Они тебе скажут, докажи.
– Что, так не видно – треугольник.
– Мало, что видно, а ты докажи.
– Если видно, зачем доказывать. Зачем время портить? Слушай. Мамой клянусь, что треугольник.
– Это не надо. Откуда они знают твою маму. Хорошо, дальше думай, потом скажешь. А пока подойди к Наде. Только не говори прямо, просто окажи внимание. Ты же умеешь. Она тебе будет характеристику писать. Скажи что-нибудь хорошее женщине. Приятное. Чтобы не бегала, а то, как лошадь, носится. И чтобы про меня, ни в каком виде. Ты понял?
Марик не одобряет розыгрыша. – Что ты развлекаешься с этим стукачом? Охота тебе, не видишь, кто такой. – Марик с юмором, но тут не понимает. Он играл в симфоническом оркестре. Имел хорошую скрипку. Вывезти не дали. Он готовился, продумал. Но кто-то стукнул, явно из своих. Забрали прямо на таможне, и разрешение не помогло. Теперь Марик без инструмента. Такой, что ему нужен, стоит многие тысячи. Марик махнул рукой и пошел в пролетарии.
В Надином подчинении есть еще один. С гонором. Бывший полковник.
– Если не врет, – говорит Володя, – откуда в Советской Армии полковник-еврей. Илья, признайся, что ты – майор. Только не обижайся. Майор – тоже человек. Вот Юда – полковник. Сразу видно.
Но Илья не простой полковник. Он конструктор-артиллерист. Работал в кабэ. Он и не думает обижаться.
– Ты, Володя, вшивый журналист. Слуга партии и народа. Зачем мне на тебя обижаться? Между нами пропасть. Меня бы в жизни не выпустили, если бы Союз не развалился.
– И что ты такого наделал?
– Ого. Вызывает генерал. Конечно, только на вы. По цивильному. Доктор технических наук. Значит так, пушка выстрелит, вы сядете на волгу. В тот же день.
– Ну и как?
– А так.
– Волгу дали?
– Москвич. Потому что власть такая. Обещает одно…
– Чего ты все на власть. Признайся, у тебя ствол разорвало. Или колесо отлетело. Скажи, сейчас можно.
– Я бы сказал, Надя рядом. И, между прочим, на Госпремию выдвигали. Это тебе не стишки кропать на субботник. Камень на камень, кирпич на кирпич…
– Ну и как? Дали?
– Я тебе говорю. Москвич.
– Что ты давишь на старшего офицера. – Вмешивается Марик. – Спасибо скажи. Это из его пушки Юде глаз выбили. – Если бы из моей, от него бы только пуговицу хоронили.
Полковник долго не мог смириться. С ним Наде пришлось говорить отдельно:
– Никому вы здесь не нужны, поймите. С вашим гонором и вашими манерами. Нет, так идите. Никто не держит. Но вы квартиру хотите, машину. Работайте спокойно и не выступайте. Что в Союзе лучше? Так что, помолчите. Герой …
Теперь полковник образумился. Квартиру, машину купил. И сама система приводит его в восторг. Военная организация, порядок, все четко. Четыре смены оттрубил, по двенадцать часов, трое суток дома. Наде он сказал спасибо. Уберегла от неверного шага.
Полковник любил высказаться. Не матом, конечно, но мог. Надя пресекала в любом случае. Это был важный принцип в ее политике с бригадой, с любым, граница, которую она никому не давала перейти. Чтобы она этого не слышала.
– Что и блин нельзя? Ну вы, Надечка, слишком. Здесь хамят все. Конечно, не так, как у нас в Саратове. Но, чтобы блин нельзя. Вы, Надя, на маслянице не бывали. Потому такая застенчивая.
– Славянофил. – Говорит Володя. – Детдомовец.
