Странности любви
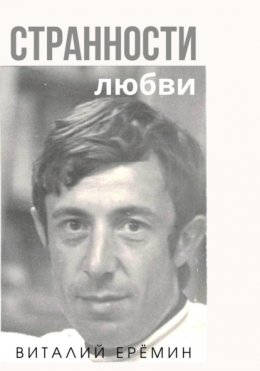
ПРЕДИСЛОВИЕ
Автор завлекает читателя тем, что происходит с героями, это само собой, но еще и какими-то истинами, которых может не знать читатель, какими-то мыслями, которых катастрофически не хватает сегодня человеку. Персонажи у Еремина умные и бывалые люди, у которых есть чему поучиться. Особенно удаются ему женские характеры. Но, как сказал однажды Оскар Уайльд, персонажи нужны не для того, чтобы читатель увидел людей, а для того, чтобы познакомился с автором, не похожем на кого другого.
Из рассказов В.Ерёмина узнаешь о жизни и людях ничуть не меньше, чем из его повестей и пьес. Их главная особенность: все они о любви, об отсутствии любви, о недостатке любви, о сумасшедшей любви.
КРЕАТИВЩИК
Восемнадцать курсов лучевой терапии были для Трепетова чем-то вроде пинка под зад. Теперь он был просто обязан прожить еще года три. Или даже пять. И не просто прожить, а как никогда.
Он придумал себе две цели: влюбиться и написать книгу. Любовь возбуждает желание жить. А писанина – это что-то вроде выращивания новой культуры. Недаром селекционеры живут долго.
Сказывалась его работа, которой он был теперь лишен в расцвете умственных сил, самая большая его любовь.
Спустя три месяца после облучения он пошел сдавать на анализ кровь. В диагностическом центре все сверкало чистотой, а лица женщин в белых халатах внушали доверие к результату.
Милая худышка, регистратор клиентов, спросила, возвращая Трепетову паспорт.
– Уколы хорошо переносите?
Ее звали, судя по бейджику, Анфиса Андреевна. Она была в маске, и маска очень ей шла, выделяя молодые яркие глаза. Трепетов уставился в эти глаза, в ответ Анфиса Андреевна сняла маску. Хотела разочаровать, но не вышло.
– Ну, предположим, я отключусь? – спросил Трепетов
И получил ответ.
– Отключайтесь на здоровье, я реаниматолог.
В соседней комнатке другая милая женщина, только пышка, виртуозно выцедила из Трепетова пробирку крови.
Через несколько часов ему прислали результат – 0.01. Если бы его кастрировали, а не облучили, его показатель ПСА был бы, наверное, выше. Трепетов испытывал самодовольство. Все-таки доктор предписал двенадцать курсов, а он настоял на половине больше. И в то же время он не мог не признать, что в настоящее время совершенно непригоден для любви.
Он решил начать с книги. Но прежде чем написать первые строки, принялся читать хорошо ему знакомых стилистов, преодолевая страсть, которую в себе не одобрял. Ему нравилось находить у классиков сбои в стиле. Это было выискивание недостатков, то есть своего рода занудство.
Хемингуэй, как образец, не годился. Чтение не покалывало, не искрило, не било током. В текстах Булгакова глаза спотыкались. «Ночь расцветала», «круглый сон», «сугроб снега». К тому же везде многовато персонажей, трудновато за всех переживать. В моей книге будет только какая-нибудь удивительная женщина и я, решил Трепетов.
Но текст, хоть застрелись, не начинался. Тогда Трепетов стал чаще бывать на выставках. Он ловил на себе взгляды и сам засматривался. Но ни разу его не торкнуло. Довольно скоро эта охота надоела ему, потому как он был домосед. Но он раз в неделю ходил куда-нибудь вкусно пообедать. А тут поблизости так кстати открылся магазин-кафе «Моремания».
Зал был большой, свободных столиков еще больше. Трепетов отметил вдали тонкую спину и высокую шею и намагниченно пошел к избранной цели. Зайдя с фронта, испытал почти мистическое удивление. Эта была знакомая худышка-реаниматолог из центра диагностики. Он узнал ее, хотя без белого халата она была мало похожа на себя.
Если ситуация позволяет начинать общение с помощью жестов и мимики, не стоит говорить ни слова, меньше риска получить от ворот поворот. Трепетов так и сделал. Ответ был тоже без слов.
Перед худышкой стояла большая тарелка с горкой колец кальмара. Просто огромная тарелка, целое блюдо. Трепетов участливо поморщился.
– Сочувствие принимается, – с достоинством сказала худышка.
Трепетов сел и начал смотреть одним глазом на соседку, другим – в меню. Спросил по-свойски.
– Хотите поправиться?
– Ну вот. Не думала, что тут такие порции.
– Если мне не изменяет память, Анфиса Андреевна?
– Вы не ошиблись, Павел Викторович.
Они в упор разглядывали друг друга. Лицо у Анфисы было тонкое и фотогеничное. Носик с горбинкой, чувственные ноздри, слегка раскосые темно-карие глаза, оттопыренная нижняя губа – верный признак, скажем так, азартности. Открытый взгляд вроде бы свободной женщины. Замужняя женщина не смотрит прямо в глаза мужчине из опасения, что это будет не так истолковано. Хотя так может смотреть и женщина замужняя, только с отдельной внутренней жизнью.
Трепетов знал, что его взгляд одних женщин злит, других смущает, поэтому придал глазам доброжелательное выражение. Но, кажется, перебрал в этом старании. Лицо его стало немного дурашливым, если не сказать слегка дебильным. Но Анфису эта игра мускулов только позабавила, словно он пошевелил ушами.
Анфиса была женщина простая, это читалось на ее лице легко и без сомнений. Но эта была сложная простота. Как раз то, что Трепетов ценил. От простой простоты можно ждать чего угодно, а сложная простота регулирует и ограничивает себя. Лучший тип женщины, всерьез не встретившийся ему ни разу. Хотя, возможно, и встречавшийся, только он тогда в таких вещах еще ничего не смыслил, а если б даже смыслил, то едва ли мог бы рассмотреть. Потому, что встречавшиеся ему такие женщины были еще слишком молоды, не в той кондиции, как бы полуфабрикатами этого типа.
Оплатив заказ и получив бокал с ледяным пивом, Трепетов спросил с рассеянным видом:
– Анфиса, как вы думаете, что я сейчас думаю о вас?
– Вот и я думаю, что? – мгновенно отозвалась Анфиса.
– Я думаю, почему эта женщина обедает без мужа и даже без подруги.
– Подруга и муж на работе, а у меня сегодня выходной, и я пришла на разведку. Решила проверить, стоит ли прийти сюда с мужем или подругой.
– Не верю, – сказал Трепетов и отхлебнул пива.
– И правильно, – сказала Анфиса.
– Скорее всего, вы проходили мимо, увидели вывеску и решили зайти, и только сейчас начинаете понимать, что произошла какая-то странная случайность.
Анфиса перестала есть.
– Вот теперь я кое-что понимаю, – добавил Трепетов. – Анфиса слушала. – То, чего я жду от себя, началось, когда я пришел к вам сдавать анализ крови.
Трепетов тут же осознал, что говорить загадками не есть хорошо, и попросил прощения.
– Ничего страшного, я потерплю, – сказала Анфиса.
Официантка принесла Трепетову его блюдо, креветки в кляре.
Трепетов отправил в рот креветку и изобразил блаженство.
.– Чего нельзя терять несмотря ни на что? Вкуса к еде! Ваш Гиппократ, между прочим, сказал. – Анфиса смотрела, как ему показалось, с завистью. – Хотите попробовать?
Анфиса сделала глотательное движение.
– Хочу.
Слово «хочу» Трепетову понравилось, он поделился креветками. В ответ Анфиса переложила несколько колец кальмара в его тарелку. Теперь им обоим казалось, нет, они были уверены, что совершили обряд сближения.
Последняя любовь должна быть лучше первой, подумалось Трепетову. Ну, это ты хватил, возразил он себе. Просто она, любоффь, должна быть умнее… Хотя… Это игра парная. Если партнер умен, а партнерша глупа, умной любви не получится, и наоборот. А зачем тебе обязательно умная любовь, спросил себя Трепетов. А затем, ответил он себе, что, если что-то делаешь плохо, то делаешь зря, только тратишь впустую время жизни. А это самое непростительное из всего, что он мог бы сделать сейчас.
Анфисе понравились креветки в кляре. Она со смешной украдкой взяла еще одну с тарелки Трепетова. Они и до этого непрерывно смеялись шуткам друг друга. А тут совсем скорчились от хохота.
А ведь она знает о моей болезни, думал Трепетов. Ну, или, по крайней мере, догадывается. Откуда ж это все, что он сейчас видит? Провинциалка, однако.
Тут же выяснилось, что в Москве Анфиса живет уже 20 с лишним лет, а приехала с мужем из Сибири.
– А что, заметно, что не коренная москвичка?
– Только мне, тоже бывшему провинциалу.
Анфиса философски вздохнула:
– Ах, бывают ли провинциалы бывшими! А чем мы отличаемся?
– Почти детской, ну, или деревенской, непосредственностью.
И они снова покатились со смеху. Не от того, что Трепетов сказал что-то ужасно смешное, а потому что смех был началом влюбленности.
Почему всё идет так быстро, просто летит, соображал Трепетов. Ведь она замужем – кольцо на правой руке. Ну и что? Значит, муж завел молодую, вот она и решила, почему бы ей не поветренничать? Имеет право.
Был конец декабря. Они не могли обойти тему, кто как собирается встретить Новый год. То, что дома, это само собой, а в каком составе? Анфиса сказала, что с мужем и взрослым сыном. Трепетов не стал врать. Эта ночь у него ничем не хуже и не лучше других ночей, если учесть, что болезнь одиночества у него давно, он к ней привык, и не видит смысла излечиваться, потому как именно в этой болезни – подлинное существование, называемое жизнью.
– Я попробую договориться с мужем, может, отпустит меня, – сказала Анфиса.
– Куда? – на всякий случай спросил Трепетов.
– Ну, как там, в «Бытие»: «И сказал Господь Бог: нехорошо человеку быть одному». Тем более, в такую ночь.
Трепетова всегда озадачивали медики, верящие в бога. Но он не стал отклоняться от темы разговора.
– Думаете, муж разрешит вам уйти к другому мужчине?
– Пусть для мужа это будет подходящий повод встретить Новый год с другой женщиной, – объяснила Анфиса.
– Для вас это повод проверить мужа?
– Что вы такое говорите? Какая проверка? Он давно проверен вдоль и поперек. Просто муж должен быть свободен, даже от жены. Погодите, вы что же, не хотите, чтобы я пришла? – возмутилась Анфиса. – Ах, да! Вы же наслаждаетесь одиночеством. Наверное, именно в одиночестве вы меньше всего чувствуете свое одиночество.
– Просто не хочу, чтобы у вас были неприятности.
– Отговорка. Вы отвергаете меня, – искренне сыграла Анфиса.
– В некотором роде, – признался Трепетов.
– Какой же вы, однако, высокомерный!
Трепетов вздохнул: вот так всю жизнь его застенчивость принимают за высокомерие.
Подбородок Анфисы подрагивал от смеха, она участливо сказала:
– Как же вам не повезло. Вы встретили еще одну женщину, которая вас не понимает.
Своим хохотом они отвлекли от вкусной еды всех, кто был в кафе.
Смех резко омолаживал Анфису, чему способствовали хорошие зубы. У Трепетова была возможность представить, как она выглядела много раньше. Она была похожа на известную киноактрису. Просто копия, только еще лучше. У той актрисы были слишком шаловливые глаза, что напрочь отсутствовало у Анфисы. Ну и самое главное: между ними была очень существенная разница в годах, та актриса Анфисе во взрослые дочки годилась.
Любовь начинает проходить от пресыщения обликом. Лицо Анфисы не могло надоедать, ни сейчас, ни тем более раньше. Вот с ней я мог бы прожить всю жизнь, думал Трепетов. А еще подумал, что у него теперь будет стимул писать книгу. Он будет наблюдать себя и Анфису, и это будет лирический жанр, самый, между прочим, рискованный. И сюжет будет, что совсем хорошо, самый незначащий: подумаешь, встретились двое на склон эе жизни, что может быть банальней?
Она, конечно, до сих пор резвушка, думал Трепетов, а стану ли я снова резвым, это большой вопрос. Недавно он прочел, что уровень радиации в Семипалатинске в 2000-м году в 600 раз превышал естественный фон. А он жил немало лет почти рядом с тамошним атомным полигоном. Это объясняло и его болезнь, и сегодняшние перспективы. Но теперь он жалел, что назначил себе такую дозу. Считай, сам убил в себе мужскую силу. От этой мысли он даже приуныл слегка, и это выражение проступило на его лице.
– Не надо о грустном, – сказала Анфиса. – Все будет хорошо.
– Вы догадываетесь, о чем я сейчас подумал? – удивился Трепетов.
Анфиса эффектно промолчала и тем самым как бы бросила вызов. Теперь он тоже смотрел на нее глазами ясновидящего. Он мысленно говорил: то, чем мы сейчас занимаемся, выглядит забавно, если не сказать смешно. Но это будет точно не смешно, а замечательно, если мы напрочь забудем о возрасте друг друга.
Трепетов не был самоуверенным человеком. Но ни в чем он так не сомневался, как в том, что выглядит значительно моложе. Это было мнение всех людей, которые узнавали о его настоящем возрасте. Плюс к тому он не сомневался, что с ним не скучно, у него веселый мозг. Он был этаким не бурливым, сдержанным мажором. И если бы случилось чудо, и к нему вернулась его былая крепость, то еще не известно, что больше продлевало бы ему жизнь, облучение или чувство этой хрупкой милашки. То есть он начал думать об отношениях с ней в предположительно-мечтательном плане, что тут же отпечаталось на его лице.
– Оёёй! – сказала Анфиса. – Вы, вообще, кто?
Я – персонаж, чуть было не сказал Трепетов. Так ему хотелось думать. Он в самом деле был сам себе персонажем.
– Я – бывший креативщик, – сказал он вслух. – И объяснил, реагируя на удивление Анфисы. – Это не профессия, эта такая работа. Я приезжал в небольшой город, несколько дней изучал его, а потом давал советы и идеи, как что-то улучшить. Я – бывший улучшитель, ну или улучшатель.
Анфиса несколько мгновений раздумывала, потом спросила заинтересованно:
– А людей не приходилось улучшать?
– Я старался не браться за безнадежные дела, – сказал Трепетов.
– А себя?
– Бывало, придумывал себе пинки под зад.
– Это как?
Трепетов задумался. Отвечать на этот вопрос можно было только всерьез, а вот этого как раз и не хотелось.
– Видите ли, Анфиса, я довольно бездарный человек, а жизнь требует мастерства, вот я и подстегивал себя. Только не спрашивайте, как я это делал – едва ли уже вспомню.
– Правильно, женщине не надо говорить всего, – сказала Анфиса.
Она взглянула на часы и засобиралась.
– Меня ждут.
Трепетов знал, что так обычно говорят очень одинокие люди. Но у кафе Анфису действительно ждал в джипе молодой человек яркой кавказской внешности. Анфиса сказала, что это ее сын. Ого, подумал Трепетов, так у нее муж кавказец. Но открылась задняя дверца и вылез белобрысый мужчина.
Трепетову хотелось думать, что у нее нелады с мужем, он уже заочно изготовился чувствовать к мужу антипатию, а ячейка, оказывается, в порядке. Только на кого похож сын? Наверное, на своих настоящих отца и мать, потому как эти – не настоящие. Теперь можно было не сомневаться, что муж Анфисы – мужик с хорошей душой. Хотя это вовсе не значило, что эта душа хороша в отношении к Анфисе.
У мужа было значительное лицо и медленные глаза человека, который добился в жизни совсем не того, чего хотел, и становился в притязаниях. Выражение «мне уже ничего не нужно» читалось будто на листе бумаги. «Интересно, нужна ли тебе Анфиса?» – подумал Трепетов, глядя в глаза мужу. И – ничего не прочел.
Всю предыдущую жизнь Трепетов свято соблюдал принцип – никаких замужниц, наставлять рога мужикам – последнее дело, мало ли свободных женщин. И вот надо было что-то решать. Но не сейчас, не сей момент.
Он снова пытался начать книгу, и снова получалась галиматья, за которую хотелось набить физиономию самому себе. Он что-то объяснял читателю, и это бы противно ему самому. Книга должна была заключать в себе серьезную мысль, а этой мысли даже близко не было. Фонтан в мозгу, едва открывшись, тут же закрывался. Он понял, что без вдохновения ему не обойтись, как без селедки перед рюмкой.
Он зашел неловко в центр диагностики и предстал перед Анфисой с большими желтыми герберами.
– Могу ли я что-нибудь сделать для вас?
– Мадам, – закончила Анфиса.
– Простите. Могу ли я что-нибудь сделать для вас, мадам?
– Можете, – сказала Анфиса. – Меня уже лет сто не водили в театр.
Они поехали на легкий спектакль. Сидели прилично, за руки не держались, соседям не мешали, хотя было что обсудить прямо по ходу действа. В антракте Анфиса предложила сфотографироваться. Он сел, она встала сзади. Ей сказали положить руки ему на плечи. Она опасливо положила, не согласовывая с ним еще один шаг к сближению. Судя по его лицу, он эту самодеятельность одобрил.
Теперь, после фотографирования, он получил право взять и подержать ее ладошку. Анфиса попыталась оказать сопротивление, но он был от природы цепок. Он не смотрел при этом ей в глаза. Напротив, опустил взгляд. Ему было обидно за нее. У нее не должно было быть таких ладошек. Похоже, она была слишком заботливой и поглощенной своими женскими обязанностями, а так нельзя. Это обычно никто не ценит, этим только пользуются.
Они жили в двадцати минутах ходьбы от метро быстрым шагом. У дома прогуливался большой мужчина. В темноте Трепетову показалось, что это муж. Так и оказалось. Анфиса подошла к нему, что-то сказала, что-то услышала в ответ и тут же вернулась.
– Муж ждет не меня. Сын уехал на велике еще днем в Серпухов. У него компания любителей дальних поездок. Он только что звонил. Вот-вот подъедет. Хотите, я вас провожу?
Она была какая-то странно радостная.
– Я просила мужа и сына отпустить меня. Они посоветовались. Муж сейчас сказал, что они не будут против, если я встречу новый год с вами.
И тут он наконец-то догнал, какой должна быть главная мысль его книги. Человек должен относиться к своей смерти с любопытством и особенно серьезно учиться этому у порога жизни. Слабое мнение, разделенное даже Цезарем, что самая лучшая – неожиданная смерть, нужно опровергнуть. Он подробно опишет, как это происходит, и что он при этом будет чувствовать. Письменно или устно – это без разницы – он обязательно опишет. Он клянется себе в этом. А Анфиса ему поможет. Она как раз так женщина, что может ему помочь.
Анфиса появилась за два часа до полуночи с полной сумкой вкусностей. Он предъявил свой сюрприз. Рядом с духовкой отстаивался сибирский пирог с щукой. Она предложила начать проводы уходящего года. Ей хотелось захмелеть.
В вечернем платье и в его тапочках она чувствовала себя, как боец без важной части амуниции. Чтобы исправить этот ужас, она вынула из пакета туфельки на высоком каблуке. Он облачился в новый костюм, который лет десять висел ни разу не надеванный, и повязал галстук изящной вязью. А когда в телеке заиграли вальс, показал, что может вращаться в обе стороны. Его элегантность не была старческой, только из головы не выходило: окажется ли он на высоте, когда события подойдут к решающей минуте?
Они сидели за круглым столом, уставленном яствами и свечами, приглядывая, как румянится в духовке пирог. И Трепетов выполнял предновогоднее желание Анфисы – гадал, каким будет ближайшее будущее прекрасной дамы, называя ее в третьем лице.
– Уйдет ли она нему? Ну, разве что в крайнем случае, ради наказания мужа и сына, но потом все равно вернется к ним. Уйти, чтобы вернуться, не есть хорошо, не так ли?
– Не так ли, – согласилась Анфиса. – Но что же делать этой даме?
– Ничего особенного. Подобный случай уже описан.
– Но там был писатель, а вы – креативщик.
Трепетов изъявил готовность принести себя в жертву.
– Ладно, заделаюсь писателем.
Он прочел страничку черновика. Анфисе больше понравилось не содержание, а эмоции автора.
– Вам будто лет сорок.
– Ну, малость инфантилен я, – признал Трепетов.
– Кажется, я хлебнула лишнего. Мне нельзя больше наливать, – пролепетала Анфиса.
Для Трепетова наступил подходящий момент, и он сказал, что рановато заглядывать так далеко, когда еще не ясно, выдержит ли он мужской экзамен.
– Но фашистская пуля-злодейка оторвала способность мою, – напел Трепетов строчку из Высоцкого.
Анфиса подыграла.
– Ах, батальонный разведчик, неужели ничего не осталось?
– Можно проверить, – предложил он стеснительно.
– Эх, все равно пасть ниже, чем я уже пала, невозможно, – с ироничным отчаянием воскликнула Анфиса.
Ее глаза смеялись, а руки тянулись к Трепетову. Они снова танцевали. Потом Анфиса потребовала разговора по душам.
Он сказал, что в юности мечтал стать артистом. В доме, где он жил, его соседями были корифеи местного театра. Все красивые, красиво одетые, ведущие красивую жизнь. А красота – это ж мечта. Они тоже когда-то мечтали так жить, и теперь жили в своей сбывшейся мечте. И он, наверное, мог бы так жить, но что-то его остановило. Его застенчивость помешала бы ему быть уверенным в себе на сцене. Он боялся изображения чувств, эта искусственность отталкивала его. В изображении чувств ему виделось кривлянье. А ведь это изображение повторяется из спектакля в спектакль, а он терпеть не мог в чем- то повторяться.
– И это все? – удивленно спросила Анфиса (Трепетов развел руками) и потребовала. – Еще хочу.
На этот раз ему особенно понравилось, как она произносит слово «хочу».
Он справился. А куда бы он делся? Она знала, как помочь ему преодолеть страх. А он сделал открытие, почему по подиуму ходят исключительно худышки. Это нужно не только экономным модельерам. Худоба сексуальна и возбуждает куда сильнее, чем упитанность. Хотя понять это дано далеко не всем. «Если бы худых у нас было больше, это существенно подняло бы рождаемость». Даже в обнаженном состоянии Трепетов строил социальные выводы. Анфиса покатывалась со смеху.
Конечно, она созналась, что у нее никак не выходит из головы.
– Я уже отчасти поняла, в чем ваш креатив, Павел Викторович. Но я не понимаю, за счет чего это у вас получается.
Передвинуть ее с «вы» на «ты» было невозможно. И будет невозможно примерно год, он это легко предвидел. Провинциалки долго осваиваются, хотя, конечно, не все, а вот такие, необыкновенные.
А он сам толком не понимал, как это у него получается. Объяснял это продолжительностью жизни. Не вообще, а своей жизни. Много жил и не уклонялся от всего, что вызывает активную работу мысли. Наоборот, его увлекала эта дурь. И теперь он будто читал все и всех, сам удивляясь, как это у него получается. Нет, у него было объяснение, но врожденная скромность мешала ему пустить его в ход. К тому же он боялся, что с ним произойдет то же, что и с сороконожкой, разучившейся ходить после попытки объяснить, как она это делает.
– Я от вас не отстану, – пригрозила Анфиса. – Я ж не просто так, из любопытства. Вы ж на меня так влияете, что я не могу сопротивляться. Я так и объяснила мужу, и он поверил.
– Почему тогда он не набьет мне морду?
– За что? В таком возрасте? Он воспитанный человек.
– Воспитанный и должен … Ну что тут объяснять? Он просто безразличный. Это в лучшем случае.
– А в худшем?
– А вы будто не догадываетесь. У него кто-то есть.
– Откуда такая уверенность?
– Все оттуда же, Анфиса.
– Вот скажите мне, откуда, и я от вас отстану.
Трепетов так ничего и не сказал. Не мог себя заставить. На самом деле разгадка крылась в том, что он всего-то вырастил себе ум своего времени. Он анализировал вещи и людей на уровне среднего интеллекта сегодняшнего дня, тогда как другие застряли, сами того не сознавая, в прошлом и позапрошлом веках. Вот и все.
– Мой муж воспитанный человек, – сказала Анфиса. – Просто он уважает мои чувства и готов прощать мне все. – Она подумала и добавила, отвечая на недоверчивый взгляд Трепетова. – Тем более, что я давно уже перестала волновать его.
По телеку заиграли гимн. В потолок полетела пробка от шампанского. Анфиса ловко подставила бокалы.
НАВАЖДЕНИЕ
Славин был на работе, когда Наташка позвонила ему. Он сразу узнал ее голос, но не поверил ушам, когда она назвала себя. Стало трудно дышать, и бросило в жар.
Дома он достал из тайника ее фотографию. Держать открыто не рисковал, жена бы порвала на кусочки. Как же заныло сердце, как защемило… Какая же загадочная штука человеческая – память. Когда ученые догадаются, как она работает, тогда только станет ясно, что такое человек. Но у Славина сработала сейчас не та память, какую мы обычно имеем в виду. Совсем другая.
…Наташка жила совсем рядом с ним, чуть ли не в соседних домах, но он ни разу ее не видел. И вот это случилось. Сначала он прошел мимо и застыл, глядя ей вслед. Потом испугался: а вдруг никогда больше не увидит эту светлую шатенку с яркими карими глазами. Догнал ее и сказал, задыхаясь от спазма.
– Знаете, а ведь знакомиться на улице – прилично.
Девушка замедлила шаги, вглядываясь в его лицо. Это был профессиональный взгляд художницы. И молчала. Тогда он закончил:
– Случайных встреч не бывает.
Девушка молча пошла своей дорогой, но медленно, а он шел рядом. У нее висела на плече плоская деревянная коробка, кажется, мольберт. Не говоря ни слова, он снял этот ящик и повесил на себя. Она не сопротивлялась. Он сказал совсем банальность, мол, удивительное рядом, потом говорил что-то еще, она только улыбалась. Потом он коснулся ее пальцев, она не убрала их. И тогда он взял в свою руку ее ладошку. Сделать это спустя минуты после встречи было, конечно, невообразимым нахальством, но его тянуло взять ее руку, словно магнитом. Что-то похожее чувствовала и она. Их пальцы переплелись.
Они пропустили все стадии. Не было цветов, коробок с конфетами, ресторанов, походов в кино, рассказов о себе, зарождения душевной близости, кристаллизации чувств. Спустя два-три часа после первого поцелуя они уже раздевали друг друга.
Мама отпускала ее к подругам, как солдата в увольнительную. Строго на два-три часа, и только днем. Думала, убережет. И ведь уберегла до 20 лет. Она не стеснялась, несмотря на казарменное воспитание мамы. Она только повторяла: «Наконец-то!» Происходящее было для нее не утратой, а избавлением.
Он никак не обольщал ее. Не включал нежную музыку. Не открывал бутылку с вином. И даже не подумал об этом. Их обоих трясла лихорадка. Они будто лишились дара речи. Она только говорила, словно в бреду: «Я сделаю тебя счастливым». Словно понимала, как тяжело ему никого не любить. Но в этом обещании счастья не было нужды. Ее красота сама по себе была обещанием счастья. Хотя… Славин говорил себе: такая девушка не может не любить свое отражение в зеркале. А если так, то неужели ее отношение к нему не ограничивается ее отношением к себе? В это трудно было поверить.
Каждый день Наташка прибегала, и они тут же падали в постель. Потом она одевалась и бежала домой. Только через неделю она спросила: «А ты предохраняешься?» Он удивился: «А зачем?» Он пошел бы на хитрость, если бы она велела ему предохраняться. Он готов был на все, только бы сделать ее своей навсегда. Славин признался, что он в разводе. О-о-о! Наташка сказала, что мама ни за что не даст согласия на их брак. У мамы для нее своя кандидатура ни разу не женатого кандидата наук. Но она не отступит. Они поженятся тайно. Она покажет запись в паспорте, и мама смирится, хотя едва ли.
Славин позвонил в загс. Ему пообещали сделать это по знакомству завтра же. Ошалевший Славин объявил маме, что он встретил, наконец, самую-самую. В подтверждение показал фото Наташки в ее паспорте. Мама озадаченно посмотрела на него и ничего не сказала. Это было очень странно.
На другой день он заехал за Наташкой. Она впервые села в машину без улыбки до ушей и проговорила тихо.
– Тебя хочет видеть моя мама.
– Ты ей сказала? – удивился Славин.
– Ей сказала твоя мама, что ты бываешь забывчив – у тебя позади два брака и два брошенных ребенка. Ты рецидивист, Олежка.
Славин был в шоке. Как мама могла узнать ее адрес? Вот олух! Очень просто. Не только посмотрела фотографию Наташки в паспорте, но и заглянула на страницу, где значится прописка.
Наташка смотрела погасшими глазами.
– Мама сказала, что обойдется без твоих объяснений, только верни паспорт.
– Нет, я должен с ней поговорить! – вскинулся Славин.
– Не надо, – простонала Наташа. – Ты ее не уговоришь.
Она чуть помолчала и добавила, что этого и ей уже не надо.
Если бы Славин мог убить себя в этот момент без оружия, он бы сделал это сгоряча, не задумываясь.
На прощанье Наташка подарила ему свою фотографию. И взяла с него слово, что он вернется к жене. И загадочно добавила: «А потом видно будет. Жизнь длинная».
– Мама, что ты наделала?! – сказал дома Славин.
– Я все сделала правильно, – сказала, как отрезала, мама.
Общие знакомые сообщили Славину, что Наташка вышла замуж на другой день после того, как едва не зарегистрировалась с ним. Мужем стал тот самый кандидат мамы. Славин вернулся к жене и дочери. Жена не могла простить ему измену, но все же родила еще и мальчика.
Славин жил по инерции, не разрешая себе увлечений, считая себя обязанным вырастить детей. Время от времени он доставал из тайника фотографию Наташки и тут же прятал. Не мог любоваться, и опасно было – в любое мгновение жена могла застать врасплох. Однажды так и случилось. Но он успел закрыть книгу с фотографией. И страшно испугался взгляда жены – ему почудилось, что она догадалась. И вот Наташка появилась вновь, и что теперь с этим делать?
Они встретились в кафе на Тверской. Она вошла своим изящным, решительным, шагом. Он встал из-за столика. Она бросилась ему на шею. Он вдыхал запах ее роскошной гривы. Она уткнулась ему в шею и тоже вдыхала, вдыхала… Кто-то похлопал в ладоши.
Потом они сидели за столиком, держась за руки. Официантка спросила, что им принести. Они слышали, но не отвечали. «Может, что-нибудь из аптечки?» – спросила официантка. – «Что-нибудь от гипноза», – уточнила Наташка. На столе появились две чашки кофе и две рюмки с коньяком.
– О господи! – вздохнула Наташка и выпила махом.
Славин вспомнил: вот и тогда она выражала свои чувства почти междометиями. Но ее всегда можно было понять. Он изъяснялся гораздо членораздельней. И тогда, и сейчас.
– Ты проездом?
– Я давно в Москве. Увидела тебя по телеку. Говорю мужу: вот мой первый мужчина. Возможно, он станет моим третьим мужем. Могу познакомить. Он наверняка женат, говорит муж. Олежка, до какой степени ты женат? Не отвечай. Ответ – на твоем лице. Тогда что нам мешает довести начатое дело до конца? Олежка, вглядись. Я лучше, чем была.
Лучше? Не то слово! С какого-то столика ей прислали веточку розы. Она вежливо поднесла ее к носу и положила на стол. Как многие провинциалки, она была равнодушна к цветам, считая их излишним лирическим пафосом.
– Помнишь, я обещала сделать тебя счастливым? Теперь нам уже никто не помешает. Я делаю тебе предложение. Сколько тебе надо на раздумье?
– Ты невероятная, – сказал Славин.
Ее яркие карие глаза погасли. Но тут же снова ожили.
– Все равно ты должен познакомиться с моим мужем.
По дороге она рассказала: муж из знатного казахского рода, потомок хана, служит в кагэбэ аналитиком, учится сейчас в академии. Скорее всего, его оставят в Москве, а значит, служебная трешка станет его собственностью. Он может обменять ее на однушку и двушку. Так что разбежаться им не проблема. Она все равно уйдет от него.
Муж был дома. Красивый казах с тонкими чертами лица. Доброжелательно пожал руку. Предложил кофе и пошел в кухню. Наташа завела Славина в небольшую комнату. Там за ученическим столом сидел мальчик лет четырнадцати. Высокий, ладный, копия мать. «А это Игорь», – сказала Наташа. – А это…», – она запнулась, не зная, как лучше назвать Славина. «Я понял, – сказал мальчик, – это старая любовь, которая не ржавеет».
«Пойду накрою стол», – Наташа вышла. Славин разглядывал мальчика, чувствуя странное волнение. – «Вы знаете, из-за чего мама разошлась с моим отцом?» – спросил Игорь. Славин пожал плечами. «Ему страшно не нравилось, что я похож на маму». – «Что за нелепость?» – удивился Славин. – «Да нет, все логично», – по-взрослому возразил мальчик.
Потом они сидели вчетвером, за кухонным столиком, как в железнодорожном купе. Говорили о Казахстане, где жили раньше. О трудном привыкании к Москве, к ее воздуху, многолюдью, суете. На это ушло минут десять, потом то ли тихий ангел пролетел, то ли дурак родился. Славин сказал, что ему пора. Наташа пошла проводить. До метро шли медленно, как за катафалком.
Славин должен был сказать то, чего она ждала, а он был словно в ступоре. Он еще не понял, не догнал, зачем на самом деле она зазвала его к себе.
– Зачем ты это сделала? – спросил он, наконец.
Экий ты недогадливый, – читалось на лице Наташки. Она молча поцеловала его в щеку и пошла обратно.
«Она рождена для ложа и известного кресла, для наслаждений и отборного потомства. Она должна была к своим тридцати пяти годам родить минимум троих, а у нее только один сын и ни одной дочери, – говорил себе Славин, на пути к дому. – Неужели она вышла за этого потомка хана для того, чтобы попасть в Москву? Ну, не влюбилась же она в него. Хотя, почему нет? А если влюбилась, то как-то слишком быстро разлюбила».
Но не это главное. Главное – почему она развелась с первым мужем. Ему не нравилось, что сын – ее копия. Стоп! Значит, подозревал, что отец – не он. Какой балбес, сколько детей бывают похожи только на матерей или только на отцов. Нет, едва ли он балбес. У него были основания так думать. Еще раз стоп! Когда родился мальчик? В каком месяце после их с Наташкой расставания? Они расстались в августе. Если мальчик от него, он должен был родиться в мае. Я потерял голову тогда и снова теряю сегодня, – думал Славин.
Тут зазвонил телефон. Это была она, Наташка.
– Я не стала тебе говорить, но ты должен знать, прежде чем принять решение. Я беременна. Естественно, от этого мужа, от потомка хана. Но он об этом не знает. Он благородный человек. Мы уже договорились: он разменяет свою трешку. Нам с Игорем отдаст двушку.
Она только прямо не сказала: тебе, Олежек, надо только собрать чемодан.
Славину трудно было собраться с мыслями. Его пришибли слова о беременности. Он не подумал, а почувствовал, что это уже слишком.
– Наташа, нельзя нам возвращать друг друга.
Он сказал это и тут же возненавидел себя, как дезертира.
– Согласна. Жениться – значит, убить то, что было, – она повесила трубку.
«Надо как-то вернуть фотографию, подумал Славин. – Тогда только пройдет это наваждение. Хотя, не факт».
Прошлом еще несколько лет. Дочь вышла замуж, а сын, копия мать, отвернулся от Славина. В их семье не было настоящей любви, а значит ни в чем не было смысла. К этому времени он переварил прожитую часть жизнь, а прожитая часть переварила его.
Он купил себе квартиру. Жена нашла себе пару, а дети так и не узнали, чем он пожертвовал ради них. Но он ни о чем не жалел. Он обрел мудрость, которая всему, как молитва в церкви, находит утешения. Он говорил себе, что с Наташкой он жил бы в страхе потерять ее любовь. Это была бы попытка удовлетвориться одной женщиной, а красота тоже изнашивается и надоедает. И вообще, всему приходит конец, и самая красивая любовь – не исключение. Он по-прежнему любил воспоминания, но при этом не мог себе простить, что до такой степени увлекся. Ему казалось, что Наташа была невысокого мнения о его уме: по-настоящему умные так безумно не влюбляются.
И раньше, и сейчас ему встречались женщины-охотницы, женщины-кошечки и другие разновидности. Но он то ли принадлежал к однолюбам, то ли судьба не давала ему второго шанса. Стараясь забыть Наташку, сравнивая с ней других женщин, он не ослаблял, а только усиливал тоску по ней.
Он позвонил ей, помня, как они два раза расстались, и вовсе не надеясь провести с ней остаток жизни. Он трезво сознавал, что теперь они могут любить не друг друга, а только свои вспоминания. «Я только отдам ей фотографию», – говорил он себе.
Он встретил ее у метро. Она стеснялась, что пополнела. Они подъехали к набережной Москвы-реки. Сели на скамейку. Посмотрели друг другу в глаза. Он взял ее руку, и почувствовал, что ничего не изменилось и не кончилось.
Его квартира была рядом. Через минуту после того, как они вошли, их одежда уже валялась вокруг постели. Только теперь они были способны что-то говорить друг другу.
– Странно, что ты так ни в кого и не влюбился, – сказала Наташка.
Славин пошутил:
– Мне хватило одного несчастья в жизни.
– Олежка, я не могла ослушаться мамы. Мама есть мама. Зато потом я приехала в Москву, чтобы все вернуть. И зато я родила дочь. Хочешь взглянуть на нее?
Она вынула из сумочки фото дочери. Ух ты, какая метисочка! И опять-таки вылитая Наташка, только с экзотическими глазами.
Потом показала фотографии двоих детей Игоря. Сколько же красоты она наделала в жизни.
– Когда у Игоря день рождения? – как бы невзначай спросил Славин.
– 17 мая, – быстро ответила Наташа и осеклась. – Но это ничего не значит. Даже не думай. Если бы я была в чем-то уверена, я бы сама тебе сказала.
– Когда ты ушла от своего хана?
– Задолго до того, как родила дочь. – Наташка натянуто рассмеялась. – Ах, Олежка, кто от кого родился, кто от кого ушел, – такие мелочи жизни. На днях я сама собиралась тебе позвонить. Похоже, у нас патология в хронической форме. Другого объяснения этого безобразия у меня нет.
Славин не унимался:
– Сходство или несходство можно определить не только по лицу, но и по фигуре. Ты покажешь мне фото Игоря в плавках?
– О, как все запущено, – Наташа уже не смеялась.
Она думала сейчас, что Славин повел себя ничуть не лучше ее первого мужа.
– Неужели тебе мало того, что он мой сын? Может, потребуешь экспертизу ДНК?
Славин сказал:
– Твой первый муж наверняка заметил, что мальчик – не от него во всех деталях. С ног до головы. А я, применительно к себе, уверен в обратном. Так что не надо мне никакой экспертизы. Но на фотографию я бы взглянул.
Наташка смотрела на него со снисходительной нежностью. Уж она-то знала, что ноги сына сделаны, как под копирку.
А Славин думал, что любить воспоминания о любимой женщине все же легче, чем ее в натуре и повседневности. Теперь он готов был ко всему. И в то же время – не готов.
Всю дорогу до ее дома они молчали. Машина остановилась у подъезда. Наташка чего-то ждала. Наверно, каких-то последних слов. Славин вынул из кармана ее фотографию и проговорил, будто был один.
– Женщина моей жизни.
Наташка отозвалась, глядя на него прекрасными влажными глазами.
– Мужчина моей жизни.
Он протянул ей фотографию. Она положила ее в сумочку. У подъезда обернулась. Так называемый прощальный взгляд.
«Ну, вот и всё!»
ДУХОВНЫЙ СЕМИТ
Шахматный клуб. За одним из столиков Иванов и его партнер Петров. Оба с виду интеллигентные люди. Только у Петрова позиция хуже
– Слушай, Володька, а ты случаем не еврей? – неожиданно спрашивает Петров.
Иванов смотрит ошарашено на окруживших столик болельщиков и находит замечательный ответ:
– А ты случаем не гомосек?
– Я просто полюбопытствовал, а ты взял и оскорбил меня, – говорит Петров.
– Нет, это ты первым его оскорбил, иначе бы он так не ответил, – говорит Петрову один из болельщиков.
– Спросить человека, еврей он или не еврей – разве оскорбление? – говорит Петров. И обращается к Иванову. – Есть правило, Володька. Еврей тот, кого принимают за еврея. Ты умный, у тебя нос крючком. К тому же ты Владимир.
– Хорошо, предположим, я еврей, что дальше? Что это меняет? Позиция у тебя все равно безнадежная, – говорит Иванов.
– Зато мы внесли ясность, – говорит Петров.
– Хочешь вывести меня из себя? – спрашивает Иванов.
– Не думал, что ты так отреагируешь, – ухмыляется Петров. – Если ты не еврей, мог бы спокойно ответить: нет, я не еврей. А ты обозвал меня гомосеком. Ты же знаешь, у меня жена, дети.
– Гомосеки разные бывают, – говорит Иванов.
– Вот сейчас ты меня еще раз оскорбил. Я тебя ни разу, а ты меня уже два раза, – отвечает Петров.
Иванов все же выиграл, но вернулся домой в плохом настроении. Жена Маша смотрела ток-шоу Владимира Канарейкина. Не говоря ни слова, она налила Иванову сто граммов, достала из банки соленый огурец. Иванов расслабился и объяснил, что произошло.
– Можно хорошо играть в шахматы, слыть умным человеком и быть при этом идиотом, – сказала Маша. – И вообще, Петров антисемит. Он и меня подозревает. Но меня – обоснованно, а тебя – не знаю.
Иванов напрягся:
– Что значит «обоснованно»?
Иванов жил с Машей считанные месяцы, еще не успел рассмотреть все скелеты в ее шкафу. Убавив звук в телевизоре, Маша совершила явку с повинной. Достав фотоальбом, ткнула пальцем в фотографию своих родителей. Вся в отца, жгучего брюнета, и ничего от матери – курносой блондинки. На самом же деле, отец был донской казак, а мать – чистокровная еврейка.
«Интересный, однако, денёк!» Иванов потянулся к бутылке. Когда наливал себе, Маша подставила свою рюмку. На ее лице читалось желание напиться. Они оба хотели что-то сказать друг другу, но тут Канарейкин в который раз объявил в прямом эфире, что он еврей. «Да что ж такое!» – подумал Иванов.
Видя теперь в жене эксперта, он спросил, зачем Канарейкин делает это в каждой своей программе.
– Сама гадаю, – сказала Маша. – Рисуется. Они там все артисты, то есть кривляки.
– Но никто так часто не гордится своей национальностью, – сказал Иванов. – Если гордится, значит, ставит евреев выше русских.
– Сама не понимаю, – поддержала Маша. – Живешь в России – считай себя русским и не кокетничай. Канарейкину уже под шестьдесят, а он, как был, так и остается сынком еврейской мамы. Все истерики – маменькины сынки, а он – истерик. Гора мышц, может тянуть воз вместо быка, а дух – телячий. Вот и корчит из себя крутого. Комплиментами ласкает мужиков направо-налево. (Здесь она передразнила Канарейкина) «На что еще обратил свой взгляд ваш острый мозг»? Скольких умниц уже испортил своей лестью.
Маша символически сплюнула и налила себе водки. Подумала и великодушно плеснула Иванову. Выпила, не чокаясь и сказала:
– Нельзя слепо любить свою нацию. У меня и к русским вагон претензий. Но сейчас мы говорим о самом древнем народе.
– Китайцы древнее, и говорим мы о Канарейкине, – поправил Иванов.
– Я его насквозь вижу. Он бабник и сладострастник, – сказала Маша.
– А что такое, по-твоему, сладострастник? – придрался Иванов.
– Не что, а кто. Кто любит заниматься любовью.
– Тогда я тоже сладострастник, – напомнил Иванов. – Тебе ль не знать.
Маша пропустила выпад мимо ушей. Вцепившись в Канарейкина, она уже не могла отпустить его, не ощипав половину перьев.
– Канарейкин воздвиг себе репутацию любящего отца. Хотя на самом деле любит только себя. Дикое тщеславие и любовь к детям – вещи несовместные.
Иванов налил Маше еще, и она прибавила пыла:
– Они все отъявленные бабники и сладострастники. От Троцкого до Березовского. От Бабеля до Немцова. При этом жуткие выпендрежники. Еврей, который не считает себя самым умным и успешным, неполноценный еврей. Но среди русских баб у них хорошая репутация. Как бы верные мужья, как бы хорошие отцы. А на самом деле – просто хорошие имитаторы. Если бы были настоящими, еврейки не выходили бы за русских, как моя мама.
Иванов спросил, кем же сама Маша себя считает.
– Конечно, русской, кем же еще? Если бы чувствовала себя еврейкой, давно бы уехала в Израилевку, – сказала Маша. И неожиданно добавила. – Но мне не нравится, как ты смотришь на свою невестку.
– Как я на нее смотрю?
– Как отъявленный антисемит.
– А чего она печет такие тощие пироги с капустой? Капустой жмется!
Иванов сделал вид, что пошутил, а на самом деле считал экономию капусты важным показателем. Ему не нравилось также, что сын стал редко приезжать к нему. Придумал оправдание, мол, у невестки сбой в вестибулярном аппарате, совсем не переносит езды, а приезжать ему одному – значит, оставлять ее в одиночестве.
– Еврейки отбивают русских мужей от родителей, – сказал Маше Иванов. – Ты – редкое исключение.
– Тут я с тобой, пожалуй, соглашусь, – отвечала Маша. – Я тоже это замечала. Но скажи спасибо, что невестка еще не увезла твоего сына в Израилевку.
Иванов потянулся за ещём, в смысле, к бутылке.
– Бедолага, – пожалела его Маша. – Сколько несчастий сразу. Но ты перетерпи все кучкой – потом легче будет. (Иванов направил на Машу вопрошающий взгляд). Не знаю даже, как ты это воспримешь… Ну, короче, сын у тебя тоже еврей, Вова. Точнее, первая жена твоя не сказала тебе, что она еврейка. А сын только недавно узнал от нее. Просил тебя подготовить.
Иванов нервно захохотал. Потом умолк и снова захохотал. Открыл свой фотоальбом и стал рассматривать фотографии родителей. Потом старые снимки с изображениями деда и бабки. Маша переживала за него.
– Все у тебя нормально. Смотри, какие чисто русские лица.
– Тогда откуда у меня горбинка на носу?
– Далась тебе горбинка. У Карла Маркса нос картошкой, а он кто?
Ночью Иванов долго мял подушку. Какого черта он вызверился на Петрова? Ну, в самом деле, чего обидного в вопросе, еврей ли он? «Но я обиделся, – признавался себе Иванов, а значит… Что из этого следует? Значит, быть евреем, по мне, не есть хорошо. Стало быть, я скрытый антисемит. Но при этом меня не очень покоробило, когда Маша призналась мне, что она еврейка. Но совсем другое дело – с сыном. Почему? Да все просто. Маша никуда не денется, а сын отдалится еще больше. Потому как знает точно, что я отчасти все же антисемит. Сколько раз я при нем проявлял себя в этом качестве… Такое не забывается».
Иванов встал и выпил снотворное. В соседней комнате зажегся свет. Маша принялась читать книжку. «А ведь у нас из-за этой ерунды все может рухнуть», – подумал Иванов.
Он начал строить оправдания. По всей жизни среди его друзей было немало евреев. Даже больше, чем русских. Значит, или он притягивает их, или сам к ним тянется. А значит, в любом, случае никакой он не антисемит. Просто не любит в евреях худшие качества. Но ведь и в русских он то же самое не любит.
Иванов зашел к Маше, присел на краешек софы, взглянул на обложку книги в ее руках. Это был Василий Розанов.
– Не ты один маялся, – сказала Маша. – Этот известный антисемит даже собирался перейти в еврейство. Вот ведь как.
– Что значит перейти в еврейство? – спросил Иванов. – Это что же, пройти известный обряд?
– Вовсе не обязательно, – сказала Маша. – Можно просто объявить себя духовным евреем. Не по крови, а по духу.
– Дух и есть кровь, – возразил Иванов.
– Не хватай меня за язык, – огрызнулась Маша. – Ты сам натуральный духовный еврей.
– А это что такое? – озадачился Иванов.
– Не что, а кто, – занудно поправила Маша. – Что тут жевать-то? Духовный – это духовный. То есть не по крови, а по тому, как человек живет свою жизнь. Со смыслом или без, успешно или тупо.
– Слово «еврей» мне не нравится, – закапризничал Иванов.
– Хорошо, я, невестка и твой сын, будем называть тебя семитом, – снизошла Маша.
– Мне чуется в этом какой-то подвох, – уже развлекался Иванов.
– Ну, правильно. В душе ты все равно неисправимый антисемит, – сказала Маша.
Она высунула из-под одеяла ступню и пыталась сложить из трех пальцев фигу. Иванов ласково взял эти пальцы в ладонь. Маша отложила книжку и гостеприимно откинула одеяло, Иванов лег рядом, сказав при этом:
– Не зря Розанов называл евреев нацией вечной эрекции.
Маша вздохнула:
– Еще говорят, евреи – более интенсивная форма той национальности, среди которой они живут. Этот интенсив – есть защита. А антисемитизм – есть зависть. Ты пьян, мой чистокровный русский друг, а значит должен быть задушевным, как я. Хотя я не очень пьяная, и это неправильно, в таком состоянии я сегодня не усну.
Она налила Иванову и себе еще и сказала тост:
– А знаешь, какая эмоция на эту тему мне больше всего нравится у Розанова? «Да будет благословен еврей. Да будет благословен и русский».
ЭРИКА
Она появлялась на пляже по утрам. Издали ее можно было принять за инопланетянку: невероятно длинные ноги, светло-шоколадная кожа, короткие пепельные волосы, серо-зеленые глаза. Фигурой она напоминала туземок суданского племени нуба. Кто видел фотографии этих негритосок, тот поймет, какое впечатление производила эта девочка на пляже провинциального сибирского городка.
По слухам, родиной ее предков был поволжский фатерланд, и звали ее Эрика. И это было все, что о ней могли узнать любопытные. Трудно было понять, как появилось на свет это создание. Любой своей позой она заставляла смотреть на себя. При взгляде сзади бросались в глаза ее узкие и в то же время округлые бедра. А если она вдруг садилась и подтягивала под себя ноги, то ноги оказывались вровень с головой. Это было уродливо красиво.
Эрике, похоже, нравилось дивить людей такой позой, а потом встать и показать ноги в естественном виде. И уж тем более трудно было понять, как так случилось, почему у нее такое лицо? Откуда этот шрам от ожога на всю левую щеку, будто приложили когда-то раскаленный утюг?
Всем, кто видел Эрику издали, хотелось подойти поближе. Это должно было раздражать ее, но она относилась к этому любопытству терпеливо, словно понимала, что в ее лице главное – не шрам, а шарм. Она улыбалась ресницами и уголками губ, словно Монна Лиза. Всякий, кто рассматривал ее, удалялся довольный и еще больше очарованный ее загадкой.
Она сбрасывала тунику у одного и того же грибка и сразу шла к реке, хотя слово «шла» здесь не годится. Ее походка была танцем, хотя видно было, что она нисколько не рисуется своей грацией. В воду она входила стремительно, ныряла с головой, тут же выныривала, и начиналось главное ее представление. Она плыла мальчишескими саженками, но как-то не совсем по-человечески. Было в ее манере двигать руками что-то зверино-грациозное. Для нее словно не существовало плотности воды. Спустя несколько секунд ее голова была уже на середине реки, здесь ее подхватывало сильным течением и уносило в даль. Возвращалась она не скоро, но ничуть не уставшей, блаженно опрокидывалась на старенькое полотенце и закрывала глаза панамкой.
К ней подходили знакомиться. Она вежливо приподнимала панамку и с улыбкой что-то отвечала. Если кто-то наглел, она могла сказать с той же кроткой улыбкой: «А ведь я могу и в рыло дать». Если искатель приключений не унимался, ему делали внушение двое-трое из местной шпаны. Эрика была знакома с этой непрошеной охраной, но дружбы с ней не водила. Не было у нее и подруг. Пышненькая красотка Валька, королева пляжа, пыталась сделать ее своей фрейлиной. Но Эрика не брала ни мороженого, ни конфет, ни глотка шампанского. Самолюбивая Валька могла принять меры, шпана готова была исполнить любой ее каприз. Но только не такой – Эрика была неприкосновенна.
И все же напряжение росло. Неужели эту немочку никто не охмурит? Особенно терзалась этим вопросом Валька. Про себя (а иногда и вслух) она называла Эрику уродиной. Этим объясняла она и неприступность девочки: мол, стесняется себя.
Это должно было произойти именно в то лето и ни годом позже. На Эрику запали сразу двое. Один ненамного старше, другой – лет на десять. Первый – известный всему городу прыгун в высоту, другой приезжий. Прыгун появился на пляже из-за Вальки, накануне познакомился с ней на танцплощадке. Пришел, увидел Эрику и пропал. И даже не сумел этого скрыть. Могла ли Валька уступить его, длинноногого кузнечика, «этой уродине»?
А прыгун оказался не просто спортсменом. Он подсознательно растил в себе чувство прекрасного. В нем, совсем еще молодом, зрел художественный вкус и художественный взгляд на людей. Много позже из него получился известный кинорежиссер. А тогда он увидел Эрику, сравнил ее с неправдоподобно красивой Валькой и понял, что он неизбежно угорит от нарисованной красоты королевы, а вот эта девочка – не столько человеческое, сколько божье создание. Такое сочетание линий и пропорций, мягкости и доброты не может быть только человеческим. След от страшного ожога прыгун не мог не видеть. Но этот след как раз и объяснял, вопреки чему эта девочка сохранила свою ангельскую сущность.
Вот тут и появился приезжий. Мастер художественной фотографии, он запал на Эрику с честолюбивым творческим умыслом – стать первым, кто откроет миру ее редчайшую красоту. Он фотографировал уникальную девочку украдкой, но разве на пляже эту хитрость скроешь. Шпанюки засветили ему пленку, дали пинка и пообещали утопить. На другой день мастер пришел с телеобъективом и стал снимать Эрику с безопасного расстояния. К нему подошел зловеще вежливый двадцатилетний мачо в белом костюме и потребовал мзду, иначе дорогущий телеобъектив нечаянно упадет на асфальт.
Фотограф хотел попользоваться Эрикой, а шпана считала, что она уже владеет ею, хотя бы тем, что охраняет ее от разных посягательств. Во главе шпаны стоял этот самый мачо в белом костюме. У него был свой гарем из бойких сексопилок, которые считали за честь доставить ему удовольствия, а Валька была чем-то вроде главы гарема и чем-то вроде неофициальной старшей жены. Мачо положил глаз на Эрику, когда она была совсем еще алёнушкой, но как бы ни облизывался, не мог ускорить события. Мешала порядочность, которая поддерживается даже среди шпаны: младший брат Эрики вращался в этом кругу. Мешало также опасение – брат обещал вырасти в крутого кренделя и мог сурово наказать за соблазненную сестру.
Фотограф согласился заплатить мачо, но поставил условие. Ему нужно поснимать Эрику в пикантных видах. Мачо удивился: неужели голышом? Фотограф благородно возмутился: он снимает не порно, а эротику. Эротика тоже дорого стоит, сказал мачо и назвал свою цену. Фотограф не стал торговаться и попросил адрес для пересылки гонорара. А адрес Эрики тебе не нужен? – спросил мачо. Зачем? – с удивлением спросил фотограф.
У мачо зачесались кулаки. Он хотел, чтобы телом Эрики любовались миллионы. И его возмущало, что фотограф готов заплатить только ему. А как же Эрика? Разве модели не платят? Он – вроде импресарио, а она – не какая-нибудь зверушка из красной книги, она – модель, это факт. Какого хрена эта московская штучка хочет кинуть провинциальную модель?
Фотограф сказал, что у него сейчас не хватит денег, но он обязательно поделится с Эрикой своим гонораром и даже оплатит ее приезд в Москву на презентацию его фотоальбома. Мачо сказал, что так дело не пойдет. Дело пойдет, если фотограф оплатит и его проезд.
На прощание Эрика сказала фотографу, что вообще-то она Аглая, и никакая не немка. Просто это ее детские фантазии. Но если он решил назвать фотоальбом «Эрика», она не будет возражать.
В сторонке стоял прыгун, всем корпусом напротив, отвернув лицо в сторону. Потом они, два кузнечика, пошли под грибок, разделись и сели напротив друг друга, подобрав ноги. Шпана не мешала.
Презентация фотоальбома состоялась через полгода. Эрика-Аглая приехала в Москву одна, ее встречал прыгун, он к тому времени уже учился там во Вгике. А мачо не смог приехать по уважительной причине, он неожиданно угодил в тюрьму. Но он прислал на удивление теплую поздравительную открытку.
Лет через пять прыгун снял фильм о девочке с обожженной щекой и фигурой женщин племени нуба, любимице шпаны. В интервью сказал по большому секрету, что этот фильм – о его жене.
МУКИ ЛЮБВИ
Она была соседка, жила в одном с ним доме, даже в одном подъезде, поэтому их свидания проходили в других подъездах.
Они стояли обычно у батареи. Когда входили или выходили люди, они прятали лица. Правильные люди возмущались, обзывали их бесстыжими, требовали убраться, но куда они могли пойти? Только в другой подъезд. В те годы в большом ходу была шутка: есть кого, есть чем, негде!
Она, студентка второго курса, приехала на зимние каникулы. Он заканчивал десятый класс. Ну, о чем они могли более-менее поговорить? Даже о сексе не могли, он в этой теме был полный импотент. Поэтому они тупо сосались, не в силах оторваться друг от друга. Это длилось часами. У него потом все болело в промежности, а у нее ничего не болело, ее организм получал своё. Время от времени она учащала дыхание, будто задыхалась, прижималась к нему всеми мякотями, впивалась коготками в его тело. У нее все было сладостно мокро, а его мучила боль. Но он не мог оторваться от нее: то ли она была такая вкусная, то ли этого жадно требовал его организм.
Она могла избавить его от болей очень просто. Она уже была женщиной, и ей было убийственно мало упоительных поцелуев и жарких объятий. Но она знала, что он считает ее девственницей, и не хотела его разочаровывать. Хотя, возможно, были и другие причины. Но и он все же догадывался, что она уже женщина. Опыт его состоял из разговоров со сверстниками, которые строили из себя мужиков. Он слышал, как можно с первого взгляда угадать в девушке женщину: у нее большая грудь и широкие бедра. Тут как раз все совпадало. Но даже если тут не было ошибки, он был такой еще теленок, чтобы чего-то потребовать.
Его опыт в таких делах вообще складывался почти травматично. Вместе со своей волейбольной командой он поехал на соревнования в другой город. Старая, лет тридцати, проводница, заманила его в служебное купе, грубо завалила на себя, от нее несло водкой и еще каким-то невозможным запахом. Он, такой капризный, не оправдал ее надежд, она прогнала его и зазвала другого. За этим другим потянулась остальная команда. А он лежал на верхней полке, выслушивая насмешки.
Он завидовал своему другу. Когда тому исполнилось 16 лет, отец преподнес ему подарок – нанятую проститутку. А еще он слышал, что чья-то мать, боясь, что сын увлечется карманным бильярдом, уговорила подругу лишить его невинности. Бывают же такие классные предки.
Весной она снова приехала. Теперь можно было не прятаться по подъездам. Но они не продолжили встреч совсем по другой причине. Она приехала с мужем. Прошла неделя, и она не выдержала. Назначила ему место и время. Место было напротив гостиницы. Она привела его в снятый номер, подарив дежурной по этажу коробку дорогих конфет. Они почти на говорили. Все уже было сказано раньше без слов. Теперь пришел час наверстать упущенное и насладиться высшей мерой.
Теперь истекал больше он. Складывалось впечатление, что его простата размером не с кедровый орех, а с апельсин, если не больше. Перерывы длились столько, сколько требовалось ему, чтобы выкурить сигарету. Он, как и другие его товарищи по команде был курящий спортсмен. В номере стоял специфический запах – она вдыхала его, стараясь не полностью выдыхать. Она понимала, что будет часто вспоминать эту ночь.
Но то, что называется жизнью, устроено так, чтобы человек не особенно забывался. Во второй половине ночи раздался резкий стук в дверь. Он замер, она накинула халатик и открыла дверь. Это была другая дежурная по этажу. Та, что получила коробку конфет, развлекалась с одним из постояльцев.
– Ну, зачем же так орать? – сказала сменщица, которая тоже любила дорогие конфеты. – Другим людям рано вставать.
Студентка сунула денежку, на которую можно было купить три коробки конфет, закрыла дверь и вернулась в постель к десятикласснику, и они продолжили.
Утром он мог служить живой иллюстрацией поговорки «краше в гроб кладут», но у него теперь уже ничего не болело. А она бесстыже цвела и пахла, но от мужа это укрылось. Муж был с тестем на рыбалке.
КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…
2 сентября, днем позже меня, в нашем девятом «Б» появился новичок. Рослый, широкоплечий, он стоял, перед нами, держа портфель за спиной, посмеиваясь и покачиваясь с пятки на носок. Роскошные джинсы, остроносые туфли, клетчатая рубашка, кожаная куртка со стоячим воротником. Никто из нас так не одевался. И никто не держался так уверенно, точнее, самоуверенно.
– Магистов Максим, – представила его классная.
Звали ее Клара Исаевна, сокращенно Клариса.
Новичок сел ко мне на «камчатку». От него пахло тонким одеколоном, темные волосы тщательно зачесаны на пробор. Он был какой-то весь из себя особенный, такого парня мне среди ровесников еще не встречалось.
– Как поживаешь? – спросил он со странной интонацией, слегка гнусавя.
Я пожал плечами и молча показал большой палец.
На большой перемене он широким жестом предложил нам, курильщикам, сигареты с фильтром, пустил дым густыми колечками, рассказал похабный анекдот, поинтересовался, как тут у нас развит спорт, словно невзначай обронил, что давно не надевал боксерских перчаток, при этом влажным глазом сердцееда раздевал наших девчонок.
Мы все были сексуально озабоченными, но только он не стеснялся это показывать. Тоном опытного методиста он преподал нам краткую теорию обольщения.
– Об этом нужно говорить, глядя прямо в глаза. Не надо ходить вокруг да около. Не надо стесняться. Что происходит, когда вы стесняетесь? Они тоже стесняются! А что еще им остается? Понимаете, они тоже хотят. У них тоже гормоны играют. Про гормоны что-нибудь слышали? Короче, они хотят не меньше, чем мы. Надо только помочь им расслабиться и получить удовольствие.
– Как? – спросил самый непонятливый из нас.
Макс смерил недотепу уничтожающим взглядом:
– Что как?
– Как помочь расслабиться?
– Ты чем слушал? Я только что сказал. Нужно говорить прямо: я тебя люблю, поэтому я тебя хочу.
– А если я не люблю, а просто хочу? – спросил недотёпа.
Макс терпеливо объяснил:
– Ну, чего тебе стоит сказать, что ты её любишь? Ничего тебе не стоит. Так не будь олухом!
– Если ты такой опытный, – сказал недотепа, – скажи, какая из наших девчонок… уже…того?
Макс ответил тоном авторитетного эксперта:
– В вашем классе много горячих девчонок, но все до одной целки. Он сделал паузу и неожиданно закончил с пошлой ухмылочкой. – Но это дело поправимое.
Я прислушался к его речи. Он не только гнусавил, но и плохо выговаривал «р», как бы картавил.
Он выглядел пижоном и вел себя, как пижон, но в нем не было ничего смешного и ненастоящего. Он просто страшно любил влиять на других, подчинять себе. Среди подростков, которые рано взрослеют, это не редкость. Таким было мое первое впечатление.
Мы оба только что приехали в этот город, сидели за одной партой и жили неподалеку друг от друга. Нам сам бог велел стать друзьями.
Через неделю он вел меня к молоденьким медичкам: по его словам, их проще поиметь.
– Они хорошо знают физиологию, поэтому проще смотрят на половые отношения. А твоя невинность – это что-то ненормальное. Пора с этим кончать. Сегодня у тебя есть шанс. Если упустишь – ты мне не друг, понял?
Он меня достал своими нотациями, я выругался. Макс резко остановился и вылупился на меня.
– А как ещё на тебя подействовать?
Я сказал, что своё еще наверстаю после армии.
– Ага! – возмутился Макс. – Он вернется из армии, женится и тогда наверстает! Ты пойми, тебе это сейчас нужно. Если не будешь иметь женщину, начнешь дрочить, высушишь себе спинной мозг.
Он пересказал распространенную среди взрослых точку зрения на мастурбацию. Я слушал, развесив уши.
Макс больно ткнул меня в грудь указательным пальцем.
– Значит, так. У медичек однокомнатная квартира. Я с блондиночкой удалюсь в кухню. В твоем распоряжении брюнеточка, комната и двуспальная кровать.
– А как же ты на кухне, там же лечь негде? – спросил я.
Макс театрально закатил глаза. Мол, ему и на кухне будет хорошо. Он, конечно, был артист.
Медичек звали Валя и Жанна. Они были старше нас на два года. Макс балагурил, рассказывал смешные и невероятные истории. Я делал умное лицо. Мне эта хитрость как бы сходила с рук. Хотя кому это нужно, даже если ты в самом деле умняк? Обе девчонки не сводили глаз с Макса. Они млели, когда он устроил игру в бутылочку, льнули к нему. Казалось, готовы были лечь с ним вдвоем.
Когда пришло время разбиться на пары, Макс подмигнул мне и потянул беленькую Валю на кухню. Мы остались с Жанной одни. Возникла неловкая тишина. Жанна сидела с напряженной спиной, глядя куда-то в сторону. Я для неё как бы не существовал.
– Ну и чего молчишь? – сказала она, наконец. – Расскажи что-нибудь, повесели. Или полезешь за пазуху без лишних разговоров? Что тебе натрепал Макс? Что меня легче взять, чем Вальку? Он ошибся, всё наоборот.
Я чувствовал себя полным ничтожеством.
– А давай напьемся, – неожиданно предложила Жанна. – Давай напьемся и ляжем. И пусть они думают, что хотят. Наливай!
Я налил в рюмки светлого сухого вина. Рука у меня дрожала.
– Пей до дна!
Я выпил, а Жанна только пригубила рюмку.
– Наливай себе ещё. Не могу же я пить с тобой на равных.
Я налил и выпил, а Жанна снова только пригубила рюмку. Я почувствовал слабость в ногах и кружение головы. Я понял: еще одна рюмка и я свалюсь под стол. До этого мы с Максом пили водку, причем, я не закусывал. Стеснялся. Короче, нельзя пить после водки вино, но этого я ещё не знал.
Жанна отставила рюмку, поднялась из-за стола, легла на кровать. Юбка приподнялась, стали видны округлые колени и верхний краешек чулок. Этот краешек совсем помутил мое сознание. Стараясь твердо держаться на ногах, я подошёл к кровати. Жанна звонко и совершенно беспричинно засмеялась. Я никак не мог понять, чем я так её рассмешил.
– Ты целоваться-то умеешь? – спросила она.
С девчонками я целовался. Но то были пионерские поцелуи, без секса.
– Ну, иди сюда, поучу.
Я лег рядом, её тело пылало. Я точно лег возле печки. Потолок ушёл куда-то в сторону. Я замер, дожидаясь, когда потолок встанет на своё место.
– Ну!
Жанна взяла мою руку и положила себе на грудь. Грудь её, небольшая, но выпуклая, выпирала из лифчика, мне захотелось ощутить её целиком. Жанна одним движением расстегнула лифчик, её дыхание стало частым и прерывистым. Я накрыл грудь ладонью и ощутил твердый сосок.
– Целуй.
Я полез к её лицу. Но она направила меня к своей груди.
– Целуй. Возьми в рот.
Я впился в сосок. Она застонала и полезла рукой мне за пояс. Расстегнула ремень, взяла в ладонь мой вздыбленный пистон.
– Давай так, – прошептала она. – По-другому не могу. По-другому – только после свадьбы, и не с тобой. Целуй крепче, ещё крепче! Это называется петтинг, тебе понравится.
В отличие от Макса я никак не мог приспособиться к учителям. Особенно долбала меня математичка.
– Где ты учился, Терехов, скажи нам по секрету, в какой деревне? Кто определил тебя в девятый класс? Тебе в пятом учиться надо. Что у тебя в голове, Терехов? Опилки? Знаешь, как зовут тех, у кого такая деревянная голова? Буратино!
Класс ее шуточку не поддержал, хотя она на это рассчитывала. Кто-то подхалимски прыснул, но это не в счет.
Училка ёрничала, но фактически была права. Точные предметы мне давались туго. А если совсем честно, вообще не давались.
– Кто поможет Терехову подтянуться? – скрипучим голосом спросила математичка.
Я сразу глянул на Малю Эккерт. Вот с кем бы я с радостью позанимался. И не только математикой. Красивая девчонка, ничего не скажешь. Правда, смотрит на ребят строго, близко не подпускает. Но, по словам Макса, это сплошное притворство. Это пройдет, достаточно заняться немочкой всерьез.
Маля толкнула локтем сидящую рядом свою подружку Лизу, ладненькую, фигуристую, с щечками, как у хомячка. Та робко подняла руку.
– Я попробую поднять.
После уроков мы остались, она подошла к доске и начала мне что-то разжевывать. А я украдкой рассматривал её прелести. Макс поделился, что он проводил ее домой, им не хотелось расставаться, тогда он пригласил ее к себе, ну и…Он произнес мерзкое слово «оприходовал». Вот я и старался понять: была девочка, стала женщина, что же в ней изменилось?
– Терехов, – строго сказала Лиза, – я откажусь тебя подтягивать.
– Очень надо! – я схватил портфель и начал выбираться из тесной парты.
– Погоди, – остановила меня Лиза. – Ну, чего сразу психовать? Смотри, какой обидчивый. Ты меня раздеваешь глазами, а я тебе и слова не скажи? Ты какой-то дикий, – примирительно продолжала она. – Совсем не умеешь общаться с девчонками. Между прочим, у нас полкласса переписывается.Ты знаешь об этом?
Я переспросил с удивлением:
– Как это?
– Очень просто, записки друг дружке пишут. Хочешь попробовать? Я могу первая написать.
– Лучше Максу пиши, – с издевательской интонацией ответил я.
Лиза густо покраснела всем лицом:
– Что он тебе сказал?
– Ничего он мне не говорил, я и без него знаю.
У Лизы хлынули слезы:
– Что ты знаешь? То, что ты знаешь, гнусная ложь. Он так хочет меня добиться. Мол, расскажу о тебе, что ты такая-сякая, если… Зачем ты с ним дружишь?
Слезы заливали Лизе лицо. Не поверить ей было невозможно. У меня в голове не укладывалось: как Макс так может.
– Выходит, он тебя оклеветал?
– Он просто хочет казаться мужчиной, который может всё.
Занятия с Лизой ничего не дали. Я пробовал зубрить, но помнил некоторые правила только до выхода к доске. Став лицом к классу, я терял дар речи. Хотя, казалось бы, кого стесняться? Все свои.
После очередного провала ко мне подошла Маля Эккерт.
– Прежде чем отвечать урок, скажи, что волнуешься, и мандраж сразу пройдёт.
Я смотрел с недоверием: шутит?
– Попробуй. Это известный ораторский приём.
На следующем уроке математики я вышел к доске, глянул на Малю, почесал в затылке и сказал:
– Извините, я волнуюсь.
Класс упал на парты от хохота. Математичка ударила широкой линейкой по столу. Она решила, что я прикалываюсь. Я был объявлен шутом гороховым и чуть не выставлен с урока. Спас меня Макс.
– Не надо выгонять его, – попросил он.
Я замер: неужели училка послушает?
– Ладно, Макс, только из уважения к тебе, – чуть помолчав, сказала математичка.
Она никогда не ловила Макса на незнании урока. Никогда не вызывала к доске, пока он сам не поднимал руку. Он уже в том возрасте был внушительным.
По натуре я был мечтатель, отсюда рассеянность, неумение концентрировать внимание, включать память. Я мог улететь на уроке очень далеко.
