Странный Брэворош
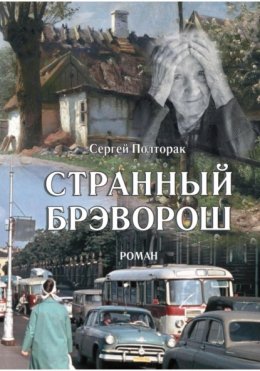
Сергей Полторак
СТРАННЫЙ БРЭВОРОШ
РОМАН
Начато 23.05.2019 –
окончено 22.09.2019
Издательство «Полторак» Санкт-Петербург
2020
УДК 94(47)
ББК 63.3(2)
П52
П52 Полторак С.Н. Странный Брэворош. СПб.: Изд-во «Полторак», 2020. – 356 с.
Роман известного петербургского историка и автора нескольких детективных повестей Сергея Полторака посвящен событиям конца 1950-х – начала 2010-х гг. Главный герой произведения Глеб Брэворош – выходец из забытого многими исторического региона Украины, называвшегося когда-то Новой Сербией. В силу жизненных обстоятельств в разные годы он встречается с известными людьми, среди которых композитор В.П. Соловьев-Седой, будущий Президент России В.В. Путин, писатель Д.А. Гранин, лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов и другие известные люди – спортсмены, ученые, политики, военные.
Неожиданные повороты судьбы, испытания и неудачи научили главного героя дорожить важными жизненными ценностями.
ISBN 978-5-6040764-9-1
© Полторак С.Н., 2020
© ООО «Полторак», 2020
Памяти Даниила Александровича Гранина,
которого любил и люблю.
Автор
Глава 1. Мартоноша
1.
Глебушка проснулся оттого, что солнце пекло в глаза. Прищуриваясь, он поискал взглядом очки, не нашёл и вспомнил, что положил их на сиденье своей новёхонькой инвалидной коляски. Он пошарил рукой по вкусно пахнувшему дерматину и нащупал краешек дужки. Еще не до конца проснувшись, потянул дужку на себя, но очки соскользнули с сиденья и шлёпнулись на глиняный пол веранды, рядом с Глебушкиной кушеткой. Стало страшно.
– Мамка!
– Не мамкай, – послышался со двора усталый мамин голос.
– Папка!
– Не папкай, – вяло проскрипел из хаты голос отца.
– Гаврик!
– Не гавкай! – сонно пробурчал старший брат Гаврила, спавший возле хаты под вишней на раскладушке.
Мир перевернулся. Этот огромный и радостный весенний мир, наполненный воркованием диких голубей, мгновенно стал страшным и непонятным. Пятилетнему Глебу он показался Америкой! Той самой проклятой Америкой, про которую толковали вчера, подвыпив, папка и голова сельсовета Мыкола Григорич, сидя здесь же, на веранде, за столом, когда распивали магарыч.
Мыкола Григорич достал в райцентре для Глебушки настоящую инвалидную коляску! Старая, самодельная, сотворенная папкой из немецкого трофейного велосипеда, была с почетом отправлена на горище, под соломенную крышу. За колеса новой коляски мужчины пили с осознанием важности проводимого ритуала. Папка с достоинством благодарил голову Мыколу Григорича; Мыкола Григорич таким же чином благодарил Глебушкиного отца за то, что он благодарил его. Магарыч – вершина человеческой нравственности. Основополагающая конструкция человеческих отношений. По крайней мере, в украинском селе.
– Если бы Сталин не дал приказ остановиться нам в сорок пятом, – рубил рукою воздух папка, – мы бы до Америки дошли! Вот не сойти мне с этого места, если брешу!
– Сталин был голова, – кивал голова сельсовета.
– И Жуков был голова! – кипятился папка.
– Жуков?! – мутными глазами смотрел на папку Мыкола Григорич.
– И Жуков был голова, – после паузы кивал он и тянулся к мочёному яблочку.
Глеб вспомнил вчерашний вечер. Все от нее, от этой чертовой Америки: и напряженность в отношениях Советского Союза с Китаем, и падёж поросят в колхозе, потому что империалисты творят, что хотят! И вот эти очки, будь они неладны!
Глебушка заревел еще громче. В отчаянии он откинул байковое одеяло со слониками, руками подтянулся к инвалидной коляске и рывком, не пойми как, ринулся в нее, чтобы вырваться наружу из этого замкнутого пространства. Коляска качнулась и, раздавив колесом очки, покатилась к двери. Колеса врезались в дверь веранды, она распахнулась и коляска с рыдающим Глебушкой, соскользнув со ступенек, перевернулась.
Мальчик ударился лбом о край стоявшей на земле немецкой каски, приспособленной под поилку для кур. Куры с шумом бросились в разные стороны. Каска рассекла Глебушке лоб, и по его лицу тонкой струйкой потекла кровь. Утро началось нелепо, как и вся Глебушкина жизнь…
Он лежал на боку и громко орал. Орал не от боли – он ее не чувствовал. Ему было обидно, что он никому не нужен. Ни мамке с папкой, ни Гаврику, ни дворовому псу Пирату, который невозмутимо лежал возле будки и грелся на благодатном солнышке.
Даже коза, названная папкой в честь малохольной соседки Люськой, пользуясь моментом, деловито объедала цветы собачьей розы.
– Чтоб ты сдохла, бисова твоя душа! – дернула повод мамка. Коза возмущенно покрутила рогатой башкой и удивленно посмотрела на мамку:
– Лучше бы за детиной следила, – читалось в ее невозмутимых глазах.
Гаврик сидел на раскладушке, не желая со сна открывать глаза:
– Чего орешь с утра пораньше?! Спать не даешь, – проворчал, не глядя в сторону брата, Гаврила.
– Он всю ночь, как ты, по девкам не шлялся, – пояснил папка, выходя из веранды и держа в руке Глебушкины очки с раздавленными стеклами.
– Вот где мне теперь стекла достать?! В райцентре их нема. В область прикажете ехать? Чтоб вы все передохли! Не люди, а милиционеры какие-то!
Папка, решив, что воспитание детей на сегодняшний день на этом закончено, со вздохом положил разбитые очки в карман старого пиджака и с достоинством направился к калитке.
– Вася, в кухне вареники на столе, – робко крикнула ему вдогонку мамка.
В ответ папка только вздохнул и, не оглядываясь, чинно вышел со двора. В его руке, как всегда, был потертый холщевый портфельчик – символ принадлежности к числу избранных. Сельский счетовод – это вам не хухры-мухры, – говаривал он. – На это учиться надо.
Глебушка от обиды за то, что на него никто не обращал внимания, плакать перестал. Он сел на землю возле каски, зачерпнул из нее остатки воды и размазал по лбу, чтобы смыть кровь. Лоб защипало, и Глебушка насупился.
– Да погоди ты, задохлик, – бросила Люськин повод мамка и подошла к сыну. Она каким-то неуловимым движением руки сорвала подорожник, послюнявила его и приложила ко лбу сына. Потом сняла с тына кусок застиранной марли, оторвала от него полоску и ловко перевязала Глебушке голову.
– На Щорса из песни похож, – сообщил Гаврик.
– Не на Щорса, а на полковника из кино. Я, может, когда вырасту, полковником буду!
– А чего не генералом? – удивился Гаврик.
– Полковник – главнее. Он полком командует. А генерал только горилку пьет и сало жрёт, – вспомнил чьи-то взрослые разговоры Глебушка.
– Значит, наш батька генерал, – осклабился Гаврик и тут же схлопотал от матери подзатыльник.
Эстетка Люська, доев собачью розу, принялась за желтые цветки ноготков.
– Чтоб тебя разорвало, – формально отреагировала на ее обжорство мамка, и Глебушка успокоился: утро входило в обычное житейское русло.
Вскоре мамка, спровадив Люську на выгон, ушла на работу. Она работала няней в колхозных яслях. Глебушка остался под присмотром Гаврика, которому, в принципе, было наплевать на младшего брата. Гаврила усадил Глеба в инвалидную коляску и дал ему огромный шмат белого домашнего хлеба, политого пахучей олией – подсолнечным маслом, пахнувшим солнцем и мамкиными руками. Хлеб он посолил крупной солью. Соль прилипала к пропитанному маслом хлебу, и ее кристаллы переливались синим и белым цветами. Кушать хлеб было жалко: хотелось смотреть на эту игру света бесконечно. Без очков Глебушке было плохо. Весь двор расплывался, как в тумане. Расцветшие яблони, абрикосы, груши и вишни сливались в большое бело-розовое пятно. Но кристаллики соли на хлебе были видны очень хорошо. Правда, для того, чтобы их разглядеть, Глебушке пришлось поднести краюшку хлеба прямо к глазам.
– Ротом кушай, а не глазами, – наставительно сказал Гаврик, и сел с учебником географии на свою раскладушку.
Гаврик был хороший. Глебушку, правда, он не особо любил. Просто уж больно взрослый был этот Гаврик. И красивый. Он оканчивал одиннадцатый класс. Шел на золотую медаль. Скоро должны были начаться выпускные экзамены, но Гаврик к ним не готовился. Он читал только учебник географии, потому что мечтал стать великим мореплавателем. Мамка говорила, что Гаврик – бабник, что девчата его до добра не доведут: либо какая-нибудь от него забеременеет, либо чей-нибудь батька ему рыло начистит. Глебушка не очень представлял, как это можно от Гаврика забеременеть. Это, как заразиться простудой, что ли? Он слышал от взрослых, что заражаются простудой, когда целуются.
– Слыш, Гаврик!
– Чего тебе, малой?
– Ты с Галькой и Райкой не целуйся, понял? И с Валькой Иванючкой тоже.
– Чего это? – Гаврик заложил страницу в учебнике цветком вишни и с интересом посмотрел на брата.
– Позабеременеваете все разом, что мы с мамкой будем с вами дураками делать?
– Не боись, обойдется, – как равному ответил ему Гаврик, и снова открыл учебник.
– Ага, обойдется! А если Валькин батька тебе рыло начистит?!
– Ты видал, какие у него кулачищи?! Как кувалды!
– Я бегаю швыдко, – успокоил брата Гаврик и погрузился в чтение.
– От судьбы не убежишь, – по-матерински вздохнул Глебушка и, прищурившись, посмотрел в сторону брата.
2.
Вечером, как обычно пьяный, пришел с работы папка. Он зашел в хату и поставил в угол свой портфельчик. Для Глебки было главной загадкой жизни: что же хранится в этом почтенном холщёвом тайнике? Наверно, что-то очень важное и секретное. Какая-нибудь тайна, которую хотят узнать в Америке. Далась ему эта Америка! А, с другой стороны, куда без нее? Она такая гадкая и всегда во всем виноватая. Может, папка носит в своем портфеле разные склянки с травами и мазями, как у бабы Сэклэты, знахарки. Глебушка помнил, как зимой, когда он простыл, мамка приводила ее в хату. Портфеля у бабы Сэклэты не было – была торбочка со склянками. В них хранилось что-то страшное. Она тогда раздела Глебку догола, обмазала его чем-то вонючим из своих баночек и долго шептала над ним непонятные слова. Так долго шептала, что Глебка даже устал и уснул. Сквозь сон он слышал, как знахарка говорила мамке:
– Не плачь, не умрет твой задохлик. Поживет еще. И ножки его будут ходить, вот попомнишь меня. Не смотри, что он весь – одна великая болячка. Образуется все. В нем сила есть внутри. Не знаю, откуда, но сила.
На следующий день Глебушка проснулся здоровым. Будто и не болел никогда. Мамка, радостно причитая, наскоро собрала в узелок для бабы Сэклэты яиц, масла, свежеиспеченной плачинды – вкусного пирога со сладкой тыквой. Знахарка не велела ей нести подарки прежде, чем сын выздоровеет.
Глебушка никогда не решался заглянуть в папкин портфельчик. Только однажды он незаметно дотронулся до него рукой. Ничего не зазвенело. Значит, нет там никаких склянок, – подумал он тогда. Но что же там есть? Тайна продолжала манить своим невидимым магнитом.
Папка уже было собрался лечь на кровать, но вдруг что-то вспомнил и полез во внутренний карман пиджака:
– Вот, окуляры Глебушке принес. Голова сельсовета свои старые отдал. Святой человек этот Мыкола Григорич, хотя и почти непьющий человек.
Папка положил очки на колени Глебушке, не снимая пиджака, упал на кровать и тут же захрапел с присвистом. Мать осторожно сняла с него чёботы, развернула и положила на теплую еще от готовки печь онучи, задвинула занавеску, заменявшую в хате дверь в комнату, и, обращаясь к сыновьям, негромко сказала:
– Повезло нам с папкой. Пьяный – всегда тихий, никогда руки не поднимет ни на детей, ни на жену.
– Ни на работу, – с ехидцей добавил Гаврик.
– Цыц тебе, малохольный, – всплеснула руками мать. – Соплив еще батьку осуждать. Что ж я, сама по дому не управлюсь? Да и вы у меня подмога растете. Не надо папку беспокоить. Он у нас – интелихент, счетовод.
– Помним, не хухры-мухры, – кивнул Гаврик и покатил коляску с братом во двор.
– Хочешь, попутешествуем? – спросил он Глебушку.
– Аж до хутора?! – с затаенной надеждой спросил Глеб.
– Аж до хутора.
– А за хутором что, земля кончается? Америка начинается, да?!
– Ничего там не начинается, – скривился старший брат.
– Так не бывает, – убежденно сказал Глебушка и поправил на переносице непривычно новые окуляры. Видно в них было неплохо. Только были они крупноваты и спадали с носа.
– Я потом тебе дужки загну, – пообещал Гаврик брату и отворил калитку.
3.
Село жило привычной натруженной жизнью. У каждого селянина был какой-то свой особенный маневр. Мужики что-то клепали, чинили, чем-то обо что-то колотили, женщины копошились в огородах, дети им помогали, а те, что были помладше, играли во взрослых. Глебушка восседал в своей коляске, как царь на троне. Он и представлял себе, что он царь. Нет, даже не царь, а полковник – человек, который куда главнее царя, ведь у него есть свой полк. А полк – это огромное войско. Захочет полковник, даст его царю на войну, не захочет – не даст. Вот, что такое полковник. Это ведь надо правильно понимать. Это вам не хухры-мухры!
Они жили на центральной улице села. У нее не было названия, как не было и у всех других сельских улиц в конце пятидесятых годов. Да и зачем им названия, когда и так ясно, кто где живет. Вот справа – дом головы сельсовета Мыколы Григорича, главного папкиного собутыльника. Дом его укрыт не соломой, как у большинства односельчан, а свежим камышом – очеретом. И ставни у него нарядные-нарядные: голубые, как небо, а посередине – белые ромбы, как звезды на погонах. Глебушка видел их в кино в сельском клубе. Красивые звезды – глаз не оторвать. У него тоже такие будут. Только потом, когда вырастет и ноги начнут ходить. А за его хатой – хата кузнеца дядьки Михайлы. Это до его дочки Вальки бегает Гаврик. Да разве до нее одной! А за хатой кузнеца – поворот «на низ», на другую улицу. Она не такая широкая, как его, Глебушкина. И ведет она прямо на выгон, где пасутся сельские телята и козы. А правее от выгона – речка Большая Высь. Красивая речка, большая, полноводная. Рыбы в ней – ловить, не переловить. И раки огромные-огромные. Сельские мужики часто приносили в их дом рыбу и раков в плетеных ивовых корзинах. Почтительно протягивали корзины папке: «Вы, Васыль Федорович, там уж палочки поставьте, как надо, по совести». Папка корзины брал и, наверное, поступал по совести, поскольку рыбу приносили еще и еще. Глебушка знал, что «палочками» в селе называли трудодни. А вот что такое эти трудодни, он понимал плохо. Точнее, догадывался: это что-то очень важное, может, даже главное! Это то, без чего взрослые жить не могут. Это, как ходить на работу в колхоз, или пить горилку по вечерам.
– Гаврик!
– Чего тебе?
– А что такое Брэворош?
– Это наша фамилия.
– А что такое фамилия?
– Тебя как звать?
– Глебушка, Глебка.
– Не Глебка, а Глеб.
– Глеб.
– Это имя. А Брэворош – фамилия. Понял?
– Понял, – ничего не понял Глебушка. Зачем эта фамилия, когда и так хорошо?
Возле реки стоял заброшенный колхозный свинарник. С его крыши свисал старый очерет, около него роились дикие пчелы. Они залетали в свои самодельные ульи-очеретины и, побыв там немного, вылетали обратно по своим пчелиным делам.
– Глебка, меда хочешь?
– Меда?!
– Ну, не сала же.
– Хочу. Очень хочу. – Глебка даже зажмурился, представив себе блюдечко с желтой лужицей пахучего волшебства, похожего на маленькое солнце.
– Сейчас дам тебе, – пообещал Гаврик. Он проследил взглядом в какую очеретину залетела пчела, и ловко выдернул ее из крыши. Гаврик сплющил конец очеретины сильными пальцами, отчего она треснула в нескольких местах. Старший брат аккуратно отломил треснувший кусочек очерета. Пчела, возмущенно жужжа, покинула свой домик, оставив его на разграбление вандалов.
– Смотри, – сказал Гаврик, – какая красота!
В разрушенном канале очеретины были разноцветные капсулки длиной не больше сантиметра. Каждая имела свой цвет: желтый, фиолетовый, красный. Одна от другой капсулки отделялись круглым кусочком то ли листа, то ли травы.
– Как они это делают? – зачаровано глядя на бочоночки с медом, спросил Глебушка.
– Работают, – коротко пояснил Гаврик.
Глебушка осторожно взял обломком очерета один бочоночек и положил в рот. Вкус был совсем незнакомый: кисло-сладкая пахучая паста совсем не была похожа на мед домашних пчел.
– Нравится? – спросил Гаврик.
– Да, – ответил Глебушка.
– Еще хочешь?
– Нет, не хочу.
– Значит, все-таки не нравится?
– Нравится.
– Так почему не хочешь?
– Пчелу жалко. Она теперь бездомная, как дед Илько. Глебушке было жалко деда Илька. Дед был небольшого роста и необычайно худой. В отличие от других людей у него куда-то подевалась одна рука. В оставшейся руке деда Илька постоянно была палочка, которой он колупал во рту, делая вид, что выковыривает оставшееся после еды мясо. В селе посмеивались над этой дедовой придумкой, поскольку мяса он не ел, как утверждали добрые люди «с морковкиного заговенья»: при наличии хаты собственного хозяйства у него не было, а баба Гарпына его поить-то поила, а закусывать не особо давала – нечем было закусывать. Так, лучок-чесночок. Какое уж там мясо.
– Дед Илько не бездомный. У него хата своя в Каменке есть. Просто к нам в Мартоношу он горилку пить ходит.
– А в Каменке горилки нет?
– Есть, – заулыбался Гаврик. – Но в Каменке нет бабы Гарпыны.
– Ну и что? – не понял малой.
– Ничего, – еще шире заулыбался Гаврик. – Потом поймешь, когда вырастешь.
Глебушка замолчал и стал мечтать о том, что, когда он вырастет, поймет все-все тайны. И что хранится в папкином портфельчике, и почему дед Илько ходит пить горилку до бабы Гарпыны, и почему эта проклятая Америка так не любит колхозных поросят, что они все дохнут и дохнут…
Дорожка вдоль реки привела мальчиков к хутору. На хуторе, с двух сторон балки, стояли в рядок несколько мазанок. Они были очень похожи друг на друга: чистенькие, с белыми побеленными стенами, с соломенными крышами и одинаковыми ивовыми тынами. Во дворах копошились куры и утки, а прямо по улице разгуливала пара огромных серых гусей. Увидев братьев, они воинственно зашипели и захлопали крыльями.
– А вот я вам сейчас! – пообещал Гаврик и поднял с земли сухую хворостину. Гуси мужественно и с достоинством отступили.
– За хутором точно нет Америки? – на всякий случай уточнил Глебушка.
– Точно! – кивнул брат. – Там есть новая ГЭС.
– А что такое ГЭС?
– Это гидроэлектростанция. Свет нам в хату дает. И в клуб тоже.
– Кино любишь?
– Люблю.
– Вот без нее не было бы кина, понял?
– Чего ж тут непонятного? – удивился Глебушка.
ГЭС мало чем отличалась от обычной хаты. Просто она была чуть побольше и стояла на краю водяной ямы. В яму резко и с шумом падала вода. Шум воды почти перекрывал рокот чего-то очень громкого внутри хаты.
– Там чего? Змей Горыныч? – Глебушка кивнул на здание ГЭС.
– Сам ты Змей Горыныч, – убежденно сказал Гаврик. – Турбина там здоровенная. Давай поворачивать к дому. Скоро темнеть начнет.
– В клуб к своим девчатам пойдешь? – равнодушно спросил Глебушка.
– Не с тобой же сидеть, – ответил Гаврик и зачем-то, как на вешалку, надел свой здоровенный картуз на голову Глеба. Картуз был теплый и по краям внутри немного липкий от пота. Наверное, именно такие картузы носят полковники, когда их фуражки сбивают вражеские пули. Коляска быстро катилась к дому. Глебушка восседал в ней гордо и величаво. Ему казалось, что все село любуется его статью и удалью. Сзади, толкая коляску, шел старший брат. Он смотрел далеко вперед, то ли пытаясь разглядеть далекое море, то ли высматривая девчат, которые, по расчетам мамки и Глебушки, скоро должны были точно от него забеременеть.
4.
В июне у Гаврика начались выпускные экзамены. Сдавал он их легко, совершенно ничего не меняя в своем привычном распорядке дня и ночи. Домой приходил из клуба под утро, заваливаясь на раскладушку под вишней. Вишня уже давно отцвела. На месте обильных цветов появились зеленые «бульбочки» – плоды, глядя на которые невозможно было поверить, что очень скоро они превратятся в сочные красные до черноты ягоды.
Когда Гаврик спал, Глебушка тихо подъезжал к нему на своей коляске почти вплотную и рассматривал брата в упор. Ему очень нравилось это занятие. У брата были чуть вьющиеся желтоватые волосы. Когда, бывало, Гаврик перегружал вилами из подводы в сарай солому, некоторые травинки застревали в его волосах. И было непонятно, где волосы, а где солома. Глебушке это почему-то очень нравилось. И еще ему нравилось все ладное тело брата. Он был не очень высок, но удивительно строен. Сильные руки с выпиравшими венами и рельефная грудь делали его похожим на статую, которая стояла в райцентре в городском парке. Глебушка видел ее только однажды, когда папка его возил на подводе в районную больницу. После того, как в больнице неприятного вида дядька в замызганом халате подергал его за руки и за ноги, Глебушка расплакался, и папка, чтобы успокоить сына, покатил его коляску в городской парк. Вот тогда он и увидел ту статую, которая была белой, как их сельские мазанки.
Но на Гаврика долго смотреть было нельзя. Если смотреть долго, он начинал ворочаться, а потом мог и вовсе проснуться. Проснувшийся Гаврик – хуже злой козы Люськи, с ним надо было обращаться с осторожностью.
На экзамены Гаврик надевал настоящую белую рубаху и папкины старые штаны, благо, папка был не намного больше старшего сына. Такой же невысокий, подтянутый, мышцатый, только лицо слегка обрюзгшее. Мамка говорила, что это из-за того, что он совсем молодым воевал с немцем. Соседка тетка Люська утверждала, что это от горилки. Глебка соседке не верил: горилка хоть и вонючая, но по цвету – вода водою. Что от нее будет, от воды-то?! Да и потом, по собственному опыту Глебка знал: с утра от папки всегда пахнет очень вкусно. Глебке не было знакомо слово «перегар». Знакомый с рождения папкин запах казался ему лучшим на свете. Почти лучшим. Ведь были еще мамкины руки, пахнувшие олией и молоком.
Донашивал Гаврик и папкины старые чёботы, которые натирал до блеска кусочком старого сала. Тогда они становились по виду – не хуже новых. Картуз у брата был свой собственный, как и рубаха. Этот джентельменский набор он купил прошлым летом в райцентре на заработанные им за каникулы в колхозе деньги. Деньжищи были немалые! Глебушка не знал точно, сколько их было, но гордился тем, что со своей получки брат купил ему ситро с белыми пряниками, а мамке платочек с вышивкой. Отцу не купил ничего, денег не хватило, но папка даже не заметил этого. А, может, просто не показал вида – интелихент все-таки.
Последним экзаменом была Гаврюшина любимая география, которую он знал лучше учительницы Ганны Герасимовны.
Ганна Герасимовна не мечтала, как Гаврик, быть великим путешественником. Даже простым путешественником быть не мечтала. Ее путешествия ограничивались походами в райцентр на базар в выходные дни и поисками мужа – кузнеца дядьки Михайлы, который, как знало все село, повадился ходить до солдатки тетки Мыланки. Ганна Герасимовна не любила Гаврика за его любовь к географии. А еще за то, что он мог обременить ее дочку Вальку.
Экзамен по географии принимала комиссия в составе директора школы Степана Тимофеевича, учительницы географии Ганны Герасимовны и, конечно, одноногого учителя физкультуры и военного дела Ивана Филипповича. Без Ивана Филипповича не обходилась ни одна комиссия не только в школе, но и в селе вообще, потому что он был фронтовиком без ноги с орденом Красной Звезды на повидавшем виды пиджаке. Он, как и директор, был хорошим человеком, тихим и добрым. Ганна Герасимовна женщиной родилась случайно. Она должна была родиться председателем колхоза или даже секретарем райкома партии, но почему-то получилась учительницей географии. Свой предмет она знала хуже, чем место пребывания мужа в часы его отсутствия в кузнице или дома. Вся ее голова была занята солдаткой Мыланкой, гаденышем Гаврюшкой, покусившимся на честь и достоинство ее кровиночки Вальки, и коровой Зорькой, которую не иначе, как кто-то сглазил, и она стала давать мало молока.
Когда Гаврик закончил излагать свой ответ на экзаменационный билет, мужчины-экзаменаторы победно засияли, а Ганна Герасимовна помрачнела. Она собрала в кулак всю свою волю и подчеркнуто вежливо сказала:
– Добрэ, добрэ, Брэворош. Теперь дополнительные вопросы.
– Куда входит наше село Мартоноша?
– В район.
– В какой район?
– В Новомиргородский район.
– А район, в какую область входит?
– В Кировоградскую.
– Так. Цэ так. А Кировоградская область куда входит?
– В Украинскую республику.
– Неправильный ответ! Надо говорить в Украинскую советскую социалистическую республику!
– В Украинскую советскую социалистическую республику, – добросовестно повторил Гаврик.
– А куда входит Украинская советская республика?! – повысила почему-то голос Ганна Герасимовна.
– В Советский Союз, конечно! – уверенно сказал Гаврик.
– А вот и не так, – довольно подскочила на стуле учительница. – В Союз Советских Социалистических Республик! А он куда входит?
– В планету Земля, – оторопело сказал Гаврик.
– Да ты и на тройку ничего не знаешь! Союз Советских Социалистических Республик входит в Совет Экономической Взаимопомощи и в Организацию Варшавского Договора, вот куда входит! И еще в Организацию Объединенных Наций!
– И в НАТО, кажется, – робко заметил учитель физкультуры, – желая как-то сгладить обострившуюся ситуацию.
– Этого я не помню, – честно призналась Ганна Герасимовна. – Но и так все понятно с тобой, Брэворош! И чтобы я больше тебя возле своей хаты не видела! – вдруг добавила она и ударила кулаком по столу так, как бил ее почтенный супруг молотом по наковальне. В классе стало тихо. Было слышно, как в коридоре из крана бака с питьевой водой капает в пустую кружку вода. Казалось, после удара кулаком Ганны Герасимовны она закапала еще быстрее.
– Может, отпустим хлопца? – нерешительно спросил директор школы.
– Ступай, – угрюмо сказала географичка.
Комиссия приступила к подведению итогов экзамена.
5.
Неизвестно, как велись переговоры за закрытыми дверями, но по географии Гаврику в аттестат зрелости поставили четверку. Трудно сказать, что повлияло на такое милосердное решение. Может, настойчивость директора, который при всей мягкости своего характера был человеком принципиальным и немного занудным. Может, орден учителя физкультуры и военного дела немного охладил пыл Ганны Герасимовны. Не исключено, хотя и маловероятно, что смутное представление педагогов о взаимосвязи СССР и НАТО тоже сыграло какую-то роль. Но, скорее всего, школьное руководство просто решило не терять единственного в школьном выпуске медалиста. Не золотая медаль, так пусть будет хоть серебряная, а то как-то неудобно: засмеют в районе, что не вырастили за год ни одного медалиста. А еще хуже – критиковать начнут. Ладно, если только на педагогической конференции, а то ведь и на районном партактиве могут. Им только дай повод.
Село Мартоноша было не совсем обычным украинским селом. Точнее, оно было совсем не украинским селом. Вернее, располагалось-то оно, конечно, на Украине, но селяне считали себя молдаванами. Или их все в округе считали таковыми.
Дело это было мутным. Про историю села больше всех знал бывший школьный учитель истории Пэтро Опонасович, но он уже год как ушел на повышение – стал парторгом в соседнем колхозе. Нового учителя истории найти было так сразу трудно, поэтому его обязанности пока выполнял учитель физкультуры. Он же по совместительству и учитель военного дела Иван Филиппович. Так и носился он по школе на одной ноге, припадая на свою деревяшку, разрываясь между историей, физкультурой и военным делом.
Старики рассказывали, что когда-то, задолго до революции, Мартоноша была военным поселением и называлась Восьмой Ротой. Мартоношей она тоже называлась, а почему – Бог его знает. Но с месяцем мартом название точно никак связано не было, поскольку по-украински март – не март вовсе, а березень. И ношей он никакой быть не мог: месяц, как известно, не носят, а проживают.
Разговаривали в Мартоноше, сколько себя помнили местные жители, на двух языках. В школе, на колхозном собрании – по-украински. На партийных собраниях – тем более. Но дома и так, в обиходе, в поле, или в коровнике-свинарнике-конюшне, на своем собственном. Вероятно, на молдавском. Правда, сомнения кое-какие по поводу языка были. Пару лет назад золотой медалист Юра Воропай и его друг, тоже медалист, только серебряный, Гриша Матяш после школы поехали поступать в Молдавию, в Кишинёв, в Педагогический институт и провалились с треском. Точнее, даже не провалились, а просто не стали сдавать вступительные экзамены, потому что язык, на котором они пытались говорить с членами приемной комиссии, оказался вовсе не молдавским, а каким-то совершенно другим. Так и вернулись в родной колхоз. Потом выучились на зоотехников в районе. Там, слава Богу, преподавание велось на украинском языке, тоже практически родном. Но загадка своего «секретного» языка осталась. Никто по этому поводу особо не заморачивался: в колхозе и без того дел по горло. Тем более что на «молдавском» говорить никто не запрещал – говори, хоть обговорись, никому до этого дела нет.
Самые дотошные жители Мартоноши задумывались над необычными фамилиями, которые носило большинство селян. Были они, конечно, родные, но явно неотсюдашние: Матяш, Яцкул, Воропай, Жовна, Довбыш, Нэбога, Булацэла, Врадий, Брэворош и даже Кандэ. Как инопланетяне среди Петренко-Сидоренко-Ткаченко и прочих Макарчуков-Федорчуков.
Но такая ерунда не особо волновала селян. Как сказали бы теперь некоторые наши современники, они по этому поводу не парились.
Из соседних сел в Мартоношу на жительство люди приезжали вполне охотно: колхоз богатый, новоселам помогал, чем мог. Хотя за глаза приезжие и называли односельчан клятыми молдованами, но так, беззлобно. Скорее, даже от скуки. Сами женились на местных девчатах, деток от них имели. Даже над собой слегка подтрунивали: дескать, омолдаванились.
Но, в принципе, разница в менталитете украинцев и местных жителей ощущалась. Вроде все одинаковое и у тех, и у других: колхоз один и тот же, урожай выращивают одинаковый, поукраински говорят – не отличишь от остальных. И даже хаты с домашним хозяйством, вроде как похожи. А в повадках что-то не то, другое что-то. Вроде бы все так, а только немножечко не так. Что не так, сразу и не объяснить. Это где-то на уровне чутья почти звериного.
В доме Брэворошей, естественно, тоже говорили на двух языках. Почти всегда – на родном, на домашнем. Но иногда вдруг переходили на украинский. Обычно это было, когда говорили о событиях официальных – о Хрущеве, или о снятии с должности за пьянство второго секретаря райкома Наливайко. Папка горой стол за обоих:
– Никита – наш человек сельской. А кукуруза – что кукуруза? Растет себе, как крапива. И нехай себе растет. В войну крапиву ели, сейчас кукурузу – тоже пользительно, витамины там, гемоглобины всякие.
В такие минуты Глебка очень гордился отцом. Папка не только разбирался в политике, но и оперировал такими словами, что и голова сельсовета Мыкола Григорич мог не всегда. Одни гемоглобины чего стоили!
Про снятого с должности второго секретаря райкома Наливайко отец чеканил, словно передовицу «Правды» читал: Наливайко – мужик стоящий, не хуже Никиты. Масштаб не тот, конечно, но – фигура. Он бы работал и работал, как негр на плантации, но пил неправильно. Нельзя горилку запивать вином. От этого все беды! Опять же закуска. Сало – универсальный препарат от алкоголя. Хочешь – пей, хочешь – не пей, но сало, как партия, наш рулевой! А он горилку вином запивает, а салом не закусывает. Прямо политическая катастрофа какая-то! Мыкола Григорич одобрительно кивал, а при слове «препарат» бодро вскидывал голову, давая понять, что сей термин ему тоже знаком очень даже хорошо.
Папка и Мыкола Григорич любили не только выпить, порассуждать о политике, но и попеть. Особенно им нравилась песня про советскую атомную бомбу, которую несколько лет назад ещё исполнял знаменитый хор ансамбля имени Александрова. После смерти Сталина песню по радио петь перестали, но она, как говорится, уже успела шагнуть в народ. Начинал песню всегда папка, Мыкола Григорич подключался с припева и дальше они уже пели вместе, но на два голоса:
Мы недавно проводили
Испытанья нашей силе,
Мы довольны от души, –
Достиженья хороши!
Все на славу удалось,
Там, где нужно, взорвалось,
Мы довольны результатом –
Недурен советский атом.
Вот так штука!
Всем наука!
Сунься, ну-ка!
О-го-го!…
Не ленились, Потрудились
Для народа своего!
Подтвердил товарищ Сталин,
Что мы бомбу испытали.
И что впредь еще не раз
Будут опыты у нас.
Бомбы будут! Бомбы – есть!
Это надо всем учесть.
Но не входит в наши планы
Покорять другие страны.
Ни британцев,
Ни германцев,
Ни голландцев– Да, да, да!
Вы не бойтесь, Успокойтесь,
Не волнуйтесь, господа!
Как услышала про это
Иностранная газета, –
Зашумела на весь свет:
«Рассекречен наш секрет!
И у русских есть сейчас
То, что было лишь у нас!
Как же русские посмели?
Трумен с Эттли проглядели!»
Неужели
В самом деле?
Проглядели?
Ха-ха-ха!
А чесоны, Моррисоны
Доведут нас до греха!
Мы хотим, чтоб запретили
Жить на свете смертной силе,
Чтобы с атомным ядром
Приходило счастье в дом.
Вы ж хотите запретить
Всем его производить,
Чтоб служил на свете атом
Только вашим хищным Штатам.
Вашим Штатам,
Синдикатам, Да магнатам,
Э-ге-гей!…
Ваши планы
Все обманы,
Их не скроешь от людей!
После исполнения этой песни папка с Мыколой Григоричем пили за здоровье композитора Мурадели и поэта Михалкова, написавших «цю гарну писню».
Серебряная медаль Гаврика в семье была встречена спокойно. Ни радости, ни огорчения: получил и получил. Когда старший сын принес медаль домой, положив ее молча на стол, папка, тоже ничего не говоря, порылся в скрыне и вытащил из нее медаль с замызганной колодкой, на которой было написано «За боевые заслуги». Положив ее рядом с медалью сына, сказал:
– До пары, – и, впервые в жизни приобнял Гаврика, добавив:
– Тоже серебряная. Медалька – она, сына, и в Африке медалька.
6.
Гаврик через пару дней уехал в Одессу поступать в мореходное училище. Неожиданно вместе с ним уехала и Валька. Сказала, что будет поступать в Одесский педагогический институт на географический факультет. Похоже, селу Мартоноше светила перспектива перенасыщения школы учителями географии. Селяне злорадствовали, утверждая, что Гаврик решил отомстить Ганне Герасимовне за четверку на выпускном экзамене, окончательно охмурив ее дочь. Но как было на самом деле, не знал никто.
Вскоре Гаврик прислал письмо, в котором сообщал, что в мореходку он не прошел по конкурсу, несмотря на медаль, и нанялся простым матросом на торговый корабль, который вот-вот должен был отправиться по торговым делам аж в Америку! Правда, не в ту, которую так не терпели в селе, а в Южную Америку, где любили Ленина и какого-то Че Гивару.
Валька матери не писала, и все селяне дружно решили, что Гаврик ее все-таки напоследок обременил, и она не пишет от стыда. Ганна Герасимовна даже пыталась «качать права», придя к дому Брэворошей, но тихая мамка, глядя ей в глаза, вдруг пообещала спустить на нее пса Пирата, который, кимаря у своей будки, так и не узнал, что ему была уготована роль злой собаки.
Глебушка смотрел на происходившие события и мало что понимал. Его жизнь почти не изменилась, если не считать, что больше он не мог рассматривать спящего старшего брата. Папка по-прежнему каждый день уходил в колхозную контору и возвращался вечером пьяный. Мамка, придя с работы, занималась хозяйством. Глебушка целыми днями сидел в своей коляске возле хаты и мечтал. Ему виделась его счастливая военная жизнь, полная подвигов и разрывов снарядов. Он мысленно всегда бежал впереди своих солдат, и его ноги были на удивление сильными и быстрыми.
Однажды, когда папка и мамка были на работе, к нему во двор ввалился пьяненький дед Илько. Он охватил мутным взором пространство и, увидев Глебушку, удивленно спросил:
– Ты как тут оказался?
– Мамка с папкой народили, – постарался дать исчерпывающий ответ Глебушка.
– Народили? – удивился дед Илько, словно тайна человеческого рождения оставалась для него до сих пор недосягаемой. – А баба Горпына где?
– У себя на дворе, наверно, – поразмыслив, сказал Глебушка.
– У себя?! – искренне удивился дед Илько. – А где же тогда я?
– У нас с папкой и мамкой. У Брэворошей, – вспомнил Глебушка свою фамилию.
– Брэ-во-роош, – задумчиво протянул дед Илько. – Это тот Брэворош, который колхозный счетовод?
– Да, – подтвердил Глебушка.
– А ты тогда кто?
– Глебушка. Просто хлопчик. Когда вырасту, буду полковник.
– Наверно, лисапетными войсками командовать будешь, – кивнул дед Илько на Глебкину коляску.
– Нет, не лисапетными. Пушечными войсками буду. Или секретными.
– Лучше секретными. От них шуму меньше. А то утром проснешься, а в голове снаряды рвутся, рвутся, рвутся…
– А вы, дедушка, в войну кем были, танкистом?
– Не, не танкистом. Я, сынок, в войну старостой был в Каменке, на немца, так сказать, батрачил.
– Значит, вы фашист? – удивился Глебушка.
– Да не то чтоб, – пожал плечами дед Илько. – Я и сам не знаю, кто я. Когда немец в наше село пришел, собрался сельский сход. Немец сказал:
– Выбирайте, селяне, старосту. Меня и выбрали. Я был тихий, неженатый, никому поперек не вставал. Вот и выбрали. Я никого не обижал. Одного жидка из Златополя даже у себя в сарае прятал, кормил. Потом наши пришли. Ну, в смысле Червоная армия. Меня расстрелять решили. За измену Родине и лично товарищу Сталину. На речку, на Камень, привели на расстрел, чтоб по всей строгости. А тут жидок этот откуда ни возьмись. Шустрый такой, совестливый. Не стреляйте, говорит, старосту. Он, – говорит, – хоть и враг радяньского народа, а человек хороший. Он, говорит, жизнь мою спас и провизию давал. Меня тогда пожалели и бросили на торфозаготовки под Новгород на десять лет. Слыхал про Новгород?
– Нет, – признался Глебушка. – А как это – бросили?
– За руки, за ноги – да и бросили, – сипло засмеялся дед Илько.
– Это краще, чем за ушко да на солнышко, согласен?
– Согласен, – честно признался Глебушка, представив себе деда Илька, прибитым гвоздем за ухо к солнышку.
– Отож, – наставительно поднял вверх дед Илько желтый от махорки указательный палец единственной левой руки.
– А рука-то ваша где, дед Илько? – поинтересовался он. – Немец, что ли, оторвал?
Зачем немец? Это я сам по дурости, еще до войны. Бычок у нас в колхозе был скаженный. Решил я его приструнить, а он мне рогами своими, чтоб его, печенку отбил и руку всю так помял, что сохнуть стала. В районе, в больнице, отрезали руку-то, чтоб все тело не высохло. Во как! Медицина, брат. Дело научное!
– Дед Илько, а правда, что у вас в Каменке хата своя есть?
– Есть хата, – согласно кивнул дед. – Только в Каменке меня до сих пор старостой кличут. Не хочу там жить. Всё о войне той проклятой напомнить хотят. Да и тут всё напоминает: он кивнул на немецкую каску, на краю которой сидела курица, и время от времени опускала в нее голову, чтобы сделать свой куриный глоток воды.
– Во как драпали! Даже каски все побросали! Без него, без железа-то, бежать краще получается.
– А что же вы с ними не драпанули, дед Илько?
– А кто меня звал? Да и тутошний я, куда мне с ними. А потом, знаешь, странные они. Вроде, люди как люди: ноги, руки – дед показал взглядом на пустой рукав, заправленной в штаны домотканной рубахи. – А вроде и не как люди. Представь себе: ночевали в Каменке, а каждое утро воевать на машинах ездили в другое село, в Защиту, там фронт у них стоял. Прямо, хоть трудодни им выписывай. В воскресенье – выходной. Сидят возле хат, в гармошки свои губные дуют, смеются. Детишки наши глупые пляшут для них, а те им сахар да шоколад суют. А потом вдруг как-то враз собрались, в Златополь поехали, облаву на евреев устроили. Всех, кого поймали, без разбора погнали по шляху аж до вашей Мартоноши. Возле села, в яру, из пулеметов построчили и баб, и деток этих жидковских. А чем они виноваты, что жидками родились? Они тут всегда жили, никому ничего плохого не делали. Слава Богу, тем, кто посмелее, сбежать удалось. Попрятались по сараям. Никого не выдали! Они ж свои.
– А правда, что вы с бабой Гарпыной горилку пьете?
– Ну, а чего ж ее не пить? – удивился дед Илько. – В ней витаминов, знаешь, сколько?! Больше, чем в ананасе!
– В чем?! – растерялся Глебушка.
– Это шишка такая африканская. Здоровенная! Сам не видал, но один ваш мартоношевский мужик рассказывал, он ел этот ананас много раз. Дэдул его фамилия, может, знаешь?
Глебушка деда Дэдула знал хорошо. Тот работал сторожем в мамкиных яслях. Дед Дэдул, правда, был глухонемым от рождения. Но это не влияло на привлекательность рассказа об экзотическом фрукте.
– Слушай, хлопчик, – вдруг перешел на шепот дед Илько, – а у вас в хате горилки нет ли, часом?
– Нема, – уверенно сказал Глебушка. – Ни горилки, ни ананасов. Папка все сам выпивает. А мамка горилку не гонит, некогда ей.
– Ну, тогда я, пожалуй, пойду, – с грустью в голосе сказал дед Илько. – Дел много. Скоро обед, а я еще даже напиться не успел, как следует.
Единственной рукой он зачем-то тронул колесо Глебкиной коляски, словно хотел проверить его на прочность, и синусоидной походкой потащился к калитке.
7.
Лето подходило к концу. Уже отошла вишня, отошли абрикосы. Яблок, груш было столько, что ими хозяйки кормили поросят.
Иногда по вечерам к Брэворошам в дом с бутылкой горилки заходил голова сельсовета Мыкола Григорич. Они с батькой усаживались на Глебкиной веранде за столом и наливали по первой. Мамка тем временем ставила на стол тарелку с крупно нарезанным салом, солонку с солью чуть сероватого цвета, клала зеленый лук, чеснок, мочёные яблоки прошлого года, а сама убегала готовить на скорую руку яичницу со шкварками. Мужчины наливали по второй, не торопясь закусывали. К тому моменту поспевала и яичница, которую мужчины ели алюминиевыми вилками из общей тарелки.
Мыкола Григорич в селе был, пожалуй, самым умным человеком. Об этом много раз говорил папка, да Глебка и сам это понимал. И немного огорчался, ведь папка оказывался, как Гаврик – с серебряной медалью. Золотая по праву принадлежала Мыколе Григоричу. Но Гаврик рассуждал по-взрослому. Во-первых, должность Мыколы Григорича называлась «голова». Не «нога», не «рука», не «пузо», а именно «голова». Это многое объясняло. Кроме того, Мыкола Григорич часто употреблял еще более непонятные слова, чем папка. Особенно после того, когда выпивал очередную рюмку горилки. В таких случаях прежде, чем потянуться к салу или там к чесночине, он вздрагивал мелкой дрожью и говорил что-нибудь вроде: «Миль пардон, печёночка». Очень образованный был человек.
Все село особенно уважало Мыколу Григорича за то, что на своем огороде он уже несколько лет выращивал хомут. Да, да, именно хомут, который надевают на шею обычной лошади! Голова сельсовета вскоре после войны заприметил на ореховом дереве у себя в саду подходящую ветку, которую с помощью многочисленных гирек-противовесов заставлял расти в форме овала, в точности повторявшего очертания хомута. Чем не устраивал Мыколу Григорича обычный хомут, никого не интересовало. Полет творческой мысли головы – вот что будоражило сознание односельчан и переполняло их законной гордостью за своего земляка! Ученые страны в те годы как раз научились оборачивать реки вспять, а Мыкола Григорич заставил ореховую ветку расти по заранее заданной траектории, что было отнюдь не меньшим научным достижением.
После пятого или шестого гранёного стаканчика Мыкола Григорич спросил у папки:
– Кстати, а как тебе новый второй секретарь райкома Вэлыкохатько?
– Да так, задрока мелкая, – отмахнулся папка. По блату прислали. Областным гаражом раньше командовал. А к нам в район – типа, на повышение. – Я таких на фронте – руками давил.
Мыкола Григорич согласно кивал. Правда, сам Мыкола Григорич на войне не был по причине плоскостопия и слабого зрения, тогда как папка служил бойцом в пехоте и в военных вопросах разбирался – будьте любезны!
Выпивать и во всем соглашаться с собутыльником было не только не интересно, но и совершенно не по правилам, которые с незапамятных времён устанавливались в Мартоноше. Собутыльники обязательно должны были во время выпивки о чем-нибудь спорить. Не важно, о чем. Главное, чтобы их взгляды были противоположными. Например, батька до потери голоса спорил с Мыколой Григоричем о том, какой футбольный стадион лучше: «Динамо» в Киеве или «Лужники» в Москве. «Лужники» построили летом 1956-го, совсем недавно. Об этом событии писали газеты, говорили по радио. Мыкола Григорыч, со значением дирижируя вилкой, на конце которой трепыхался розовый кусок сала, убежденно говорил:
– Никита построил «Лужники» назло мировому империализму! Мильёны карбованцев вбухал, чтобы капиталистам досадить! Не стадион получился, а красота небесная. Рай по сравнению с «Лужниками» – хуже нашего колхозного сада.
– Ну, ты, Мыкола Григорич, скажешь же! «Лужники» – это, конечно, да! Это – да, конечно! Но, ежели посмотреть на них с научной пропозиции, то полная ерунда получается. Там же природы – никакой! Вот скажи ты мне, уважаемый голова, где у них там, в «Лужниках», предположим, каштаны?
– Какие такие каштаны? – морщился, как от горилки, Мыкола Григорич.
– Во-от! – папка победоносно вздымал вверх зеленое перышко лука. – Наших киевских каштанов там и близко нет! А без каштанов какая красота?
– Каштаны тут ни при чем! – горячился голова, роняя кусок яичницы на пол. – Ты, Васыль, так рассуждаешь, будто газет не читаешь и радио не слушаешь. На прошлой неделе два советских бобика в космосе сутки вокруг Земли крутились: Белка со Стрелкой. Это тебе как?! Скоро людына в космос полетит, а ты – каштаны! Там по дороге на стадион «Лужники», говорят, – автоматы с ситром стоят. Хочешь, вишневое пей, а хочешь – грушевое! Вот она где, красота!
– Конечно, если твой «Спартак» в футбол играть не умеет, то остается только ситром наслаждаться, – язвил папка.
– А чего это он мой?! – переходил на фальцет Мыкола Григорич. Я тоже за «Динамо» (Киев) болею! Но справедливость быть должна! «Лужники» Никита строил по этим, по последним, можно сказать, достижениям мысли!
– Были мысли, да все обвисли! – парировал папка. – Каштаны где на твоем «Лужнике»?! Нет ни разу там каштанов. Значит, и красоты там быть не может, хоть обмыслись ты в доску! Если нету красоты, то никакая мысля не поможет, понимаешь ты?!
Глебушка внимательно слушал эти дебаты. В разговор он, конечно, не встревал, но мнение свое имел. Папка был прав: без красоты, зачем она – мысля?
Два-три раза в год к Брэворошам приходило много народа. Обычно это случалось 7 ноября и 9 мая. Осенью все садились в хате, летом – на улице, в саду. Мамка выставляла вкусную еду: домашнюю колбасу, сало, конечно, тушила пахучую картошку. Из погреба доставались соления и подавались на стол. Глебушка особенно любил домашнюю колбасу и мочёные яблоки. Он готов был уплетать их хоть с утра до вечера.
За общий стол со взрослыми его никогда не сажали. Ему и детям гостей накрывали отдельный маленький столик. Еда была похожей на взрослую, но без горилки. Вместо неё наливали, как правило, сок из шелковицы, или яблочный сок, которого в погребе было в достатке.
Глебка не особо любил играть с детьми. Его больше занимали разговоры взрослых. Где-то часа через два после начала посиделок, хорошо насытившись и разомлев от горилки, женщины начинали помогать мамке убирать со стола посуду, а мужчины переходили к обстоятельным разговорам. Эту часть праздника Глеб любил особо. Гости рассказывали друг другу удивительные истории. Чем неправдоподобней был рассказ, тем большее одобрение он вызывал. Папка был непревзойдённым рассказчиком. С ним в этом деле не мог соперничать даже голова сельсовета. Мамка, когда папка не слышал, добродушно называла его рассказы брехнёй. Глеб был не согласен с таким мнением, потому что папкины истории были, как правило, интересней, чем сказки из книжки, которая лежала в хате на этажерке. Выпив очередной гранёный стаканчик, папка на несколько мгновений замирал, ожидая, пока живительная влага дойдёт до пункта назначения. Получив таинственный сигнал из района пупка, папка начинал короткий, но ёмкий рассказ:
– Я когда иду на охоту на медведя, всегда беру с собой буряк. Дада! Самый обычный буряк, который бабы в борщ кидают. Медведь он очень сам не свой до буряка. Накидаю я этого буряка в лесу, сам сижу в засаде и жду его, белого.
– Бурого, – деликатно поправлял кто-нибудь из более трезвых гостей.
– Если измызгается в болоте, то бурого, – легко справлялся с оппонентом папка. – Так вот, други мои, открою вам секрет. В медведя я всегда стреляю дуплетом прямо промеж рогов. В смысле, промеж очей, – поправлял себя папка, не теряя самоконтроля. Промеж очей, други мои, чтоб ему те очи повылазили! Но дуплетом – непременно! Для надёжности.
Мужчины одобрительно гудели. Им было совершенно неважно, что у папки отродясь не было двустволки, и на охоту он ходил с ржавой одностволкой шестнадцатого калибра. Не имело значения и то, что в окрестных степях если и был один единственный лесок, то и тот назывался районным парком культуры и отдыха. Главное – уметь рассказать, преподнести свой рассказ! Ну и, конечно, беззаветно верить в то, о чём говоришь. Без Веры Правда не нужна никому.
8.
Горе – оно всегда неожиданно. Оно пронзает, как внезапная молния: ярко и тихо. Это только потом начинаются раскаты душевной боли-грома.
Внезапной посреди августа стала и папкина смерть. Утром он, как всегда, отправился со своим портфельчиком в контору, а часов в пять вечера у их хаты остановилась бричка бригадира Ивана Филипповича. Не слезая с нее, бригадир прокричал во двор:
– Марийка, давай бегом в бричку, там твоему Васылю погано!
Мать как была в домашнем ситцевом халате, выбежала на улицу и запрыгнула в бригадирову бричку. Странно было видеть их с бригадиром рядом: бричка – транспорт индивидуальный, начальнический. Вороной конь по кличке Вороной резко фыркнул и понес мамку с бригадиром в фельдшерский пункт.
Вернулась мамка часа через два. Вернулась одна. Она пришла, шатаясь, как часто, пошатываясь, возвращался папка. Молча, не замечая Глебки, мамка вошла на веранду и повалилась на кушетку. Боже, как она рыдала! Это было даже не рыдание. Это было клокотание мамкиной души.
Потом она вдруг замолчала и как-то неестественно ровно и медленно встала с кушетки. Она подошла к коляске сына, сильными руками притянула его к себе и стояла, как мадонна, глядя куда-то глубоко в себя.
Странно, но Глебка все-все понимал. Он сам удивлялся своей понятливости. Он даже осознал, что сильно повзрослел за какие-то минуты, или часы.
Вскоре в их дворе появилась уйма народа. В основном то были женщины, которые занимались подготовкой к поминкам. Пришла помогать соседка тетка Люська, в честь которой папка когда-то назвал козу, и даже Ганна Герасимовна. Она вошла во двор, обняла своими огромными ручищами мамку, и они долго стояли, обнявшись, и плакали на два голоса.
Обычно умершего односельчанина в райцентр не отвозили: готовили его к похоронам в его же хате. Пожилые женщины приходили обмывать покойника и переодевали его в чистую одежду. Он лежал на столе или на кровати, дожидаясь, пока его переложат в гроб, который изготавливал плотник Хома Митрич в своей майстэрне. Гробы у Хомы Митрича получались справные: очень добротные, аккуратные и даже красивые, если такое слово вообще можно употреблять по отношению к гробу. Гроб по-украински – труна. Звучит, как струна! Звучит торжественно, волнующе. Не просто ящик с покойником, а вместилище большой человеческой тайны.
В случае с папкой все было по-другому. Его тело, как слышал разговоры Глебушка, повезли в район для экспертизы. Оказывается, в день случившегося несчастья в папкину контору нежданно заявился второй секретарь райкома Вэлыкохатько и с места в карьер стал почему-то орать, что научит папку уважать советскую власть. Папка в тот момент подсчитывал в огромной амбарной книге очередные «палочки». Ничего не понимая, он долго молча смотрел на Вэлыкохатько, а потом вдруг резко встал и, как говорили очевидцы случившегося, «упал, как убитый». Прибежавшая фельдшерица Галя ничем помочь не смогла, хотя и честно пыталась. Бездыханного папку отнесли в фельдшерский пункт. Через час или два из района приехала машина скорой помощи и увезла папку не то в больницу, не то в какую-то экспертизу. Шептались и о том, что второй секретарь райкома Вэлыкохатько «дужэ трусывся», когда осознал, что смерть папки могут связать с его ором.
Через какое-то время собравшиеся в хате женщины стали повторять слово «инфаркт», которое показалось Глебушке удивительно красивым. Было непонятно, почему, произнося его, женщины печально поглядывали на мамку и на щеках у них появлялись слезы.
Ситуация была странной и очень необычной. Почему-то все, кто приходил в их хату, гладили Глебушку по стриженой голове и совали ему в руку кто что: коржик, конфетку, кусок плачинды. Глебушка был удивлен такому вниманию. Оно ему даже нравилось. Но скорбные лица женщин не позволяли в полной мере ощущать праздник. К тому же, с каждым прикосновением к своей макушке он почему-то вспоминал, что недавно стриг его папка.
Приходили знакомые рыбаки, которым папка ставил в конторе «палочки», приносили рыбу. Глебка видел, как мамка пыталась заплатить им за рыбу деньги, но лица мужчин суровели, и мамка прятала деньги в карман халата. Тогда мамка просила рыбаков выпить «за упокой души Васыля». Мужчины соглашались и выпивали медленно, с достоинством. Потом, как и женщины, они гладили Глебушку по макушке и, не торопясь, уходили по своим делам.
Колхозного счетовода Васыля Федоровича Брэвороша хоронили всем селом. Народу пришло много-много. Глебушка не ожидал, что в Мартоноше живет так много людей. Даже дед Илько притащился. Казалось, что он впервые в жизни был почти трезв. Он стоял немного в стороне от всех и смотрел куда-то вбок, как будто немного стеснялся своей трезвости.
Папка лежал в гробу серьёзный и сосредоточенный. Он был в своем пиджаке и в рубахе-вышиванке. Рядом с гробом стоял на своих полутора ногах военрук, историк и физкультурник Иван Филиппович. В руках он держал красную подушечку с черной каймой, на которой рядом с медалью «За боевые заслуги», которую Глебка сразу узнал, лежала еще какая-то. На кладбище играл настоящий духовой оркестр. Он был небольшой, но чувствовалось, что музыканты знают свое дело. Они играли проникновенно и так громко, что Глебке хотелось заткнуть уши. Потом музыканты вдруг замолчали и начал говорить голова сельсовета Мыкола Григорич. Он говорил долго и страстно, словно спорил с папкой насчет футбольного стадиона. Но папка ничего не возражал, а только лежал себе с закрытыми глазами и, наверное, думал о чем-то своем.
Мамка стояла возле папкиной головы в черном платке и сама была какая-то черная. Она уже не плакала, а все время рвалась к папке, но крепкие руки Ганны Герасимовны не отпускали ее.
Потом папку зарыли в землю и люди стали расходиться. Многие пошли во двор Брэворошей, где были накрыты поминальные столы. На столах стояли тарелки с белым киселем, тарелки с жареной рыбой и с хлебом, порезанным большими ломтями, и граненые стаканчики. В них молчаливые женщины наливали собравшимся на поминки людям горилку. Все сначала пили молча, а потом заговорили. Скоро в разговорах даже начал проскальзывать смех: вспоминали всякие смешные истории, связанные с папкой. Их оказалось много. Глебушка, сидя у себя на веранде, слышал эти рассказы и смех. Он понимал, что в селе папку любили, хотя он и не понимал, за что. Потом вдруг какой-то сипловатый голос затянул было песню, но на солиста цыкнули. Он замолчал, потом запел опять и на этот раз его поддержали нестройные голоса, которые вскоре как-то выровнялись, подстроились друг под друга и зазвучали так слаженно и красиво, что Глебушку вдруг пронзила незнакомая взрослая боль. Он представил себе зарытого в землю одинокого папку. Папка не мог теперь ни песню спеть, ни горилки выпить. Даже его, Глебушку, отругать за что-нибудь – и то не мог. Глебушка сидел в коляске на веранде, смотрел через оконное стекло на певших людей, и его душили слезы. Но он не плакал. Ему было ясно, что папке бы это не понравилось.
9.
После того, как схоронили Васыля Федоровича, Глебушкина жизнь мало в чем изменилась. Мамка, как и прежде, каждое утро, подоив Люську, вела ее на выгон, а потом торопилась на работу в ясли. Глебушка оставался один, и ему это нравилось. Он думал о своей будущей взрослой жизни, о том, как будет во всем помогать мамке, как станет заботиться о ней. Спустя время после мамкиного ухода, когда солнце было уже высоко-высоко, он подкатывал на коляске к печке и осторожно вытаскивал небольшим ухватом казанок с едой. Казанок был его собственный – маленький и не очень тяжелый. Еда в нем до обеда оставалась еще теплой. Обычно в казанке была картошка или каша, которую Глебушка ел деревянной ложкой. Самое приятное было в конце. Глебушка засовывал в казанок кусок белого домашнего хлеба и немного ждал, пока тот пропитывался теплой юшкой. То было его собственное открытие: никто не учил его кушать таким способом. Он съедал кусок влажного хлеба, а потом клал туда еще один, который так же пропитывался юшкой. Он выезжал из хаты во двор, чтобы поделиться этой вкуснотой с Пиратом. Пес знал толк в ритуалах объедания и заранее заговорщицки вилял хвостом, ожидая кусок хлеба. То была их большая тайна, о которой не знала ни одна живая душа.
В один из таких дней Глебушка в очередной раз собрался совершить свой марш-бросок к печке, но вдруг увидел папкин знаменитый портфельчик. Тот стоял в углу, как и прежде. На секунду Глебушке даже показалось, что папка прямо сейчас войдет в хату, привычным движением протянет руку к портфельчику, возьмет его за матерчатую ручку и отправится на работу. Но папки не было. Он лежал в земле на кладбище над яром. А впереди, внизу, разливалась Большая Высь. Глебушка вдруг осознал себя одиноким-одиноким. Так одиноко ему до сих пор почему-то не было. Папкин портфельчик словно подчеркивал это его одиночество. Вот сейчас он возьмет портфель, откроет, а никто за это его даже не отругает, не пристыдит. Потому что нет больше папки и ругать больше некому. И стричь его теперь тоже никто никогда не будет. Мальчик представил себе, как его нестриженые волосы все растут и растут. Вот из-за них уже не видно коляски и даже всей хаты. Стало очень одиноко и страшно. Глебушка нагнулся, взял в руки портфельчик и без колебаний открыл его. Он ожидал, что случится что-то волшебное, неожиданное. Так и произошло. Как только он открыл застежку портфельчика, дверь отворилась и на пороге появилась мамка. Она стояла в проеме двери и печально смотрела на сына. Глебушке стало неловко от своего самовольства:
– Портфельчик папкин, – пролепетал он, словно ситуация нуждалась в каком-то пояснении.
– Теперь он твой – ты же единственный мужчина в семье, – сказала мамка. – Открывай, не стесняйся.
В портфельчике лежало несколько волшебных вещей. Вопервых, это был настоящий химический карандаш с металлическим колпачком на конце, чтобы не ломался грифель. Был там и перочинный ножичек, который папка называл трофейным. Ножичек был малюсенький, как игрушечный. Но главное – он был складным и на удивление острым. Глебушка это знал точно, потому что папка не раз и не два точил им свой химический карандаш. Делал он это на удивление ловко. Грифель получался ровненьким и красиво ограненным со всех сторон. Но главным богатством, хранившимся в портфельчике, было, конечно, настоящее увеличительное стекло, которым можно было выжигать на чем угодно: хоть на дереве, хоть на руке. На дереве получалось красиво, а на руке очень больно. Глебушка это знал наверняка, потому что видел, как однажды папка выжигал у себя на руке появившуюся неизвестно откуда бородавку. Папка кривился тогда от боли, но бородавку выжег напрочь. Вот такой герой был у него папка.
И еще в портфельчике лежала фотография. Точнее, даже не фотография, а открытка, похожая на фотографию. На ней было изображено что-то не совсем понятное: огромные дома, широченная улица и на ней столько народа и машин, что во всем райцентре не наберется.
– Это Америка! – догадался Глебушка.
– Нет, это не Америка, сынок, – грустно улыбнулась мамка. – Это Ленинград. Папка всегда мечтал там побывать. Говорил, что там, представляешь, летом не бывает ночей! Светло, как днем!
– И люди не спят?! –удивился Глебушка.
– Не знаю, – смутилась мамка. – Спят, наверно, как не спать. Только все равно чудно как-то. И еще папка говорил, что в Ленинграде недавно открыли очень красивое метро. Это такие поезда, которые ездят под землей.
– Под землей? – засомневался Глебушка и вспомнил опять папку. Он ведь теперь живет под землей. – Вот вырасту и повезу тебя в Ленинград, – твердо решил Глебушка. – Посмотрим, как там люди живут. А ночевать уедем в Мартоношу!
– Договорились, – сказала мамка и почему-то заплакала.
10.
Волшебство – вполне обычное дело. Надо просто уметь колдовать или иметь знакомого волшебника. Глебушка это знал всегда.
Вечером к ним во двор заглянул голова сельсовета Мыкола Григорич. Мамка предложила ему пройти в хату и выпить «с устатку», но Мыкола Григорич решительно замахал рукой:
– Я, Марийка, к тебе не просто так зашел по-соседски. Я к тебе по важному делу зашел. По делу, можно сказать, государственному.
Мамка удивленно посмотрела на Мыколу Григорича. На лице ее появился испуг.
– Какое такое государственное? Я что, депутат сельрады? Или, может, секретарь райкома? Не шуткуйте, Мыкола Григорич, объясните толком.
– Ты, Марийка, не секретарь райкома, это дело известное. Кстати, Вэлыкохатько, второй секретарь райкома, из партии полетел. И из райкома полетел, конечно. За грубость с товарищами. Инфаркт Васыля – это, оказывается, так, грубость. Но партийное расследование было. Все ж, как ни крути, а Никита Сергеич наш, за народ стоит.
Глебушка представил себе, как Никина Сергеич, похожий на сказочного богатыря, стоит, широко расставив ноги, а за ним – меленький такой народ. Народ к ножище его прижимается, трется об нее, как плешивый кот Барсик. А из огромной хаты-райкома прямо в окно вылетает гадкий Вэлыкохатько. Картуз с него слетает, а он летит выше неба и орет:
– Помогите, добрые люди, помогите!!!
А люди ему не помогают, только кулаками с земли грозят.
– Так вот, Марийка, – Мыкола Григорич заговорил своим зычным поставленным голосом. – Тебе хлопца теперь надо поднимать. Одной, как ты понимаешь. Колхоз, конечно, поможет. И я по-дружески, по-соседски. Но возможности наши пока, сама знаешь, не очень значительные. Ограниченные, можно сказать, эти возможности, хотя они, эти возможности, пока и есть. Главное, – Мыкола Григорич сокрушенно посмотрел на Глебушку, – парень у тебя хотя и смышленый, но, сама знаешь, инвалид практически. В селе у нас из медпомощи – только Галька-фельдшерица, а это, как известно, меньше, чем ничего. От нее только вред. Заболеешь, не дай Бог, она такого тебе предпишет, что лучше бы сразу помер, без ее издевательства над человеческим организмом.
– К чему вы это все, Мыкола Григорич?
– К тому, что и в районе тебе с хлопцем не помогут. И в области даже. Нет у них, как бы тебе, дурехе, проще сказать, подходящего консилиума, поняла?
– Так, может, в самый Киев за ним съездить? – напряглась мамка.
– За кем съездить? – растерялся голова.
– Ну, за этим, как вы сказали, за лекарством этим, за консилимом, или как там его, – еще больше засмущалась мамка.
– Эх, Марийка, – Мыкола Григорич стиснул в кулаке свой картуз. – Не в лекарствах тут дело, хотя и без них никуда. Тут светилы нужны, понимаешь! Такие, чтоб, как рентген, хлопца глазами прощупали, умными руками помяли и решили, фигурально выражаясь, как его продиагностировать. Нет у нас таких! Ни в Кировограде, ни даже в Киеве! Все силы война прибрала. До сих пор медицина оправиться не может.
– Что же делать?! – запаниковала мамка.
– Продуманный вопрос, Марийка. Продуманный. В Москву тебе ехать сложно. Столица, сама понимаешь. Там тебя с Глебушкой не ждут. Там такие дела решаются, не до тебя будет. В Ленинград тебе ехать надо, Марийка. Там народ интелихентный. Врачи там – высший сорт, академик на академике. Они точно помогут. А не помогут, домой вернешься, куда деваться?
– Так на что я поеду, Мыкола Григорич, – охнула мамка. – У меня ж денег, сами знаете.
– Продуманный вопрос, говорю тебе, продуманный. Слушай сюда. Год этот – год хороший для сельского хозяйства. Яблок уродилось, сама знаешь, всем колхозом за сто раз не съесть. На них, на яблоки эти, будь они неладны, – ни людей, ни поросят не хватит. Думали в колхозе вино из них давить и государству сдавать, так бочками не запаслись. Кто ж знал, что так с урожаем ладно выйдет? Неурожай – плохо, а урожай – еще хуже! А государство по головке не погладит. Государство тебе – не мамка, а строгий начальник. Руководитель, можно сказать. Одним словом, заседало вчера правление колхоза и приняло мудрое решение: колхозные ясли надо закрыть!
– Как это и при чем тут яблоки? – изумилась мамка.
– Нету в тебе, Марийка, прости, господи, диалектики! – пристыдил мамку голова сельсовета. – Простого не понимаешь.
Мамка сконфуженно опустила голову.
– Разъясняю, – голос головы стал еще поставленней, – урожай в колхозе неожиданно огромный, рабочих рук не хватает. Все работники яслей, включая деда Дэдула, переводятся на военное положение – в смысле на уборку урожая. С детьми в яслях некому сидеть. Дети – цветы жизни, а тут уже не цветы, а готовый урожай пропадает, понимаешь?
– Понимаю, – поспешно закивала мамка, – но как же детки?
– Будут развиваться в автономном режиме – пусть мамки их с собой на делянки берут, к труду приучают. При проклятом царизме, знаешь, как было? А мы чем хуже?! Но и это еще не все. Главное не сказал! Правление нашего колхоза приняло решение зафрахтовать у государства три железнодорожных вагона и прямым ходом, так сказать, без посредников, отвезти в Ленинград аж три вагона яблок!
Мыкола Григорич посмотрел на мамку взглядом маршала Жукова, только что подписавшего Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
– Тебе, Марийка, колхоз доверяет сопровождение яблок до самого города-героя Ленинграда! Получишь все сопроводительные документы, доставишь все три вагона в Ленинград. С яблоками у них дела плохи, а у нас – сама знаешь. Так что, всем хорошо: и колхозу, и городу Ленина и тебе лично!
– А мне-то почему? – засомневалась мамка.
– А вот почему, голова твоя два уха! Яблоки самолично продашь на колхозном рынке, а деньги честь по чести перешлешь в колхоз переводом. За это колхоз наградит тебя премией в нужном размере.
– Да какие уж там размеры, Мыкола Григорич?! Я ж торговать не умею.
– Не боги, как говорится, Марийка, горшки обжигают! В Ленинграде тебя встретит сам заместитель начальника «Ленплодовощторга» товарищ Матвей Иосифович Цукерман. Наш земляк – из Златополя. После войны как перебрался в Ленинград, так там и живет. Каждый год в Златополь в отпуск приезжает. Вот и в этом году приехал – ахнул: такой урожай пропадает! На днях был он в нашем колхозе. Посоветовались мы и решили насчет яблок. Все организаторские заботы он берет на себя. Человек он надежный, порядочный, не подведет, не обманет, не беспокойся.
Но самое главное, – Мыкола Григорич поправил свои окуляры, – возьми с собой Глебушку. У товарища Цукермана в медицинских кругах – очень хорошие возможности. Они толк в витаминах, как никто понимают, а он их этими витаминами снабжает. Понимаешь взаимосвязь и взаимовыручку?
– Понимаю, Мыкола Григорич, понимаю. Но хата моя как же? И Люська, и куры, и Пират с Барсиком…
– За хату не беспокойся, приглядим. Живность твою временно возьму к себе. А куры – что куры. Ты их с собой в дорогу наготовишь – путь неблизкий, дней пять будете ехать. Да и в Ленинграде что-то кушать надо. Не святым же духом вам питаться. Яблоками не наешься, да и поперек горла уже эти яблоки.
Голова сельсовета ушел, а мамка еще долго смотрела в сторону калитки. Даже Глебушке было ясно, что жизнь их опять переворачивалась на другой бок. Что там будет в их новой жизни – совершенно непонятно. Но и так жить, ничего не меняя, ничего и не изменишь. Ему же, Глебушке, казалось, что еще немного усилий – и путь к командованию полком станет прямым, как мост через Большую Высь.
11.
Сборы в Ленинград были долгими, суматошными и бестолковыми. Мамка ежедневно пешком моталась от правления колхоза до станции, где к отправке готовились вагоны с яблоками. Нужные бумаги были оформлены быстро, а вот с вагонами было много неутыков: то доски в полах вагонов оказывались гнилыми, то замки на засовах отсутствовали, то решётки на окнах для обеспечения вентиляции и безопасности вагонов были сломаны. Позаботиться пришлось и о сооружении нар и оборудовании печки-буржуйки. Тут выручил безотказный плотник Хома Митрич. Он прямо в вагоне, где предстояло ехать Глебушке с мамкой, соорудил широкие и невысокие нары, в противоположном углу, в закоулке, умудрился смастерить почти элегантный нужник со съемной частью половой доски для естественных целей. А возле дверей вагона прибил к полу доску-тормозок, чтобы фиксировать Глебушкину коляску. И петельку специальную устроил, чтобы удерживала коляску вместе с Глебушкой.
Хома Митрич все предусмотрел! Даже маленький курятничек организовал прямо в вагоне, объясняя мамке:
– Ты, Маня, кур живыми вези. Так сохраннее будет. Ты их сюда посади, да и бери по одной для бульонов там ваших. Ребёнку бульон в дороге лучше всего на пользу.
Мамка благодарно кивала, прикидывая, что трех кур ей с запасом хватит. А остальных можно соседям раздать в благодарность за поддержку.
– Поедете, что те королевишна с прынцем! – убежденно говорил плотник Марийке. Все удобства – в лучшем виде. Хлопчику скучно ж будет ехать взаперти. Пусть на колясочке сидит себе у дверей, да любуется видами, как в кино в клубе.
Он же, Хома Митрич, сделал в вагонах специальные бурты для перевозки яблок: чтоб не подавились при движении состава.
– Поезд-то машина глупая, хоть и большая. Прет так, что павидлу привезешь в Ленинград, а не яблоки. А человек все продумать должен заранее: он не машина, с него потом спросится!
Домашние дела разрешились как-то неожиданно легко. Только с козой Люськой и с Пиратом расставаться было затруднительно, но Мыкола Григорич заверил:
– Все, Марийка, будет абге махт!
Культурный человек всегда убедительней некультурного.
Глебушка еще никогда ни с кем не расставался. С ним расставались. Сначала Гаврик, потом – папка. Казалось бы, какая разница: ты расстаешься, или с тобой расстаются? Оказалось, разница есть. Когда расстаются с тобой, ты уже ничего поделать не можешь. Такое расставание больное, но когда расстаешься ты – это ещё больнее. Ведь кажется, что в твоей власти не расставаться, изменить все к лучшему.
Глебушка это понял, когда настала пора уезжать на станцию. Они с мамкой побывали на кладбище – попрощались с папкой и с другими родными могилами. А там их – полсела. Мамка у каждой поплакала, у каждой что-то пошептала. Глебушка сидел возле папкиной могилы и не сводил с нее глаз. На холмике еще не успела вырасти трава, но искусственные цветы умудрились уже поблёкнуть. Старательный паук устроил возле креста свою западню, и в него попалась несмышленая муха. Глебушка поднял с земли сухую веточку и освободил дурёху. Та, не поблагодарив, улетела.
С живыми прощаться было тоже нелегко. Пока Мыкола Григорич грузил на подводу пару самодельных чемоданов, клетку с курами да узелок с едой и Глебушку с его коляской, мамка обнялась с соседками и все они разом заплакали на разные голоса.
– Цыц вы, кляти бабы, – деликатно прервал прощание голова сельсовета. – Не на фронт провожаем. Насплетничаетесь еще. – Он сам сел на подводу за вожжи и, дернув ими, негромко скомандовал:
Но, лыдащё!
Две молодые гнедые лошадки резво понесли подводу. С таким темпом до станции им было ходу не больше часа.
Последнее, что запомнил Глебушка, это тын родного двора, за которым возле будки бесновался невозмутимый обычно Пират. Он рвался с цепи, лаял и скулил одновременно. Но кони несли подводу быстро, и вскоре его не стало слышно.
На станции погрузка яблок уже была закончена. Загрузили яблоки одного сорта – семеренко. Они были яблоками позднего сорта и отличались стойкостью в перевозке и хранении. К тому же, они были хороши на вкус. В селе все знали: они и до весны могут в погребе пролежать, не испортятся. Да и мочёные они – тоже хороши, почти не уступают антоновке.
Когда подали паровоз, Глебушка пришёл в ужас. Он прежде никогда паровоз не видел. Его красные колёса и огромная труба, из которой рвался пар, заставили Глебушку вжаться в коляску и сидеть, не шелохнувшись.
– Что, страшно, брат? – рассмеялся Мыкола Григорич. – Запоминай, запоминай. Скоро паровозов не будет. Говорят, на железной дороге уже во всю тепловозы пошли. Этот паровоз – один из последних, может быть.
Мыкола Григорич, как взрослому, пожал Глебушке руку:
– Мамку береги! Ты у нее теперь – главный в жизни мужчина. И хватит барином в коляске сидеть. Быстрее лечись! Чтоб в Мартоношу на своих двоих вернулся, понял?!
Глебушка кивнул и посмотрел на мамку. Она опять плакала. На этот раз беззвучно. Что ж поделаешь с этими женщинами, если они так устроены.
В вагоне вкусно пахло яблоками, сеном и стругаными досками.
Мамка зажгла керосиновую лампу, быстро навела в вагоне уют и положила поверх сена на нары два байковых одеяла.
Состав тронулся, и Глебушка с интересом стал привыкать к новой обстановке. Вечер, как всегда, навалился мгновенно, без предупреждения. Тяжелая вагонная дверь была закрыта изнутри, но в небольшие решетчатые проемы окон пробивался полумрак. Вскоре он сменился полной темнотой.
– Давай спать, сынок, – сказала мамка и, задув фитилек лампы, легла на нары рядом с Глебушкой. – Тебе, как, удобно здесь? – тихо спросила она.
– Удобно, – сказал Глебушка и вдохнул полной грудью запах мамкиных волос. Они пахли счастьем.
Глава 2. Хлопчик из города белых ночей
1.
Состав, в котором было три вагона яблок, шёл в Ленинград со станции Новомиргород не пять дней, как предполагал Мыкола Григорич, а ровно неделю.
Глебушка быстро успел привыкнуть к новой жизни, тем более что она была прекрасна. Днем мамка открывала дверь вагона, и Глебушка мог часами наслаждаться менявшейся картиной. Одни мазанки сменялись другими, вместо акаций и пирамидальных тополей стали появляться березы и осокоры. На лугах паслись стада коров. Чем дальше на север ехал их состав, тем меньше было коров в бело-красных пятнах. Все чаще появлялись коровы с черно-белым окрасом, которые в Мартоноше вообще не встречались.
Их состав как-то быстро дошел до Киева. И хотя поезд, как партизан, пробирался на север больше окраинами да огородами, Глебушка успел разглядеть издалека гигантский город, который ошеломил его своими масштабами. Зрелище было таким подавляющим, что он даже не задавал мамке никаких вопросов, а просто ошарашенно смотрел и смотрел. Мамка и сама никогда раньше дальше райцентра не ездила. Её впечатления мало чем отличались от Глебушкиных. Разве что в свои 35 она уже научилась думать по-взрослому, хотя, если честно, иногда Глебушке казалось, что он куда старше и опытней мамки.
Состав останавливался очень часто. Нередко просто в чистом поле, иногда на полустаночках. Случалось, что и на станциях посолидней. Мамка на станциях всегда запирала дверь вагона изнутри:
– Чтоб добрые люди не совались, куда не следует, – объясняла она Глебушке.
На полустанках, где людей было мало, или не было вовсе, она быстро пробегала вдоль своих вагонов и проверяла засовы и пломбы. К счастью, до самого конца пути никаких посягательств на их груз не было.
Количество вагонов в составе постоянно менялось. Какие-то вагоны на станциях отцепляли, какие-то, наоборот, добавляли. Менялись и паровозы. Где-то в Белоруссии, кажется, в Гомеле, состав уже потащил тепловоз. Глебушке было жаль расставаться с паровозами. Он полюбил их за красоту. Тепловозы, конечно, были новенькими и еще более крупными, но было в паровозах что-то волшебное, что ли.
Чем дальше состав двигался на север, тем больше менялась природа. Появилось много новых деревьев. Мамка сказала, что это сосны и елки. В Мартоноше таких деревьев не было. Стало холоднее. Ближе к Ленинграду мамка даже надела на Глебушку пальто. По вечерам она топила буржуйку, на ней же готовила еду. В вагоне по-прежнему было тепло и уютно.
2.
В Ленинград приехали рано утром. Состав загнали на запасной путь. Мамка и Глебушка сидели, нахохлившись, в распахнутом проеме двери и не знали, что делать дальше. Иногда мимо проходили какие-то люди и не обращали на них внимания. Они разговаривали между собой на каком-то непонятном языке. Правда, матюки были знакомыми.
Через какое-то время к ним быстрой походкой не подошел, а, скорее, подскакал толстенький жизнерадостный человек с портфельчиком в руке, почти таким, какой был у папки. Человек был удивительно похож на воздушный шарик, который однажды папка привёз Глебушке аж из Кировограда.
– Мария Брэворош? – спросил он, и мамка радостно закивала. Это и был их земляк из Златополя. Он при всей курьезности своей фигуры оказался на удивление шустрым. С его приходом все вокруг вагонов как-то забурлило, закрутилось. Появились какие-то сильные дядьки, которые сноровисто начали перегружать яблоки в ящики и быстро ставить их в грузовики, подходившие один за другим, как по расписанию.
– Комнату вам снял на первое время на Фонтанке, – сказал, улыбаясь, земляк. Говорил он по-украински, но с каким-то небольшим акцентом. – Комната, правда, плохая, но на первое время сгодится. Мать ошарашенно кивала и улыбалась как-то незнакомо, жалобно.
– Насчет денег за яблоки не волнуйтесь, Мария. – Земляк укладывал мамкины накладные в свой портфельчик. – Все сделаем честь по чести. Не обманем. Свои ж люди. На базаре вам стоять не надо – есть у меня, кому торговать. Обживайтесь. Завтра повезу вас к одному светиле! Пусть хлопца посмотрит и диагностирует.
При слове «диагностирует» мамка напряглась, а Глебушка попросту испугался: не отрезали бы чего.
До квартиры, где им предстояло жить, доехали с ветерком – на настоящей легковой машине! Земляк сидел рядом с водителем, а Глебушка с мамкой позади, на мягких-мягких сидениях.
Глебушка, не отрываясь, смотрел в окно. Зрелище было удивительное! Широченные улицы были ровными-ровными. Те из них, что были чуть уже, были утыканы какими-то пупырышками.
– Скоро и на этих улицах уложат асфальт, – весело комментировал Земляк. – Булыжники последние годы здесь лежат! Скоро у нас будет не хуже, чем в Москве. На Невском уже первый подземный переход роют.
– На Невском? – переспросила мамка.
– Да, это наш главный проспект. Как улица Ленина в Златополе. Привыкайте, Мария. Вы теперь – ленинградка.
– Нет, мы сюда ненадолго. Полечимся, как следует, и домой.
– Вот именно – как следует, а не как Бог на душу положит! – наставительно сказал Земляк. – Я договорился по блату: будете по своей специальности в садике возле дома работать. И сын при вас, и работа знакомая, и дом рядом. Зарплата – не ахти какая, но сытыми будете. К тому же премия за яблоки полагается – все официально, по документам.
Машина мчалась по набережной какой-то реки. Речка была не такая широкая, как Большая Высь, но вдоль нее была удивительной красоты ограда.
– Вот нам бы такую в Мартоношу, – подумал Глебушка и заулыбался, представив себе эту красоту в родном селе.
– Это река Фонтанка, приток Невы. Здесь и будете жить, уже подъезжаем, – объяснил Земляк. Машина съехала с горки и тут же стала резко подниматься вверх. У Глебушки перехватило дух. Водитель сбавил скорость и въехал в большой двор с палисадником. Деревья были так себе, но в углу двора была огромная баскетбольная площадка, обтянутая металлической сеткой. Назначения площадки Глебка, конечно, не знал, но сооружение впечатляло!
– Ну, вытряхиваемся потихоньку, – сказал Земляк и с удивительной легкостью схватил тяжеленный чемодан.
– Нам – на второй этаж, квартира 33.
Ступени в парадной были широкие и завораживающе красивые – из какого-то невиданного камня.
– Чистый мрамор! – перехватил Глебкин взгляд Земляк. Он одним махом преодолел с чемоданом два лестничных пролета и быстро спустился вниз.
– Вы, Мария, берите хлопчика, а я коляску, – деловито распорядился он.
Дверь в квартиру была огромной. По ее краям, как соски у свиноматки, висели звонки.
– Вот, Мария, видите звонок, который не похож на остальные? Вместо кнопки у него металлический бантик.
Про-шу по-вер-нуть, – по слогам прочитала мамка на звонке.
– Ничего поворачивать не надо, – заулыбался Земляк. – Это звонок дореволюционный, он не работает. А вот над ним, синенький, это ваш. Запоминайте.
Они вошли в квартиру, которая своими габаритами напоминала нижнюю улицу в Мартоноше.
– Вот ваша комната, – сказал Земляк и открыл дверь. Комната была довольно большая, но странная: в ней не было окон.
– Пока в ней поживите. Соседа вашего недавно посадили, скоро права на жилье лишат, вот мы вас в его комнату и перевезем.
– Как это посадили?! – ахнула мамка.
– Известным способом, как! Проворовался. Был завскладом в нашем торге. Но мне эту комнату уже пообещали. По блату, конечно. Иначе нельзя, – подмигнул он Глебушке. – Потерпите пару месяцев. Обустраивайтесь пока.
3.
Обустраиваться было несложно. В комнате уже стояла мебель: кровать с никелированными гайками-шариками, оттоманка кирпичного цвета, кухонный столик с черной настольной лампой и огромный платяной шкаф. При входе, справа, на стене висело радио. В центре под потолком, почти сливаясь с ним, был вылинявший абажур с лампочкой.
– Как в погребе, – вздохнула мамка, и пошла знакомиться с соседями.
Соседей было много. Всех сразу было и не упомнить. Справа от входа в квартиру жили Рафальсоны. Тихие, настороженные, немного угрюмые. Глава семейства дядя Яша, его жена тетя Соня и сыновья Феликс и Геня. Они Глебушке сразу понравились. Особенно тетя Соня, которая угостила Глебку невиданным кушаньем – маринованным зеленым помидором. В Мартоноше помидоров было навалом, но чтоб зеленые и с таким вкусом!
Запомнилась и семья Перевозчиковых: бабушка Аня, ее дочь тетя Женя и взрослый мальчик Игорь. Бабушка была вполне обыкновенной. Но тетя Женя была необычайно красива. Она была похожа на героиню из иностранного кино, даже лучше, потому что та, из кино, на экране, а эта рядом.
Глебушка опасался красивых женщин. Папка утверждал, что «от гарных баб толку нэмае». Это было немного странно, потому что мамка, по мнению Глебушки, была красивая, самая красивая. Но тетя Женя – явление прежде невиданное – нуждалась в осмыслении в его детском сознании. Игорь был взрослым и уже этим хорош. Взрослым вообще быть хорошо, потому что им все можно. Были и другие соседи, из которых Глебушка запомнил только лысую девочку Катю. Она была Глебушкиной ровесницей – молчаливой и застенчивой. Глебушка и сам всех стеснялся. Особенно он переживал оттого, что почти не понимал русской речи. Он первое время всегда при посторонних молчал и вслушивался в произносимые ими слова. Сначала они сливались в общий поток звуков. Но очень скоро отдельные слова стали как-то сами собой выделяться, запоминаться, приобретать смысл.
Однажды, когда кто-то из взрослых его о чем-то спросил, Глебушка запаниковал и, решив, что с ним знакомятся, на всякий случай представился:
– Я – хлопчик из Ленинграда.
4.
Мамка таскала Глебушку по врачам, по светилам. В таких походах их всегда сопровождал Земляк на своей замечательной служебной машине. Врачи были умными, но ничего понять не могли. Глебушка это осознавал, потому что врачи много вздыхали и еще больше говорили о непонятном.
Мамка устроилась на работу в детский садик, который находился рядом с домом, на Садовой улице. Земляк пристроил в тот садик и Глебушку. В садике воспитательницы называли мамку уважительно Марией Гавриловной, и Глебушке это очень нравилось.
В садике было хорошо. Дети скоро привыкли к молчаливому Глебушке и к его коляске. Играли с ним на равных. В Глебушке они ценили то, что он любил рыбий жир. Тот самый гадкий, вонючий рыбий жир, от которого всех тошнило. Всех, кроме него. Смелым был этот Глебушка Брэворош. Во время обеда в садике был строго установленный ритуал: перед началом трапезы каждому ребенку в столовую ложку, которую тот держал в руке над тарелкой супа, наливали этот ненавистный рыбий жир. Обычно рука любого ребенка при виде этой целебной дряни начинала трястись, и жир капал из ложки в суп. На поверхности тарелки появлялись жёлтые кружочки, которые было интересно рассматривать. Дети, морщась, превозмогали себя, заглатывая эту ненавистную жижу. Глебушка же обожал рыбий жир! Ему он казался удивительной вкуснятиной. Выпивая его из своей ложки, он, пользуясь тем, что воспитательница подходила к следующему столу, выпивал его из ложек трех своих соседей по столику. Соседи были счастливы. Дети, сидевшие за соседними столиками, завидовали им. По причине любви Глебушки к рыбьему жиру его авторитет в садике был очень высок.
В садике Глебушка неожиданно для себя полюбил петь. Пел он, в основном, не раскрывая рта, потому что стеснялся своей нерусской речи. В Мартоноше вслух он тоже не пел никогда. Правда, очень любил слушать, как поют взрослые, особенно женщины. Во время нередких застолий в их хате звучали украинские народные песни, а иногда и песни на их родном языке. Последние звучали не часто, и пели их старики и старушки, но было в тех песнях что-то непонятно волнующее, что-то отдававшее тайной старины, которую Глебушка осознавал едва-едва.
В садике в Ленинграде были совсем другие песни. Среди них были три самые любимые, которые Глебушка мог распевать вслух или про себя бесконечно. Третье место в его личном хит-параде занимала песня «Там, вдали, за рекой». Печальная песня была про бойца молодого, поникшего головой за рабочих. Перед смертью он разговаривал с вороным коньком, и это было очень понятно, потому что у Глебушки в его родном селе тоже был бригадирский конь Вороной, так что картину прощания Глебушка представлял себе очень отчётливо.
Второе место в Глебушкиной душе занимала песня про юного барабанщика, который погиб, не допев весёлую песню! Глебушка ощущал себя этим юным барабанщиком. Себя было немного жаль, но главное состояло в том, что песня его не умрёт. Это Глеб осознавал очень отчётливо.
Но главная и нежно любимая песня была про весёлого счетовода из города Тамбова, который, как Глебушка, пел всегда, даже в самых невероятных ситуациях. Даже, когда оказался в пасти у льва и потом, когда по совершенно непонятным причинам был в старом доме, который взрывали динамитом. Глебу нравился несокрушимый оптимизм этого весёлого человека. Его характер был созвучен характеру Глеба: они словно дружили между собой.
Глеб не задумывался над тем, что все три героя его любимых песен, в конце концов, погибали. Ему, конечно, это не нравилось, но ведь песню, как и саму жизнь, не изменишь. Да и за лучшую долю погибали герои песен. Жертвенное было время. А в Глебушкино время сохранилось уважение к этой жертвенности.
Так что, в садике Глебу нравилось: мама рядом, дети его уважали и любили, да ещё и песни пели душевные.
Правда, не все было так гладко. Однажды к ним в группу пришла новая воспитательница. Она была какая-то немного странная. Она никогда не улыбалась и с детьми разговаривала только криком. Её все боялись. Однажды она принесла в группу воздушный шарик. Дети начали им играть, но шарик скоро лопнул. Тогда воспитательница стала делать из лопнувшего шарика совсем маленькие и бить ими в лоб малышей. Шарики с шумом лопались, что почему-то еще больше злило воспитательницу. Когда очередь дошла до Глебушки, он заплакал от страха и плюнул воспитательнице в лицо. Та разозлилась и отправила Глебушку в угол. Инвалидная коляска одиноко стояла в углу комнаты. Подходить к ней детям было запрещено. Глебушка, глотая слёзы, сидел в коляске и смотрел на воспитательницу, не отрываясь. Впервые в жизни он испытал чувство ненависти.
Мамке он не сказал ничего. Вечером, ложась спать в своей темной комнате, он дал себе слово, что когда вырастет, никогда не причинит такого зла ни одному человеку на свете.
5.
Глебушка любил путешествовать по своей квартире. В воскресенье, рано утром, он спешил выкатить свою коляску в длинный коридор квартиры, имевший г-образную форму, и изучал какую-нибудь важную деталь. Например, щель в полу возле своей комнаты. Щель была большая и глубокая. Глебушка, склоняясь из своей коляски вниз, засовывал в неё палец, расшатывал трухляво-податливую деревянную плоть, чтобы сделать щель еще шире. Однажды за этим важным занятием его застал сосед, которого прежде Глебушка не встречал.
Сосед шел по коридору в стоптанных тапках без задников, надетых на босые ноги. Вместо брюк на нем было старое галифе с застиранным красным кантом. Его майка казалась родной сестрой абажура из Глебкиной комнаты, настолько она была полинялой и потрепанной. Сосед был чрезвычайно худой и смуглый. Он удивительно походил на Кощея Бессмертного, но только на доброго Кощея. Увидев Глебушку, он просиял и сказал скрипучим голосом:
– Здравствуйте, маленький ленинградский шалун!
У Глебушки что-то внутри затрепыхалось от восторга. Его прежде никто никогда не называл на «вы». Незнакомый взрослый человек заговорил с ним на равных, проявив неподдельный интерес к его маленькой персоне. Это было совершенно непривычно. И ещё! От соседа пахло тем удивительным тёплым запахом, которым пахло когда-то от папки. Только через много лет Глеб узнал, что этот удивительный запах называется неприятным словом «перегар». Тогда же, в детстве, он показался ему надежным признаком доверия к человеку. Обладатель такого запаха, казалось Глебушке, не мог быть недобрым и опасным.
– Дядя Сеня, отставной козы барабанщик, – представился сосед и попытался щелкнуть несуществующими каблуками своих шлепанцев. Глебушка вытаращил на него глаза и стал хохотать откровенным безбоязненным заливистым смехом, каким не смеялся никогда в своей жизни.
Дядя Сеня был удивительным! У него были длинные – предлинные худые и жилистые ручищи, удивительно маленькая лысоватая голова, на которой трепыхалась непонятно откуда взявшаяся прядка волос неопределенного цвета. Множество крупных морщин на его лице напоминали поверхность слегка подгоревшего пирога. Казалось, дядя Сеня был собран из множества неправильностей, делавших его облик неповторимым и необычайно привлекательным.
Глебушка и дядя Сеня стали видеться часто и почему-то всегда по утрам. И всегда дядя Сеня называл его маленьким ленинградским шалуном и обращался исключительно на «вы». Они подружились. Время шло быстро. Осень сменилась необычайно холодной зимой. Глеб незаметно для самого себя приспособился к новой жизни. Он уже не вздрагивал при виде трамвая, не уставал от наваливавшихся со всех сторон новых и новых впечатлений – он научился по-своему осмыслять их. Он перестал звать мамку мамкой, а по местным правилам говорил ей: «Мама». И вообще, он оказался большим приспособленцем. Он перенимал всё новое, что роилось вокруг него, и делал это довольно легко. После долгого молчания он вдруг сразу чисто и правильно заговорил по-русски. Если мама продолжала «гыкать» и «гакать», выдавая свое украинское происхождение, то Глеб словно стёр свое прошлое стирательной резинкой. Он даже откуда-то знал, что ленинградскую стирательную резинку в Москве называют ластиком. Но он жил в Ленинграде и говорил по-ленинградски: «Пышка, парадная, карточка», а не на московский манер: «Пончик, подъезд, проездной». Удивительно быстро он не только обрусел, но и обленинградился.
Как-то в воскресенье, когда Глеб и его мама переносили свои вещи из «темной комнаты» в освободившуюся «арестантскую», дядя Сеня вызвался им помочь. Вещи перенесли быстро, благо и переносить-то особо было нечего. После того, как мама получила от колхоза «законную премию» за проданные яблоки, у них появились в хозяйстве два новых пальто, немного посуды и – главное – потрясающий, сшитый из голубого бархата, огромный кот в сапогах с настоящей мантией и такой же бархатной шляпой с пером.
После переезда мама затеяла чаепитие, на которое в качестве почетного гостя был приглашен дядя Сеня. От приглашения он почему-то смутился, поспешно ушел в свою комнату, но скоро вернулся, надев поверх майки такую же вылинявшую рубаху с катушками на воротнике. В руках у него был цветочный горшок с кактусом, который в это время цвел пронзительно пурпурным цветом.
– Вот, говорят, раз в сто лет цветет, – смущаясь, сказал дядя Сеня и протянул маме цветок.
– Это вам, Мария Гавриловна, для уюта, – сказал он, и его морщины на лице почему-то стали еще глубже.
Они втроем долго пили чай с баранками и вели беседы. Дядя Сеня рассказал, что работает грузчиком в мебельном магазине на Садовой улице, возле Сенной. Грузчиком он стал только после войны, а на войне он был фронтовым врачом-хирургом.
– Я был приличным хирургом, – сделал ударение на слово «приличным» дядя Сеня. Но как-то в наш полевой госпиталь привезли генерала. Привезли не с ранением, а с приступом аппендицита. Я в тот момент был занят – делал сложную операцию солдатику – ему осколки угодили в желудок и в легкие. Солдатика спас, но пока шла операция, генерал умер от перитонита. Меня отдали под трибунал. Сначала хотели расстрелять, но потом почему-то передумали и направили в штрафбат. Победу встретил под Прагой. Была уже Победа, а наш батальон всё ещё воевал – немец продолжал драться, несмотря на капитуляцию. 14 мая 45-го меня подстрелили и война, наконец, закончилась и для меня.
Диплома военного врача меня лишили. Поначалу на работу вообще никуда не брали. Спиваюсь помаленьку, но ничего.
Дядя Сеня застенчиво посмотрел на маму и вдруг сказал:
– Если доверите, я вашему шалуну попробую помочь с Божьей помощью.
– Вы верите в Бога? – удивилась мама.
– Чтобы быть с Господом, не обязательно верить в Него, – загадочно улыбнулся дядя Сеня.
– В каком смысле?! – растерялась мама.
– В любом, – ответил дядя Сеня и засобирался в свою комнату.
6.
Дядя Сеня с тех пор заходил к ним в комнату почти каждый день. Он стал опрятней. Свою замызганную майку сменил на новую, белую. Куда-то подевался и его перегар. Каждый свой приход он начинал с осмотра Глеба. Потом делал ему долгий общий массаж, особенно много внимания уделяя позвоночнику и ногам.
– Детский церебральный паралич, – говорил он маме, – не такая уж безнадёжная болячка. Тут система лечения нужна и воля пациента. В Америке есть такой доктор Кабат. Вроде, женщина, хотя я точно не уверен. Фронтовой друг, тоже хирург, был недавно в США. Книжку этого доктора привез. Еще в 46-м году доктор Кабат разработал систему включения работы мышц, которые прежде бездействовали. Дело, в общем, нехитрое. Массажи, растягивание мышц – движение, одним словом. В книжке говорится, что за 3-5 месяцев можно научить ребёнка ходить. Проверим её буржуазную теорию нашей советской практикой.
Мама внимательно следила за работой дяди Сени. Когда он не приходил, бралась за массаж и растяжки сама. Глеб и сам очень старался превозмочь себя. Стиснув от боли зубы, он пытался научить свои мышцы слушать его разум. Однажды это получилось: мышцы ног шевельнулись по его команде. Пришёл азарт, и Вера появилась. Вера в излечение.
Успех застал всех, включая Глеба, врасплох. Была среда, 12 апреля 1961 года. По недавно установившейся традиции мама в среду вечером топила дровами титан в ванной комнате, чтобы помыться и помыть Глеба. В среду по строго установленному квартирному графику мылись сначала они, после них Рафальсоны. Глеб в это время, как всегда сидел в своей коляске и слушал радио. Вдруг трансляция передачи прекратилась, и голос диктора Левитана сообщил, что сейчас будет передано важное правительственное сообщение. Через несколько секунд Левитан счастливым металлическим голосом объявил, что впервые в космос полетел человек – советский космонавт Юрий Гагарин! Глеб сам не понял, как все произошло: он встал из коляски, открыл дверь в коридор и сделал несколько шагов в сторону ванной:
– Мама, мамочка! Иди сюда! Человек в космос полетел!
Мама вышла из ванной на крики сына, увидела Глеба стоящим посреди коридора и бросилась к нему.
– Что случилось, сыночек?! Что случилось?! – потрясённо повторяла она. – Тебе не больно, сыночек?!
– Не больно! Совсем ничуточки не больно, – почему-то кричал Глеб. – Мне ничуточки не больно!
Он почувствовал неимоверную тяжесть в ногах, упал в изнеможении на пол и зарыдал от избытка охвативших его чувств.
7.
Наступило лето. Детей из садика перевезли на дачу в Сиверскую. Глеб настолько окреп, что коляску оставили дома. Мама поехала с садиком. Она теперь совмещала работу нянечки и массажистки: дядя Сеня через своего фронтового друга помог ей окончить какие-то вечерние краткосрочные курсы массажисток. Маме выдали настоящий синенький диплом об окончании курсов, которым она очень гордилась.
Правда, в Сиверской с Глебом чуть было не случилась беда. Перед обедом дети резвились на берегу пруда. Глеб вместе со всеми играл в пятнашки. Получалось у него не очень – ноги еще были слабоваты. В какой-то момент они его подвели, и Глеб плюхнулся в пруд лицом вниз. Всё могло окончиться трагически, но подоспела воспитательница. Та самая, которая осенью стучала ему по лбу надувным шариком. Она подхватила Глеба под мышки так быстро, что он даже не успел наглотаться воды. Но Глеб все равно умудрился после этого заболеть: то ли от холодной воды, то ли от стресса. Поднялась температура и два дня Глеб пролежал в изоляторе в забытьи. Мама не отходила от него, выхаживала с помощью молока и ласковых слов. И то, и другое помогло: Глеб быстро стал выздоравливать. К осени он окреп настолько, что уже почти не выделялся своим нездоровьем среди остальных детей. Одна красивая девочка из их садика, Ира Жиляева, даже влюбилась в него. Но Глеб взаимностью не ответил, потому что Ира Жиляева была, по его мнению, дурой.
Последний детсадовский год в жизни Глеба пролетел со скоростью гагаринского космического корабля. По мере взросления Глеб нащупывал в себе свои таланты. Его любовь к рыбьему жиру уже никого не восхищала, да и сам Глеб понял, что пить рыбий жир – это не талант, а обжорство. Вот у соседа Феликса Рафальсона был талант. Он занимался фехтованием, был рапиристом. Все время ездил на соревнования и занимал первые места. При этом Феликс по-прежнему оставался угрюмым и молчаливым. Но к Глебу относился хорошо: давал подержать в руках свою тяжёлую рапиру, а однажды даже рассказал, что у него в спортивной секции есть собственная девушка. Зачем нужны собственные девушки, Глеб не знал, но спросить об этом у Феликса постеснялся: слишком взрослым был Феликс и немногословным.
Но свои личные таланты Глеб в себе искал и находил. Он был похож на настройщика пианино, который, затягивая или приспуская струну, придавал ей необходимый точный звук. Например, он обнаружил в себе неожиданные математические способности. Он считал всё, что видел: людей, деревья в парках, автомобили на улице. Когда вместе с мамой ходил в магазин, быстро и точно подсчитывал в уме сделанные затраты. Каким-то образом освоил дроби.
Иногда к ним в гости захаживал Земляк, ставший к тому времени еще большим начальником – стал руководить всей солидной сетью «Ленплодовощ». Видя математические способности Глеба, он безапелляционно заявил: в торговлю тебе надо – огромных высот можешь достичь. Если не посадят, конечно.
Глеб не хотел, чтоб его посадили. Да и в торговлю не хотел. Мечта стать полковником по-прежнему не покидала его.
Мама гордилась математическими способностями сына. Она считала, что Глеб пошел в своего отца – колхозного счетовода, математика и интеллихента.
Желая развивать сына в гармонии с окружающим миром, мама водила Глеба раз в месяц в филармонию. Поначалу филармония произвела на Глеба огромное впечатление необычностью своего предназначения и внешними атрибутами. Особо восхитил орган с его многочисленными трубами. Но сами концерты, в том числе и органные вечера, на которые детей почему-то пускали, не понравились. Мама делала вид, что понимает музыку, хотя томилась не меньше Глеба. Глеб же, сидя на балконе, развлекался по-своему. Сначала он считал всех лысых дядей в зале. Потом – количество труб в органе. После этого наступало самое интересное: количество лысых он делил на количество труб в органе, а потом наоборот – трубы на лысых. В результате сложения дробей наступал главный результат: концерт заканчивался.
С каждым приходом в филармонию результаты подсчетов были разными, поскольку количество труб в органе было величиной постоянной, а количество лысых в зале менялось.
Наступил счастливый момент: мама продала инвалидную коляску и на вырученные деньги купила Глебу настоящий двухколёсный велосипед, который сыном был освоен через два дня, четыре синяка и восемь ссадин, полученных в результате падения. Арифметическая прогрессия – сам себе объяснил ситуацию Глеб.
Другим талантом, который обнаружил в себе Глеб, было умение сочинять стихи. Он сочинял их постоянно, подражая то Пушкину, то Шекспиру, то непонятно кому – вероятно, самому себе. Его шедевром стали строки, над которыми смеялись даже хмурные Рафальсоны:
Солнышко светит,
Дяденька поёт.
Это дядя Петя –
Он круглый идиот.
Правда, Рафальсоны смеялись не столько по поводу талантливого произведения Глеба, сколько потому что у тёти Сони был старший брат – Пётр Моисеевич, который преподавал в консерватории вокал. Правда, этот факт семейной истории Рафальсонов в их коммунальной квартире известен не был.
Мария Гавриловна и Глеб связь с родной Мартоношей не теряли. Иногда мама Глеба звонила по междугородной связи в мартоношский сельсовет, но дозваниваться удавалось не всегда: связь была ненадежная. Да и дорогое это было удовольствие – звонить по межгороду.
Мама часто писала в село своим подругам и Мыколе Григоричу. Сначала писала по-украински, потом начала сбиваться на русские слова. В селе немного этому удивлялись, но относились с пониманием: Маня становилась городской дамой.
Из Мартоноши к ним в квартиру на Фонтанке примерно раз в два месяца приходила посылка от Мыколы Григорича. Содержимое всегда было примерно одинаковым, но с вариациями. Когда мама вскрывала посылку, сверху лежало письмо, написанное фиолетовыми чернилами каллиграфическим почерком головы сельсовета. Письмо покоилось на слое сухофруктов, главным компонентом которых Глеб считал грушу. Она была сладкой и сочной, превосходя по вкусу все другие – яблоки, сливы, абрикосы и вишню. Под сухофруктами лежал, обычно, солидный шмат сала, завернутый в районную газету «Червона зирка», а иногда – колечко домашней колбасы, от чесночного запаха которой теплело на душе. Этот запах был Глебом любим не меньше, чем запах папкиного перегара. Под салом или колбасой обязательно был слой грецких орехов. Замыкал этот своеобразный хит-парад слой репчатого лука вперемешку с чесноком.
Мама отвечала своим «дипломатическим посланием» – посылкой, в которой лежало пачек двадцать любимых Мыколой Григоричем папирос «Звёздочка», на пачке которых был изображен военный мотоциклист на мотоцикле с коляской. Его жене мама отправляла цветастые платки и магазинные рушники, которые, по мнению Глеба, были куда хуже домотканых, расшитых затейливой вышивкой. Глеб очень хотел в школу. Он мечтал о ней, как мечтают о чём-то заветном. Мама купила ему на вырост мышиного цвета школьный костюм с фуражкой. Это была почти военная форма!
Никогда еще Глеб так не тяготился летними месяцами, как в тот год. Он мечтал о дне Первого сентября, который все никак не наступал.
И вот, наконец, о счастье: занятия в школе начались. Не то, чтоб они очень разочаровали Глеба, но он ожидал от них большего. Учиться было несложно, даже легко. Особое удовольствие доставляли уроки по арифметике. Во время устного счёта он удивлял учительницу Лидию Яковлевну молниеносностью своих подсчётов. По сравнению с лысыми дядьками и трубами органа в филармонии ее задачки были пустяковыми.
Главными событиями начала учёбы были два. Во-первых, в результате прямых столкновений со сверстниками стало ясно, что худощавый очкарик Глеб – самый сильный мальчишка в классе. Это гораздо важнее, чем быть отличником, которым Глеб тоже оказался без особого труда. Глеб дрался и боролся со всеми здоровяками из их 1-го «а», пока не выяснилось, что равных ему нет. Приходили второклассники, пытались «качать права». Но им тоже от Глеба досталось здорово. Умение драться оказалось третьим талантом Глеба. При этом он не был задирой: девчонок и слабых мальчишек не трогал. Не к лицу это будущему полковнику.
Ощущая свою силу, Глеб даже начал ходить в гимнастическую секцию спортшколы, но там у него не заладилось: кувыркался вкривь и вкось, за что мальчишки прозвали его Сикось-Накось. Глеб злился. Одному дразнившему его мальчишке разбил губы в кровь, за что мгновенно вылетел из секции, как партиец Вэлыкохатько из своего райкома.
Мама впервые в жизни дала Глебу подзатыльник, а потом отвела его в секцию стрельбы. Очкарик в секции стрельбы лупил из пневматической винтовки мимо мишени, чем забавлял сверстников. За это они были Глебом биты. Привычка – великое дело: вылет из секции стрельбы за хулиганство мама восприняла почти спокойно.
Глеб не был общительным человеком. Он часто думал о чем-нибудь своем, совершенно неожиданном. Из окна его класса на противоположной стороне Крюкова канала было видно двухэтажный дом с балконом. На доме висела мемориальная доска с барельефом генералиссимуса Суворова. Лидия Яковлевна рассказывала детям, что в этом доме на втором этаже великий полководец провел свои последние дни. Когда он умер, гроб с его телом не проходил в дверь: пришлось спускать с балкона на веревках. Глебу было жалко Суворова. Жалко, что он умер, что с гробом так по-дурацки получилось. Глеб смотрел на этот балкон, и ему хотелось заплакать от жалости к Суворову, от жалости к самому себе, потому что и он когда-нибудь тоже умрет. Умрет, как Суворов, как папка.
Глеб начинал мечтать, что, когда вырастет, он станет хорошим-хорошим врачом, таким как дядя Сеня. Может быть, даже лучше! Нет, лучше получиться не могло, потому что дядя Сеня – волшебник. Мама так говорила, и Земляк с ее мнением соглашался. А Земляк точно знает, у него машина – вон какая здоровенная! Но тогда Глеб постарается и тоже станет волшебником. Он придумает лекарство, приняв которое, люди никогда не будут умирать. И тогда не нужны будут гробы. И люди сохранятся, и деревья.
Глеб так увлекался своими мыслями, что совсем забывал, что идет урок. Лидия Яковлевна строго смотрела на него и спрашивала:
– Брэворош, ты опять витаешь в облаках?!
Она была почти права. А может быть, и не почти. Глеб часто мысленно парил где-то высоко-высоко. Однажды во время такого полета он увидел свой класс и совершенно неожиданно – Олю Зуеву, самую красивую девочку в классе. И даже, пожалуй, на всем белом свете. Глеб понял, что влюбился на всю свою жизнь. Эта мысль радовала и печалила его одновременно. Он не знал, что делать со своей любовью. Оля была краше даже соседки тети Жени. А тетя Женя, как рассказывала мама, была вдовой Героя Советского Союза. Значит, чтобы заслужить любовь Оли, тоже нужно быть героем. Иначе такая девочка просто не должна была бы обратить на него внимание. Глеб решил совершить подвиг, чтобы стать достойным своей избранницы.
Чтоб совершить подвиг в мирное время, проще всего было полететь в космос, как Гагарин. Но для этого нужно было поступить в отряд космонавтов. Немного поразмыслив, Глеб написал письмо Хрущеву: «Товарищ Хрущев! Прикажите принять меня в отряд космонавтов. Я отличник и я смелый. Вас уважал мой папка и наш голова сельсовета Мыкола Григорич. И я вас уважаю.
Ученик 1-го «а» 240 школы города Ленинграда Глеб Василич Брэворош».
Глеб перечитал письмо. Текст ему понравился. Убедительно получилось. Сэкономив на покупке пирожка с повидлом, он приобрел на почте конверт, положил в него письмо и, немного поразмыслив, написал на конверте: «Москва Кремль Товарищу Хрущёву».
Глеб опустил письмо в почтовый ящик, висевший на стене его дома, и стал ждать ответа.
Ответа не поступало. Да и героем Глебу становиться уже не хотелось, потому что Оля Зуева, судя по всему, влюбилась в Алика Кораблёва, у которого отец был моряком и плавал на торговом судне по всему миру. Однажды Алик после возвращения отца из плавания принес в класс невиданное чудо: набор шариковых ручек с красной, зеленой и синей пастой. Он передал их от своего папы Лидии Яковлевне, и та засияла от счастья. Еще одну шариковую ручку он подарил Оле Зуевой, и Зуева, судя по всему, в обмен подарила Алику сердце.
Своё горе Глеб переживал мужественно. Он стал учиться еще лучше, чтобы досадить троечнику Кораблёву. Но самое главное, он стал ещё больше драться. Один раз даже побил четвероклассника, став после такого события школьной знаменитостью. На него приходили посмотреть даже восьмиклассники, среди которых был и его сосед по квартире Геня Рафальсон. Правда, Геня отреагировал на подвиги Глеба неожиданно. Он приобнял Глеба и негромко сказал:
– Будешь петушиться, я тебе наподдаю по-соседски.
Глеб решил, что Геня ему просто завидует. Бремя славы порой тяжеловато. Особенно для первоклассника. Но драться на время прекратил. Тем более что Оля Зуева на него по-прежнему не обращала внимания. Она перестала дружить с Аликом Кораблёвым и переключилась на красивого Сашу Тимофеева. Глеб вынужден был признать, что состязаться в красоте с Сашей не мог. Тем более что из Кремля вестей ему по-прежнему не поступало.
8.
В октябре 1962 года, в год поступления Глеба в первый класс, разразился Карибский кризис. Разразился, разумеется, не из-за его поступления в школу, а по причине «рассобачивания» Хрущева с Джоном Кеннеди, американским президентом. Так, по крайней мере, объяснял причину конфликта немногословный Феликс Рафальсон, бывший для Глеба самым авторитетным политинформатором. Что-то у них произошло, у этих Никиты с Джоном, вроде бы, из-за Кубы, которую в Советском Союзе любили почти все. Глеб не особо в этом разбирался, да и не стремился. У человека в семь лет есть дела поважнее. Но Карибский кризис неожиданно отразился и на нём лично.
Как-то к ним в комнату зашёл немного растерянный и смущённый дядя Сеня.
– Не поверите, Мария Гавриловна, сказал он маме. – Сегодня меня вызвали в военкомат. Я восстановлен в воинском звании – опять майор медицинской службы. Сказали спешно собираться в командировку. А куда – не сказали. Да и так понятно, газеты читаем.
– На Кубу, или аж в Америку?! – мама испуганно прижала к губам ладонь.
– Кто ж его разберёт? Куда прикажут, туда и отправлюсь. Дело военное. Это не буфеты с трельяжами по лестницам тягать, – счастливо вздохнул дядя Сеня. – Я тут, вот что, – он смущенно улыбнулся. – После того, как вас с Глебушкой повстречал, пить перестал. Почти. Вроде как смысл в жизни появился: шалуна на ноги в прямом смысле поставить и всё такое. У меня кроме него, вас, никого нет, сами знаете. Так что я принял решение. Завтра же пропишу Глебушку в своей комнате, а сам выпишусь, чтоб всё было честь по чести. Живите в ней, чего добру пропадать? А вернусь, там видно будет.
– Как вам не стыдно, Семён Игнатьевич! – возмутилась мама. – Это ваша комната, мы-то к ней – с какого боку? Соседи что подумают?
– Подумают, что я к вам сватаюсь, – расплылся в улыбке Кощея дядя Сеня. – Я бы и вправду посватался, будь я моложе, да приличней наружностью. Очень уж шалун Ваш хороший малый. Про вас и не говорю – шедевр природы.
Лицо шедевра природы залилось густой краской, а Глеба охватила огромная гордость. Получалось, что он был частью этого шедевра.
Через несколько дней дядя Сеня был неузнаваем. Чудесным образом из ссутулившегося старика он, благодаря настоящему военному мундиру, превратился в красавца.
Уезжая, дядя Сеня отдал маме ключ от комнаты.
– Владейте и не поминайте лихом, – улыбнулся он своей обезоруживающей улыбкой и четким военным шагом направился к выходу.
Так благодаря Карибскому кризису у Глеба появилась собственная комната. Политика – штука абстрактная, но её последствия – всегда конкретны.
Через полгода, в апреле 1963-го, в Советский Союз прилетел Фидель Кастро. О чём они договаривались с Хрущёвым в деталях, разумеется, не знал никто. Но вскоре в продуктовых магазинах появился в избытке кубинский ром, кубинские сигары и кубинский сахарный песок необычайно крупного помола. Некоторые его кристаллы можно было зажимать между пальцами и смотреть на солнце. Возможно, так поступали и кубинские дети, ведь солнца в отличие от Ленинграда на Кубе было навалом. Правда, поубавилось в магазинах пшеничной муки. Её какое-то время стали продавать по талонам.
Специально к прилёту Фиделя в СССР замечательным композитором Александрой Пахмутовой, как всегда в содружестве с поэтами Гребенниковым и Добронравовым, была написана песня «Куба – любовь моя!», ставшая мгновенно необычайно популярной. Ее пели даже пьяницы на улицах, не говоря уже о певцах на радио. Пели ее под гитару и хулиганы в подъезде, где проживал Глеб. Соседи их гоняли, но не за песню, а так, вообще, чтоб не нарушали. Дослушают, бывало, песню до конца, а потом выходят из квартир со шваброй и начинают права качать.
Вскоре, в 1964 году, правда, появились «народные» слова этой песни, которым упомянутые Гребенников и Добронравов вряд ли обрадовались бы, если б услыхали. Мальчишки во дворе с упоением орали:
Куба, отдай наш хлеб!
Куба возьми свой сахар!
Куба, Хрущёва нет!
Куба, пошла ты на хер!
Глебу такой вариант песни был не по душе. С голоду никто в Ленинграде не умирал, хлеба хватало. Главное, была городская булка за семь копеек с потрясающей оттопыренной корочкой, которую старушки по привычке называли «французской».
9.
Во втором классе среди мальчишек развернулась мощная борьба за лидерство, которой в первом классе по малолетству ещё не было. Больше всего ценились физическая сила и смелость. Учёба тоже, конечно, бралась в расчёт, но по ценности мальчишеских качеств была на третьем месте.
Со временем стало ясно, что самыми сильными во 2 «а» являются Глеб Брэворош и приехавший в Ленинград недавно с родителями из Белоруссии Лёня Меркулович. Лёня, возможно, был даже и посильней, но с Глебом он как-то сразу сошёлся по-приятельски и выяснять, кто из них самый сильный, повода не было. Между ними появилось молчаливое соглашение: оба – самые сильные в классе. Странно, но такое «двоевластие» их обоих устраивало. Причина согласия состояла, скорее всего, в их внутренней не агрессивности. Сдачи кому-нибудь дать – всегда пожалуйста, а первыми задираться было не в их характерах.
Но где-то поверх их активно формировавшихся мозгов жила потребность самовыражения, потребность безусловного лидерства. Фронт борьбы развернулся на совершенно неожиданном пространстве – на ниве сочинительства стихов.
Как и все второклассники, ребята мечтали о том, что через год их примут в пионеры. Они, например, с радостью учили пионерские речёвки, среди которых особой популярностью пользовалась речёвка, связанная с именами первых советских космонавтов:
«Будь готов! Всегда готов!
Как Гагарин и Титов!».
Речёвка казалась второклассникам верхом совершенства, но умный Лёня Меркулович добавил к ней неожиданные строчки:
«Николаев и Попович
И как Лёня Меркулович!».
Это, конечно, было гениально. Космонавты, осуществившие групповой полёт на двух кораблях «Восток-3» и «Восток-4» Николаев и Попович, были героями, мало отличавшимися от Гагарина и Титова. Их имена знал каждый советский ребёнок. Но вот чтобы срифмовать свою фамилию с фамилией героя! До этого надо было додуматься. Лёня сумел. От такого интеллектуального удара, казалось, оправиться было невозможно. Лёня победно глядел на одноклассников, часто повторял эту речёвку, бесстыдно занимаясь, как сказали бы теперь, самопиаром. Класс готов был признать Меркуловича бесспорным лидером, но вдруг случилось неожиданное: к 12 апреля 1964 года, то есть к третьей годовщине полёта Юрия Гагарина в космос, Лидия Яковлевна задала домашнее задание написать о подвиге Юрия Алексеевича сочинение. Подумав, она добавила:
– Возможно, кто-нибудь захочет и стихи написать.
На следующий день на уроке родной речи каждый второклассник читал вслух перед классом своё незатейливое произведение. Сочинения были явным подражанием заметкам из газеты «Ленинские искры», которую выписывали на почте своим чадам родители почти каждого октябрёнка. Когда очередь дошла до Глеба, он встал, привычным жестом поправил очки и, волнуясь, прочитал стихи собственного сочинения:
Он хороший парень –
Космонавт Гагарин.
К звёздам путь он нам открыл
И ракету возвратил.
Космонавта обнимали,
За здоровье выпивали
И на Иле-18 отвезли в Москву.
Это был фурор! Весь класс во главе с Лидией Яковлевной восторженно молчал. Потом Лидия Яковлевна, проглотив подступивший к горлу ком, взволнованно сказала:
– Молодец, Глеб! Садись, пять с плюсом.
Никто никогда такой оценки в классе не получал. Слава великого Пушкина в глазах 2 «а» явно потускнела. Лёня Меркулович потерпел сокрушительное творческое поражение, но к его чести надо сказать, что он поступил благородно. После урока он подошёл к Глебу, по-взрослому пожал ему руку и в присутствии одноклассников сказал:
– Ты – молоток!
– Вырастишь, кувалдой будешь, – радостно добавил второгодник Саша Маковкин.
О гениальных стихах Глеба Брэвороша вскоре узнала вся школа, потому что его произведение появилось в школьной стенгазете, приуроченной ко Дню космонавтики. Нахлынувшее на Глеба счастье было омрачено редакторской правкой, не согласованной с автором. Слова «за здоровье выпивали», которыми Глеб очень дорожил, как проявлением социалистического реализма, суровой редакторской рукой были заменены на безликое и вылезавшее за рамки стихотворного размера «к аэродрому провожали». Это, конечно же, снижало градус авторского восприятия события.
10.
Время летело быстро. Глеб и не заметил, как перешел в третий класс. Оля Зуева хотя и продолжала по-прежнему его волновать, уже не так бередила душевные раны. Место любви к девчонке заняла прочная мужская дружба с одноклассниками Колей Казаковым и Вовой Сивковым. Дружили они не втроем, а как-то по отдельности. С Колей они гуляли во дворе, потому что жили в одном доме. Коля был конопатым весельчаком, парнем открытым и добрым. С Вовой Глеб больше общался в школе и во дворе автобазы на Крюковом канале, где Вовкина мама работала машинисткой. Коля учился хорошо, почти, как Глеб. Вова был тощим, чуть ли не прозрачным мальчиком с синими жилками на впалых висках. Он был похож на симпатичного мышонка. Он был таким робким, что его непременно хотелось защищать, что Глеб частенько и делал. Правда, один раз Глеб впервые в жизни почувствовал, что не может защитить друга. К Вовке прицепился четвероклассник здоровяк Зубов. Глеб смело наскочил на него, но в ответ получил сполна. Несколько раз он набрасывался на Зубова, но тот с легкостью отбрасывал его в сторону. Глеб решил использовать свой коронный прием – ударил Зубова в нос, но противник устоял и двинул Глеба так, что тот упал и на какое-то время потерял сознание.
Когда он пришел в себя, то увидел, что над ним склонился Зубов:
– Чудак-человек, – с недобрым смешком сказал Зубов. – Я ведь тебя и пришибить могу, понял?
Глеб посмотрел на него, близоруко щурясь, потому что во время драки его очки куда-то подевались. Он обхватил голову Зубова руками и впился зубами в нос противнику. Зубов с ужасом вскочил, заляпанный кровью, и, не оглядываясь, помчался прочь.
– Спасибо, – тихо сказал Вова, подавая Глебу разбитые очки.
Вечером мама кричала на Глеба и называла его малохольным. Два дня Глеб просидел дома, потому что без очков ходить ему было крайне трудно, не говоря уже о том, что он без них не видел того, что учительница писала на доске.
В тот же вечер в их квартире зазвонил телефон, который стоял в прихожей. Звонила классная руководительница. Лидия Яковлевна и мама о чем-то долго говорили. Вернее, говорила учительница, а мама молча кивала, будто та могла ее видеть, и время от времени говорила:
– Нет, я его точно выдеру!
После того телефонного разговора она вернулась в комнату, обняла Глеба и беззвучно заплакала, причитая:
– Безотцовщина, что с тебя, дурня, взять?
Драка с Зубовым имела для Глеба неожиданные последствия, которые своей непредсказуемостью потрясли, как весь класс, так и Лидию Яковлевну. Приближался апрель – традиционный месяц приема в пионеры. Вопрос о приеме решался на классном собрании, которое формально вел староста класса Саша Тимофеев, но которым на самом деле ненавязчиво управляла Лидия Яковлевна.
Кандидатов для приема в пионеры обсуждали поименно. Рекомендовали практически каждого, кроме второгодника и двоечника Саши Маковкина. Когда очередь дошла до Глеба, Лидия Яковлевна вдруг предложила его в пионеры не принимать, потому что он забияка и драчун. В классе, словно стратостат над блокированным Ленинградом, нависла черная тишина. Вдруг из-за парты встал Вова Сивков и тихо, но внятно сказал:
– Тогда и меня не принимайте в пионеры.
– И меня! – встал возле своей парты Коля Казаков.
– И меня, – сказал вдруг староста Саша Тимофеев.
– И меня, пожалуйста, не принимайте, – сказал, не вставая, грузный и всегда деликатный Марик Кукуевицкий.
– Я тоже не хочу без Брэвороша, потому что так нечестно, – сказала вдруг Оля Зуева и заревела, уткнувшись лицом в нарукавник своего школьного платья. Класс загудел. Опытная классная руководительница, как гроссмейстер, мгновенно просчитала ситуацию на много ходов вперед, понимая, что дело попахивает политическим скандалом местного масштаба. Где-то впереди замаячил разговор с директором школы, а может быть даже выволочка на педсовете с последующим увольнением. Ситуацию, точнее себя, нужно было спасать. Набрав в легкие побольше воздуха, Лидия Яковлевна окинула класс взглядом педагогов Ушинского и Макаренко, вместе взятых, и торжественным грудным контральто сказала:
– Дети! Вы настоящие молодцы! Я убедилась в том, что вы никогда не оставите друга в беде! Вы – достойные продолжатели дела Лёни Голикова, Вали Котика, Зины Портновой, Марата Казея, Юты Бондаровской, Васи Коробко и других пионеров-героев. Конечно, Глеб Брэворош тоже станет пионером. И первым пионерским поручением ему будет – никогда не драться и слушаться старших. Кто за это предложение – прошу голосовать!
Класс проголосовал единогласно. Выше всех руку тянул двоечник и второгодник Саша Маковкин.
Политический кризис прошел стороной.
11.
Как-то так получилось, что Глеб всегда был в классе в центре внимания. Потом, через несколько лет, психологи и социологи таких людей стали называть неформальными лидерами. То есть, был он лидером реальным, а не назначенным типа командира октябрятской звёздочки, или старосты класса.
Сейчас уже мало кто помнит, что такое октябрятская звёздочка. Не та, которая с кудрявым Володей Ульяновым в виде значка, а звёздочка в смысле низовой идеологической структуры. В каждом классе, с первого по третий включительно, по всему Советскому Союзу «от Москвы до самых до окраин» были эти самые «звёздочки», как структуры, лежавшие в основе идеологического воспитания советских детей. Не было ни одного советского школьника, который бы не прошел через этот «фильтр первичной идеологической очистки». В октябрята принимали всех без исключения младшеклассников. Даже самые непримиримые в будущем диссиденты в школьное свое мелколетье непременно были октябрятами, а, значит, и членами октябрятской звёздочки. Возможно, даже её командиром. Каждый школьник с первого по третий класс обязательно носил на груди у сердца значок-звездочку с ликом будущего Ленина. Лик был в точности таким, каким на иконах в былые времена изображали ангелов: пухленькие щёчки, кудрявенькие светлые волосики. Ленин – это бывший ангелочек, понятно вам, непонятливые вы мои?
Значки-звёздочки были двух модификаций. «Ширпотреб» – обычные алюминиевые значочки: жёлтенький профиль в кудряшках на белом фоне-кружочке, а сам кружочек – в центре пятиконечной красной звезды. Ничего лишнего. Гениальный образец фалеристики! Но настоящим шиком были октябрятские звёздочки, сделанные из тёмно-красной пластмассы, очень похожие на рубиновые звёзды Московского Кремля. Внутри таких значков Вова Ульянов располагался в виде кругленькой фотографии. Пластмассовый значок был тоньше, изящней алюминиевого, но его было не достать. Маленький идеологический дефицит был мечтой каждого октябрёнка.
Глеб не был командиром звёздочки. Звёздочкой, в которую он входил, руководил Коля Казаков. В нее входили кроме Глеба по какому-то совпадению самые интересные для него ребята: Вова Сивков, Саша Тимофеев и даже Оля Зуева. Были в звёздочке и другие дети, включая жизнерадостного раздолбая Сашу Маковкина, но ядром была их «пятёрка».
По инициативе Глеба «пятёрка» тайно собиралась на школьном чердаке, чтобы обсуждать подготовку к приему в пионеры. Глеб, как будущий полковник, ставил потенциальным красногалстучникам задачи: кому-то поручал переводить старушек через дорогу, кому-то мусор возле школы убирать. Саше Тимофееву дал поручение взять «на буксир» Сашу Маковкина. Взять на буксир означало помочь в учёбе. Сам он тянул на буксире второго второгодника в классе – тихого Юру Курочкина, жившего в доме напротив его дома. У Юры не было родителей. Он проживал с бабушкой в маленькой комнате в огромной коммунальной квартире. Юркина бабушка была благодарна Глебу за помощь внуку. Благодарность выражалась в том, что она угощала Глеба совершенно изумительными блинами. Ничего вкуснее Глеб в своей жизни не пробовал. Правда, такие угощения были нечастыми: пшеничная мука в Ленинграде выдавалась в то время по карточкам. Глеб это знал точно, потому что сам не один раз ходил вместе с мамой получать её на каком-то складе.
С Юрой Глеб, получается, тоже дружил, хотя Коля Казаков и Вова Сивков были друзьями позадушевней. У Юры был удивительный талант: он рисовал так здорово, что никакие Репины и Шишкины, по мнению Глеба, ему в подмётки не годились! Зверей Юра рисовал так, что казалось, они вот-вот выпрыгнут из тетрадки и начнут мяукать, хрюкать, рычать. В благодарность за помощь с уроками Юра Курочкин нарисовал Глебу его портрет. Изображение на портрете было похоже на Глеба больше, чем он сам был похож на себя. Так, во всяком случае, понимал это Глеб.
Во многом Юра был интересен тем, что часто бывал в квартире знаменитого композитора Соловьёва-Седого. Василий Павлович вместе с женой проживал в отдельной квартире на той же лестничной площадке, что и Юрка Курочкин. Юрина бабушка раз в неделю прибирала квартиру композитора, а внук ей в этом старательно помогал. Правда, чаще во время уборки композитор отсутствовал: ездил на гастроли, или жил у себя на даче в Комарово. Но иногда он во время уборки находился дома и, если был в подпитии, что случалось часто, шутил с Юркой и вел неторопливые беседы с бабушкой.
У композитора в большой комнате стоял огромный белый рояль, который бабушка протирала едва-едва влажной тряпкой особенно тщательно.
Юра знал про Соловьёва-Седого много разных историй, которые, как правило, случались на его глазах. Однажды летом, рассказывал Юра, Василий Павлович пришёл домой пьяный «взюзю». В смысле, «в дрова», то есть, «никакой». Жена не впустила его в квартиру. Композитор помялся, помялся под дверью, а потом вышел на улицу, дал бутылку водки мужикам-электрикам, которые на автомобиле с люлькой меняли на фонарных столбах лампы, и они в этой люльке подняли грузную тушу музыкального гения прямо к окну его квартиры. Василий Павлович гордо вошёл через окно в комнату с роялем, ужасно напугав своим появлением жену.
Характер у Василия Павловича был хороший. Был он человеком доброжелательным, покладистым, конфликтов не любил. Как-то раз сидел он дома и, уйдя глубоко в себя, думал про музыку. Вокруг него бегала жена и зудила, зудила, зудила. В какой-то момент её взбесила невозмутимость мужа. Она, повысив и без того громкий свой голос, крикнула:
– Ты понял, наконец, что я тебе сказала!
Соловьев-Седой вздрогнул, вышел на мгновение из анабиоза и вальяжным своим голосом произнёс:
– Слов не разобрал, но ритм уловил.
Достойный ответ великого композитора!
В пионеры Глеба и его одноклассников принимали в Музее Октябрьской революции, располагавшемся возле метро «Горьковская». Детей выстроили в большом зале в одну линейку, и перед ними взволнованно выступали старые большевики. Все он встречались когда-то с Лениным, и это поражало воображение Глеба. Он из великих людей знал в своей жизни Мыколу Григорича, папку, Земляка и дядю Сеню. Тоже, конечно, немало. Но быть знакомым с Лениным, а теперь вот так запросто общаться с ними, юными ленинцами, это было удивительно!
На торжественный приём в пионеры пришли родители, бабушки. Пришла и мама Глеба. Она была нарядной, как будто собралась в филармонию. Её глаза лучились радостью и гордостью за сына. Ветераны партии, вспомнив всё, что знали про Ленина, стали бодро повязывать детям на шеи красные шёлковые галстуки. Мальчишки и девчонки вытягивали вперёд свои тонкие шеи, став похожими ненадолго на маленьких нарядных жирафов.
– Вот и пришло оно, счастье, – подумал Глеб. – Теперь и на фронт можно пойти, теперь и умереть не страшно!
Но вместо фронта было кино под названием «Живой Ленин», которое юным пионерам приготовили работники музея. А потом Глеб и мама вернулись домой. Они шли через родной двор и люди смотрели на Глеба и улыбались. Едва знакомая взрослая девушка Вера, высунувшись из окна, помахала ему рукой и прокричала:
– Поздравляю, Глебушка!
Глеб счастливо улыбался и чувствовал себя Гагариным, или, как минимум, Титовым.
В квартире им повстречалась красавица тётя Женя. Она театрально всплеснула руками:
– Да ты уже пионер! Взрослый-то какой стал!
Тетя Женя подошла к Глебу и умелыми руками перевязала ему узел на галстуке, который старый большевик завязал ему кое-как. Узел получился на удивление красивым.
Глеб сиял, как дореволюционный самовар в пасхальный день!
12.
Начались обычные пионерские будни. Собственно, они ничем не отличались от прежней жизни, если не считать того, что у них теперь в классе был собственный пионерский отряд. Председателем отряда единогласно избрали Сашу Тимофеева, кандидатуру которого предложила классная руководительница Лидия Яковлевна. Он теперь был и старостой, и пионерским вожаком. Отряду присвоили имя Юты Бондаровской – девочки-пионерки, геройски погибшей в годы Великой Отечественной войны. В классе на стене висел её портрет, а под ним – описание её геройского подвига. Глеб втайне от других и даже от себя, примерял её подвиг на себя. Смог бы он быть таким же героем? Совесть пряталась от Глеба, юлила и не хотела давать честного ответа. Это очень мучало его. Героем быть очень хотелось, но не меньше хотелось жить, не умирая.
Иногда после школы он шёл в Коломну, во дворы, где для детских игр было полное раздолье. Во дворах сохранились многочисленные сараи, в которых жители хранили в основном дрова и квашеную капусту. Бегать по этим сараям было большим удовольствием. Слово «паркур» тогда еще было не в ходу, но удовольствия от перепрыгивания с крыши на крышу было не меньше, чем сейчас.
Обычно Глеб ходил прыгать по крышам сараев с коломенским аборигеном – одноклассником Геной Скобельдиным. Гена, если честно, Глебу не нравился. Был он каким-то скользким, неприятным. Про таких сверстники Глеба говорили: «Говнистый», но Глеб таких слов не любил, а таких людей – тем более. Однако Генка, как никто, знал все коломенские сараи, все проходные дворы. Он был своим в районе Усачёвских бань, и с этим приходилось считаться.
Как-то после школы они сговорились с Геной пойти попрыгать по сараям. Проходя вдоль Фонтанки, они увидели впереди шедшего им навстречу мужчину лет сорока.
– Хочешь, покажу фокус? – спросил вдруг Генка.
– Конечно, – с готовностью кивнул Глеб.
Когда они поравнялись с мужчиной, Генка вдруг крикнул ему:
– Женя, поцелуй стену!
Мужчина неожиданно повиновался: подошёл к стене дома и прильнул к ней губами. Потом он побрёл себе дальше, как ни в чём не бывало.
Глеб застыл в изумлении и ужасе.
– Классно, ага?! – гоготал Генка. – Это больной Женя, псих сумасшедший!
Глеб колотил Генку Скобельдина долго и жестоко. Он даже устал от своего рукоприкладства, но всё продолжал бить ненавистного Генку и бить. Не известно, сколько бы продолжалось то избиение, если бы двое прохожих мужчин и дворник, выскочивший на шум из ближайшей подворотни, не скрутили Глеба. Примчалась «скорая помощь», и Генку повезли в больницу.
Глеба дворник отвёл в ближайшее отделение милиции. Там его допрашивал какой-то милицейский чин, похожий на фашиста. Глеб слушал милиционера, опустив голову, и молчал, на вопросы не отвечал. Не назвал ни своей фамилии, ни адреса. Не потому что боялся нахлобучки от мамы, а просто хотел вести себя смело с таким вот фашистом. Но мама всё равно пришла в отделение. Генка Скобельдин выдал Глеба врачам. Из больницы позвонили в милицию, из милиции в школу, а оттуда – маме на работу.
Дома мама сказала, что запрещает Глебу неделю читать книги и слушать радио. Глеб и без того очень переживал о случившемся. Переживал, но не сожалел.
Глеба исключали из пионеров на совете отряда. Исключала фактически Лидия Яковлевна, дети молчали. О причинах избиения Генки Скобельдина Глеб упорно никому не говорил. Не сказал ни в милиции, ни маме, ни на собрании совета отряда. Выписанный из больницы Генка тоже упорно молчал, что всеми расценивалось как благородство.
На педсовете встал вопрос об исключении Глеба из школы, но за него неожиданно вступилась Лидия Яковлевна, взяв большую часть вины на себя, дескать, допускала педагогические промахи в воспитании ребёнка. Ей объявили строгий выговор и, кажется, лишили премии. После этого Лидия Яковлевна почему-то повеселела и стала относиться к Глебу с теплотой, которой прежде не было.
Пойди, разбери их, этих Ушинских с Макаренками.
13.
Вам когда-нибудь приходилось быть евреем? Глебу впервые пришлось им побывать классе в четвёртом.
Уже зарубцевались душевные раны, которые были связаны с Генкой Скобельдиным. История эта почти забылась. О ней напоминала разве что нижняя Генкина губа, украшенная двумя жирными шрамами. Сам Генка Глеба сторонился, что свидетельствовало о Генкином уме.
В пионерах Глеба по-тихому восстановили. Без торжественности, конечно. Какая уж тут торжественность?
Учился он по-прежнему очень хорошо, особенно по арифметике и физкультуре. Урок «родной речи» тоже любил, хотя иногда у него и проскальзывали изрядно подзабытые «мартоношские» слова. Были это как слова его родного неизвестного языка, так и украинского. Однажды на уроке Лидия Яковлевна попросила назвать слово, обозначающее «гуся женского рода». Вместо вполне очевидной гусыни из глубин памяти Глеба всплыло украинское слово «гуска», над которым смеялся весь класс.
Но такие пассажи случались всё реже. Глеб вполне обрусел, хотя свою малую родину помнил прекрасно, вспоминая её с неизменной теплотой.
Он не ощущал себя русским. Ему вполне хватало того, что он чувствовал себя просто человеком.
Лицом он походил одновременно на маму и на отца, но был, если можно так выразиться, ухудшенной копией двух оригиналов. Природа умудрилась вытянуть из родителей самые неудачные черты, доведя их едва ли не до гротеска. В общем, так себе получился экземпляр.
В конце третьего класса у Глеба волосы вдруг стали темнеть и начали виться, как у барана. Откуда какой-то новый ген в нём выскочил наружу – пойди, разберись! В сочетании с очками Глеб стал очень походить то ли на турка, то ли на араба. Но, поскольку в СССР и тех, и других практически не было, его гораздо легче было отождествлять с евреем. В Союзе с имперских времён прочно прижилось польское обозначение этой древней нации – жиды. Когда Глеба во дворе впервые назвали жидом, он удивился: вроде не жадничал никогда. Но потом понял: слово «жид» говорят, когда хотят обидеть еврея.
Глеб любил евреев, как любил и остальных людей тоже. Подлецов вроде Генки Скобельдина не любил, но ведь подлец – это не национальность. Глеб помнил и чтил Земляка, который был евреем и здорово помогал им с мамой. Глебу были глубоко симпатичны соседи по квартире Рафальсоны, с сыновьями которых он почти дружил и дружил бы по-настоящему наверняка, если бы не огромная разница в возрасте.
Он старательно пытался понять: почему можно не любить человека только за его национальность, и не находил ответа. У него были причины для сомнения: если взрослые, которые умнее детей, не любят евреев, значит, он, Глеб, возможно, чего-то важного не знает. Чего-то такого, что радикально способно изменить его представление о человеколюбии.
На уроках в их классе очень часто Лидия Яковлевна говорила о дружбе народов СССР. Всем классом их водили в кино на фильм «Свинарка и пастух», где красивый горец полюбил красивую русскую девушку, а она его. Такое отношение людей друг к другу было естественным, единственно возможным. Глеб не знал, что всё это называлось интернациональным воспитанием, но принимал его с охотой, как сами собой разумеющиеся отношения между людьми.
Однажды, проходя мимо кабинета завуча, он нечаянно услыхал разговор завуча Надежды Ивановны с его классной руководительницей Лидией Яковлевной. Он никогда бы не стал подслушивать, но в их разговоре несколько раз прозвучала его фамилия.
– Брэворош ни в коем случае не должен вручать цветы почетному гостю, – услышал он громкие отрывистые слова завуча. – Вам что, неевреев мало?! Почему именно какой-то жидёныш должен вручать цветы народному артисту республики, почему?!
– Брэворош прекрасно учится, – оправдывалась классная руководительница, и голос её дрожал от волнения. – Его уже восстановили в пионерах, он больше не хулиганит, не балуется.
– Он – еврей! Что о нас могут подумать представители РОНО? Они, между прочим, тоже будут на встрече.
– Надежда Ивановна, – упиралась Лидия Яковлевна. – Но ведь почётный гость школы – Аркадий Райкин. Он тоже, кажется, еврей…
– Райкин – еврей?! – возмутилась Надежда Ивановна. – Какой он вам еврей?! Он – народный артист! Где вы видели еврея народного артиста?
– Но ведь он – Исаакович, – не унималась классная.
– Даже если это и так, – слегка сдала свои позиции завуч, – то он народный еврей, то есть, народный артист страны! Разницу ощущаете?!
Лидия Яковлевна молчала, видимо, ощущая разницу между народным евреем и самым обыкновенным, стандартным.
Глеб отошёл от двери завуча растерянный и смятённый. На будущий год, в пятом классе, Надежда Ивановна должна была преподавать в их классе ботанику. Глеб об этом знал и заранее побаивался её.
Вечером, делая уроки, он никак не мог сосредоточиться. Мама заметила это и осторожно спросила:
– Что-то случилось, сынок?
Глеб после некоторых раздумий спросил:
– Мам, а кто мы по национальности?
Мама удивилась вопросу и пожала плечами.
– В паспорте у меня записано «молдаванка», – словно размышляя, сказала она. – У папы твоего уже не помню, что было записано. Может, тоже молдаванин, а может и украинец. А разве это важно?
– Оказывается, важно, – вздохнул Глеб и после небольших колебаний рассказал ей о разговоре завуча с классным руководителем.
Мама внимательно слушала сына и почему-то немного грустно улыбалась. Это удивило Глеба.
– Чему ты улыбаешься, мам? – спросил он.
– Ничему, – опять улыбнулась мама. Просто вижу, как быстро ты взрослеешь. Тебя волнуют уже такие взрослые вопросы. Так и не замечу, как ты вырастешь и женишься.
– Вот ещё! – фыркнул Глеб.
Народному артисту Аркадию Райкину цветы вручал Саша Тимофеев – мальчик с красивым русским лицом. Никто не догадывался, мама Саши была еврейкой, потому что на родительские собрания в школу всегда приходил Сашин папа.
14.
В конце четвёртого класса многие мальчишки и девчонки заболели «низкопоклонством перед Западом». В принципе, у них это проявлялось в двух особенностях осознания нового бытия: в попытках добыть жевательную резинку и в стремлении заполучить или хотя бы послушать пластинки с песнями групп «Beatles» и «Rolling Stones». Высоко ценились и самопальные фотографии этих групп, и их солистов по отдельности. Фотографии печатались путём пересъёмки обложек заграничных журналов, попадавших в СССР неведомым путём. Вернее, все знали, что журналы контрабандой завозили советские моряки торгового флота. Дело это было рискованное, об этом знали даже школьники младших классов.
Конечно, бесспорным лидером по добыче всей этой прелести был Алик Короблёв, батя которого продолжал бороздить необъятные просторы мирового океана. И мировой поп-музыки, как вскоре стало понятно Алькиным одноклассникам. К счастью, Алик Кораблёв был тюфяком и не мог сполна стричь купоны, используя своё привилегированное общественное положение сына моряка загранплаванья. Но с ним охотно поддерживали приятельские отношения почти все в классе. Не был исключением и Глеб. У Кораблёвых была просторная комната в малонаселённой коммуналке, выходившая двумя окнами на Большую Подьяческую улицу. Естественно, в комнате было много иностранного барахла, от которого у каждого входящего в неё впервые захватывало дух. Чего стоил только умопомрачительный магнитофон «Panasonic»!
Алик не жадничал и щедро делился с одноклассниками своим богатством. Дорогостоящие альбомы грампластинок выносить из дома Алику было запрещено. Но он часто нарушал запреты и давал приятелям пластинки послушать или переписать на магнитофон, которые, правда, мало у кого были. Пластинки порой не возвращали, и Алик бывал бит отцом за это широким морским ремнём, который висел в их комнате на почётном месте среди иностранной швали.
Некоторые одноклассники вроде Генки Скобельдина после школы ошивались в центре города, надеясь выпросить у какого-нибудь иностранца жвачку. Часто получалось. Но ещё чаще мальчишек гоняла милиция.
Глеб жвачку никогда не пробовал, да ему почему-то и не хотелось. Честь и достоинство советского пионера он понимал как-то буквально, по-газетному, и она, эта совсем невидимая честь, не позволяла Глебу унижаться перед холёными иностранцами.
В один из вечеров, когда Глеб делал уроки, а мама читала своего любимого Чехова, неожиданно раздался звонок. Оказалось, приехал дядя Сеня. Военная форма ему по-прежнему была очень к лицу. Он странным образом заметно помолодел и словно расправил крылья. Мама почему-то очень смущалась его неожиданной молодости и старалась больше молчать, суетясь то на кухне, то у стола в комнате.
– А как там поживают мои апартаменты? – спросил через какоето время дядя Сеня. Мама в очередной раз смутилась, засуетилась ещё больше прежнего:
– Ждут вас, Семён Игнатьевич, не сомневайтесь!
– Да я не к тому, – тоже засмущался дядя Сеня. – Просто привёз шалуну сувенир из дальних странствий, хотел посмотреть, как он будет гармонировать, так сказать, с имеющимся интерьером.
Дядя Сеня открыл свой скромного вида чемоданчик и достал из него огромную морскую раковину нежно розового цвета. Глеб и мама смотрели на неё зачарованно.
– Значит, всё же были на Кубе, или где-то в тех краях?
– Что вы, что вы! – дурашливо замахал руками дядя Сеня. – Купил в ближайшей комиссионке.
Они втроём прошли в комнату Глеба. Дядя Сеня одобрительно посмотрел на обстановку. Порядок в комнате был образцовый. Дядя Сеня поставил раковину на широкий подоконник, и сразу же создалось впечатление, что она тут стояла всегда.
Потом пили чай, как в прежние времена. Дядя Сеня балагурил, справлялся о маминой работе, о здоровье Глеба и его учёбе. О себе ничего не рассказывал. Только, прощаясь, с неожиданной грустью посмотрел на маму и сказал:
– Я в Ленинграде проездом. Сейчас еду на аэродром. Лечу в Москву, а потом – к новому месту службы, на Чукотку. Труба зовёт, так сказать. Он вдруг порывисто схватил своими длиннющими ручищами в охапку маму и Глеба, поцеловал их по очереди в макушки и, не прощаясь, вышел из комнаты. Мама и Глеб почему-то так и остались стоять на месте, беспомощно глядя друг на друга.
Больше они о дяде Сене не слышали никогда.
15.
Трудно сказать почему, но Глеб не любил иностранную музыку. Это не было проявлением его патриотизма или ещё чем-то. Просто не любил, как не любит кто-то манную кашу или, допустим, дождь на дворе.
До поры ему казалось, что он вообще ничего не любит из того, что любили его сверстники. Читать, правда, любил, но этим никого в середине 1960-х годов удивить было нельзя: запоем читал весь Советский Союз. Глеб к пятому классу давно перечитал Чуковского, Маршака, Гайдара и тайком от мамы переключился на Мопассана. Сам бы он, конечно, до этого не додумался, но сосед Геня Рафальсон, учившийся к тому времени уже в техникуме холодильной промышленности, открыл ему глаза на этого замечательного французского новеллиста. Проскочив сразу через несколько интеллектуальных ступенек, оставив нечитанными «Приключения Буратино» и «Приключения Чиполлино», Глеб, стремительно взрослея, погрузился в мир сложных человеческих отношений. У каждого свои жизненные университеты, которые часто бывают совершенно непредсказуемыми.
Неожиданно Глеб оказался оглушённым стихами Лермонтова, особенно его стихотворением «Бородино». Казалось, оно было написано специально для него, Глеба! В то время как другие пятиклассники это произведение «проходили», часто – проходили мимо него, – Глеб увидел в этом стихотворении программу своей будущей жизни, не меньше.
Странным образом он запомнил «Бородино» слово в слово с первого прочтения и не уставал твердить эти стихи снова и снова. Как про себя в будущем он чеканил: «Полковник наш рождён был хватом…».
То была божественная музыка, с которой не могли сравниться никакие зарубежные ансамбли, обожаемые сверстниками. Мопассан и Лермонтов – нечастый выбор для пятиклассника. Но не он выбирал произведения этих очень разных авторов: казалось, это они, сумасшедший француз и нервный потомок шотландца, зачем-то выбрали Глеба своим душевным наследником. Одиннадцатилетний Глеб в своём неуютном двадцатом веке продолжал жить душевными переживаниями взрослых героев века минувшего. Глебу было очень комфортно с ними наедине. Он читал то новеллы, то стихи и душа его сжималась и перекручивалась, как бельё, которое после стирки своими сильными руками выжимала мама.
Не меньше, чем классики литературы, на Глеба неожиданно повлияло кино. Точнее, только один фильм – «Вертикаль», который Глеб увидел впервые во время летних каникул 1967 года, после окончания пятого класса. Герой фильма, которого играл артист Владимир Высоцкий, имел совершенно удивительный тембр голоса, голос настоящего мужчины. Глебу казалось, что у его папки был чем-то похожий голос. А, может, и вовсе такой же. Высоцкий пел пронзительные песни, от которых бросало в дрожь. Глебу не хотелось стать альпинистом или гитаристом, подобно персонажу Высоцкого, но ему нравилась высота духа этого человека. Он хотел, как Высоцкий, парить силой воли, благородством над трусостью и низменными чувствами слабых людей, населявших планету Земля.
В первых числах августа 1968 года к Глебу с мамой заглянул Матвей Иосифович Цукерман, или попросту Земляк, как звали его мама и Глеб. Земляк сиял от счастья: он раздобыл для Глеба бесплатную путёвку в пионерский лагерь «Чайка» под Зеленогорском, который находился на берегу Финского залива.
– Последняя летняя смена, лагерь маленький, уютный – всего четыре отряда, – тараторил Земляк. – Директор лагеря – мой старый приятель, за Глебом приглядит, если что.
Это «если что» очень не нравилось Глебу. Но сама возможность поехать в лагерь, покупаться в Финском заливе казалась заманчивой.
В лагере оказалось лучше, чем Глеб предполагал. Воспитатели и пионервожатые в душу не лезли, построениями и всякими массовыми играми загружали в меру. Большую часть времени можно было болтаться по территории и заниматься своими делами. А свои дела были так себе, не особо примечательными: забравшись в укромное место, Глеб с приятелями играл в карты, в подкидного дурака, и травил анекдоты. Оказалось, что его память хранила великое множество неизвестно каким путём попавших в неё смешных историй. Особое место занимали анекдоты про Чапаева. Василий Иванович в те годы был очень почитаемым героем Гражданской войны, и анекдоты про него попахивали политической гнильцой. Оттого они были ещё более привлекательными. Если отбросить политическую составляющую, то можно было понять главное: Чапаев пользовался всенародной любовью. Абы о ком анекдоты не сочиняются.
Кульминацией пребывания в лагере стал настоящий поход с ночёвкой до посёлка Рощино, на целых двенадцать километров. Возглавлял поход физрук Павел Николаевич, бывший военный лётчик. Человеком он был суровым, жёстким. Как занесло его в этот лагерь, похоже, он и сам не понимал. Во время продвижения отряда по лесам и перелескам Карельского перешейка, напоминавшего парад хромых уток, он негромко ворчал:
– Нужны мне были эти пионеры, как Папе Римскому значок ГТО!
Когда разбили лагерь, развели костёр, поужинали и попели песен про картошку-тошку-тошку, народ потянулся в палатки спать. Глеб спать совсем не хотел. Он вызвался поддерживать костёр, на что Павел Николаевич на всякий случай отреагировал удивлённым взмахом косматых бровей. Но, подумав, сказал:
– Валяй, поддерживай. Только не усни и не свались в костёр, а то – покушаем мы из тебя шашлычка.
Подумав, физрук добавил:
– Посижу с тобой полчасика, приёмник послушаю. Люблю, знаешь ли, новости слушать.
Он сел на бревно рядом с Глебом, настроил свою «Спидолу» на волну «Маяка» и застыл в блаженном предвкушении. Но неожиданно в новостях передали, что в Чехословакии начались волнения среди части населения. Диктор объяснил, что там участились массовые беспорядки, и советские войска вместе с союзниками по Варшавскому договору пересекли государственную границу, чтобы воспрепятствовать попытке государственного переворота в братской стране.
Физрук насупился, и стал вслушиваться в каждое слово диктора. Когда сообщение закончилось, он вдруг выключил приёмник и отставил его в сторону. Обращаясь к Глебу, он почему-то сказал:
– Вот так-то, друг ситный! Такие дела, стало быть!
Глеб из его слов ничего не понял, и вопросительно посмотрел на Павла Николаевича. Лицо физрука вдруг стало задумчивым. Он зачем-то стал озираться по сторонам, словно кого-то искал, а потом ещё раз взглянул на Глеба.
– Ты, парень, знаешь, что такое война?
Глеб почему-то вспомнил далёкую Мартоношу, «куриную» каску в родном дворе, папкину медаль «За боевые заслуги» и кивнул утвердительно.
– Знаешь, – горько усмехнулся физрук. – Конечно, знаешь. Вам же в школе про это все уши прожужжали. Геройство там всякое и так далее. А война, парень, это… даже не знаю, как тебе и объяснить. Война – это… В общем, ничего не бывает хуже войны, ни-че-го.
Он еще раз зачем-то поозирался по сторонам, и достал из кармана пачку «Беломора».
– Только не говори никому, что я курю. Непедагогично поступаю, так сказать.
Глеб понимающе закивал.
– Война, брат, это не просто смерть, много смерти. Это – хуже смерти.
– Что же может быть хуже смерти? – удивился Глеб.
– Её ожидание, понимание её прихода, бессилие оттого, что не можешь этой самой смерти противостоять. Липкая такая штука, это ожидание.
– А вы… ожидали? – тихо спросил Глеб.
– Было дело под Полтавой, – физрук проворно выхватил из костра головешку, прикурил от неё папиросу и бросил головешку опять в огонь.
– Под Полтавой? – заинтересовался Глеб.
– Нет, это я так, образно. Типа, стихи, – пояснил физрук. – Это было где-то в этих местах, на Карельском перешейке. Отсюда, может, километрах в двадцати, не больше. Я тогда в авиации служил, лётчиком-истребителем был. Двадцать восемь лет прошло, а вижу всё, словно только-только произошло. Было это, 12 марта сорокового года. Вылетел я на боевое задание в составе своего звена, а когда мы уже возвращались на базу, нас обстреляли финские крупнокалиберные пулемёты, приспособленные для стрельбы по самолётам. Мои товарищи проскочили удачно, а меня зацепило. Самолёт загорелся, меня очередью прошило от левой ноги до самого плеча. Я успел выпрыгнуть с парашютом и прямо в воздухе от боли потерял сознание. Очнулся в канаве: голова, руки – на шоссейной дороге какой-то, а тело, парашют – в канаве валяются. Боль – адская, шевельнуться не могу. Лежу и, веришь ли, плачу, как ребёнок. От боли плачу, от страха, от неопределённости какой-то. Вдруг слышу: шум за поворотом шоссе. Понял: это строй военных приближается, топают, как слоны. У меня – и страх, и надежда: наши, не наши – кто ж его знает? Повернул голову из последних сил и обомлел от ужаса: строй финских солдат шёл прямо на меня. Не знаю, от страха, от боли, или ещё от чего, но застыл я, как памятник самому себе. Хотел глаза закрыть, но почему-то не получилось. Смотрю на свою приближающуюся смерть и думаю: «Кто же из них меня прикончит?». А солдаты подошли совсем близко и равнодушно так смотрят на меня, словно я не военный лётчик противника, а так, пописать вышел. Идут, смотрят на меня, глаз не сводят, я на них смотрю, не отрываясь. Представляешь, так и прошли мимо. Не пристрелили.
– Может, не заметили? – робко предположил Глеб.
– Говорю тебе: в глаза смотрели! Так, без всякого интереса. Как на не свой трамвай на остановке.
– А потом? Что же потом было? – спросил Глеб.
– Потом был суп с котом и котлеты по-киевски, – махнул рукой физрук. – Потом я сознание потерял и очнулся только в медсанбате, у наших. Оказывается, когда я взлетал – шла война. А когда меня сбили, она, чтоб её, уже закончилась. То финское подразделение, видать, с фронта возвращалось, к мирной жизни, так сказать. О том, что война закончилась, финские ребята уже знали, только мне позабыли сообщить.
– А как же вас наши потом нашли? – заинтересовался Глеб.
– Нашли как-то, – неопределённо пожал плечами Павел Николаевич. – Может случайно, а, может, ребята из нашего звена сообщили, куда примерно упал. Теперь уж не выяснишь.
Физрук пристально посмотрел на потухшую папиросу, зачем-то плюнул на неё и бросил в костёр. – Так что, парень, ну её к лешему, эту войну. Вон, в Чехословакии, слышал, что затевается? Не дай бог опять начнётся. Не совались бы мы туда! Но я тебе такого не говорил, так, мысли вслух.
Глеб промолчал. Он смотрел на затухавшие огоньки костра и чувствовал, что на плечи, на душу навалилась тяжесть.
Павел Николаевич подбросил в огнь дров и, уходя спать в палатку, сказал:
– Пару часиков продержись, а потом кашеваров поднимай, пусть завтрак начинают готовить. Позавтракаем – и в обратный путь. А сам поспи, как их поднимешь. Организм детский нуждается в отдыхе. Не на войне, слава богу…
Как известно, всё когда-нибудь заканчивается. Закончился тот памятный поход. Закончилась лагерная смена. Лето закончилось тоже.
Глеб вернулся домой окрепшим, возмужавшим, чем очень порадовал маму.
Вскоре из Мартоноши пришло письмо, в которое было вложено ещё одно, от Гаврика, которое он прислал по прежнему домашнему адресу. Брат сообщал, что живёт теперь в Филадельфии, что женился на американке, что жену зовут Нэнси и что у них всё хорошо.
Мама всплакнула над этим письмом, и у Глеба было почему-то на душе нелегко. Получалось, что теперь-то уж точно он – единственная мамина опора. На старшего брата надеяться не приходилось.
Глава 3. Харлампиев, Левин и другие
1.
Шестой класс для человека – пора прелюбопытная. Вторая половина отрочества. До юности рукой подать. В двенадцать лет в человеке столько всего нового просыпается, что никакой Мопассан не опишет. И Лермонтов тоже.
Глеб заметно повзрослел. Внешне это было не так заметно, но внутри него много чего перебродило. Каким-то новым взглядом он, придя в класс 1 сентября, увидел Олю Зуеву. Эта была без трёх секунд юная девушка, хотя, конечно, ещё ребёнок. Под школьным платьицем уже угадывались черты будущей женщины, но Глеб пока это осознавал смутно.
Его отроческую любовь к Оле на время заслонило совсем другое занятие. Глеб увлёкся чтением книг о силачах, преимущественно – о борцах. Иван Поддубный, Иван Кощеев, другие русские богатыри не давали ему покоя. Они восхищали силой, мужеством, мастерством и благородством. Было в них что-то былинное, исконно славянское. Глеб хотел понять, как они достигли своих богатырских высот тела и духа. Пожалуй, даже сначала – духа. Внутренняя сила ему казалась куда загадочней и прекрасней силы мышц, потому что была в ней необъяснимая тайна.
В одной из комнат их коммунальной квартиры сменились жильцы. В квартире появилась семья: мама, папа и сын, сверстник Глеба. Звали его Серёжей Комаровым. Худощавый, светловолосый, с передними зубами, как у кролика, Серёжа сначала не понравился Глебу своей заносчивостью и постоянным неуместным хихиканьем. Серёжа смеялся так захлёбисто, что, казалось, вот-вот задохнётся. Похоже, неприязнь, точнее, некоторая настороженность, была взаимной. Но вскоре оказалось, что Серёжа попал в класс Глеба. Частое общение сделало своё дело: сначала они были просто соседями, потом приятелями, а ещё через какое-то время и подружились.
У Серёжи оказалась удивительная книга – учебник по борьбе самбо, написанный одним из создателей этого вида единоборства Аркадием Харлампиевым. Книга была старая, потрёпанная, но с многочисленными фотографиями-иллюстрациями.
Придя из школы, друзья часто садились за стол и, не спеша, рассматривали иллюстрации. Фотографии впечатляли: от умелого движения одного из спортсменов его противник летел вниз головой, высоко задрав ноги. От увиденных фотографий захватывало дух. Мальчики решили попробовать, глядя на картинки в учебнике, применять эти приёмы друг на друге. Расстелили на полу ватное одеяло, чтобы падать было не так больно, но приёмы не получались. Вроде бы и движения были у них те же, что и у самбистов на фото, а приёмы не выходили. То ли картинки были обманными, то ли секрет какой-то существовал, о котором они не знали. Ребята злились то на себя, то друг на друга, но дело не продвигалось совсем.
Однажды Комарик, как звал его Глеб, пришёл к Глебу в комнату, загадочно улыбаясь.
– Сидишь, уроки учишь, маменькин сыночек, а настоящие борцы в подвал ходят тренироваться, сам видел.
– В какой такой подвал? – удивился Глеб.
– В нормальный такой подвал. На Фонтанке, возле Крюкова канала. Рядом с автобазой. У них там даже борцовский ковёр сделан! Не совсем настоящий ковёр, правда. Опилок на пол насыпали, брезент сверху положили. Но народ тренируется.
– Какой народ? – заинтересовался Глеб.
– Да самый разный. Кто хочет, тот и ходит. Там всегда кто-нибудь трётся. От ЖЭКа помещение, официально для спорта отдали, говорят.
В тот же день друзья заглянули в подвал. Помещение было так себе. Обычный подвал. Правда, сухой, с освещением. На самодельном борцовском ковре с энтузиазмом топталось человек пять-шесть подростков в обычных тренировочных штанах с вытянутыми коленками. Зрелище было так себе, но запах рабочего пота и сосредоточенные лица парней почему-то волновали, порождая в душе незнакомый совершенно до этого трепет.
– Вам чего, ребята? – спросил один из тренировавшихся, и Глеб увидел, что это не мальчишка, а взрослый парень лет восемнадцати. Он был небольшого роста, жилистый, стриженый наголо.
– Тренироваться хотим, – за двоих ответил Глеб, робея.
– Переодевайтесь и – вперёд, – разрешил лысый парень. Предложение застало врасплох, но они, сбегав домой за трениками, «включились в процесс».
В спортзал Глеб с Серёжей стали ходить почти ежедневно. Занимались без тренера – просто возились друг с другом до изнеможения. Бороться не умел никто. Пихались, толкались, выпендривались друг перед другом. Кто-то в кино какой-то приём видел и пытался его объяснить товарищам, кому-то отец, служивший когда-то в десантных войсках, что-то показывал. В общем, получалась полная ерунда. Но энтузиазм компенсировал всё.
Прошло месяца два. Глеб с Комариком продолжали постоянно ходить в подвал. У Серёжи возня на ковре получалась неплохо, а у Глеба – вообще здорово. Однажды восемнадцатилетний Аркаша Соколов, тот самый лысый парень, что разрешил им приходить в спортзал, провозившись с двенадцатилетним Глебом несколько минут, с трудом всё же смог «заломать» его. Тяжело дыша, он восхищённо сказал:
– Ну, Глеб, ты и кабан! Откуда в тебе столько здоровья?! Глеб смущённо пожал плечами. Счастью не было предела.
Как-то раз к ним в подвал пришел незнакомый молодой мужчина. Он был одет настоящим франтом: коричневая дублёнка, разноцветный мохеровый шарф с начёсом, шапка-пирожок из какого-то серебристого меха, джинсы. Мужчина был квадратного телосложения – такого проще было перепрыгнуть, чем обойти. Уши, похожие на две пельмени, выдавали в нём профессионального борца. Лицо у него было приятное, весёлое. От него веяло отличным одеколоном, уверенным спокойствием и твёрдостью. Он долго молча смотрел на то, как мальчишки мутузили друг друга, а потом приятным баритоном сказал:
– Молодцы! Крепкие ребята. Жаль только, бороться совсем не умеете. Хотите, научу?
Мальчишки, естественно, хотели.
Звали его Валерием Петровичем Левиным. Он был самбистом-перворазрядником, вот-вот кандидатом в мастера спорта. Три года отслужил то ли на флоте, то ли в спортроте. Занимался многими видами спорта: гимнастикой, вольной борьбой, борьбой классического стиля, которая позже стала называться греко-римской. Он был, так сказать, играющим тренером – тренировал подростков и сам продолжал выступать на соревнованиях. Валерий Петрович обладал медвежьей силой и разносторонней техникой борьбы. Его весёлый нрав, незлобное подтрунивание над учениками очень нравилось Глебу и Серёже Комарову.
Валерий Петрович ко всему же обладал пробивным характером. Он долго ходил по каким-то инстанциям, и, в конце концов, добился того, что ребятам разрешили под его руководством по вечерам два раза в неделю тренироваться в спортивном зале их собственной школы. Сначала тренировались, разложив на полу обычные спортивные маты, которые постоянно разъезжались в разные стороны. Но очень скоро, благодаря усилиям всё того же энергичного Валерия Петровича, в зале появился настоящий борцовский ковёр! Это был праздник для всех мальчишек. Тренер же вызывал всеобщее восхищение и всемальчишескую любовь.
Глеб тренировался самозабвенно. Правда, вначале он словно застыл на месте. У него не получалось практически ничего! Он не мог понять причины своих неудач – просто не получалось и всё. Валерий Петрович хвалил других начинающих спортсменов, а над Глебом беззлобно подтрунивал. Всё бы ничего, но делал он это прилюдно, что разжигало в Глебовой душе пожар самолюбия и стыда. Он злился на тренера, на товарищей по тренировкам, но больше всего – на себя.
– Ты пойми, Глеб, – говорил ему тренер, – что такое самбо.
– Я и так знаю: это – самооборона без оружия.
– Формально – да. А на самом деле – это игра в шахматы, – удивлял своими умозаключениями Глеба тренер. – Только ещё интересней и, если угодно, сложнее. В шахматах заранее известно, какая фигура или пешка какими возможностями обладает. Ладья, например, может ходить только прямо и больше никак.
– А ферзь может ходить, как ему угодно, – пытался загнать тренера в угол Глеб.
– Как конь не может ходить даже ферзь, – легко парировал тренер. – Но не в этом дело. Твой соперник – фигура неизвестная. Он может быть высоким, низким, толстым, худым. Но это только внешняя сторона дела. У него свой собственный запас сил, выносливость, воля, нервная система. Свой интеллект, наконец. Чем умнее человек в целом, тем больше шансов у него победить. Противника нужно переиграть. Только тогда будет победа.
– Перехитрить?
– Не совсем. Точнее, совсем не так. Хитрость, это другое. Любое единоборство – это, в первую очередь, борьба интеллектов, борьба эрудиций, понимаешь?
– Понимаю, – отвечал Глеб, удивляясь собственному прозрению.
– И ещё. – Валерий Петрович внимательно посмотрел на парня: – Техника борьбы, разнообразие приёмов, физическая подготовка и многое другое важны. Без них – никуда. Но во время схватки нужно мозгами шевелить. Побеждает тот, кто лучше соображает. Запомни! Это главное. Ну и последнее. Самбо, как и любое другое занятие в жизни, требует большого труда. Как говорили древние греки, арбайтен унд пахайтен. Ты понял меня?
– Понял.
– Молодец, значит, владеешь древнегреческим, – удовлетворённо кивнул тренер.
2.
В то время Советский Союз любил жить от юбилея к юбилею. Всякие круглые и полукруглые даты возникали, как по волшебству. То двадцатилетие Победы в Великой Отечественной войне, то пятидесятилетие Октябрьской революции, то полувековые юбилеи Советских Вооружённых Сил и комсомола. К праздникам вся страна готовилась заранее. Радио, недавно появившееся в домах телевидение, газеты и журналы постоянно сообщали о трудовых вахтах к юбилеям, о передовиках производства и о других проявлениях всенародного ликования в связи с предстоявшими праздниками. Народ не имел ничего против праздников. Отдыхать, как говорится, не работать. Жить в обстановке предпраздничного ажиотажа было в стране делом привычным, практически – частью ментальности нарождавшейся общности, которую сменивший Хрущёва Брежнев назвал «новой общностью – советским народом». По Брежневу выходило так, что вот-вот должна была народиться такая огромная нация. Глеб ничего не имел против этого. Ощущать себя советским человеком было легко и приятно. Многое в сознании становилось на свои места: я – советский человек, как Гагарин, Терешкова, Зоя Космодемьянская и Павлик Морозов. Кому неясно, обращайтесь лично к дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу, он объяснит.
Пятидесятилетие Великого Октября вся страна и, как объясняли СМИ, «всё прогрессивное человечество» гуляли широко! В Москве был внушительный парад на Красной площади, в Ленинграде на Дворцовой площади организовали масштабную инсценировку штурма Зимнего дворца. На Лиговке на месте греческого православного храма открыли современный концертный зал «Октябрьский», а на Петроградской стороне – спорткомплекс «Юбилейный». Земляк раздобыл, как всегда по блату, два билета на хоккейный матч СКА (Ленинград) – ЦСКА, который проходил на новой ледовой арене и, довольный, вручил их маме Глеба:
– Сходите, Маруся, с хлопцем, поболейте за наших! Мама вежливо поблагодарила, но на хоккей не пошла:
– Не женское это занятие «судью на мыло!» кричать.
На матч в новом спорткомплексе пошли Глеб с Комариком. Серёжа Комаров был в полном восторге. Шутка ли: места в центре, возле самой хоккейной площадки. Лица всех хоккеистов видно не как по телевизору, а вот они, рядышком. Можно разглядеть пот на лбу здоровяка защитника Кости Меньшикова и даже услышать, как смачно матерится кумир всех ленинградских мальчишек нападающий Игорь Григорьев! Блаженство, а не игра!
Наши продули со счётом 3:2. Обидно было: вели 2:0 и вот тебе и здрасте! Когда матч закончился, спортсмены обеих команд пожали друг другу руки, Игорь Григорьев проехал возле борта прямо рядом с Глебом и Серёжей.
– Игорёк, подари клюшечку! – вдруг неожиданно для самого себя заорал Глеб.
Великий Игорь Григорьев хмуро поглядел в сторону Глеба и, видимо, хотел привычно матернуться, но почему-то передумал и через борт протянул клюшку Глебу:
– Держи, пацан.
Если вам Игорь Григорьев никогда не дарил «тёпленькую» клюшку, которой только что мастерски пинал шайбу, то вы не познали счастья на Земле! Глеб даже не мечтал о том, что такое счастье может с ним случиться. Он нёс домой эту клюшку, как маршальский жезл и не было во всей вселенной более счастливого человека, чем Глеб.
3.
Спорт спортом, но на первом месте у Глеба по-прежнему оставалась учёба в школе. Не то чтоб он очень уж любил учиться. Просто всё в жизни ему было понятно: взрослые работают, будущие взрослые, то есть дети, учатся. Всё просто и логично до предела.
Говорят, что людям в его возрасте свойственен поиск смысла жизни. Возможно, это и так. Но Глеб никогда никакого смысла в жизни не искал: он жил, потому что это было ему интересно. К урокам и учителям относился по-разному. Учителя тоже не одинаково относились к нему. Математичка Клавдия Сергеевна восхищалась Глебом и не скрывала, что он – лучший её ученик за все годы её работы в школе. А была она уже многоопытным педагогом. Биологичка Надежда Ивановна Глеба ненавидела откровенно и даже как-то вызывающе. Год назад, когда она вела в 5 «а» ботанику, Глеб с огромным трудом сумел получить за год тройку. С зоологией в шестом классе была похожая история. Глеб с тоской думал о том, что в восьмом классе у них будет анатомия и тогда Надежда Ивановна задолбает его похлеще, чем с какими-то там тычинками и пестиками. Понимая бесполезность своих усилий, предмет завуча Глеб учил кое-как: всё равно выше тройки не поставит. Двойки он не боялся, поскольку житейский опыт ему подсказывал: за такой предмет как зоология двойку ему не поставят, если по всем остальным предметам будут только отличные и хорошие оценки.
Очень веселил Глеба, как, впрочем, и весь класс, молодой учитель истории Эдуард Алексеевич. Он был на редкость эксцентричен и ярок на фоне «однотонных» школьных учителей. Рассказывая, например, о Куликовской битве, он мог сказать:
– Известна точная цифра участников битвы на Куликовом поле: их было – до фига. И даже чуточку больше.
Добившись таким образом изумлённого внимания класса, он потом долго и нудно объяснял, что существуют различные мнения о количестве воинов противоборствовавших сторон, но все данные довольно сомнительны.
Рассказывая о реформах Александра Второго, он с пафосом говорил: – Сколько газа добывала Россия в те годы? Цифра простая, вы её легко запомните: нисколько не добывала!
Иногда Эдуард Алексеевич ставил школьников своими неожиданными вопросами в тупик. Правда, это было уже позже, классе в восьмом, когда он поинтересовался у класса, почему рабочий класс по-прежнему считается авангардом борьбы за коммунизм, тогда как на рабочие специальности в ПТУ поступают одни бездельники и лоботрясы? Что-то новое было в этом учителе, что-то свежее и бесстрашное.
В седьмом классе Глеб окончательно понял, что влюбился в Олю Зуеву по уши. Её прекрасные девичьи формы проявлялись, как на листе фотобумаги, опущенном в химический раствор. Стала заметна её почти взрослая грудь, восхищала крутизна бёдер. Ноги были безукоризненно прямы и длинны. Про лицо и говорить не приходилось: она становилась такой красавицей, что Глеб не решался даже на мгновение посмотреть ей в глаза.
Каким-то непонятным женским чутьём Оля впитывала в себя женские добродетели: с теплотой относилась к малышам-первоклашкам, умела выделиться аккуратностью и опрятностью в одежде, хотя все девочки в школе носили одинаковую форму: коричневое платье с белым воротничком и чёрный передник. По праздникам – чёрный передник заменялся белым. Вот и всё разнообразие. Голос Оли стал не таким звонким, как прежде, а немного грудным и более тихим, глаза покрылись какой-то непонятной поволокой, да и сам взгляд стал каким-то внимательным, задумчивым.
Глеб робел перед ней, не знал, о чём говорить. Однажды вдруг зачем-то завёл разговор о войне во Вьетнаме, как будто Оле это могло быть интересным. Оля старательно выслушала Глеба, вместе с ним попереживала о вьетнамцах, погибших от рук американских солдат в деревне Сонгми, а потом вдруг спросила ни с того, ни с сего, как себя чувствует мама Глеба. Глеб смутился от такой перемены темы разговора, сказал, что мама абсолютно здорова и сам, свернув и без того сумбурный разговор, отошел в сторону.
