Санкт-Петербургские ведомости. Наследие. Избранное. Том II
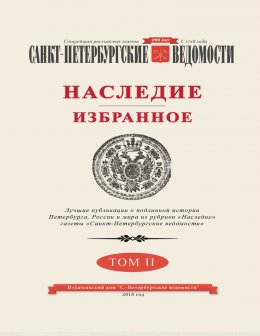
Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© АНО «Социальные проекты „Санкт-Петербургских ведомостей“»
Уважаемый читатель!
В ваших руках второй выпуск избранных публикаций раздела «Наследие» – старейшей тематической полосы газеты «Санкт-Петербургские ведомости», посвященной истории Петербурга – Петрограда – Ленинграда. Она существует в газете с июля 1980 года, а количество ее выходов превысило полторы тысячи.
На протяжении четырех десятков лет эта газетная страница служит популярной площадкой для приложения творческих сил краеведов. Популярной в лучшем смысле слова. По нашему убеждению, краеведение должно быть увлекательным, интересным и позитивным. Поэтому и краеведческие очерки, которые мы публикуем, – познавательные и захватывающие.
«Наследие. Избранное» – первый издательский проект, приуроченный к 290-летию «Санкт-Петербургских ведомостей», старейшей газеты России. В томе I, увидевшем свет в мае 2018 года (к 315-й годовщине основания Петербурга), мы собрали публикации трех ведущих авторов «Наследия»: Наталии Гречук, Дмитрия Шериха и Сергея Глезерова. Книга оказалась очень востребованной, была буквально сметена с прилавков. Главный вопрос, который задавали покупатели: когда же будет продолжение? И вот оно перед вами.
Идя навстречу пожеланиям, мы расширили и хронологический диапазон публикаций (сюда вошли статьи, напечатанные с 1991-го по 2007 год), и круг авторов. Начинается книга с исторических зарисовок замечательного ленинградского журналиста, краеведа и коллекционера Бориса Григорьевича Метлицкого, самого основателя раздела «Наследие» (на протяжении первого десятка лет, будучи еще на страницах «Ленинградской правды», он носил название «Пулковский меридиан»). Читая сборник, вы окунетесь в далекое прошлое Петербурга и одновременно почувствуете пульс того недавнего еще времени, когда создавались публикации. Ибо краеведы – люди неравнодушные, чуткие, с активной жизненной позицией. Говоря об истории города, они редко обходятся без исторических параллелей и «мостиков в настоящее». Почти в каждой заметке Бориса Метлицкого начала 1990-х годов вы увидите острую тревогу за облик города, на какое-то время превратившегося в большой базар. «Недавно я отважился на прогулку от Адмиралтейства до Московского вокзала. Бог мой, что творится!.. Торгуют с лотков, ящиков, коробов, с рук, прямо с панели… Такого откровенного, ничем не стесняемого „коммерческого” беспредела Невский не знавал на всю свою почти трехсотлетнюю историю», – возмущался Метлицкий. А в другой публикации он сетовал, что хорошо было бы возродить забытую должность квартального надзирателя. «Смотришь, и похорошеет наш запущенный Санкт-Петербург…» – выражал надежду Борис Григорьевич.
«Если реформы нашего житья-бытья будут продолжены – надежда на это греет всех питерцев, – то скоро появятся и умелые, знающие дело управдомы, и опытные дворники, – замечал Метлицкий. – А Петербург станет чище, спокойнее и величественнее. Ведь в недалеком будущем – его трехсотлетие» (увы, как мы с вами видим сегодня, в 2018 году, не все его надежды оправдались).
Да, начало 1990-х годов было непростым, и краеведы, лучше других знающие, что доводилось переживать нашему городу в самые разные эпохи его существования, оставались оптимистами. Старались поддерживать позитивный настрой у читателей. «Теперь, когда город снова стал Петербургом, ему, кроме забот о хлебе, пора подумать и о зрелищах. О возрождении мест отдыха и развлечений», – замечал Юрий Алянский в публикации об увеселительных заведениях. И далее: «…Петербуржцы и сегодня вопреки всему не унывают и по-прежнему хотят смеяться, веселиться, отдыхать, прекрасно умеют это делать!»…
У каждого автора «Наследия» свои любимые темы и предпочтения, своя ниша в истории города. Собранные вместе, их очерки и зарисовки создают уникальную панорамную картину жизни Петербурга на протяжении трех столетий.
«Наследие» невозможно представить, к примеру, без заметок Леонида Сидоренко, посвященных театральной жизни эпохи Серебряного века, – чего стоят, например, описанные им подробности «голых гастролей» берлинской босоножки Ольги Десмонд и «чудовищной» криминальной истории француза Дюлю. Или заметок Кима Померанца, рассказывающих о том, как в разные времена город боролся с разъяренной стихией Невы и какая погода стояла, когда происходили те или иные знаковые исторические события.
А увлекательные очерки Н. Гречук, Д. Шериха и С. Глезерова, повествующие о повседневной жизни «блистательного Санкт-Петербурга»! О повседневной жизни царского двора повествуют исторические зарисовки Игоря Зимина. Как интригующий детектив читается, к примеру, статья Альберта Аспидова, в которой он поведал любопытные детали спасения премьер-министра Сергея Витте: он мог стать жертвой террористов, заложивших бомбу в дымоходе его особняка.
Читая избранные статьи «Наследия», убеждаешься: краеведение – это еще и хранитель традиций, а также определенных культурных норм и правил. Так, исследователь Виктор Антонов в одной из своих публикаций негодовал, что благодаря канцелярской практике все чаще звучат неграмотные наименования улиц. Не Английская набережная, а «набережная Английская». Так и до «проспекта Невский» недалеко. Причем на домовых знаках полная путаница. «Обыватель в растерянности – какое название верное? – замечал Виктор Антонов. – Приезжий в недоумении – он-то полагал, что приехал в культурную столицу России»…
Обратим ваше внимание и на иллюстрации: они уникальны и их публикация стала возможной благодаря Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга». Его профессиональная помощь и дружеская поддержка сделали возможным издание «Наследие. Избранное».
Во второй выпуск «Наследие. Избранное» не поместилось все, что мы отбирали изначально. Так что не за горами третья книга.
Газета идет в ногу со временем, использует передовые технологии для общения со своими читателями. В 2017 году с большим успехом стартовал просветительский проект «Лекторий», где друзья и авторы «Санкт-Петербургских ведомостей», интересные и яркие лекторы увлекательно рассказывают об истории, культуре, науке, искусстве и архитектуре. Есть и лекции, посвященные темам полосы «Наследие». «Наследие» живет, развивается вместе с нашей великой страной и прекрасным городом. Меняются темы, приходят новые авторы; неизменным остается одно – уважительное отношение к родному городу, гордость за сопричастность к его великому прошлому, интересному настоящему, желание сберечь каждую его историческую страницу, не упустить из виду ни одной детали, ни одного штриха.
Генеральный директор ИД «С.-Петербургские ведомости» Борис Валерьевич Грумбков
Вам нужен кассир? Пожалуйста!
Поистине, старые рекламные объявления – кладезь ценнейшего опыта, столь необходимого, как выяснилось, в наши постсоциалистические дни. Представьте себе самую обычную ситуацию: какому-то предприятию или кооперативу срочно нужен опытный и абсолютно честный кассир. Что делается в таких случаях? Дается объявление в газеты, на радио, телевидение – «приглашаем на работу кассира». И условия оплаты, какие-то привилегии. Далее остается одно: терпеливо ждать чьего-то отклика. Может, неделю, может, месяц и более. А время не терпит, дело стоит.
Теперь посмотрим, как решалась эта проблема семьдесят лет назад. При – подчеркиваем – советской власти. Вскоре после введения новой экономической политики.
Вот объявление, заимствованное из справочника «Весь Петроград» на 1922 год: «Товарищество ответственного труда. Правление: Морская (Герцена), 36. Командирует для обслуживания государственных, общественных учреждений и кооперативных организаций, различных трестированных и переведенных на хозяйственный расчет фабрик, заводов, а равно назначает на места к частным лицам, в их конторы и торгово-промышленные предприятия, в качестве заведующих, бухгалтеров, счетоводов, конторщиков, кассиров, продавцов, кладовщиков и т. д. своих членов – артельщиков и артельщиц, лиц, обладающих большим и долголетним служебным опытом, испытанно честных, гарантируя… аккуратное и безукоризненное исполнение ими обязанностей всем своим солидным капиталом и имуществом, а также и круговой порукой всех членов Товарищества».
Попутно сообщается, что «все учреждения и лица, нуждающиеся в ответственных служащих для замещения должностей по кассовым, товарным, инкассаторским, экспедиторским и другим отраслям в банковых, таможенных, железнодорожных, товарно-складочных, агентурных, торгово-промышленных, кооперативных и прочих делах, благоволят обращаться по адресу Правления».
Уловили суть, прямо скажем, необычной услуги? Даете заявку на служащего той или иной специальности (это можно сделать и по телефону), и на следующий день вакантное место оказывается занятым пришедшим на службу опытным специалистом своего дела. Ни тебе анкет, ни рекомендаций. Ничего! За то, как будет трудиться у вас присланный товариществом человек, отвечает оно, товарищество. За любой его промах, неверный шаг. Возмещает любые убытки, понесенные по его вине.
Впрочем, ни убытков, ни потерь не будет. Ибо предоставляются услуги действительно классных специалистов.
Может быть, возродить в наши дни забытый, но, несомненно, привлекательный своей простотой и абсолютной надежностью опыт питерцев эпохи нэпа?
Есть желающие учредить Товарищество ответственного труда? Право, в прогаре не окажетесь!
Борис МЕТЛИЦКИЙ
«Наследие» № 9 (258) опубликовано 28.12.1991 в № 97–98 «Санкт-Петербургских ведомостей»
Как веселились дедушки и бабушки
Хмурые лица посреди веселого народного гулянья, кислые физиономии в зале театра-кабаре, как ни странно, случаются. Душевный мир человека слишком хрупок и сложен, чтобы всегда гармонично соответствовать настрою окружающей среды. Сказанное относится даже к людям, чьи творческие интересы совладают с канонами искусства развлечений.
Поэт Алексей Апухтин, автор текстов романсов «Пара гнедых» и «Ночи безумные», издавна исполняемых не только в камерных залах, но и на подмостках кабаре и ресторанов, на вопрос одного из великих князей, почему не издает своих произведений, ответил вежливо и презрительно: «Это было бы все равно, ваше высочество, что определить своих дочерей в театр-буфф».
Александр Блок сделал противоположное признание: «Я много лет слежу за театрами миниатюр, которые занимают огромное место в жизни города… И здесь можно встретить иногда такие драгоценные блестки дарований, такие искры искусства, за которые иной раз отдашь с радостью длинные „серьезные” вечера, проведенные в образцовых и мертвых театрах столицы…».
Много лет «следил за театрами миниатюр» не только великий поэт, но и скромнейший петербуржец военный инженер-электрик Герман Александрович Иванов (1908–1991). В течение более чем шестидесяти лет проводил он дни в книгохранилищах и читальных залах, терпеливо просматривая периодические издания, названия которых вряд ли ведомы сегодня даже вполне образованным людям, скажем – «Вечер Петрограда», «Новый вечерний час», «Вечерний звон», «Лукоморье». Находя заметку, рецензию, хронику, репортаж, даже судебный очерк на избранную им тему, не только помечал на карточках источник информации, но и… переписывал на них текст статьи или заметки! Так сложилась уникальная «эстрадная картотека» Г. А. Иванова.
Материал в ней расположен по алфавиту. И значительную часть первого каталожного ящика составляют карточки, посвященные знаменитому в свое время театру и саду «Аквариум», где, кстати, бывали и Апухтин, и Блок.
Что знают об «Аквариуме» нынешние жители города? Боюсь, предел их осведомленности – бывший адрес заведения, Каменноостровский проспект, дома 10 и 12. Тут теперь – павильоны киностудии «Ленфильм»…
А ведь «Аквариум» на протяжении 37 лет скрашивал досуг петербуржцев (годы его существования 1886–1923).
Вот какую характеристику заведению дал в воспоминаниях Н. В. Дризен: «Собственно Аквариум помещался в том месте, где сейчас стоит жилой дом, т. е. на углу Каменноостровского проспекта к торговым рядам. Остряки утверждали, что ежедневно рыба (в аквариуме. – Ред.) заменялась новой, т. к. к вечеру ее съедали за ужином. В качестве увеселения, посередине сада, где ныне помещается зимний каток, находилась обыкновенная садовая эстрада в виде раковины. Здесь по вечерам играл хороший оркестр под управлением Энгеля. Петербургу Аквариум сразу пришелся по вкусу. Заполняла его преимущественно семейная публика, жаждущая уютной обстановки и хорошей музыки. Не прошло двух лет, как скромную раковину заменил огромный стеклянный зал. Посередине, вблизи эстрады, выстроились платные места для любителей музыки, по бокам – столики для остальной публики. Оркестр заметно окреп и стал конкурировать с Павловском и Петергофом. Появились симфонические концерты, выписывались знаменитости…».
Эти строки опубликованы в 1915 году, в период расцвета «Аквариума».
Действительно, будущее крупнейшее увеселительное заведение столицы началось с… устройства огромного аквариума. Вот сообщения тогдашних газет.
«Предпринятое г. Александровым устройство… Аквариума подходит к концу. Постройка здания вчерне уже окончена, в скором времени будет приступлено к внутреннему устройству Аквариума. Необходимые для него морские и пресноводные животные будут приобретены. Предполагается устройство публичных бесед о жизни водяных животных». («Всеобщая газета». 1886)
Шли годы. «Аквариум» давал господину Александрову хорошую прибыль, и директор решил «осовременить» его, не жалея средств.
«Предстоят самые большие преобразования. Из бонтонного музыкального заведения это учреждение превращается в ординарный увеселительный «уголок» с французской опереткой в закрытом театре и дивертисментом на открытой сцене. С нынешнего года «Аквариум» принимает новый вид и, вероятно, придется более по вкусу веселящемуся и жирующему Петербургу». («Петербургский листок». 1893)
Спустя восемь лет его характеризовали в таких выражениях:
«„Аквариум” – самый европейский из всех российских кафе-шантанов. Программа заграничных садов здесь выдержана до мелочей. Есть даже живые „почтовые открытки”. Это совсем голые женщины, вымазанные под скульптуру: под мрамор, гипс или бронзу, с соответствующими париками. „Любители” довольны, филистеры смущены». («Обозрение театров». 1907)
Всем известна пословица: новое – это хорошо забытое старое. Некоторые нововведения наших дней придуманы давным-давно, и притом – в «Аквариуме».
«Осенняя выставка красавиц. 1-й грандиозный бал-маскарад. За красоту 1-й приз – бриллиантовая брошь в 300 руб., 2-й – бриллиантовый браслет в 200 руб., 3-й – кольцо с бриллиантом в 100 руб. Выбор красавиц-кандидаток производит сама публика путем раздачи талонов без всяких жюри. В 2 часа комиссия займется подсчетом голосов, а затем последует торжественное избрание трех красавиц. „Три богини спорить, спорить стали…” Кто же „Петербургский Парис”? Они, эти три красавицы, выберут „Париса”, вручив ему свои бюллетени. „Петербургский Парис” получит перстень в 100 рублей». («Обозрение театров». 1907)
Между тем практичный Александров находил все новые и новые возможности привлечь в свое заведение широкую питерскую публику.
«По субботам в „Авариуме” собирается „весь Петербург”, не успевший разбрестись по дачам. Здесь, по традиции, стараются развлекать буквально со всех сторон… Настоящим „гвоздем программы” можно назвать феноменальную „собачью труппу”. Дрессированные псы всевозможных калибров, мастей и пород разыграли целую 4-актную трагикомедию без всяких понуканий, угроз хлыстом и т. п. На сцене никого нет кроме четырехлапых лицедеев. Собаки с замечательным юмором изображают тирольскую свадьбу, перепившихся гостей, изменяющую своему мужу жену и т. п. Дальше дрессировка, кажется, не может идти, настолько все действия, все движения, все жесты – даже жесты! – животных кажутся осмысленными…» («Обозрение театров». 1911)
В начале 1910-х годов на Петербург обрушилась мода катания на коньках. Увлечение – повальное. От гимназисток до солидных господ. Реакция Александрова – мгновенна.
«Пустовавший в последний годы зимний аквариум перестраивается под каток, который будет функционировать круглый год». («Театр и искуство». 1911)
И вот результат:
«„Дворец льда”! Первое в России грандиозное роскошное здание искусственного ледяного катка, построенного по образцу лондонского… Организуется целый ряд спортивных празднеств, к участию в которых привлечены знаменитые конькобежцы-инструкторы всех национальностей, европейцы и американцы. Открыт ежедневно, четыре оркестра музыки, военные и струнные. Венгерский оркестр. Первоклассный ресторан». («Обозрение театров». 1912)
И в самом разгаре шумного успеха заведения неожиданность: война.
«„Аквариум„забрали под лазарет…» («Дивертисмент». 1915)
Петербуржцы стремились веселиться всегда. Даже в дни Первой мировой войны. Даже в дни революции, когда само появление вечером не улице было опасно. Никакие трагедии, драмы, невзгоды, лишения, голод не могли отвратить людей от мест, где можно было хоть ненадолго обо всем этом забыть. Словом, в тревожные дни, когда одна эпоха сменялась другой, петербуржцы веселились. Впрочем, иногда и задумывались:
- Не странны ли поэзовечера,
- Бессмертного искусства карнавалы.
- В стране, где «завтра» хуже, чем «вечера»,
- Которой, может быть, не быть пора,
- В стране, где за обвалами – обвалы?..
Эти строки Игорь Северянин написал в 1917 году. Он поставил трагический вопрос. Ответом на него в известной степени служило возрождение «Аквариума».
«Состоится открытие железного театра в „Аквариуме”. Пойдет в 1-й раз в Петрограде „Маленькое кафе”, комедия Тристана Бернара. В главных ролях – Миткевич и Горин-Горяинов…» («Жизнь искуства». 1919)
Да, «Аквариум», как говорится, набирал силы. Он был очень нужен послереволюционному Петрограду, где быт постепенно приходил в норму.
«„Аквариум” воскрес с прежней дирекцией в лице Александрова. Афиши говорят, что масштаб дела взят прежний – на широкую ногу. Здесь – А. Орлов, Е. Лопухова, Л. Утесов…» («Эрмитаж». 1922)
Увы, как выяснилось, «Аквариум» с его чисто развлекательными, лишенными официальной идеологии программами явно не устраивал тогдашних партийных лидеров Ленинграда. Под благовидным предлогом его решили «прикрыть». В печати появилось грустное извещение: «К 1 ноября 1924 г. будут закончены работы по ремонту новой кинофабрики в театре „Аквариум”…». («Рабочий и театр». 1924)
Рассказ об «Аквариуме», о том, что он предлагал питерцам, – лишь прикосновение к богатой и мало кому ведомой истории петербургской эстрады. И публикация его имела бы лишь краеведческое значение, если бы не вела сегодня к глубоким и, увы, печальным размышлениям о нынешней судьбе «индустрии развлечений».
Наш прекрасный город вместе со страной переживает трудные времена. Люди его нелегким трудом добывают свой хлеб, кормят семью, воспитывают детей. Устают от забот и всеобщей неразберихи. Они торопливы, озлоблены, мрачны. И здесь могло бы помочь веселое искусство, о котором так значительно говорил Блок.
Теперь, когда город снова стал Петербургом, ему кроме забот о хлебе пора подумать и о зрелищах. О возрождении мест отдыха и развлечений. Может быть, скромная история «Аквариума», неотделимая от истории государства Российского драматических лет конца XIX и начала XX века, убедит нас в том, что на тревожном рубеже XX и XXI веков жизнестойкие петербуржцы тоже хотят и умеют преодолевать тяжесть будней жизнерадостным искусством.
Им только надо в этом помочь!
Юрий АЛЯНСКИЙ́
«Наследие» № 11 (269) опубликовано 30.05.1992 в № 125–126 (224–225) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Чего не было, так это хомутов
Речь пойдет о дореволюционном Невском и его тогдашнем облике. О времени, когда проспект был своеобразной «витриной» России, о которой современник отзывался в таких выражениях: «Дома… красивы, тротуары превосходны, торцевая мостовая в два пути, чистота и опрятность безукоризненны».
Такой Невский хорошо знал и уважал весь мир.
Послереволюционное превращение было разительно. Он лишился великолепных магазинов, торговавших изделиями лучших отечественных и зарубежных фирм и компаний. Замена их безликими «универмагами», «рабкоопами», «распределителями» и другими подобными «точками» уравнительного снабжения горожан (да еще по карточкам) быстро свела на нет то, чем по праву гордилась торговля Петербурга, – вежливость, предупредительность, заинтересованность в обслуживании покупателей, честность в отношениях с ними.
Перспектива Невского проспекта от Садовой улицы к зданию Городской думы. Дата съемки: 1907–1914 гг. Место съемки: Санкт-Петербург. Фотография ателье Буллы
В результате за семь десятилетий ленинградцы стойко научились переносить и хронический дефицит самых необходимых товаров, и откровенное хамство с той стороны прилавка.
При всем том Невский оставался относительно цивилизованным. Страсти кипели за стенами магазинов, а сам проспект (все-таки главная улица города) старались в меру возможностей поддерживать в чистоте и порядке.
Ситуация кардинально изменилась нынешней весной после появления президентского указа о «свободе розничной торговли». Тут-то и началось…
Недавно я отважился на прогулку от Адмиралтейства до Московского вокзала. Бог мой, что творится! Тротуары заполонили новоявленные «купцы» довольно юного возраста. Торгуют с лотков, ящиков, коробок, с рук, прямо с панели. Что это? Ярмарка? Базар? Толкучка? Барахолка? Трудно подобрать подходящее определение.
Предлагают широчайший ассортимент. От бельевых прищепок до колготок и от шампуней до водки и вин. Шелестят, переходя из рук в руки, десятки, четвертные, сотенные…
Такого откровенного, ничем не стесняемого «коммерческого» беспредела Невский не знавал за всю свою почти трехсотлетнюю историю.
Готовя этот материал, вернее, крик души бывалого питерца, я пересмотрел массу фотографий и открыток, запечатлевших вид главной магистрали города в 1910-х годах. Что сразу бросается в глаза? Ни одного ларька или лоточника!
Тотчас возникает мысль о строгом запрете тогдашними городскими властями разносной торговли.
Ничего подобного! Все обстояло куда проще. Вдоль проспекта тянулись частные дома. У парадных дверей с чугунными над ними навесами во всю ширину тротуара (навесы эти, оберегавшие резные полированные двери и хозяев, садившихся в экипаж, снесли в годы первой пятилетки – страна остро нуждалась в металле!) дежурили с рассвета до темноты представительные дворники. Любой из них мгновенно спроваживал нечаянно забредшего на Невский «коробейника» вполне благодушным, но твердым: «Проходи, проходи! Нечего тебе тут делать».
Делать было действительно нечего. Владельцы домов не терпели купли-продажи на принадлежавших им участках. Закон, право были при этом на их стороне.
Вот почему не было базарной круговерти ни на Невском, ни вообще на улицах столицы. Торговали всякой всячиной исключительно на рынках, кои во множестве существовали в городе. При советской власти большинство из них либо снесли (Сенной, Александровский, Стеклянный и другие), либо пустили под склады и предприятия (Никольский, Круглый, Горсткин, Сытный, Апраксин и Малый Гостиный дворы и т. д.). О последствиях уничижительной акции не задумывались – возвращение нэпа с его частным капиталом полностью исключалось не только в обозримом, но и в далеком будущем.
Сегодняшняя прогулка по Невскому любого человека убедит в том, что с торговой «толкучкой» на нем пора кончать. И чем скорее, тем лучше. Он должен полностью отвечать своему статусу «визитной карточки» города.
Но вот какая незадача. Пока здания и территории перед ними бесхозны. Грязь, мусор ничуть не волнуют нынешних временщиков, занимающих великолепные некогда дома. Привыкли. Да никто и не спрашивает с них за порядок.
В этой тупиковой ситуации, думается, самое время позаботиться о возвращении хотя бы части рынков первоначального назначения. Кстати, было их в Петербурге двадцать пять. Благоустроенных, непременно с крытыми павильонами. Нынешним, числом одиннадцать, ютящимся в основном под открытым небом, не чета.
Теперь кратко о магазинах дореволюционного Невского, которые мирно соседствовали с фешенебельными ресторанами и банками.
В магазинах Невского хомутами, топорами и прочим в таком же роде не торговали. Опять-таки не по запрету властей. Просто домовладельцы строго подходили к сдаче в аренду помещений первого этажа. Предпочтение было купцам с «модным» или «беловым» товаром, позволяющим броско и привлекательно оформить витрины, вывески.
Даже беглое перечисление ассортимента позволяет зримо представить «торговый облик» прежнего Невского. Ювелирные изделия, фарфор, хрусталь, часы, меха, модное мужское и дамское платье, белье, трикотаж, кружева, сукно, шелк, обувь, галантерея, парфюмерия, детская одежда, игрушки, писчебумажные и канцелярские принадлежности, книги. Булочные, кондитерские, магазины колониальных товаров. Салоны причесок, фотографии. Все названное – высшего качества, на высшем уровне.
Вот-вот грядет приватизация торговли и ателье бытового обслуживания. Украсят ли нынешний проспект исключительно престижные «точки»?
Тут снова серьезное поле деятельности для районных и городских властей. Ибо физиономия нашего с вами, читатель, Невского должна быть хотя бы не тусклее той, которую он имел восемьдесят лет назад…
Борис МЕТЛИЦКИЙ
Фотография предоставлена ЦГАКФФД СПб
«Наследие» № 15 (273) опубликовано 25.07.1992 в № 170–171 (269–270) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Квартальный
Забытую должность эту – «квартальный надзиратель», в обиходе просто «квартальный» – помнят только очень пожилые питерцы. Так именовали в Петербурге полицейских чинов, которые наблюдали за благопристойным состоянием вверенных их попечению жилых кварталов города. Выражаясь современным языком, квартальный – это наш участковый инспектор милиции. Правда, обязанности у них оказались разными. Но об этом – чуть позже.
Что входило в круг основных забот квартального?
Прежде всего контроль за должным соблюдением домовладельцами и арендаторами торговых и иных помещений санитарных норм содержания зданий, дворовых территорий и уличных проездов. Обеспечение покоя и безопасности жильцов, особенно в ночное время. Квартальный обычно хорошо знал квартиросъемщиков, потому что нередко защищал их права во взаимоотношениях с хозяевами доходных домов. Он олицетворял в таких случаях закон.
Постоянно обращался на деловой почве с управляющими домами, швейцарами, дворниками. Причем величал их по имени-отчеству. Не улыбайтесь!
В этом был свой резон. Трудами и стараниями этих людей содержался в чистоте и постоянной ухоженности весь квартал.
Рабочий день «стража порядка» начинался с обхода утром, с 8 до 10 часов, улиц и проездов. Постановление Городской думы обязывало к восьми утра полностью заканчивать уборку мостовых, тротуаров и дворов от мусора и грязи, зимой – от снега и льда с последующей посыпкой песком. Дворники старались вовсю: за небрежность можно было схлопотать штраф, который выплачивался из их кармана.
В зависимости от погоды квартальный мог повторить «прогулку». Потому что «в случае выпадения летом дождя, а зимою снега после произведенной утром уборки тротуары и улицы вновь должны быть выметены, а зимою посыпаны песком». Он же наблюдал за тем, чтобы своевременно вывозились со дворов баки с мусором (отдельно для сухого, отдельно для влажного), с пищевыми отходами. Дворники тотчас заметали место стоянки баков, ставили их обратно. Они же следили за мусорными урнами на тротуарах – не дай бог, переполнятся! Выговор от квартального обеспечен.
Я не собираюсь пересказывать всю служебную инструкцию с обязанностями квартального. Меня волнует другое. Почему современный участковый инспектор не обращал (да и не обращает) внимания на состояние своего участка. Да, территория великовата, за час-другой не обойдешь. Но все же, все же…
Грядет приватизация квартир, затем и жилых домов. Появятся управляющие домами, станет значительно больше дворников. За ними да еще существующими ремонтно-зксплуатационными конторами глаз да глаз нужен. Глаз участкового. Смотришь, и похорошеет наш запущенный Санкт-Петербург…
Борис МЕТЛИЦКИЙ
«Наследие» № 17 (275) опубликовано 22.08.1992 в № 193–194 (292–293) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Заехать в «Буфф» – одна утеха
Петербуржцы 1870 года – к этому времени относится мой рассказ – по вечерам спешили в рестораны, а оттуда в театры. К их услугам имелось несколько серьезных и множество веселых, беспечных, где антрепренеры, авторы и актеры звали публику позабыть невзгоды, отбросить хандру и окунуться в омут хмельного веселья, утешиться упоительными мелодиями и очаровательными женскими фигурками…
Просматривая картотеку увеселительных театров и заведений Петербурга, созданную Германом Александровичем Ивановым (мне уже довелось упоминать о ней читателям), я обратился к истории первого петербургского театра «Буфф» («Опера буфа – по В. Далю – забавная, шутовская»). Выписки этого раздела картотеки начинаются с анонимных «Записок князя-москвича» – они относятся к 1871 году, то есть появились следом за рождением питерского «Буффа».
«Петербург сильно изменился с 1862 года, когда я оставил его. „О да! – говорил мне как-то поэт Майков. – Вы знали Петербург Чернышевского”. Да, действительно, я знал тот Петербург, чьим любимцем был Чернышевский. Но как же мне назвать город, который я нашел по возвращении? Быть может, Петербург кафе-шантанов и танцклассов, если только название „Весь Петербург” может быть применено к высшим кругам общества, которым тон задавала аристократия?!
После освобождения крестьян, – продолжал московский аноним, – открылись новые пути к обогащению, и по ним хлынула жадная к наживе толпа… Помещики спешили закладывать имения в только что открытых частных банках… Акционерные компании росли как грибы после дождя, и учредители богатели… Самые вкусы общества падали все ниже и ниже. Итальянская опера теперь была забыта. Русскую оперу, робко выставлявшую достоинства наших великих композиторов, посещали лишь немногие энтузиасты. И ту и другую находили теперь „скучною”. Сливки петербургского общества валили теперь в один театр, где второстепенные звезды парижских малых театров получали заслуженные лавры от своих поклонников конногвардейцев. Публика валила смотреть „Прекрасную Елену” с Лядовой в Александрийском театре. Оффенбаховщина царила повсюду…»
Забавно: во все века люди пытались спорить с модой, с новым искусством, с тем, что было им не по вкусу. И всегда проигрывали: их бранчливая воркотня не причиняла объектам недовольства никакого вреда.
Забавны и витки истории. Мы снова, через сто с лишним лет, бьемся за «освобождение крестьян», «за возможность для них свободно распоряжаться своей землей; снова, как тогда, богатеют учредители акционерных компаний, суля в туманном будущем обогащение и нам; снова весьма заметно падают и художественные вкусы общества, и на уличных книжных развалах вы уже не видите сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова – только пиршество Тарзана и Анжелики возбуждает аппетит покупателей и зевак.
А теперь – о первом петербургском «Буффе». Он родился при трагикомических обстоятельствах, в полном соответствии со своим жанром. Случилось это так:
«Заручившись обещанием контролера Министерства двора барона Кистера, режиссер А. Ф. Федотов заарендовал на три года здание бывшего театра „Цирк” на Александрийской площади с платою по 15 тысяч в год. Но Кистер обманул его: в полученном разрешении Федотову позволялось ставить спектакли лишь на французском, немецком и других иностранных языках, причем не драматические, а состоящие из танцев, музыки, пения, отрывков из оперетт, фокусов, акробатических и икарийских игр, и к тому же без театральных костюмов.
Несчастному Федотову, внесшему уже по контракту 5 тысяч рублей за аренду здания, впору было лезть в петлю. Но петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов уговорил его открыть французский театр оперетты и комической оперы, пообещав вопреки требованиям Кистера разрешить играть произведения целиком и в театральных костюмах. Так, против своей воли, не очень сильный в то время во французском языке Федотов оказался директором „Оперы Буфф” в Петербурге…» (Г. Хайченко. Русский народный театр).
И вот свершилось: «20 сентября 1870 года было открытие нового театра вроде парижского „Варьете” или „Шаловливой драмы” в бывшем цирке Новосильцева у Александрийского театра. Управление этим предприятием взял на себя г. Фигнер, который выбрал себе в режиссеры хорошо известного публике „Минеральных вод” г. Деккер-Шенка». («Всемирная иллюстрация», 1870)
«Вряд ли Опера-буфф будет в барыше, – иронизировали газеты, – в особенности после распоряжения, по которому всем официальным представителям достаточного, но несовершеннолетнего населения столицы, т. е. лицеистам, правоведам, юнкерам и вольноопределяющимся, вход воспрещен».
Все же, разумеется, они туда проникали, и их «не изгоняли из рая, где французские певички олицетворяли нашу прародительницу, только уже отчасти одетую…».
Но вот среди заезжих артисточек появилась по-настоящему одаренная. Выписка из журнала «Сияние»:
«На подмостках театра „Буфф” подвизается лучезарная звезда каскадного мира Ортанс Шнейдер, очаровывающая стариков и молодых, пуристов и эпикурейцев своим недюжинным талантом, своей шикарностью и своими сказочными драгоценностями, взращенными с благословения Аллаха всесильным хедивом Измаил-Пашой на скудной и тощей почве Египетской для украшения прелестного чела и античного бюста очаровательной гурии Ортанс. Судя по отзывам людей компетентных, стоимость даров хедива выражается довольно круглой цифрой с солидным количеством нулей на конце. Что ж, искусство м-ль Шнейдер достойно меценатства Измаила Эффенди… Волшебница, решительно волшебница! „Биржевые ведомости”, на что уж строгая газета, однако и та в лице своего фельетониста И. Р. выше облака ходячего преподнесла пикантную львицу сезона…».
Для сведения: хедив – тогдашний официальный титул вице-короля Египта. Надо полагать, влюбленный, он был завсегдатаем первого петербургского «Буффа».
Воспоминания об этом театре оставил и князь В. П. Мещерский, публицист и беллетрист, по материнской линии – внук Н. М. Карамзина. Вот что он писал:
В «Буффе»… «выступала знаменитая французская певица Шнейдер. Она выбрала оперетту Оффенбаха „Герцогиня Герольштейн”. В Петербурге это известие произвело сенсацию. Стали ходить толки, что ей не позволят давать эту оперетку, так как все знали, что в ней героиней в весьма неидеальном виде выведена императрица Екатерина II. Однако кружок обожателей в высших сферах у г-жи Шнейдер был так велик, что нельзя было не предвидеть победы общественного мнения над цензурными соображениями. И действительно, в афишах появился анонс знаменитой оперетты, только с заглавием „Сабля моего отца”. В один момент все места были разобраны в театре, и в первое представление кроме всего фешенебельного общества было много придворных особ».
В 1875 году в столицу впервые приехала на гастроли еще более знаменитая французская актриса оперетты и эстрады Жюдик (ее настоящее имя – Анна Дамьен). По приглашению самого Оффенбаха она выступала на сцене «Буфф-Паризьен», а затем успехи и слава открыли ей театральные врата всей Европы и России.
Искусство искрометной французской оперетты достигло в творчестве артистки своей вершины. Жюдик обладала ярким комедийным дарованием, грациозность ее жестов и выразительность мимики покоряли зрителей. Артистка создала также новый жанр театрализованной героической песни. Немудрено, что на появление замечательной исполнительницы отозвался и Некрасов:
- Мадонны лик,
- Взор херувима…
- Мадам Жюдик
- Непостижима!
- Жизнь наша – пуф,
- Пустей ореха,
- Заехать в «Буфф» —
- Одна утеха.
…Последняя выписка картотеки Г. А. Иванова, относящаяся к этому театру, датирована 1878 годом. Взята она из «Ведомостей С.-Петербургской полиции»:
«8 августа последовало освящение здания театра „Буфф”, снятого г. Ростом… Он предполагает давать в нем пантомиму, представления обезьян, устраивать в нем цирк, а также сцены танцев и пение».
Позже в Петербурге возникнут иные буффы – зимние и летние. Карта увеселительных театров пестра и переменчива во времени. Но театр, о котором я рассказал, стал первым в этом ряду, который в наши дни замыкается Театром-Буфф, находящимся на правом берегу Невы. Правда, есть тут и некоторое различие. Буфф на Александрийской площади родился и окреп благодаря гастролям в российскую столицу талантливых и очаровательных французских примадонн. А современный петербургский «Буфф» только что вернулся из Парижа, где с успехом показывал свое юное, зажигательное искусство.
Полные залы на спектаклях этого театра свидетельствуют не только о талантливости молодых актеров, но и о том, что петербуржцы и сегодня вопреки всему не унывают и по-прежнему хотят смеяться, веселиться, отдыхать и прекрасно умеют это делать!
Юрий АЛЯНСКИЙ
«Наследие» № 18 (276) опубликовано 5.09.1992 в № 204–205 (303–304) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Шоколадная анкета
Такой необычной рекламы старый Петербург, похоже, не видывал.
Но сначала о тех, кому пришла в голову счастливая мысль воспользоваться для рекламы своей продукции суждениями видных столичных артистов. Существовала в начале нынешнего века в домах 33–36 по Лиговской улице (ныне проспекту) шоколадная фабрика акционерного общества «Миньон». Ее владельцы, люди предприимчивые, были заинтересованы в увеличении сбыта своей продукции, стремились обойти такие широко известные фирмы, как «Блигкен и Робинсон», «Жорж Борман» и другие. У них – громкие имена и традиции, тысячи постоянных покупателей и сбытовиков по всей стране. У фабрики – шоколад «Миньон», ароматный, вкусный, тающий во рту. И шесть фирменных магазинов в разных концах города.
Страница артиста Константина Варламова («дяди Кости») из альбома «Что говорит артистический мир?»
В своем пристрастии к конфетам и шоколаду «Миньон» призналась и актриса Елизавета Тиме
Надо сказать, что «Миньон» завоевал себе добрую репутацию у питерцев. Но какой уважающий себя предприниматель не стремится к расширению производства?
Артисты, любимцы публики – вот кто может помочь! Был нанят опытный фотограф. Задачу перед ним поставили несложную: сделать фотопортрет актера, позднее вручить ему пачку фотографий и попросить автограф. Непременно с отзывом о качестве конфет и шоколада «Миньон». После почти двухлетней работы в распоряжении администрации общества оказалось около 50 снимков с автографами и отзывами. Добавим, что при каждом визите фотограф преподносил «презент» – набор конфет и шоколада в оригинальной упаковке.
Затем был выпущен альбом «Что говорит артистический мир?» с портретами и отзывами, отпечатанными новым способом художественной печати «Меццотинто-Гравюра». Его предваряло слово от издателя: «К Вам, кумиры толпы, несем мы наши восторги за те незабвенные минуты счастья, которыми Вы дарите нас, заставляя забывать все будничные дрязги и суету жизни. Вас осыпают лаврами, драгоценностями, цветами и шоколадом, и кто же лучше Вас может по достоинству оценить, что хорошо и что лучше всего. Вот почему, являясь фабрикантами шоколада, мы постарались получить Ваши отзывы о качестве наших изделий. Предлагая этот альбом публике, мы приносим глубокую благодарность высокоуважаемым артисткам и артистам как за их лестные отзывы, так и за благосклонную готовность отозваться на эту первую «шоколадную анкету».
Что же писали артисты? Певица Евгения Збруева:
- На устах твоих темная песня
- Миньоны,
- А в устах – соблазнительно —
- сладкий «Миньон»…
- Ты поешь, улыбаясь. Он вторит,
- влюбленный…
- Кто ж причина блаженства?
- Миньон или он?
Актер Александринской драмы Юрий Юрьев:
- Когда грущу или скучаю,
- Иль озабочен, утомлен,
- То бремя жизни облегчаю
- Всегда конфектами «Миньон».
Балерина Агриппина Ваганова: «Кушать Ваши шоколадные конфекты так же приятно, как танцевать с оркестром под управлением господина Дриго». Певица Лидия Липковская: «Конфекты фабрики „Миньон” обьядение!!! Сладкоежка Липковская».
Танцовщица Мариинского театра Людмила Шоллар подвела своеобразный итог «шоколадной анкете»:
- Разгадайте-ка загадку:
- Что так нежно и так сладко?
- В чем приятных свойств мильон?
- Что вкушают в высшем свете,
- В драме, в опере, балете?
- Шоколад Миньон.
Небольшого формата отлично изданный альбом этот бесплатно раздавали посетителям магазинов фирмы. Нет, что ни говорите – всем рекламам реклама!
Борис МЕТЛИЦКИЙ
«Наследие» № 26 (284) опубликовано 26.12.1992 в № 296–297 (395–396) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Рубеж двух эпох
Хорошо понимаю, что поставленный мною над этим материалом заголовок кому-то покажется надуманным. Дескать, о каких «эпохах» можно толковать, да еще делать обобщения на примере фотоснимков расхристанной и цивилизованной подворотен. Но не спешите с упреками. Не все так просто, как кажется.
Давайте для начала обратимся в прошлое. В проклятый, по недавней официальной терминологии, царизм. Санкт-Петербург именно при царизме славился не только редкостной красотой, но и поразительной ухоженностью и порядком. (Оставляю за скобками дореволюционные промышленные окраины, ибо они не входили в черту города.) Как этого добивались?
Практически весь жилой фонд столицы находился в частных руках. И по одной этой причине содержался в идеальном состоянии. За его благополучием, и прежде всего за благополучием жильцов, наблюдали дворники и швейцары.
Любопытно, что эти разумные, проверенные многолетней практикой, житейские нормы и правила сохранялись довольно долго и в советское время. Разогнали только швейцаров. А вот дворники… Питерские старожилы помнят, что еще в первые послеблокадные годы институт дворников существовал почти в прежнем объеме. Как и институт управляющих домами. Во всех зданиях были целы ворота, двери парадных. С наступлением позднего времени они запирались, и в дом можно было попасть только после звонка дежурному дворнику.
Результат этой «реликтовой» системы, доставшейся в наследие от царизма, впечатлял. Ни праздношатающихся темных личностей по дворам и подъездам, ни выпивок и драк на лестницах, ни обилия квартирных краж.
Радикальные – в худшую сторону! – перемены последовали в пятидесятых годах. Укрупнение и централизация всех служб жилищного хозяйства привели к ликвидации штата управдомов, резкому сокращению числа дворников. Под предлогом развития коллективных начал в большинстве домов сняли металлические ворота и замки с парадных дверей.
Итог общеизвестен – полный беспредел в жилищном хозяйстве центральных районов города.
Как быть? Как сегодня вернуться к утраченному порядку?
Поднаторелые невзгодами питерцы быстро нашли решение: прежде всего возвратить былое назначение сохранившимся воротам. Повесить замки и запирать их на ночь. А то и на день, если во двор ведут два въезда. На двери парадных – кодовые замки.
Это всеобщее стремление к цивилизованному быту весьма характерно. Многие здания уже украсились на средства жильцов новыми воротами.
Вот вам и рубеж двух эпох: приказного коллективизма с его «общенародным», и потому бесхозным, достоянием, которое разрушали и растаскивали кто только мог, и в муках рождающегося личностного отношения к дому, в котором живешь.
Если реформы нашего житья-бытья будут продолжены – надежда на это греет всех питерцев, – то скоро появятся и умелые, знающие дело управдомы, и опытные дворники. С непременными фартуками и медной номерной бляхой.
А Петербург станет чище, спокойнее и величественнее. Ведь в недалеком будущем – его трехсотлетие.
Борис МЕТЛИЦКИЙ
«Наследие» № 8 (292) опубликовано 17.04.1993 в № 87–88 (486–487) «Санкт-Петербургских ведомостей»
«Принимай нас, Суоми-красавица»
У меня в руках старая граммофонная пластинка, выпущенная, судя по матричному номеру и разрешительному индексу Ленинградского репертуарного комитета, осенью 1939 года. Пятьдесят четыре года назад. Текст этикетки гласит: «Фабрика граммофонных пластинок. Ленинград. „Принимай нас, Суоми-красавица”. Муз. Покрасс, сл. Д’Актиля. Исп. ансамбль Красноармейской песни и пляски ЛВО п/у А. Анисимова».
Первое же прослушивание диска повергло меня в состояние легкого шока. Признаюсь, никогда раньше не приходилось сталкиваться со столь откровенной прокламацией и пропагандой предстоящего ввода советских войск в суверенную Финляндию. Жанр для обращения к жителям Суоми был выбран совершенно необычный – песня!
Чтобы разобраться в ситуации, приведшей к появлению пластинки, пришлось окунуться в прошлое. Конец сентября – начало октября 1939 года. Независимые прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва, уступая настояниям Москвы, подписали с СССР «Пакты о взаимопомощи», в соответствии с которыми в эти страны были введены советские войска. Аналогичная перспектива возникла и для Финляндии. Однако переговоры, происходившие в октябре-ноябре, ни к чему не привели. В итоге Договор о ненападении 1932 года был денонсирован, отношения прерваны, и 30 ноября началась «зимняя кампания» 1939–1940 годов, принесшая Советскому Союзу миллионные расходы и огромные человеческие потери. Финляндия сохранила самостоятельность.
Песня «Принимай нас, Суоми-красавица», судя по тексту («невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках»), сочинялась заблаговременно, еще в период затянувшихся переговоров с финнами. Уже тогда советская сторона хорошо понимала, что военных действий не избежать, что несговорчивых соседей следует «проучить». Но – внешне цивилизованно. Поэтому авторам песни дали четкий идеологический заказ: она должна убедить слушателей, что советские войска пойдут не завоевывать, а «освобождать» народ Финляндии, их цель – помочь ему вернуть «отнятую, оболганную шутами и писаками» родину.
Выполнение заказа поручили людям весьма популярным: композиторам братьям Дмитрию и Даниилу Покрасс и поэту Анатолию Д’Актилю (Френкелю). Старший из братьев Даниил и Д’Актиль приобрели широкую известность еще в 1920 году, когда сочинили «Марш Буденного» («Мы – красная кавалерия, и про нас былинники речистые ведут рассказ»). В тридцатые годы композиторы прославились песнями «Москва майская», «Прощальная комсомольская», «Если завтра война», «Три танкиста». В отличие от них Д’Актиль отошел от массовой и военной песни, предпочтя ей лирику. Люди старшего поколения помнят «Добрую ночь», «Песню о неизвестном любимом», «Пароход», «Тайну».
Создание «Принимай нас, Суоми…» не составило особого труда для опытного поэта-текстовика. В тексте присутствовала оговоренная заранее с Д’Актилем политика «кнута и пряника»: танки, самолеты, штыки и – в противовес им – солнышко, сосняк, ожерелье прозрачных озер…
Пропагандистский музыкальный опус, сочиненный в Москве, был не случайно записан на грампластинку в Ленинграде. Он явно предназначался исключительно для района возможных боевых действий и адресовался кроме советской еще и финской стороне. Дескать, знайте, что вас ждет в случае несговорчивости!
Припоминая реалии конца тридцатых годов, можно с абсолютной уверенностью утверждать, что песня неоднократно звучала и в эфире, и по трансляционной сети Ленинграда. Не буду удивлен, если кто-то из питерцев сообщит, что слышал ее более полувека назад.
Что же предлагалось аудитории?
- Сосняком по околкам кудрявится
- Пограничный скупой кругозор.
- Принимай нас, Суоми-красавица,
- В ожерельи прозрачных озер.
- Ломят танки широкие просеки,
- Самолеты жужжат в облаках.
- Невысокое солнышко осени
- Зажигает огни на штыках.
- Мы привыкли брататься с победами,
- И опять мы проносим в бою
- По дорогам, исхоженным дедами,
- Краснозвездную славу свою.
- Много лжи в эти годы наверчено,
- Чтоб запутать финляндский народ.
- Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
- Половинки широких ворот!
- Ни шутам, ни писакам юродивым
- Больше ваших сердец не смутить.
- Отнимали на раз вашу родину,
- Мы приходим ее возвратить.
- Мы приходим помочь вам расправиться,
- Расплатиться с лихвой за позор.
- Принимай нас, Суоми-красавица,
- В ожерельи прозрачных озер.
Такие вот дружески-агитационно-устрашающие стишки. И – надо же – не приняла!..
Что же касается доверчивого раскрытия широких ворот, ведущих в Суоми, то это состоялось, но позже. Среди множества акций, связанных с этим событием, назову лишь одну: цветные номера «Санкт-Петербургских ведомостей» печатаются в Финляндии, и тамошние предприниматели и коммерсанты охотно публикуют в них рекламу, предназначенную для российских коллег и потребителей.
Борис МЕТЛИЦКИЙ
«Наследие» № 25 (309) опубликовано 25.12.1993 в № 274 (673) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Питерские задворки
Досадно, конечно, но мы плохо знаем свой город. Знания наши чаще всего ограничиваются общеизвестными памятниками зодчества или теми достаточно поверхностными сведениями, которые содержатся в путеводителях или справочниках типа «Ленинград от А до Я», «1000 вопросов и ответов о Ленинграде» и других, аналогичных им. Грустно сознавать, но целые, причем огромные территории в центре Петербурга оказываются для нас, питерцев, этакой «терра инкогнита».
Я убедился в этом много лет назад, когда, ожидая начала очередного сеанса в кинотеатре «Колизей», углубился от нечего делать в глубь квартала, ограниченного Невским проспектом и улицами Маяковского, Восстания и Жуковского. Сколько же интересного и неожиданного обнаружилось здесь! Интереснейшие постройки разных времен – от середины девятнадцатого до середины нынешнего века, остатки каких-то оград – от металлических до деревянных, удивительные по своей топографии проходы между зданиями, бывшими конюшнями, прачечными, амбарами. Многое прямо-таки просилось на пленку фотоаппарата или, что еще выигрышнее, на холст живописца.
Но самое, пожалуй, сильное впечатление оставила бурно разросшаяся внутри квартала зелень. Вековые деревья, кустарники, кое-где цветники. Я сообразил, что часть этого зеленого убора уцелела тут, вероятно, еще со времен знаменитого некогда Итальянского сада – он тянулся от Фонтанки к Пескам, то есть к району нынешних Советских, бывших Рождественских, улиц. Среди зелени и строений резвилась детвора, то и дело попадались площадки для игр и занятий спортом.
Какой-то другой, незнакомый Петербург предстал передо мной. «Задворки» города оказались не менее привлекательными, чем его парадные фасады. Попутно выяснилось, что проходные дворы позволяли беспрепятственно попадать и на улицы, и на проспект.
Это мое «путешествие» припомнилось, когда почта принесла письмо читателя Михаила Михайловича Блиоха. В нем он привел текст заметки, напечатанной в 1872 году в газете «Кронштадтский вестник» № 62 за 30 мая. Речь шла о саде бывшей усадьбы светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова на Васильевском острове. Каждый, кто знает этот район, сразу представит себе территорию, расположенную между Университетской набережной, Съездовской (Кадетской) линией, Волховским переулком и Биржевой и Менделеевской линиями. Очень немногим доводилось бывать тут, на этой запретной, принадлежащей военному ведомству земле. Она и сейчас практически недоступна для обычных смертных.
Заметка, озаглавленная «Рост Петра Великого», сообщала следующее: «В саду Павловского военного училища (на Васильевском острове), принадлежавшем первоначально известному любимцу Петра I князю Меншикову, есть очень любопытный пункт, напоминающий преобразователя, которого 200-летнюю годовщину приготовляется праздновать вся Россия (Петр I родился 30 мая /9 июня/ 1672 года. – Ред.). Петр Великий однажды мерял здесь свой исполинский рост, который и был отмечен на одной стене сада, перешедшего потом в собственность Кадетского корпуса и принадлежащего ныне Павловскому училищу.
Рост Петра показан 2 аршина 14 вершков (около 2 метров 4 сантиметров. – Ред.).
Впоследствии на этом же самом месте меряли свой рост и отметили великие князья: Александр Павлович и Михаил Павлович.
Рост Александра Павловича в 1788 году был 2 аршина 2 вершка, Константина Павловича в 1789 году 1 аршин 15 вершков.
Тут же обозначена высота воды в 1777 и 1824 гг. Из сделанных на стене отметок видно, что в 1777 году вода поднялась до 9 футов и 10 дюймов выше обыкновенной высоты, а в 1824 году высота воды доходила до 2 аршин 9 вершков (1 фут – 0,3048 метра. – Ред.).
Место это у стены обведено было когда-то железною решеткою, которая теперь (1872 г. – Ред.) находится в самом жалком состоянии: часть решетки сломана и пропала неизвестно куда; вокруг решетки валяются обломки досок и разбросана масса мусора и всякого хламу; на стенах обвалилась штукатурка, и сами они кругом исписаны разнообразными надписями, изображающими различные фантазии, возникавшие в разное время в головах воспитанников; дорожка, ведущая к месту, где мерял свой поистине великий рост Петр I, заросла травою».
Любопытная информация! Оказывается, и в царское время бывали случаи непочтительного отношения к памяти царственных особ. Поэтому не следует особенно винить в подобном же отношении большевиков. Другое дело, что начальник Павловского училища, прочтя заметку, тотчас навел необходимый порядок, чем, признаемся, большевики не очень отличались…
Понимая, что от своеобразного мемориала, описанного в заметке кронштадтской газеты, наверняка давным-давно ничего не осталось, я не стал предпринимать попыток проникнуть под все еще закрытые для посторонних кущи меншиковского сада. Но сама по себе тема внутриквартального старого Петербурга, право же, прелюбопытна. Она осталась за пределами внимания историков города, и ею есть смысл серьезно заинтересоваться. Кто знает, какие находки можно сделать в питерских дворах, за фасадами жилых и административных зданий?..
Борис МЕТЛИЦКИЙ
«Наследие» № 13 (322) опубликовано 16.07.1994 в № 133 (810) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Елка по-советски
Праздник Рождества Христова с непременной елкой, украшенной яркими игрушками, гирляндами бус и зажженными свечами, существует с давних времен. Его восторженные описания встречаются в произведениях многих русских писателей-классиков. По их рассказам, всюду участниками игр и хороводов вокруг лесной красавицы были ребятишки, глаза которых сверкали от радости и веселья.
Но такое бывало в пору дореволюционную. Существует, к счастью, и сейчас. Я же хочу напомнить о том, как проходил рождественский праздник в советское время, в начале тридцатых годов. Удивительные это были годы, поражающие и поныне нелепостью многих ситуаций и надуманных ограничений и запретов. К примеру, усилиями небезызвестного в ту пору «воинствующего безбожника» Емельяна Ярославского Рождество было громогласно объявлено пережитком «проклятого» прошлого, с ним надлежало усиленно бороться и ни в коем случае не отмечать. Соответственно, запрещалось рубить елки, «зеленого друга» человека.
Группа работников культпросвета политического отдела Петроградского укрепленного района у елки, устроенной для детей красноармейцев. Дата съемки: январь 1920 г. Место съемки: Петроград. Фотография ателье Буллы
Но кто же мог в те годы запросто отказаться от еще совсем недавних рождественских праздников, от пьянящего запаха свежей хвои? Поэтому в провинции чихали на рекомендации Емельяна, несли из лесу елочки, ставили в избах и квартирах, украшали уцелевшими с царских времен игрушками, и… веселись, душа, радуйтесь, детишки!
В крупных городах все обстояло значительно сложнее. «Елочников» преследовали, штрафовали, клеймили в стенных газетах, прорабатывали на собраниях. О членах партии и говорить нечего – на их долю выпадала основная тяжесть борьбы с «религиозными предрассудками».
Но чему отдавать предпочтение – строгим указаниям партийных органов или настойчивому гудению ребятни: «Пап! А елка у нас будет?». Ведь рождественские праздники ликвидировали не сразу, детвора успела оценить их очарование.
Обычно отеческая любовь одерживала верх над партийными канонами. И тогда для папы-коммуниста начинались сложные хлопоты. Требовалось раздобыть, привезти и поставить елку, причем так, чтобы никто не видел. Таинство сие совершалось по ночам, когда город спал.
В нашей семье это происходило так. Отец, железнодорожник, просил кого-нибудь из знакомых кондукторов товарных поездов привезти елку. Просьба выполнялась. Ближе к ночи в нашей квартире – жили мы в здании Варшавского вокзала – раздавался звонок. Рослый дядя вносил приличных размеров елку, завернутую в мешковину. Согретый поднесенной ему стопочкой, откланивался и уходил.
Тотчас начиналось главное: установка и украшение лесной гостьи. Но предварительно свершалась ответственная операция: тщательно завешивалось одеялом окно комнаты, чтобы с улицы ничего нельзя было разглядеть. Отец специально выходил, смотрел. Возвращался: «Порядок!». Теперь можно было развешивать игрушки, гирлянды, укреплять свечи. Специальных елочных, увы, не было. Электрогирлянд – тем более. В ход шли обычные стеариновые, приобретенные в керосиновой лавке. Их разрезали на куски и аккуратно обстругивали до необходимой толщины.
Сразу после Рождества елку, чтобы не «засветили» стукачи, разбирали, прямо в комнате пилили на куски и благополучно отправляли в печку.
«Игра в прятки» с партией и властями окончилась 28 декабря 1935 года. В этот счастливый для всех ребятишек день кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) П. П. Постышев выступил в «Правде» со статьей «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Зеленая красавица была реабилитирована, Рождество, разумеется, нет…
Я вспоминаю гонения на елку без особой обиды. Нам, ребятам (пионерам!), была даже интересна атмосфера таинственности вокруг елки, те наивные ухищрения, на которые пускались наши родители ради того, чтобы доставить нам удовольствие. К тому же тогда за рождественскими праздниками не ощущалось ничего религиозного. Появление в квартире елки означало лишь приближение Нового года.
Борис МЕТЛИЦКИЙ
Фотография предоставлена ЦГАКФФД СПб
«Наследие» № 1 (331) опубликовано 14.01.1995 в № 9 (937) «Санкт-Петербургских ведомостей»
«Открыт паноптикум печальный…»
Семьдесят пять лет назад ушел из жизни поэт Александр Блок. С ним вместе уходили в историю и эпоха Серебряного века русской литературы, и времена, когда в российской столице шумели, кружились, блистали ночными огнями многочисленные театры-кабаре, сады развлечений, клубы, рестораны. Блок часто посещал эти увеселительные заведения. Его влекли театры миниатюр, садовые эстрады, цирки, где «можно встретить иногда такие блестки дарований, такие искры искусства, за которые иной раз отдашь с радостью длинные „серьезные” вечера, проведенные в образцовых и мертвых театрах столицы…».
Блок наблюдал самоуверенные компании «золотой молодежи», денежных воротил, женщин всех сословий, слушал цыганские хоры – непременных участников эстрадных представлений, французских шансонетных певичек.
Помните, у Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…».
Иногда приезжал он в Озерки, садился на скамью у широкого венецианского окна вокзала и смотрел на перронную суету. Паровозные гудки, свистки кондукторов, лязг железа сливались в грустную и тревожную музыку расставаний. И однажды случилось чудо. Когда очередной поезд тронулся и белесые клочья пара полетели назад, в опущенном окне вагона мелькнуло прекрасное женское лицо. И шляпа с траурными перьями. И в кольцах узкая рука. Видение возникло на миг – и исчезло.
А вечером он сидел за ресторанным столиком с бокалом вина и снова увидел Ее. Как могла Она очутиться здесь, в этом чаду, среди возбужденных и пьяных людей?.. Тогда, в апреле 1906 года, родились знаменитые строки:
- По вечерам над ресторанами
- Горячий воздух дик и глух…
Так вошла в русскую поэзию Незнакомка.
Через некоторое время в тех же Озерках Блок увидел афишу цыганского концерта. Остался послушать. Потом записал: «…Они пели Бог знает что, совершенно разодрали сердце; а ночью в Петербурге под проливным дождем та цыганка, в которой, собственно, и было все дело, дала поцеловать свою руку <…>. Потом я шатался по улицам, приплелся весь мокрый в „Аквариум”, куда они поехали петь, посмотрел в глаза цыганке и поплелся домой…».
Так явилась ему еще одна Незнакомка.
В 1907 году Александр Блок забрел в один из столичных паноптикумов – музей восковых фигур на Невском, во дворце княгини Юсуповой (ныне – Дом актера). Среди экспонатов находилась раскинувшаяся на ложе египетская царица Клеопатра. Некоторые восковые фигуры были снабжены механическим устройством, которое приводило их в движение. Хозяин заводил где-то под ложем механизм, и грудь Клеопатры начинала вздыматься, глаза ее раскрывались, змея на ее груди выпрямлялась и выпускала жало. В тот день Блока увидел в этом зале К. И. Чуковский. «Меня удивило, – писал позднее Корней Иванович, – как понуро и мрачно стоит он возле восковой полулежащей царицы с узенькой змейкой в руке, – с черной резиновой змейкой, которая, подчиняясь незамысловатой пружине, снова и снова тысячу раз подряд жалит ее голую грудь к удовольствию каких-то похабных картузников. Блок смотрел на нее оцепенело и скорбно».
Тогда появилась блоковская «Клеопатра»:
- Открыт паноптикум печальный
- Один, другой и третий год.
- Толпою пьяной и нахальной
- Спешим…
- В гробу царица ждет.
- Она лежит в гробу стеклянном,
- И не мертва, и не жива,
- А люди шепчут неустанно
- О ней бесстыдные слова…
В 1910 году Блок задумал большую поэму «Возмездие». Предгрозовая атмосфера накануне мировой войны связалась в воображении поэта… с расцветом французской борьбы, которую он наблюдал в петербургском цирке «Модерн» (на Петербургской стороне, в Александровском парке): «…Среди борцов были истинные художники; я никогда не забуду борьбы безобразного русского тяжеловеса с голландцем, мускульная система которого представляла из себя совершеннейший музыкальный инструмент редкой красоты».
В годы жизни на Петербургской стороне, на Малой Монетной улице (1910–1912), Блок часто приходил в Александровский парк. Он восхищался эстрадными эксцентриками, мерялся силой у пружинных автоматов и без конца катался на «американских горах». В парке находился Народный дом императора Николая II, а в нем – маленькая обсерватория; ее обслуживал студент, астроном и поэт. Поздними вечерами смотрел Александр Александрович сквозь телескоп на звезды, рассматривал фигуру ангела на шпиле Петропавловского собора.
А столичные рестораны! Как-то в 1910 году Блок обедал в ресторане Виллы Родэ, который, кстати сказать, К. Чуковский назвал «великолепным притоном». И появились знакомые всем строки:
- Я сидел у окна
- в переполненном зале.
- Где-то пели смычки о любви.
- Я послал тебе
- черную розу в бокале
- Золотого, как небо, аи.
В доме № 57 по Офицерской улице – последнее пристанище поэта. А по соседству на той же улице располагалось одно из популярных увеселительных заведений столицы – Луна-парк. Александр Александрович приходил сюда регулярно. Снова и снова катался на здешних «американских горах» – до самого закрытия кассы. Нередко приводил сюда и друзей. Смотрел постановки драматических трупп на сцене здешнего театра. Присутствовал и на скандальном спектакле – постановке трагедии В. Маяковского «Владимир Маяковский», после которой публика устроила исполнителям и автору, игравшему центральную роль, обструкцию.
Не раз приезжал Блок и в «Привал комедиантов» – клуб художников, писателей, актеров на Марсовом поле. Слушал здесь, как читает жена, Любовь Дмитриевна, профессиональная артистка, только что впервые опубликованную в газете его поэму «Двенадцать». В зрительном зале он стоял у задней стены, чтобы лучше видеть реакцию слушателей.
А на эстраде уже звучали и его строки, и здесь же, в маленьких театрах-кабаре, возникали новые – от впечатлений, даримых чужим, не всегда понятным и доступным весельем. Сколько его стихов родилось на торжище веселящегося Петербурга!
И все эти годы в дневниках и письмах поэта мелькали имена столичных ресторанов: «Донон», «Малый Ярославец», «Крыша» Европейской гостиницы.
После одного из обедов на «Крыше» он писал матери: «…там занятно: дорожки, цветники и вид на весь Петербург, который прикидывается оттуда Парижем…».
Юрий АЛЯНСКИЙ
«Наследие» № 33 (389) опубликовано 10.08.1996 в № 151 (1327) «Санкт-Петербургских ведомостей»
О пользе игры в карты
Легендарный журнал «Театр и искусство» родился в Петербурге ровно сто лет назад. Первый его номер вышел в свет 5 (17) января 1897 года. Напечатанный на хорошей бумаге большого формата, с прекрасными иллюстрациями, номер стоил 20 копеек (годовая подписка – 6 рублей).
Создал новый журнал выдающийся критик, публицист, режиссер, драматург, театральный деятель Александр Кугель. Множество блестящих по стилю статей, очерков, фельетонов; больше десятка книг о театре, об актерах, режиссерах, драматургах, театральных антрепренерах; литературные воспоминания; созданный вместе с женой, артисткой З. В. Холмской, театр сатиры и пародии «Кривое зеркало» (он существовал с 1908-го с небольшим перерывом до 1931 года, пережив своего создателя на три года) – это все сделано Кугелем.
«Ежедневная газета имеет преимущество в смысле быстроты и свежести заметок, – писал А. Кугель в предисловии к первому номеру нового журнала. – Но в ежедневной газете быстрота убивает подчас точность, а еще чаще красоту художественного отражения. Быстрота размножения обратно пропорциональна жизнеспособности размножаемого».
В первом номере «Театра и искусства» представлены были многие виды и жанры театральной публицистики и критики: в их числе статья о современных театральных течениях, очерк самого Кугеля о великой итальянской драматической актрисе Элеоноре Дузе – она находилась тогда в расцвете таланта и славы и успела побывать на гастролях в России.
Печаталась и самая первая хроникальная заметка, весьма примечательная: «Государь Император по всеподданнейшему ходатайству председательницы Императорского общества поощрения художеств, Ее Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, Всемилостивейше соизволил наградить профессора скульптуры академика Марка Антокольского чином действительного статского советника». В табели о рангах так именовался четвертый по значимости чин (соответствовавший в армии чину генерал-майора).
Далеко не все имена ведущих авторов журнала «Театр и искусство» что-либо скажут современному читателю. Среди самых заметных – прозаик, критик, журналист В. Г. Авсеенко; литературный и театральный критик, фельетонист А. В. Амфитеатров; театральный критик и драматург Ю. Д. Беляев; театральный деятель, переводчик, историк искусства П. П. Гнедич. Они в значительной мере определяли уровень, стиль и направление нового журнала.
Позднее к этим авторам присоединился еще один – Анатолий Васильевич Луначарский. С 1906-го по 1917 год он жил в эмиграции и оттуда посылал в журнал свои корреспонденции. А потом вспоминал о тех годах в предисловии к книге А. Кугеля «Профили театра»: «Я помню, в годы нашей большой близости, когда я работал под руководством Кугеля в его театральном журнале, как „корреспондент из Парижа”, я как-то раз сказал ему, как много мне приходится писать и как быстро я пишу. Вместо похвалы я услышал из уст Кугеля строгое порицание. Он сказал мне: „Я доволен вашими статьями, у вас это выходит очень недурно, но если вы действительно пишете так быстро, это значит, что вы могли бы добиться как писатель гораздо большего. Я никогда не позволяю себе писать что-нибудь сразу или диктовать свои статьи…”.
Статьи Кугеля представляются крылатыми, быстролетными, импровизированными, но в них заключается не только много таланта, но и много добросовестности».
Начиная свои собственные воспоминания о рождении театрального журнала, А. Кугель увлеченно развивает идею человеческого легкомыслия как залога оптимизма, бодрости духа и воли к жизни. Природным своим легкомыслием, по его собственному утверждению, и был он подвигнут на создание журнала «Театр и искусство», хотя совершенно не владел тогда необходимыми для подобного начинания азами деловитости, коммерции, экономики. Да и начального капитала имелось маловато – около трехсот рублей.
Но судьба потворствовала легкомысленному мечтателю. В те дни один театральный знакомый пригласил его поиграть после обеда в карты. Кугель играть не любил и не слишком-то умел, но отказаться посчитал неудобным. Игра затянулась далеко за полночь. Было смертельно скучно, хотелось спать. Но, как это случается с неофитами, он вчистую обыграл своих партнеров и в одночасье приобрел значительную сумму, которая и помогла появиться на свет первому номеру «Театра и искусства».
Дитя легкомыслия оказалось вполне жизнеспособным. Впрочем, не буду пересказывать своими словами прекрасные страницы воспоминаний самого создателя журнала…
Юрий АЛЯНСКИЙ
«Наследие» № 2 (411) опубликовано 11.01.1997 в № 5 (1430) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Целитель Александровской колонны
В 1861 году императору Александру II доложили, что на отполированной поверхности Александровской колонны появились опасные трещины. Вскоре выяснилось, что проблемы подобного рода возникали и прежде, еще при жизни архитектора, возводившего этот памятник. Тогда О. Монферран в своих рапортах объяснил, «что обозначившаяся на колонне полоса вид трещины имеет только вследствие оптического обмана, происходящего от особенных свойств гранита, в сущности же колонна нисколько не повреждена».
На сей раз высочайшим повелением был учрежден «Комитет для исследования повреждений памятника Александра I». В него были назначены известные архитекторы К. А. Тон, А. П. Брюллов, А. И. Штакеншнейдер, Г. А. Боссе, знаменитые ученые Г. П. Гельмерсен, Э. И. Эйхвальд, А. Я. Купфер. В Комитет был направлен и инженер-генерал-майор В. Д. Евреинов – как «наиболее в сем случае могущий быть полезным».
После возведения вокруг колонны лесов все смогли убедиться, что повреждения на колонне не являются обманом зрения, а действительно представляют собой трещины, заполненные еще перед установкой колонны какой-то мастикой, уже потрескавшейся и местами выпавшей.
В. Д. Евреинов обратил внимание представительного собрания на то, что «совокупность трещин как на юго-западной, так и на северо-восточной стороне колонны образует как бы полосу, перерезывающую колонну сверху вниз, по направлению… несколько наклонному, так что постоянное увеличение числа и размеров трещин со временем может породить обрушение колонны, соскальзыванием верхней части вниз». Он предложил трещины заполнить раствором из портландского цемента и осуществлять искусственную полировку – чтобы вода не замораживалась в теле колонны.
Летом следующего года колонну «лечили» по способу, предложенному Евреиновым. И сейчас можно видеть свисающие с капители медные цепи. К этим цепям крепили люльки, с которых регулярно (до 1917 года) осматривали колонну и устраняли на ней мелкие повреждения. Обычно цепи лежали на капители – не висели без дела, якобы изображая собой, по разумению некоторых, «разорванные узы тирании».
Кто же был генерал-майор В. Д. Евреинов, человек, «вылечивший» Александровскую колонну?
Архивные документы позволяют нам восстановить память о нем.
Вячеслав Дмитриевич Евреинов с отличием окончил Благородный пансион при Московском университете почти в одно время с М. Ю. Лермонтовым. Затем уехал в Петербург, где в 1828 году поступил в Институт корпуса инженеров путей сообщения.
Математические способности Вячеслава Дмитриевича позволили ему стать первым в выпуске 1831 года, и имя его было выбито на мраморной доске в конференц-зале института. Он был оставлен «для продолжения наук». Через некоторое время Евреинов был утвержден в должности профессора по курсу гражданской архитектуры и строительного искусства.
В памяти своих воспитанников он остался не только как «прекрасный профессор», но и как владелец «прекрасного катера о четырех парусах». Во время летней геодезической практики Евреинов набирал из студентов команду для плаваний по Неве. В. А. Панаев вспоминал: «…По Неве плавают беспрестанно палубные соймы, очень быстроходные, отлично лавирующие и очень круто ходящие по ветру. Евреинов не мог видеть этих сойм, чтобы не обгонять их. Обрезать сойму можно было только идя круче их к ветру. Надо было видеть беснование Евреинова, когда кто-нибудь из нас… вздумает переносить парус не вовремя… и сойма в это время проскочит мимо нас. Он серьезно сердился и объявлял, что впредь такого преступника брать к себе на катер не будет».
…Сейчас нам трудно представить себе то потрясение, которое испытало население Петербурга, когда 18 февраля 1855 года было извещено о кончине императора Николая I. Было решено воздвигнуть монумент почившему самодержцу в центре столицы. Огюст Монферран составил чертежи и рисунки для порученного ему памятника, и уже в 1856 году на Исаакиевской площади был вырыт котлован, начата кладка фундамента. Увы, вскоре, в мае 1858 года, архитектор умер…
Главноуправляющий путями сообщений и публичными зданиями генерал-адъютант К. В. Чевкин, в чьем ведении находилась постройка памятника, «всеподданнейше» предложил Александру II: «Строителем по окончательному сооружению памятника императору Николаю I назначить корпуса инженеров путей сообщений полковника Евреинова, имевшему и доныне по поручению моему наблюдение за выполнением работ онаго». В июле 1858 года Евреинов был утвержден.
Многосложная и колоссальная постройка была завершена к заданному сроку – к 25 июня 1859 года. В. Д. Евреинов был награжден единовременной выдачей 4 тыс. рублей, орденом Св. Анны с короною, стал генерал-майором.
Вскоре ему представилась возможность вновь реализовать свои организаторские способности.
Главным событием празднования тысячелетия России должно было стать сооружение памятника, посвященного этому знаменательному юбилею. Местом постановки памятника был избран Новгородский кремль. В 1859 году объявили конкурс на проект памятника. Из 53 присланных проектов первым был признан рисунок М. О. Микешина – художника-баталиста, недавнего выпускника Академии художеств. Строителем памятника был назначен В. Д. Евреинов, и работы успешно завершились за три года…
Последним памятником, с которым В. Д. Евреинову пришлось иметь дело, стал памятник Екатерине II в сквере у Публичной библиотеки.
Евреинов внес свои предложения по проекту, но в реализации его не участвовал. К тому моменту, когда на постройку были выделены деньги, его уже не было в живых: в декабре 1868 года в возрасте 57 лет он скончался.
В. А. Киприянов, современник В. Д. Евреинова, так описал его: «Это был человек высоких правил, в высшей степени честный и притом с большим умом. С развитием ума и образованием он соединил в себе доброту сердца, а бескорыстие и самоотвержение отличали собою все его служебные отношения и его собственную личную жизнь…».
Альберт АСПИДОВ
«Наследие» № 3 (412) опубликовано 18.01.1997 в № 10 (1435) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Под аккомпанемент выстрелов
«Завтра в Александрийском театре приступают к усиленным репетициям „Маскарада”. Репетиции будут происходить утром и вечером…» Хроникальное сообщение газет от 12 февраля 1917 года выглядит странно. Дело в том, что Всеволод Мейерхольд приступил к репетициям этого исторического во многих отношениях спектакля в… 1911 году и работал над ним с перерывами шесть лет. Столь долгого репетиционного периода история театра, пожалуй, еще не знала.
Только 25 февраля 1917 года императорский Александринский театр наконец объявил премьеру – постановку Всеволодом Мейерхольдом драмы Лермонтова «Маскарад».
Примечательные детали постановочной эпопеи и удивительного вечера премьеры сохранились в воспоминаниях Елизаветы Ивановны Тиме – она в спектакле играла одну из ключевых ролей, баронессу Штраль. Рядом с нею действовал на сцене звездный по тому времени состав: Арбенин – Ю. Юрьев, Нина – Е. Рощина-Инсарова, князь Звездич – Е. Студенцов, Казарин – Б. Горин-Горяинов.
…Вечером 25 февраля в петербургском воздухе была разлита настороженная тишина, сгущалась атмосфера тревоги. Уличные фонари не горели. Только вдоль Невского со стороны Адмиралтейства бил голубой луч прожектора. Где-то рядом стреляли. Патрули проверяли документы. На площади перед театром тоже царил мрак, но извозчичьи санки подкатывали одни за другими. В вестибюле театра толпились люди: пуля достала студента у самых дверей Александринки.
Директор Императорских театров Теляковский – еще директор, еще императорских – в течение дня звонил по телефону Юрьеву – справлялся, удастся ли сыграть премьеру. Зал наполнялся нарядной, но озабоченной публикой, и трудно было понять, что больше волнует людей: предстоящий сейчас ошеломительный по размаху, оформлению, актерскому составу спектакль или та политическая драма, что разворачивалась за стенами театрального здания…
«Маскарад» – одна из вершин русской драматургии. И драматургическая интрига, и мысль, и сами стихи отмечены совершенством. Недаром вот уже 160 лет «Маскарад» волнует, интригует, пленяет яростной дуэлью между добром и злом, между фальшью как законом жизни и искренними чувствами, скрытыми маской. Жизнь и поныне нередко оборачивается маскарадом, и все мы в ней – исправные актеры…
Елизавета Ивановна Тиме поражалась той скрупулезности, с какой работал над спектаклем Мейерхольд. Придирчив был он и к ней, утверждая, что баронесса Штраль – центральная фигура в интриге против Арбенина, в ее руках – пружина действия.
На последние репетиции Мейерхольд разрешил пускать в зал актеров других театров. Когда он сам взбегал на сцену и показывал исполнителям те или иные эпизоды, монологи, реплики, движения, в зале вспыхивала овация. Ни один из актеров не мог сыграть так, как показывал Всеволод Эмильевич. Он демонстрировал, как следует читать великолепные стихи Лермонтова, как метать карты на зеленом сукне, как носить военный мундир того времени, даже как надевать старинный дамский лиф. Он придавал значение любой мелочи, каждому штриху.
Столь же скрупулезен и придирчив был и художник спектакля Александр Яковлевич Головин, выдающийся мастер декорационного искусства. Эскизы костюмов он обдумывал месяцами: они формировались для конкретного исполнителя с учетом его фигуры. Головин временами превращался в закройщика и портного.
Для баронессы Штраль художник придумал костюм клоунессы – ярко-красный бархатный корсаж и красный колпачок, закрывающий часть лица, голову, плечи. Черная газовая юбка покоилась на четырех подкладках, и однажды Елизавета Ивановна, полагая, что такое количество нижних юбок ее полнит, надела перед выходом только три. В антракте Головин ворвался в ее уборную и обрушил на нее град упреков. Увидел-таки из зрительного зала!.. Больше артистка не пыталась обмануть художника…
Особенно оберегал Головин от посторонних взглядов роскошную мебель, которую они создали вместе со скульптором С. Евсеевым. Над фасоном стульев они бились несколько лет! Когда первый стул был готов, Головин распорядился, чтобы его спрятали понадежнее – до премьеры…
«Маскарад», впервые поставленный в исторический день 25 февраля 1917 года, имел большой успех.
Он прожил на сцене Александринского театра почти четверть века и сошел с репертуара лишь незадолго до начала Великой Отечественной войны.
Юрий АЛЯНСКИЙ
«Наследие» № 8 (417) опубликовано 22.02.1997 в № 35 (1460) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Борьба с разъяренной стихией
Известно, что в 1924 году Ленинград подвергся катастрофическому наводнению. Оно до сих пор остается вторым по высоте (380 см) в истории города…
Руководство Ленинграда приняло тогда самые решительные меры для борьбы со стихией. В каждом районе, на всех предприятиях и учреждениях были организованы «чрезвычайные тройки», созданы рабочие отряды, мобилизованы трудящиеся. Подняты были милиция, войска гарнизона и округа. Самым суровым образом с участием ГПУ пресекались паника, мародерство и спекуляция. В город вошла даже кавалерийская дивизия для поддержания общественного порядка.
Решимость властей одолеть стихию распространялась и на будущее. Была поставлена задача покончить с наводнениями. Примерно через год после бедствия комендантское управление города издало книгу «Ленинград в борьбе с наводнением». В предисловии указывалось, что «…по поручению Ленинградского губернского исполкома строится система борьбы с бессмысленной разъяренной стихией на опыте тяжелого дня 23 сентября 1924 года, когда изумительная по размаху организация захватила даже детей…».
Новой системой предусматривались самые различные меры: например, улучшение работы Главной геофизической обсерватории по наблюдениям за погодой и «всеми атмосферными явлениями», усовершенствование средств связи и оповещений об угрозе наводнений. Так, с началом подъема воды на 3 фута (91 см) Петропавловская крепость – должна была предупреждать город тремя орудийными выстрелами, при достижении 5-футовой отметки (152 см) – пятью. Дальнейший подъем воды сопровождался выстрелами каждые 15 минут с увеличением их числа по числу футов. При 7-футовом наводнении включались уже гудки заводов и фабрик. В ночные часы помимо стрельбы выпускались ракеты и зажигались сигнальные красные фонари.
Большинство мероприятий было заимствовано из опыта прошлых лет, особенно из указов Екатерины Великой по случаю потопа 10 (21) сентября 1777 года. Но почти через 150 лет размах действий предусматривался куда шире. Инструкции составлялись для пожарных и врачей, шоферов и извозчиков, дворников и спасателей на водах, для многих других специалистов.
…А на первый план уже выдвигалась идея радикальной защиты Ленинграда «с помощью сооружений, абсолютно исключающих возможность наводнений». Единственным препятствием к воплощению этой идеи было отсутствие средств. Но когда в 1926 году во главе ленинградских большевиков стал С. М. Киров, нашлись новые возможности.
Разработку проекта поручили вновь организованному Научно-исследовательскому институту коммунального хозяйства. На одном из первых мест в его планах значилось изучение «классовой борьбы в хозяйстве города», но были и более конкретные задачи. Проект защиты от наводнений разработали весьма детально и в короткие сроки.
Он предусматривал сооружение оградительной дамбы с водо- и судопропускными воротами по трассе Лисий Нос – остров Котлин – Ораниенбаум. Идею такой защиты предлагал еще после наводнения 1824 года первый ректор Института путей сообщения Пьер Доменик (а по-нашему – Петр Петрович) Базен.
Строительство собирались начать сразу же «централизованным хозяйственным способом подобно Днепрострою – Магнитогорскстрою – Беломорстрою и другим союзным гигантам». Завершить его предполагали в 1938 году.
Проекту защиты от наводнений не суждено было осуществиться. 1 декабря 1934 года в коридоре Смольного прогремел выстрел, оборвавший жизнь Кирова. Ленинград и страну затопила волна репрессий. Волнами наводнений заниматься перестали.
К вопросам защиты города от наводнений вернулись только в конце 1950-х. Разрабатывался новый генеральный план развития Ленинграда с застройкой низких приморских районов и замыслом создания «морского фасада» города. К тому же случилось сильное наводнение 15 октября 1955 года (293 см). Начался новый этап проектирования и исследований, завершившийся постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О строительстве сооружений защиты г. Ленинграда от наводнений». Оно было опубликовано в газетах 19 августа 1979 года.
Осенью того же года стройка, объявленная Всесоюзной комсомольской ударной, началась…
Ким ПОМЕРАНЕЦ
«Наследие» № 13 (422) опубликовано 29.03.1997 в № 59 (1485) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Всего лишь артистка…
Если, взяв кроссворд, к неизвестному слову из восьми букв вы прочтете вопрос «Великая русская артистка XIX века», то, вероятно, напишете: «Семенова», имея в виду действительно великую трагическую актрису Катерину Семенову. И вряд ли вам придут в голову восемь букв другого бессмертного имени – «Асенкова».
И дело, наверное, не только в том, что Семенова прожила шестьдесят три года и прочно вошла в историю русского театра, в том числе и благодаря воспевшему ее Пушкину. Не только в том, что Асенкова умерла всего в двадцать четыре, недоиграв, недолюбив: она все же поспела стать участницей первых русских представлений «Горя от ума», «Ревизора», «Гамлета», «Собора Парижской богоматери». Но она была несравненной, ошеломительной героиней водевилей, а без водевиля не обходился тогда в Александринском театре ни единый вечер.
Увы, прилагательное «великая» мы чаще отдаем трагическим актрисам. Это не только несправедливо, но и противоречит самому значению слова: «ВЕЛИКИЙ – превышающий обычную меру…» (В. Даль).
Варвара Николаевна Асенкова родилась в Петербурге 10 апреля 1817 года.
Поначалу судьба улыбалась ей. Природа одарила ее красотой и талантом. Публика восторгалась. Мужчины теряли голову и совершали безумства. Сам император после первого же робкого ее появления на сцене прислал ей подарок – бриллиантовые серьги. Рецензенты поднимали ее до небес.
К чему все это должно было привести? Разумеется, к зависти. О зависть, величайшая стародавняя сила тяжелого механизма искусства! Его колеса, колесики, шестерни смазаны ядом и желчью, и трудно очистить от них рычаги и поршни. Зависть, я уверен, давно стала шестым природным чувством человека.
Зависть рождается от бессилия. Тот, кто может, – делает и делом доказывает свое право, утверждает свое положение, обеспечивает свой успех. Если же ты не способен доказать, что сам хорош и талантлив, остается объявить всем, что твой соперник плох и бездарен.
- Увы, увы, не от актрис
- Актрисе ждать пощады,
– писал в поэме, посвященной памяти Асенковой, влюбленный в нее на всю жизнь Николай Некрасов.
Сила неправого отрицания, ложь, клевета, сплетня, подметное письмо – вот средства завистника, вставшего на путь бескровного убийства удачливого соперника, на путь неподсудного преступления.
Этим можно убить любой талант.
И вся эта грозная машина театрального закулисья нацелилась на хрупкую юную девушку, Вареньку Асенкову, ненадежно защищенную от атаки только огромным талантом и душевной чистотой.
«В случае, если болезнь лишила меня возможности исполнять мои обязанности в продолжение трех месяцев, то по истечении срока сего дирекция имеет право прекратить выдачу мне жалования впредь до моего выздоровления…» Это она написала своим детским каллиграфическим почерком по требованию дирекции императорских театров в контракте на следующее трехлетие ее службы в театре. Нет, не выполнит она условий этого контракта! Она все чаще простужалась (так думали окружающие), кашляла, куталась в теплый платок, пила горячее молоко. По сути, это начало ее «скорбного листа», как в ее время называли историю болезни. Настоящий «скорбный лист», составляемый не самим больным, а врачом, полагался, правда, лишь высокопоставленным особам и знатным пациентам. Варвара Николаевна Асенкова была всего лишь артисткой.
2 февраля 1841 года началась очередная, шестая и последняя в ее театральной жизни Масленица, актерская страда. Варенька играла. Для нее это было теперь как восхождение на Монблан. Правда, воздух Альп, кто знает, мог бы и спасти ее, а затхлая атмосфера кулис безвозвратно губила. В ту неделю она играла… 17 раз! После такого напряжения она слегла.
А вот отрывок из отчета, данного дирекции театров доктором Гейденрейхом. Сей листок ярче любых мемуаров воскрешает бессилие тогдашней медицины и безнадежное положение молодой артистки:
«В сентябре месяце 1840 года был я призван для пользования актрисы г-жи Асенковой, которая уже около восьми месяцев страдала болью в груди, живота, спины, горла, рук и ног… Хоть трехмесячное пользование почти уничтожило угрожающие симптомы, однако остались оные, показывающие, что малейшая простуда или другая причина могут всю болезнь и даже усиленную возвратить. Для уничтожения сей наклонности и остатков болезни считаю непременно нужным для г-жи Асенковой перемену климата и употребление Карлсбадских минеральных вод».
Совет опоздал. Она умерла.
Работая над своей первой книгой о жизни Асенковой, я отправился к опытнейшему ленинградскому фтизиатру профессору Софье Михайловне Кузнецовой. Странный визит к врачу через много лет после смерти пациентки дал поразительные результаты. Я спросил тогда Софью Михайловну:
– Что следует считать главной причиной того, что актеры болели туберкулезом в прошлом столетии? Копоть от ламп, пыль от декораций, ледяные сквозняки? Переутомление?
– Нет, – ответила Софья Михайловна очень определенно. – Прежде всего – длительное и высокое напряжение, нервная нагрузка нетворческого характера!
Вот она, главная причина болезни великой артистки. Сплетни. Подметные письма с грязными намеками. Угрозы, что контракт с нею, кормилицей всей семьи, продлевать не будут. Незаслуженная брань в газетах – мелкая месть не привыкшего к отказам императора.
Позднее другой великий артист Александр Мартынов скажет: «Не труд расстроил мое здоровье, а попирание моего человеческого достоинства».
«Любите ли вы театр?..» – вопрошал Белинский.
Любите?
Юрий АЛЯНСКИЙ
«Наследие» № 15 (424) опубликовано 12.04.1997 в № 69 (1494) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Часы Столыпиных
1 сентября 1911 года в Киеве на торжественном спектакле в Городском театре террорист Богров выстрелами из револьвера смертельно ранил председателя Совета министров России П. А. Столыпина. Среди потока телеграмм, сообщений, обрушившихся затем на газетные полосы, мелькнула в «Петербургской газете» и такая корреспонденция:
«У раненого Столыпина украдены часы. Киев, 3 сентября. Выяснился замечательно любопытный факт. В тот момент, когда к раненому председателю совета министров бросились на помощь со всех сторон различные лица, какой-то любитель чужой собственности пробрался к Столыпину и вытащил у него карманные часы. Сыскная полиция буквально с ног сбилась, разыскивая похитителя часов. Вчера в киевских газетах напечатано объявление о крупном вознаграждении лицу, которое доставит украденные или найденные часы П. А. Столыпина. До сих пор, однако, никто часов не доставил».
В другое время такая новость, наверное, была бы обыграна фельетонистами, не упустившими случая проехаться по «избранному обществу», собравшемуся в тот день в театре. Но тут масштабы разыгравшейся трагедии были таковы, что тихая просьба Столыпина вернуть часы утонула в водовороте событий. Что это были за часы, с поисками которых было связано последнее распоряжение П. А. Столыпина как председателя Совета министров и министра внутренних дел?
…В сентябрьскую ночь 1882 года в северных окрестностях Петербурга, близ деревни Юкки, остановилась коляска, запряженная тройкой лошадей. Через некоторое время к ней присоединились две такие же. О том, что произошло затем, сообщил популярный «Петербургский листок»:
«7 сентября на рассвете по Выборгскому шоссе, между станциями Парголово и Левашово, произошел поединок на пистолетах между состоящим по гвардейской пехоте поручиком князем Шаховским и прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка С-м. Противники, каждый с двумя секундантами, прибыли на место поединка в глухую ночь. Как только рассвело, противники стали у барьеров, и по команде одного из секундантов последовали одновременно два выстрела: прапорщик Ст-н, раненный в грудь, пал мертвым; поручику князю Ш. пуля попала в пах…».
Перелистывая пожелтевшие листы газет минувшего века, мы можем узнать и о подробностях дуэли, и о биографиях ее участников.
Прапорщик С-н – 22-летний Михаил Аркадьевич Столыпин, старший брат Петра Столыпина, тогда еще студента 1-го курса Петербургского университета. В 1877 году 17-летний Михаил пошел рядовым добровольцем на войну за освобождение славян, дослужился в боях до унтер-офицерского чина и был награжден Георгиевским крестом и серебряной медалью. После войны вольноопределяющийся Столыпин сдал экзамены за курс военного училища и был принят офицерами лейб-гвардии Преображенского полка в свою полковую семью. Ссора между однополчанами Столыпиным и Шаховским случилась в июле в известном в то время ресторане А la Cascad, пользовавшемся репутацией «колыбели разных столкновений между молодежью».
Столыпин вступился за честь своей невесты. Последовавшее затем собрание офицеров потребовало от поручика Шаховского выйти из полка. Столыпин был отправлен в отпуск, который он провел на водах в Карлсбаде. По возвращении его ожидала свадьба, но еще раньше – вызов на поединок.
Оба противника были отличными стрелками. Оружие – нарезные пистолеты. Между барьерами отмерили дистанцию – десять шагов… «На месте дуэли Столыпин снял сюртук, смеясь, и говорил, шутя, своему секунданту: „Прапорщик Н., обыщите меня, если я буду убит, часы мои отдать брату Петру». Столыпин целил в ногу, а Шаховской в сердце своего противника. Оба попали…
Завещанные на месте дуэли часы имели значение не только памятное. Вместе с ними Михаил Столыпин «передал» брату-студенту, которому предстояло жить и в следующем, двадцатом веке, и свою любимую, невесту – Ольгу Нейдгарт. Через два года Петр Столыпин женится на ней, несмотря на отказ в разрешении на это университетского начальства. У них будет счастливый брак, шестеро детей. Часы, мерно стучавшие в жилетном кармане у сердца, были связаны и с другим заветом – следовать всегда по пути чести, вооружившись при этом смелостью.
…Похоронили М. А. Столыпина на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, неподалеку от южной стены Никольской кладбищенской церкви. Расходы по похоронам и по сооружению памятника взяли на себя преображенцы. Составленный из блоков красного и полированного черного гранита, монумент напоминал тот, что поставлен в Тарханах над могилой Михаила Юрьевича Лермонтова – двоюродного брата Михаила Столыпина.
Семь лет спустя рядом на Никольском была похоронена и мать Михаила и Петра – Наталья Михайловна Столыпина.
Ее беломраморное надгробие не сохранилось. А у памятника М. А. Столыпину утрачены лишь венчавшие его «малые формы» (очевидно, печальная урна с крестом). Наверное, массивность памятника была причиной того, что он пережил время ликвидации многих «бесхозных» памятных сооружений на этом некогда богатом кладбище.
А может, памятник уберегла высеченная на черном камне евангельская надпись – загадочная, указывающая на необычную жизнь и необычную кончину покоящегося под ним молодого человека: «Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя»…
Альберт АСПИДОВ
«Наследие» № 17 (426) опубликовано 26.04.1997 в № 79 (1504) «Санкт-Петербургских ведомостей»
После царского нагоняя…
В одном из дворов Академии русского балета стоит здание, окруженное одноэтажными кладовыми. Второй его этаж украшен в стиле, напоминающем о флорентийских постройках эпохи Возрождения, – и этим дом выделяется среди соседних, гладко оштукатуренных, дворовых флигелей. Что было в этом здании, над которым ныне возвышается труба котельной?
…В 1832 году за Александринским театром на месте небольших частных домиков, окруженных садами и огородами, выросли два огромных каменных корпуса, украшенные колоннами и протянувшиеся на всю длину вновь образованной улицы, – шедевр знаменитого К. И. Росси. Нижние этажи корпусов напоминали привычные открытые галереи Гостиного двора и были арендованы предприимчивыми торговцами.
Восточный корпус принадлежал Удельному департаменту, который предполагал доходами от дома покрыть расходы, понесенные казной при застройке этой части города. В 1833 году квартиру в Удельном корпусе снял вновь назначенный директор Императорских театров А. М. Гедеонов. Это маловажное, казалось бы, обстоятельство оказалось началом последовавших затем значительных перемен.
Давно уже назревала необходимость переселения подведомственного дирекции Театрального училища в более подходящие для его значения помещения. Дом на Екатерининском канале (у Львиного мостика), купленный в 1858 году у сапожного мастера Крепса, был ветхий и во всех отношениях неудобен. Гедеонов, опытный администратор, проживая во вновь построенном казенном доме, постепенно ознакомился с его обширными и светлыми залами, столь нужными для училища. 20 мая 1836 года он обратился с просьбою об «исходатайствовании Высочайшего Его Императорского Величества соизволения на уступку Дирекции… помянутого здания… чем обеспечив совершение благосостояния школы, которая есть рассадник и главное основание театра…». Уже 30-го числа того же месяца и года таковое «высочайшее соизволение» было получено.
Все совершалось быстро. К концу 1836 года новые хозяева заселили корпус, теперь уже поименованный Театральным.
Однако торопливость, с которой проводилась перестройка, дала неизбежные в спешке промахи: так, не подумали о бане, прачечной и всякого рода кладовых, удобных для длительного хранения продуктов. Очевидно, что некоторые неудобства в быту училища несколько затянулись, и это привело к неожиданным последствиям.
Император Николай I свои прогулки или инспекционные поездки предпочитал совершать в одиночестве, без свиты. Таким образом в начале 1853 года он посетил и Театральное училище. Император появился перед воспитанницами в столовой, в обеденное время, в обществе только растерянного, с царской шинелью в руках, швейцара, не успевшего известить о визите начальство. Государь поздоровался с воспитанницами, подсел к ним, поинтересовался, почему на столе так много тарелок с недоеденными кушаниями. Потом понюхал второе блюдо (телятина под белым соусом), показавшееся ему дурно пахнущим. Затем побывал в спальне, где отвернул одеяло и оценил чистоту постельного белья. Далее он осмотрел лазареты, умывальные, ватерклозетные… Прибежавшему начальству училища царь выразил при отъезде свое неудовольствие, заявив: «У меня собаки лучше содержатся, чем мои детушки!».
Узнал ли также Николай Павлович о том, как часто моются в бане «его детушки»? Ведь им приходилось много и напряженно физически трудиться во время своих занятий в танцевальных учебных залах. Мы же можем узнать об этом из воспоминаний: «…в четверг ездили в баню. Делалось это так. Баня нанималась в Лештуковском переулке на целый день. Возили нас в тех же линеях, но линеи делали несколько оборотов. Начиналась перевозка рано с 7 часов утра, к молитве все уже должны быть обратно в Училище. Кто скорее мылся, того отправляли домой. В баню посылали горничных мыть нас, и маленьких и больших. Обыкновенно баню нам устраивали раз в два месяца».
Последствием «страшного» приезда императора в училище были не только административные взыскания, наложенные на виновных. Была составлена и Высочайше утверждена целая строительная программа, по мере осуществления которой обновлялись помещения училища и появлялись в нем новые удобства. Что касается обнаружившихся проблем, связанных с чистотой и питанием, то они были кардинально решены посредством постройки внутри училищной ограды здания – того самого, о котором мы говорили в начале. В этом здании находилась баня, в которой «воспитывающиеся в Училище дети могли пользоваться здоровым и безвредным паром» и мыться не реже одного раза в неделю (как того требовал и народный обычай); а также прачечная с обширной сушилкой. В окруживших здание кладовых с ледниками сохранялись от порчи съестные припасы.
Здание проектировалось в 1854-м, а было построено в 1855 году. В этом году умер Николай I. Новое здание, возведенное по проекту знаменитого театрального архитектора А. К. Кавоса, было как бы его прощальным подарком тем, кто только вступал на стезю служения русскому театру…
Альберт АСПИДОВ
«Наследие» № 30 (439) опубликовано 26.07.1997 в № 139 (1564) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Эй, ямщик, гони-ка к Яру…
Ресторан «Яр» сохранился в истории строками песен и романсов: «Эй, ямщик, гони-ка к Яру…», «Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит…». А стихотворение Пушкина «Дорожные жалобы» положено было на музыку дважды, причем в первый раз – при жизни поэта, когда романс на эти стихи сочинил композитор и музыкальный издатель Матвей Бернард:
- Долго ль мне гулять на свете
- То в коляске, то верхом,
- То в кибитке, то в карете,
- То в телеге, то пешком?..
- Долго ль мне в тоске голодной
- Пост невольный соблюдать
- И телятиной холодной
- Трюфли Яра поминать?..
Ресторан «Яр» открылся в Москве в 1826 году. Бывая в первопрестольной, Пушкин не раз обедал у Яра, на Кузнецком мосту, 9, в доме Шевана. В письме к Наталье Николаевне в Петербург (от 18 мая 1836 года) поэт сообщал московские новости: «…Бой Киреева с Яром произвел великое негодование в чопорной здешней публике. Нащокин заступается за Киреева очень просто и очень умно: что за беда, что гусарский поручик напился пьян и побил трактирщика, который стал обороняться?..». Пушкин и сам был хорошо знаком с хозяином заведения Транкелем Петровичем Яром; здесь поэт вкусно ел, пил, слушал, как и все, песни цыганского хора Ильи Соколова. Между прочим, в песенном творчестве случилась своеобразная аберрация, связанная с фамилией легендарного руководителя цыганского хора: «Соколовского гитара до сих пор в ушах звенит…» – поют солисты и хоры по сей день. Между тем фамилия знаменитого музыканта не Соколовский, а Соколов, поэтому правильнее – «Соколовская гитара».
Как рассказывает В. А. Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» (она стала одним из главных источников нашего знания быта Москвы конца XIX – начала XX века), «Яр» был в Москве единственным рестораном, где певицам разрешалось уезжать в конце вечера со своими поклонниками.
…Герои одной из пьес Чехова спорили о том, сколько в Москве университетов – один или два? Многие и поныне полагают, что ресторан Яра имелся один – московский, надолго переживший своего основателя. Но в начале нашего столетия это имя появилось на слуху уже в Петербурге. Причем легендарное название носили здесь целых четыре ресторана!
Первый и наиболее известный располагался на Большом проспекте Петербургской стороны, 18. Живя по соседству, на Малой Монетной улице, в 1910–1912 годах сюда нередко приходил Александр Блок. В его записных книжках 1910 года находим: «…Скрипки жаловались помимо воли пославшего их. – Три полукруглые окна („второй свет” „Яра”) с Большого проспекта – светлые, а из зала – мрачные, небо слепое…
Второй раз в „Яре”. О, как отрадно возвращаться на старое, милое место. Опять! Не знаю, что будет, – играет оркестр. Я опять на прежнем месте – самом „уютном” месте в мире – ибо ем третью дюжину устриц и пью третью полубутылку Шабли».
А вот несколько слов из воспоминаний выдающегося театрального деятеля начала века А. К. Кугеля: «Я до сих пор не могу забыть отдельного кабинета „Яра”, где я слушал Варю Панину, – просторный, неуклюжий, с такими же просторными и неуклюжими диванами, тускло освещенный, потертый».
В этих строчках содержится некоторая загадка: в каком «Яре» слушал Кугель знаменитую исполнительницу русских и цыганских романсов в начале века? Артистическая карьера Паниной началась именно в московском «Яре», где она выступала более десяти лет. Но в начале нашего столетия нередко пела и в одноименном петербургском ресторане. Сопоставляя обстоятельства жизненных судеб обоих, можно предположить, что у Кугеля речь идет о «Яре» на Петербургской стороне. У Блока и Кугеля имелись в том полутемном зале, в тех сумеречных кабинетах свои излюбленные места.
В начале нашего столетия гласные Городской думы лесопромышленники братья Колобовы построили на Большом проспекте Петербургской стороны шесть домов (№ 16, 18, 27, 34, 40 и 62). В доме 18 свой «Яр» открыл некто В. С. Вишняков.
А в предреволюционные годы, не предвидя смертоносного смерча истории, открылись еще два «Яра» – на Суворовском проспекте, 2, и на Петергофском шоссе, 35.
…Ныне в нашем городе множество ресторанов. Но «Яра» нет. «Трюфли Яра» нам остается вспоминать вместе с Пушкиным да вслушиваться в скрипки, взволновавшие Блока, и ловить при случае отголоски песен Соколовского хора…
Юрий АЛЯНСКИЙ
«Наследие» № 31 (440) опубликовано 2.08.1997 в № 144 (1569) «Санкт-Петербургских ведомостей»
«Обязать редакции подписками…»
Профессиональный праздник журналистов, как известно, с 5 мая переместился теперь на 13 января. В этот день в 1703 году (правда, число он имел тогда по старому стилю – 2-е) благословением Петра I вышла в свет первая русская газета – «Ведомости о военных и иных делах, достойных значения и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». История же подгадала на эту дату и другое событие: в 1728 году 2 января родилась газета «Санктпетербургские ведомости». (Читатель, вероятно, уже заметил, что в разные времена название этой газеты писалось по-разному: «Санктпетербургские…», «С.-Петербургские…», наконец, «Санкт-Петербургские…».)
Продажа газетчиками у Александровского сада «Петербургского листка» с манифестом об учреждении Думы. Дата съемки: 19 августа 1905 г. Место съемки: Санкт-Петербург. Фотография ателье Буллы
«Печать – это могучее орудие нашего времени, наш враг и союзник. Враг потому, что ее, порою неожиданные, нападения заставляют нас напрягать все силы для соответствующей обороны, а союзник потому, что, заставляя нас защищаться, указывает нам самим на наши недостатки, наши пробелы».
Как вы думаете, когда и кем это столь метко сказано?
Нет, нет, не перебирайте имена известных вам политиков! Заявил так в 1899 году петербургский городской голова Павел Иванович Лелянов, когда выступал на обеде, устроенном в честь столетнего юбилея Пушкина. Ведь поэт, издатель «Современника», был и журналистом тоже!
Вот написала я это слово – «журналист» – и подумала, что петербуржец старых времен был бы, наверное, удивлен применением его к Пушкину. Тогда представителей этой профессии так не называли.
Помню, как я восхищалась, натыкаясь на должность журналиста в списке штата какого-нибудь рядового учреждения: надо же, как давно родилась пресс-служба! Пока не встретила информацию о том, что таковой работник потребовался в канцелярию Комиссии по народному образованию в связи с возросшим количеством входящих и исходящих бумаг, для их регистрации в журнале…
И газетчики тоже служили тогда по другому ведомству: они газеты продавали. Вразнос, на улице, вот как тот, что был запечатлен Карлом Буллой в один из августовских дней 1905 года, когда все обсуждали царский Манифест об учреждении Государственной думы…
Работавшие же в повременных изданиях именовались публицистами. Такое название этой профессии было, можно сказать, узаконено Николаем II в одном из первых его указов, подписанном им на третий месяц после воцарения, 13 января 1895 года. Царь повелел министру финансов ежегодно отпускать из казны 50 тысяч рублей на пособие и пенсию нуждающимся «публицистам, а также их вдовам и сиротам».
На страницах газет по этому поводу было ликование. «Для русской публицистики и ее тружеников с 13 января 1895 года началась новая эра!» – писал «Петербургский листок». Ведь до той поры публицисты, «пишущие все и обо всем на злобу дня», были «париями литературы», «не получающими никогда и ниоткуда никаких пенсий».
Конечно же, хлеб рядового «публициста» был горек. В одном из своих ранних рассказов Чехов пошутил: «Если бы человечество было гуманно и знало, как нам жрать хочется, то оно вешалось бы, горело и судилось во сто раз чаще». Только надо отдать должное старым петербургским «публицистам»: жизнь столицы вовсе не сводилась ими к пожарам, самоубийцам и попавшим под конку, были проблемы и поважнее, и тут уж немало критики адресовалось городским властям.
Не только городской голова Лелянов называл печать врагом. Протоколы Думы сохранили для нас заявление гласного, некоего Ф. Ф. Позняка, потребовавшего «обязать редакции подписками, чтобы они, если желают иметь в Думе репортеров, старались бы быть приличными в выражениях», когда пишут о думцах и их деятельности.
Заявлению Позняка, видно, не было дано хода, и через какое-то время гласные опять забеспокоились, что газеты представляют их деятельность «в смешном виде», и потому предложили репортеров в Думу не пускать, а давать стенографические отчеты и то лишь какой-то одной газете, «войдя с ней в соглашение». На одном из заседаний была подана идея вообще учредить собственное бюро печати, которое и готовило бы материалы для газет.
И все-таки уж откровенно заткнуть рот прессе и тогда не удавалось. Хотя, разумеется, с кем-то из пишущей братии власть в «соглашение входила». С корреспондентом «Нового времени», например. В отличие от остальных представителей печати, у него в Думе имелось именное кресло, да еще и рядом с трибуной президиума…
Сдается мне, жизнь петербургской прессы прежних лет в каких-то деталях была очень похожа на недавнюю. Вот как, по-вашему, когда писаны были эти слова: «Издать громкое объявление о новом журнале, поймать в эту сеть пять-шесть сотен доверчивых людей, выпустить несколько нумеров пресловутого содержания и потом прекратить издание – это у нас в настоящее время такая афера, которая повторяется довольно часто».
Ситуация узнаваема. Хотя относится к 1860 году.
Наталия ГРЕЧУК
Фотография предоставлена ЦГАКФФД СПб
«Наследие» № 2 (462) опубликовано 10.01.1998 в № 44 (1713) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Бестужевки
В конце лета 1879 года в Петербург из Сибири приехала девушка восемнадцати лет. Мало ли их появлялось в столице! Но об этой написало «Новое время»: изучив все науки общеобразовательного курса без помощи учителя, получив известность на одном из приисков, где служил ее отец, изобретением «чрезвычайно практического механизма» для промывания золотоносного песка, молодая г-жа Колотова подала прошение о приеме на математическое отделение Высших (Бестужевских) женских курсов.
Высшее женское образование в России – затея относительно молодая. Не положено было его иметь женщине, и все тут. Только в 1857 году первые студентки появились в Петербургском университете и в Медико-хирургической академии. Однако через четыре года университет получил новый устав, который закрыл доступ в аудитории представительницам женского пола. Наверное, за компанию перестали принимать их и в Медико-хирургическую.
Но женщины народ упорный, если им чего хочется – будут того добиваться. Несколько энтузиасток, объединив силы, стали стучаться в различные государственные двери с просьбой устроить для женщин хотя бы лекционные курсы. Достучались только в 1869 году, когда министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой, сам человек высокообразованный, наконец, признал, что и правда лучше российским женщинам учиться дома, нежели ездить по заграничным университетам.
Так вот родились у нас публичные Женские курсы, которые сначала назывались по своим адресам – Аларчинские, Владимирские, – пока, наконец, не получили 20 сентября 1878 года знаменитое, вошедшее в историю именование – Бестужевские. Через восемь лет после того обрели они и свой собственный дом. Его выстроил на 10-й линии Васильевского острова архитектор А. Ф. Красовский.
Группа курсисток Высших женских (Бестужевских) курсов. Дата съемки: март 1900 г. Место съемки: Санкт-Петербург. Автор съемки: Карл Карлович Булла
Заслуга в том, что Петербург обрел новое учебное заведение, принадлежит в первую очередь главным энтузиасткам: Надежде Васильевне Стасовой, сестре известного художественного критика Владимира Стасова; Анне Павловне Философовой, жене генерал-прокурора, которую министр Толстой называл «красной», а царь даже на время выслал за границу; и Марье Васильевне Трубниковой, дочери декабриста Василия Ивашева. А Бестужевскими курсы названы были в честь родственника еще одного декабриста – профессора Константина Николаевича Бестужева-Рюмина, племянника казненного Михаила Бестужева-Рюмина. Константин Николаевич был официальным учредителем курсов и четыре года ими безвозмездно руководил.
Не менее громкими были имена и тех, кто преподавал там науки. Д. И. Менделеев, А. Е. Фаворский, А. М. Бутлеров, С. А. Венгеров, Н. О. Лосский, Н. К. Пиксанов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Щерба – список длинен. И уровень даваемых знаний высок: И. М. Сеченов говорил, что он читал курсисткам «то же самое и в том же объеме, что в Университете». Да и отделения на курсах были «университетские» – словесно-историческое, физико-математическое, позже прибавилось юридическое…
