Стихотворение Игоря Северянина «В парке плакала девочка…». Путеводитель
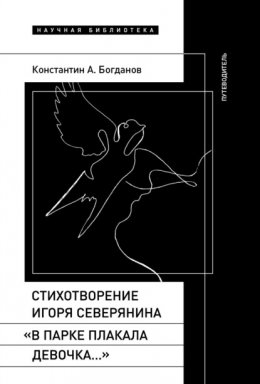
УДК 821.161.1(092)Северянин И.
ББК 83.3(2=411.2)53-8Северянин И.,4
Б73
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. CCLXIX
Константин А. Богданов
Стихотворение Игоря Северянина «В парке плакала девочка…»: Путеводитель / Константин А. Богданов. – М.: Новое литературное обозрение, 2024.
Стихотворение «В парке плакала девочка…» (1910) – одно из наиболее известных произведений Игоря Северянина (1887–1941) – самого издаваемого в России поэта предреволюционных лет. Казалось бы, безыскусное и едва ли не «детское» стихотворение выглядит исключением на фоне его других, новаторских и нарочито эпатирующих, текстов. Но так ли это? Книга Константина Богданова – своеобразный «путеводитель» по этому стихотворению, в котором автор использует филологические возможности «медленного чтения». Исследователь показывает, как на фоне излюбленных тем Игоря Северянина – красота и дерзость, влюбленность и самовлюбленность, романтика и мелодрама – текст «В парке плакала девочка…» оказывается нетривиально открытым к разным прочтениям, детализующим литературные, изобразительные, музыкальные и социально-психологические контексты, важные как для самого поэта, так и для его современников. Константин Богданов – филолог, историк культуры, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, автор вышедших в «НЛО» книг «О крокодилах в России», «Vox Populi», «Из истории клякс», «Переменные величины», «В сторону (от) текста».
В оформлении обложки использованы рисунки Лилиты Тадевосян.
ISBN 978-5-4448-2455-9
© К. А. Богданов, 2024
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2024
© OOO «Новое литературное обозрение», 2024
ВВЕДЕНИЕ
Эта книжка могла бы называться комментарием, но так как даже в названии комментируемого стихотворения есть указание на конкретное место (парк), а значит и связываемое с ним пространство, назвать ее путеводителем представляется вполне уместным. При этом я руководствовался и некоторого рода теоретической претензией. Ставшее давно расхожим представление о тексте как о пространстве остается справедливым в том отношении, что любое пространство – и пространство текста в том числе – подлежит освоению1. Теоретически пространство текста предстает в разных измерениях – собственно топологическом (то есть модальных отношениях связываемых с ним элементов и образов – букв, слов, знаков препинания и т. д.)2, лингвистическом (в совокупности семантики, синтактики и прагматики)3, семиотическом (в частности, «мифопоэтическом», редуцирующим его к психологическим и философским основаниям культурного опыта)4 и, наконец, социологическом (позволяющем судить об общем жизненном мире автора текста, его персонажей и его аудитории)5.
Оказываясь где бы то ни было, мы во всяком случае оглядываемся, прислушиваемся, стараемся понять, что это за место и где его границы. Академик И. П. Павлов писал в связи с этим об ориентировочном или исследовательском рефлексе, дающем о себе знать при «всяком новом колебании обычной, окружающей животное среды»6. Изучение этого рефлекса велось Павловым на примере поведения животных, но избирательные реакции, направленные на ознакомление с окружающей ситуацией и сменой обстановки, столь же характерны для людей7.
Мольеровский господин Журден удивлялся, узнав, что он всю жизнь говорил прозой. На деле все происходит ровно наоборот: удивление вызывают те, кто как-либо ритмизует и метризует свою речь, если под ритмом понимать упорядоченное повторение звуков, а под метром их организацию в более крупные слоговые и фразовые единицы (в музыке им соответствуют длительность нот и чередование сильных и слабых тактовых долей)8. Поэтическая речь – будь она подчинена рифме или (в случае верлибра, белого стиха или даже моностиха) иным способам ее синтаксического и фонетического оформления – так или иначе обособлена от прозаической, литературной и бытовой, речи. Даже при ритмико-интонационных колебаниях свободного стиха его построение и семантические границы определяются как границы стиха, а не прозаической речи. Функциональное свойство поэзии состоит в самосохранении – в том, чтобы не слиться с прозой.
Системность ритмических и других членений (стиховые строки, строфы, разделение строки цезурой), звуковая инструментовка, интонационнная и мелодическая выделенность (песенное произнесение стиха), видное глазу графическое начертание – все это служит целям изоляции поэтического ряда от прозаического окружения9.
В некогда популярной книге Карла Бюхера «Работа и ритм» (1899) оба эти понятия указывают на их соподчинение: «Ритмический элемент первоначально не был присущ ни музыке, ни речи; он пришел извне и восходит к движению тела»10. Телесное движение, требующее ритмического течения речи, вызывается напряжением, направленным на преодоление какого-либо препятствия, будь оно внешним (физическим) или внутренним (эмоциональным и когнитивным). Стихотворная речь – и восприятие такой речи – отклик на схожие препятствия, порождаемые, говоря словами Павлова, «колебанием обычной, окружающей животное среды». Такая речь по определению вторична к тому, что называется прозой. Но что заставляет ее порождать и воспроизводить? И почему она выборочна? Что и почему помогает помнить и повторять какие-то строки и стихотворения, а какие-то нет? Читая и перечитывая поэтический текст, можно пробежать его глазами – или вдруг остановиться на нем подольше и осмотреться.
Гастон Башляр сравнивал восприятие тех или иных поэтических образов с воображаемым путешествием.
Поэт должен пригласить нас в путешествие. Благодаря этому приглашению наша глубинная суть получает едва ощутимый импульс, который потрясает нас и приводит в движение благотворные грезы, грезы поистине динамичные. Если начальный образ хорошо подобран, он проявляется как побуждение к точно описываемой поэтической грезе, к воображаемой жизни, у которой будут подлинные законы последовательности образов, настоящий витальный смысл11.
Такое путешествие, по Башляру, есть прежде всего движение воображения, но вместе с тем оно не является только метафорой: «Мы переживем его на собственном опыте»12.
Прочтение любого стихотворения является продвижением по тексту и его контекстам – тем, что, условно говоря, могло бы послужить его пояснениями и примечаниями (в античности это называлось схолиями – записями на полях или между строк рукописи)13. Некогда у меня и Георгия Никича, моего друга, искусствоведа и куратора, была идея посвятить стихотворению «В парке плакала девочка…» мультимедийную выставку, которая была бы чем-то вроде аналога таких схолий в границах конкретного, измеряемого шагами помещения.
В одном из писем ко мне Георгий написал, какой ему видится такая выставка:
Части выставки могут множиться в напряжении между минутой и грядущим, отцом и девочкой, девочкой и ласточкой, прощением и прощанием, ретроспективным и современным, банальным и сложным.
Кстати, мультимедийный ключ содержится уже в посвящении Всеволоду Светланову, который писал, тогда – техно-футуристически, а для нас – провиденциально, как будто о выставке: «Для этой цели … приспособить кинематограф в гениальном усовершенствовании Эдисона, который уже разрешил технический вопрос соединения „образов“ со звуками грамофонной пластинки»14.
Нам остается только соединить (или превратить) звуки слов в цифры впечатлений – от футуризма и массовой культуры, открыток и альбомов, орнитологии и психологии, жизни и смерти.
Затея не осуществилась по моей лени. Сейчас, дописав книжку, я подумывал придать ей «музейную» последовательность: первый зал такой-то, второй – такой-то, и т. д. В итоге я остался верен традиционному оглавлению монографии, но все-таки не исключаю ее прочтения в качестве экспозиционного (и конечно – интерактивного) проекта.
Я в очередной раз приношу свою благодарность Ирине Прохоровой за лестное удовольствие выпустить книгу в издательстве «Новое литературное обозрение». Всем, кто причастен к этому изданию (список был бы длинным), – здоровья и мира. За внимательное исправление разных огрехов спасибо редакторам, с которыми мне снова повезло, – Татьяне Тимаковой и Ольге Панайотти. Отклики и размышления читателей приветствуются: [email protected].
ПОДСТУПЫ К СТИХОТВОРЕНИЮ
Отношение к поэтическому творчеству Игоря Северянина было и остается, мягко говоря, сложным. Мало о каком другом русскоязычном поэте можно сказать, что оценки стихотворений и самой личности их автора в глазах современников – читателей и критиков – были настолько радикально противоречивыми. Игорь Васильевич Лотарёв (1887–1941), вступивший на литературное поприще под «региональным» псевдонимом Игорь-Северянин15, вызвал шквал похвал и хулы, отголоски которого не стихли по сей день. В глазах почитателей Северянин – «истинный поэт, глубоко переживающий жизнь и своими ритмами заставляющий читателя страдать и радоваться вместе с собой» (В. Брюсов), «самобытный и красочный лирик» (Р. Иванов-Разумник), владеющий «даром поющей речи» (В. Гиппиус)16, демонстрирующий богатство ритмов, «обилие образов, устойчивость композиции, свои, и остро пережитые темы»17, «волю к свободному творчеству» (Ф. Сологуб), языковое своеобразие, современность и музыкальность (В. Ходасевич)18. «У автора есть несомненный, живой талант» (Д. Философов)19. В глазах критиков (которыми часто становились былые почитатели) поэзия Северянина – пример «стихов безнадежно плохих, а главное, безнадежно скучных», образец «наивной самовлюбленности», «чудовищной пошлости», «безвкусия», умственной ограниченности и необразованности (В. Брюсов), «кривлянья и ломанья» (Иванов-Разумник), фиглярства, «будуарного сюсюканья», трафаретности и вульгарности (М. Волошин), мещанства и вырождения литературы20. «Северянин не оправдал надежд, на него возлагавшихся» (В. Ходасевич), «Игорь – худшая часть плебейской поэзии» (М. Моравская)21. Вместе с тем, несмотря на критическую разноголосицу, на протяжении по меньшей мере шести лет (1913–1918) Северянин был одним из самых прославленных поэтов России, «кумиром, и несомненным» назовет его Михаил Кузмин22. Недоумение и насмешки, сопровождавшие первые выступления поэта, едва ли не вдруг сменились публичным обожанием и повсеместным триумфом. Среди многочисленных свидетельств такого рода характерен мемуар Пимена Карпова, присутствовавшего на одном из выступлений Северянина в 1915 году:
<Ч>то тут в зале творилось! Вся масса людская сотрясалась в бешеном урагане оваций, восторженных выкриков, буйного смеха, счастливых слез! И виновником всех этих исступленных восторгов был Северянин. На него каскадом сыпались цветы, брошки, какие-то сувениры, галстуки, платки…
– Слава Игорю!.. – Сла-ава-а! – ревела толпа. – Ура… <…>
Под конец публика ринулась на эстраду, окружила своего кумира, понесла на руках куда-то в фойе… Корифеи, хватаясь за головы и давясь смехом, хлопали Игорю вслед, удивлялись:
– Чем он берет, Аллах ведает! Небывалый успех!23
Игорь Северянин, 1910‑е годы
Игорь Северянин, фотография Льва Леонидова, начало 1910‑х годов
В воспоминаниях близко знавшего Северянина Георгия Иванова зенит его славы описывается так:
Его книги имели небывалый для стихов тираж, громадный зал Думы не вмещал всех желающих попасть на его «поэзо-вечера». Неожиданно сбылись все его мечты: тысячи поклонниц, цветы, автомобили, шампанское, триумфальные поездки по России… Это была самая настоящая, несколько актерская, пожалуй, слава24.
Симпатии к Северянину заметны и своей гендерной особенностью. В одном из самых знаменитых стихотворений («Увертюра», открывавшая собою сборник «Ананасы в шампанском», 1915) поэт недвусмысленно обозначил свою главную аудиторию:
- В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
- Я трагедию жизни превращу в грёзофарс…25
Но преимущественное внимание поэта к прекрасному полу было предметом шуток уже раньше. В 1913 году на волне прославившего Северянина сборника «Громокипящий кубок» поэт часто выступает на публике и, в частности, отправляется с чтением своих стихотворений в фешенебельно дачную Куоккалу. В карикатурном освещении этой поездки ее преамбула характерно описывается в стихотворном «эгофутуристическом романе» Владимира Голикова «Игорь в Куоккале», тогда же опубликованном в популярном еженедельнике «Солнце России»:
- На парадной лестнице,
- Выпив рюмку Асти,
- Он пришел к прелестнице,
- Розовый от страсти.
- И сказал: – Красавица,
- Разлучившись с светом,
- Хочешь позабавиться
- Ласками с поэтом?
- <…>
- От восторгов выгорим
- В неге сладострастной…
- Хочешь ехать с Игорем
- В этот мир прекрасный?
- – Да, – сказала Игорю
- Нежная подруга,
- – Я огнем любви горю,
- Как светило юга!26
Современники согласно свидетельствуют, иногда с юмором, а иногда не без скрытой зависти, что особым расположением к видному собою и внешне привлекательному поэту отличались его экзальтированные поклонницы.
Дамы были в упоении, они сидели и млели, и таяли от стихов и от голоса поэта, от его внешности, от его тонкой, в рюмочку стянутой талии. Поэт облачен был в ладно сшитый сюртук. Дам пленяло его «вдохновенное» чело, осененное гривой иссиня-черных волос27.
Ф. Ф. Фидлер пересказывает в дневнике слова Корнея Чуковского об одном из «поэзовечеров» Игоря Северянина в 1915 году:
Попасть на этот вечер было труднее, чем на концерт или выступление Шаляпина. Почти исключительно – девицы; при появлении явно подвыпившего поэта они пожирали его такими сладострастно восхищенными взглядами, что «наверное, могли забеременеть от одного созерцания»28.
Бенедикт Лившиц вспоминал о том, как успех Северянина у женщин вызывал ревнивое «нетерпение» Маяковского:
Эта нервная взвинченность не оставляла его и на концерте, превратившемся в турнир между ним и Северянином. Оба читали свои лучшие вещи, стараясь перещеголять друг друга в аудитории, состоявшей сплошь из женщин29.
По гендерному принципу Борис Зайцев противопоставлял Игоря Северянина Вячеславу Иванову (хотя они, конечно, и без того разнились слишком многим): если Иванов «был вообще для мужчин», то «Северянин для восторженных бырышень»30.
С годами негативных отзывов о поэзии Северянина становится больше. О былой популярности поэта, по слову Кузмина, вспоминается как о «скороспелом признании»31. А сам его творческий путь видится как неуклонная деградация: «выродился из гения в анекдотическую фигуру»32.
Причины исключительного успеха Северянина в 1910‑е годы, практически сошедшего на нет к началу 1930‑х33, заслуживают обсуждения. Помимо сакраментальных суждений о мимолетности славы здесь, вероятно, уместны аргументы как содержательного, так и социального порядка. Проницательнее многих об обстоятельствах, объясняющих небывалую «моду на Северянина», судила раздражавшая его Мария Моравская уже в 1917 году:
Многие не знают, что такое, в сущности, Игорь Северянин, так как принято его разглядывать с поэтической точки зрения. А поэтическая точка зрения здесь ни при чем, так как этот внешне талантливый стихотворец с умопомрачительно дурным вкусом не мог бы так долго интересовать читателей и критику, если бы не социальное содержание его стихов. <…> Все читатели и почитатели Игоря Северянина, все слушатели его поэзо-концертов (какое романтическое слово!), восторженные курсистки и приказчики, все это – «люди без собственных лимузинов», которые тоскуют по внешней культуре. Они чувствуют, вдыхая стихи Северянина, запах экзотических цветов, запах цветов, которые обычно им приходится видеть лишь за стеклом магазинного окна. Они слышат легкую бальную музыку в этих стихах с банальным ритмом. Они, читая Игоря, входят в нарядные будуары и видят зеркала, в которых им никогда не суждено отразиться <…> Это не смешно, что люди стоят у чужих парадных дверей: это не низменно, что они в мечтах тоскуют по внешней культуре <…> Пастух, мечтающий о принцессе, приказчик из меблирашек, студент из мансарды, грезящий о березовом коттедже, и сам Северянин, воспевающий этот коттедж, их общая тоска – плод социального неравенства. Это очень серьезно и очень значительно. Это сама жизнь – тоска у чужих парадных дверей34.
В объяснении популярности Северянина Моравская делает упор на социальное воображение – мечты о лучшем, манящем и вместе с тем иллюзорном, но ничего не говорит о новизне его поэтического языка. Между тем эта новизна ощущалась тем сильнее, чем сильнее она нарушала традиционные нормативы стихотворного письма и речи. В самом этом нарушении был вызов предшествующей традиции – и идеологической, и собственно языковой. Сегодня такой вызов мог бы быть описан в терминах противостояния коммуникативных компетенций, само существование которых воспринимается небесконфликтно и часто ведет к пересмотру языковых и, в частности, литературных норм и ценностей. То, что представляется непривычным, способно однажды стать общепризнанным в границах той или иной социальной группы35.
Иначе, но тоже под социологическим углом зрения, о перипетиях в творческой судьбе Северянина пишет Лада Панова. По ее мнению (с опорой на теорию «литературного поля» Пьера Бурдье), Северянин предъявил публике новую модель поведения, эффектного в своей непривычности и своеобразной вседозволенности. Содержательная сторона поэзии в его случае, как и у других поэтов-новаторов, изначально определялась не столько семантикой и формальными новациями, сколько коммуникативной прагматикой: самозванством и саморекламой, демонстративным расчетом на таких единомышленников и почитателей, которые бы подразумеваемо отличались от других социальных групп. Манифесты «эго-футуризма» и «вселенского футуризма» (например, распропагандированное в прессе заявление 1912 года о создании и «скрижалях» «Академии эгопоэзии»)36 и публичные выступления самих футуристов скандализировали, но и привлекали внимание, потешали, но и поражали вызывающей экстравагантностью. Северянин, с этой точки зрения, как бы целенаправленно вербовал поклонников, показывая им, что можно писать и выступать, как это делает он сам и его «свита», – «графоманствуя» и вольготно вышучивая правила хрестоматийного стихосложения (Блок, по воспоминаниям Любови Гуревич, увидел в Северянине «нового талантливого капитана Лебядкина» и, если верить Василию Гиппиусу, планировал даже написать статью «Игорь-Северянин и капитан Лебядкин»)37. Союз с футуристами был недолог и, в конечном счете, закончился демонстративным разрывом: претенциозность Северянина была иной и не столь радикальной, как брутальный эпатаж раннего Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Давида Бурлюка и Алексея Крученых38.
Благодушно настроенные современники видели эту разницу и раньше:
Существует еще один смехотворный журнал «Эго-футуристов», которых надо строго отличать от «просто футуристов», т. е. от господ Бурлюков. В произведениях эго-футуристов много комического и ребяческого. Но посмотрите. Из этой смехотворной каши выделился один поэт – Игорь Северянин. В нем тоже много еще ребячества и чепушистого задора. <…> Нельзя не улыбнуться, читая эти стихи, особенно когда автор их читает сам нараспев. Но улыбка эта для автора безобидная. Просто весело слушать его пустяки <…> Но на Бурлюков надежды нет никакой. До такой степени пошло и глупо все, что они пишут39.
Как и другие авангардисты, Северянин настойчиво и откровенно утверждал себя в «литературном поле». В воспоминаниях Алексея Масаинова поэт рассуждал об избранной им тактике вполне определенно:
– Конечно, в России мало иметь только талант <…> Если бы я не написал своих дерзких поэз, вы бы у меня здесь не были. Нужно было бить публику по затылку! Ха-ха!.. Вот я и стал писать их… <…> Вот у меня четыре тома газетных вырезок обо мне и почти ни одного хорошего отзыва!.. Но я не протестую. Реклама нужна. Реклама полезна40.
По социальной сути эти притязания были, по (резкому) мнению исследовательницы, «волей к власти», но и «хлестаковщиной чистой воды», «торговлей воздухом», которые в его случае закончились неудачей – прежде всего потому, что поэт был слишком занят собою и «выстраивал свои прагматические стратегии менее изощренно», чем, например, Хлебников, а позже Хармс, умело заигрывавшие не с массовой, но с элитарной литературой41.
Вероятно, в этой оценке много справедливого. Северянин, ориентировавшийся прежде всего на массовую аудиторию, утомил ее в конечном счете повторяемостью своего самовлюбленного «я». Выпадению поэта из «литературного поля» способствовали, наконец, и просто внешние факторы: революция, эмиграция в эстонской глуши, бытовые и культурные катастрофы 1920–1930‑х годов. Да и сам характер северянинской поэзии с присущими ей эмоциональной восторженностью и политическим безразличием все меньше соответствовал доминирующим настроениям эмигрантской печати:
Одна из причин игнорирования стихов Северянина в пространстве эмиграции заключалась в эмоционально-психологическом несоответствии его поэзии послереволюционного периода сложившемуся в те годы стереотипу. <…> Условия эмиграции сделали русских поэтов двадцатых-тридцатых годов декадентами духа: они эстетизировали мотивы смерти и тлена, хоронили окружающий мир и искусство. А тем временем Игорь Северянин, возлюбивший жизнь наперекор бедствиям, двигался «против течения»42.
При всем при этом сводить значение Северянина только к социальным аспектам его творчества представляется неоправданным упрощением. Северянин никак не может быть назван бессодержательным поэтом и, в отличие от тех же Хлебникова и Хармса, устойчиво связывался в глазах публики с узнаваемым репертуаром поэтических тем и настроений. Понятно, что тематика, литературные приемы у разных авторов всегда были и остаются различными, но художественная идеология – как набор некоторых социально обусловленных представлений, часто неосознанных в этой обусловленности – предстает сравнительно общей и определяющей то, что метафорически можно назвать «лицом литературы». Русская литература второй половины XIX века (по меньшей мере в ее наиболее значимых образцах) донельзя серьезна, а ее «лицо» – строго и уныло одновременно. На этом фоне появление такого поэта, как Северянин, фривольно преданного житейскому легкомыслию и легкословию, экзотическим и экстравагантным соблазнам, необременительным влюбленностям, будничным радостям и обнадеживающему будущему, произвело предсказуемый фурор у читателей, уставших от литературы «больших идей» и «трудных вопросов». Немалую роль в популярности Северянина сыграли и такие внешние факторы, как отмена в 1905 году предварительной цензуры: на смену риторике цензурно допустимых повторений пришла литература, условно говоря, тематической и стилистической вседозволенности. Литература, и поэзия в частности, заговорила на языке социального разнообразия, а не только культурной элиты. Фактически появление Северянина в литературе совпало с зарождением культуры, которую было бы еще неверно назвать массовой, но уже можно счесть альтернативной или даже контркультурой – в ее противопоставленности привычным ценностям культурного обихода. Северянин и стал, в ряду с другими нарушителями «здравого смысла» и «хорошего вкуса» (прежде всего футуристами, с которыми он себя связывал в качестве «эго-футуриста») выразителем и героем провокационно другой культуры. Позднее эстетические вариации культурной инаковости приведут к становлению различных форм социального спроса/предложения – будь то массовая культура или, в противовес ей, авангардная, экспериментальная и модернистская культура – но для 1910‑х годов очевиднее противопоставление традиции и новаторства (будь это обновление традиции или ее ниспровержение и радикальное преодоление)43.
Юный Георгий Иванов, познакомившийся с Северянином в 1911 году, вспоминал, как случайно прочитал какие-то стихи в одной из его брошюр и они его «пронзили»:
Их безвкусие, конечно, било в глаза, даже такие неискушенные, как мои <…> Но, повторяю, – они пронзили. Чем, не знаю. Тем же, вероятно, чем через год и, кажется, так же случайно, – Сологуба44.
Уже признанный литературным авторитетом Федор Сологуб, посодействовавший изданию первой книги поэта «Громокипящий кубок» (1913) и подсказавший ее название, напишет в предисловии:
Люблю стихи Игоря Северянина. Пусть мне говорят, что в них то или другое неверно с правилами пиитики, раздражает и дразнит, – что мне до этого! <…> Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенною волею упоенной души поэта. <…> Воля к свободному творчеству составляет ненарочную и неотъемлемую стихию души его, и потому явление его – воистину нечаянная радость в серой мгле северного дня. Стихи его, такие капризные, легкие, сверкающие и звенящие, льются потому, что переполнен громокипящий кубок в легких руках нечаянно наклонившей его ветреной Гебы, небожительницы смеющейся и щедрой45.
Характерно и коллективное письмо, посланное группой поклонников поэта одному из столичных критиков и опубликованное в газете «Биржевые ведомости» в 1915 году:
Игорь Северянин это – наш поэт, поэт молодежи <…> – великий мечтатель, его поэзия зовет в надзвездные выси, он пробуждает вдохновение, он чарует, он пьянит. Поймите, ведь это – бард современности, это – яркий выразитель настроений эпохи, с ее могучим взлетом, с ее падениями, срывами. И за эту смелость, за которую так нападают на него трезвые «взрослые» люди, за эту смелость мы любим его46.
Даже в 1922 году в эссе о Северянине, напечатанном в шведско-финском журнале Ultra, Эдит Сёдергран (1892–1923), учившаяся в Санкт-Петербурге и ставшая к концу своей недолгой жизни замечательной поэтессой и классиком скандинавского литературного модернизма, в оценке творчества русского поэта восторженно повторяет те же похвалы, которые расточались поэту на пике его популярности:
Легкомысленность Северянина выходит победителем из любого поединка, паутина его грез слишком воздушна для того, чтобы ее могли повредить тяжелые камни. Он – бабочка, дитя, в нем есть много бессознательной мудрости <…> Его настоящая публика – это молодежь, легкомысленная молодежь, которая не знает зла, которая хочет любить и ласкать, поймать солнечный луч, которая любит жизнь и красоту – ославленную людьми, обделенными привлекательностью. <…> Молодежь, жаждущая жизни, с энтузиазмом подчиняется той завораживающей силе, которую исповедует жизненная реальность Северянина. Он великий носитель радости, оправдывающий сегодня опьянение жизнью в обстоятельствах сильной нужды47.
Преувеличенные восторги Северянином уравновешиваются преувеличенными негодованиями. Каким из них верить и кому? Только ли тем, кому вообще нет дела до поэзии? Идеологическая ревизия отечественной истории и культуры в конце 1980‑х – 1990‑е годы – на волне «возращения» в читательский обиход многочисленных имен и текстов дореволюционной и эмигрантской литературы – поспособствовала возрождению исследовательского интереса к Северянину, появлению переизданий его произведений и посвященных ему научных и популярных публикаций, напомнивших о прежних оценках его поэтического творчества – и давших жизнь новым, в которых снова нашлось место как панегирикам, так и филиппикам48.
На фоне взлетов и падений в прижизненной и посмертной известности Северянина есть совсем немного стихотворных исключений, которые никогда не становились объектом хулы, но, напротив, служили доказательством несомненного таланта их автора, образцом «настоящей поэзии», если понимать под нею риторическую и метрическую виртуозность, благозвучие и эмоциональную выразительность. Одно из таких стихотворений – «В парке плакала девочка», написанное в 1910 году и в следующем году опубликованное в малотиражной 24-страничной брошюре поэта «Электрические стихи»49, – стало известным широкому читателю в составе первого большого собрания стихотворений Игоря Северянина «Громокипящий кубок» (1913), выдержавшего только за первые два года семь изданий (в 1918 году их будет уже десять)50.
- В парке плакала девочка: «посмотри-ка ты, папочка,
- У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, —
- Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю…»
- И отец призадумался, потрясенный минутою,
- И простил все грядущие и капризы и шалости
- Милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости51.
Издание брошюры 1911 года, впрочем, также не прошло незамеченным. «Электрические стихи» были тридцатой по счету брошюрой поэта (из 35 изданных к 1913 году) – и самой представительной по числу включенных в нее стихотворений. Из подзаголовка к названию здесь же сообщалось, что это «четвертая тетрадь третьего тома стихов», то есть только часть куда более представительного собрания поэтических произведений (на последней странице обложки был помещен анонс планируемого трехтомника). Авторская самореклама проявлялась и в указании на дату самого издания: «Предвешняя зима» (напоминавшая, впрочем, о столь же календарно-поэтической датировке лирических книг Константина Бальмонта: «В безбрежности. 1895. Зима», «Будем как Солнце. 1902. Весна»). Типографской новинкой было и то, что имя автора, а точнее очевидный псевдоним, было напечатано в виде воспроизведения личной росписи – идеограммы, связывающей дефисом сравнительно распространенное имя с озадачивающим топонимом. Издание вышло с посвящением «Тринадцатой», туманно подсказывавшим читателю порядковые номера в «донжуанском списке» поэта52.
Обложка сборника Игоря Северянина «Электрические стихи» (1911); Вторая страница обложки сборника «Электрические стихи» (1911) с посвящением «Тринадцатой»
Первая публикация стихотворения «В парке плакала девочка…» в сборнике «Электрические стихи» (1911)
Стихотворение «В парке плакала девочка…» – пятнадцатое из тридцати трех включенных Северянином в брошюру. Содержательно и стилистически оно контрастирует с окружающими его произведениями. Остается гадать, насколько этот эффект был принципиален для самого поэта, поместившего незамысловатый рассказ о плачущей девочке между манерным «этюдом» «В предгрозье» о свидании тет-а-тет княжны с «улыбкою грёзэрки», графа и влюбленного в княжну лирического героя и страстной ламентацией, призывающей некую Грасильду, распевающую на закате «свои псалмы», «захлестнуть» грустящее сердце поэта «симфонией слепой». Но и другие стихотворения сборника выразительны разнообразием и в целом неожиданным соседством53. Откликнувшиеся на сборник критики увидели в нем по преимуществу эксцентричные и комичные несуразности.
Владимир Нарбут: В настоящей худощавой книжке можно обрести такие перлы, как: «сосны – идеалы равноправий», «мухомор – объект насмешки и умор» <…> Северянин, если хотите, – недюжинный юморист: «О, поверни (?) на речку глазы / (Я не хочу сказать глаза)»54.
Виктор Ховин: Все, начиная с названия, продолжая датой – «предвешняя зима» <…> и посвящением («тринадцатой») и кончая самими стихотворениями, – есть самое безнадежное ломанье и рисовка, все бьет на эффект, но, конечно, крайне неудачно. Впрочем, книга может иметь успех в качестве «книги невольных пародий», но трудно предположить, чтобы о таком именно успехе мечтал автор55.
Суровой нетерпимостью отличался отзыв Г. А. Вяткина в томской газете «Сибирская жизнь». Брошюре Северянина автор посвятил фельетон «„Электрическая“ литература», герои которого, работники редакции, сначала с опаской открывают присланную им бандеролью книжку («что если каждое стихотворение заряжено пятьюстами вольт. Ведь стоит только прикоснуться – и будешь убит наповал»), а прочитав ее,
все едва не лопнули со смеха, критик тоже не выдержал, швырнул книгу на стол и раздраженно заговорил: «Я сейчас же сяду писать ругательную статью… не об Игоре Северянине, несчастном авторе „Электрических стихов“, а вообще о таких, как он, которые коверкают язык, грязнят и уродуют литературу, плодят таких сумасшедших, как они сами». Критик, однако статьи не написал. Сотрудники сообща решили, что писать о книге не стоит, а нужно лишь послать автору извещение о том, что в местной психиатрической лечебнице прием больных продолжается56.
Северянин усердно собирал отзывы на свои стихотворения, но одного отзыва он точно не узнал. Вышедшие из печати «Электрические стихи» вместе еще с четырьмя брошюрами поэт приложил в 1911 году к прошению в Литературный фонд о выдаче ему единовременного пособия в размере 50 рублей. Официально в прошении было отказано «за малыми правами», а в документах, предназначенных для внутреннего пользования, пояснялось: «Председатель запросил труды. Ввиду полной бездарности, по отзыву Я. Я. Гуревича, отклонить»57.
Дружелюбнее многих к «Электрическим стихам» отнесся Валерий Брюсов. Название рецензируемой брошюры представлялось ему «нелепым», но она, по его мнению, заслуживает внимания, поскольку ее автор
старается обновить поэтический язык, вводя в него слова нашего создающегося бульварного арго, отважные неологизмы и пользуясь самыми смелыми метафорами, причем для сравнения выбирает преимущественно явления из обихода современной городской жизни, а не из мира природы. Большею частью это выходит у него не совсем удачно, а подчас и смешно. <…> Но все же есть в стихах г. Северянина какая-то бодрость и отвага, которые позволяют надеяться, что со временем его мутный плеск может обратиться в ясный и сильный поток58.
Позднее Северянин вспоминал, что осенью того же 1911 года (то есть уже после публикации своего отклика) Брюсов прислал ему книги и письмо, в котором одобрительно приветствовал поэта: «Не знаю, любите ли Вы мои стихи, – писал он, – но мне Ваши положительно нравятся»59.
Предсказуемо сочувственнее оценили брошюру Северянина соратники-футуристы. И. В. Игнатьев полагал ее «удивительно интересной», хотя и признавался, что ему «и нравится и не нравится заголовок тетради. Пусть он нов. Но стиль содержания испрашивает другого, столь же сильного наименования». Предлагаемое им сравнение неожиданно: поэт
кропотливую свою работу совершает как крот, невидимо, неслышимо, лишь изредка напоминая о себе небольшими кусочками земли <…> Кусочки-тетради чистый чернозем, ароматный, густой, жирово-растительный60.
Иные ассоциации вчитывал в «Электрические стихи» Иван Лукаш (ему посвящено одно из стихотворений брошюры – «Воздушная яхта»). Как и Северянин, Лукаш печатался под «региональным» псевдонимом Иван Оредеж, но в собственной поэзии (сборник стихотворений в прозе «Цветы ядовитые», 1910) был склонен к мистериально-эзотерическим и мрачным кладбищенским фантазмам61. Стихи Северянина – повод найти близкое себе:
Он устал, поэт. И в трауре месс, как большой гордый зверь, он «плутал» в сонных туманах, в садах, утопленных в луне. И бился в одном из колец, брошенных Маем. А душа высекала пугливые искры, трепетали взмахи. Хотел рассмеяться всему, но губы нежданно изломились болью. <…> И боль, как боль ребенка, трагично разлилась отцвеченными кровью песнями («В шалэ березовом», «Озеровая баллада», «Импровизация», «Марионетка проказ», «В предгрозье», «В парке плакала девочка»…). Вскинулась скорбь и оборвалась <…> И вот молится в больном экстазе поэт. Экстазы молитв несут его белой ночью в лунные глуби на яхте воздушной62.
Образность этого текста нарочито темна, но патетически опознаваема в пафосе трагизма, жертвенности и героизма поэта. За названиями северянинских стихотворений Лукашу провидятся скорбь, боль, одиночество, экстаз, «властная тоска» и «напевы молитв». Воображаемый поэт страдает – страдает и его читатель.
Интересно, что вынесенное в заглавие «электричество» северянинских стихов, давшее старт насмешкам и недоумению критиков, в истории литературного авангарда не только не одиноко, но и находит буквальную кальку в названии изданного в том же 1911 году сборника стихов итальянского футуриста Коррадо Говони (Corrado Govoni) Poesie allettriche («Электрические стихи»). Северянин об этом сборнике знать не мог, но электричество как примета нового времени в моде у авторов, неравнодушных к техническому прогрессу63.
В брошюре стихотворение «В парке плакала девочка…» датировано ноябрем 1910 года и строфически разделено на двустишия (в издании 1913 года и последующих изданиях датировка и разделение на строфы были сняты64). Стихотворению предпослано посвящение Всеволоду Светланову – приятелю Северянина, певцу и музыканту, увлекавшемуся футуризмом и, в частности, идеями «цветной музыки», оставшееся неизменным во всех десяти изданиях «Громокипящего кубка», а также в его рукописной копии («авторукописи»), сделанной Северянином в 1935 году65. Адресат посвящения – творческий псевдоним Гавриила Ильича Маркова (1881 – начало 1960‑х годов), известного двумя художественно-теоретическими эссе за подписью Всеволода Светланова: «Символическая симфония (Опыт стихийной симфонии)» и «Музыка слов (Эскизы лингвистики)» в шестом и девятом альманахе эго-футуристов за 1913 год66. О дальнейшей жизни Маркова известно немного, кроме того, что он увлекался музыкально-драматическим театром, песенным фольклором и садоводством, служил писарем при действующей армии в годы Первой мировой войны, в 1920‑е годы проживал на Урале, занимаясь музыкально-педагогической деятельностью, в 1930 году принимал участие в фольклорно-этнографической экспедиции на Печору, в 1940 году был арестован по «политической» 58‑й статье и приговорен к пяти годам ссылки. О последних годах жизни Маркова сведений нет, как нет и сведений о дате его смерти, предположительно в начале 1960‑х годов67.
Ближайшее текстологическое окружение стихотворения в издании 1913 года изменилось. Отныне ему предшествует подражание русской плясовой Chanson russe («Зашалила, загуляла по деревне молодуха. / Было в поле, да на воле, было в день Святого духа)»68, а за ним следует «Пасхальный гимн»:
- Христос воскресе! Христос воскресе!
- Сон смерти – глуше, чем спит скала…
- Поют победу в огне экспрессии,
- Поют Бессмертье колокола.
- Светло целуйте уста друг другу,
- Последний нищий – сегодня Крез…
- Дорогу сердцу к святому Югу! —
- Христос воскресе! Христос воскрес!69
Стихотворение было включено в один из четырех разделов книги, открывающий сборник и оптимистично озаглавленный «Сирень моей весны». Если искать в этом расположении общий композиционный смысл, то он выглядит менее противоречивым, чем в брошюре 1911 года, сближая фольклоризованный напев задорного характера, трогательное происшествие в парке и обнадеживающую весть праздничной молитвы. Слезы девочки в контексте такого (композиционно последовательного) прочтения уже не столь безутешны. Хочется думать, что ласточка поправится, девочка повеселеет, а ее отец станет еще добрее.
В истории прочтения и восприятия творчества Игоря Северянина стихотворение «В парке плакала девочка…» обрело комплиментарный контекст благосклонных или даже восторженных отзывов. И в самом деле, вот она: трогательная сценка, где есть место доброте, жалости к другому, любви отца к дочери, понимающему снисхождению взрослого к ребенку и заведомому прощению пустяшных проступков. Само слово «жалость», столь значимое в контексте северянинского стихотворения, сохраняет в нем коннотации положительной и религиозно окрашенной эмоции, соотносимой с милосердием, состраданием и – в ее обиходном, «народном», представлении – с любовью70. Христианские параллели в этом случае могут увести далеко, напоминая о средневековом «умилении» как о «любви сквозь слезы, любви как всеохватывающей жалости»71. Семантическая окраска этого слова претерпевала изменения – и к сегодняшнему дню полнится новыми оттенками, где есть место высокомерию и презрению, злости и унижению, ироническому недоброжелательству и досаде72. У Северянина таких оттенков нет. Жалость в данном случае – это искреннее сопереживание чужому несчастью, или, в лингвистической формулировке Ю. Д. Апресяна,
жалость Х-а к Y-у = ‘чувство, нарушающее душевное равновесие Х-а и вызванное у Х-а Y-ом; такое чувство бывает у человека, когда он думает, что некто находится в плохом положении и что это положение хуже, чем он заслуживает <…>; тело реагирует на такое чувство как на боль; человеку, который испытывает такое чувство, хочется изменить положение другого существа так, чтобы оно стало менее плохим’73.
Сочувствие девочки к ласточке вызывает ответное сочувствие – чувство, которое, по-видимому, определяет главную тему стихотворения и его эмоционально кумулятивный характер: от автора и его героев – к читателю74.
Декламационный характер стихотворного размера способствовал его запоминанию: характерный для всей поэзии Северянина симметризм ритма – здесь это цезуры, подчеркивающие равносложность отрезков каждой строки, и двусложные наращения, придающие им двустопную последовательность, – созвучен прочтению всего стихотворения равно как напевного и раздумчивого75. Движение в тексте поддерживается при этом многосоюзием: «и… и… и… и… и…» – пять «и» на шесть строчек стихотворения. Синтаксически это разные «и», но их последовательность определяет семантическую связь грамматических основ двух предложений. Девочка сделает это и это (в будущем времени: «возьму» и «укутаю»), а отец уже сделал это и это (в прошедшем времени: «призадумался» и «простил»). Глагольное перечисление действий завершается их однородным дополнением, указывающим на то, что́ именно отец «простил» дочери: «и капризы и шалости» (связанные общим для них причастием «грядущие»).
В рецензиях и откликах на «Громокипящий кубок» современники отмечали содержательную и мелодическую привлекательность стихотворения. Северянин, по мнению Александра Измайлова, «глубоко чувствует», и «В парке плакала девочка…» – тому доказательство:
В наивных, немного растерянных, неврастенических словах умеет рассказывать людям… про плачущую девочку в парке, которой жалко ласточки с переломанной лапкой76.
Александр Амфитеатров, раскритиковавший первые две книги Северянина, оговаривался, что «в той доле», в которой эта поэзия ему «совершенно понятна», «В парке плакала девочка» – прелестное стихотворение («за исключением двух слов, пригнанных для рифмы: „Потрясенный минутою“, которые расхолаживают впечатление своей газетной прозаичностью)»77. Мариэтта Шагинян, разбирая стихи «Громокипящего кубка», также полагала, что «читателю, вероятно, еще очень понравится маленькое стихотворение <…> „В парке плакала девочка“»78. По свидетельству Лили Брик, это стихотворение было одним из «особенно нравящихся» Владимиру Маяковскому79. В воспоминаниях Пимена Карпова оно же названо одним из двух лучших (наряду с «Виктория-Регия») стихотворений поэта80. Георгий Шенгели вспомнит о нем в стихотворении «На смерть Игоря Северянина» (1942), как о самозабвенно наивной и прекраснодушной вере его автора, «что самое в мире грустное – как в парке плакала девочка»81.
Обложка первого издания сборника Игоря Северянина «Громокипящий кубок» (1913); Обложка шестого издания сборника Игоря Северянина «Громокипящий кубок» (1914)
В наши дни стихотворение Северянина воспринимается, помимо прочего, как образец поэзии, рассчитанной на детей и юношество. Так оно, несомненно, воспринималось и раньше82. Здесь, вослед Сергею Гандлевскому, можно задуматься над тем, почему «некоторые произведения, по замыслу обращенные к взрослым, дрейфуют в сторону детского чтения, а другие, по всем приметам подростковые, – не выдыхаются и сопутствуют нам в зрелые годы»83. В случае Северянина ситуация еще занятнее: стихотворение «В парке плакала девочка…» остается равно взрослым и детским84. Есть в этом вопросе и антропологический нюанс: восприятие ребенка отличается от восприятия взрослого. В одном случае, условно говоря, текст прочитывается в окружении одиночных записей памяти, в другом – на палимпсесте житейского и читательского опыта. Читая сказанное кем-то и о чем-то, думаешь о себе – или во всяком случае чужой текст становится своим, будучи присвоенным нами. Эти мы – разные. Но разуподобление текста в читательском различии и различении сулит его перечитывание. Такова природа литературного текста – его, как однажды выразился Владимир Набоков, «нельзя читать», его «можно только перечитывать»85. Старый афоризм Августа Бёка, что суть филологической работы состоит в «познании познанного» (Erkennen des Erkannten), оказывается в этом случае справедливым как в теоретическом, так и в собственно прагматическом отношении – любой текст содержателен лишь постольку, поскольку он открыт к новому прочтению86. Последнее же всегда приурочено к конкретным обстоятельствам персонального восприятия.
В интернете достаточно сайтов, использующих стихотворение «В парке плакала девочка…» на школьных и внешкольных занятиях, призванных развивать аналитические и творческие способности учащихся. Приводимые здесь же методические рекомендации подсказывают, как такие уроки следует проводить и какие выводы из них могут – а точнее должны – быть извлечены.
Вступительное слово учителя.
Мы продолжаем путешествие в удивительную страну Поэзии. Страну, где живут трепетные существа, рожденные талантом, фантазией и вдохновением поэта. Существа эти – стихотворения. У них, как и у человека, есть своя история, судьба, душа.
Сегодня нам предстоит познакомиться с одним из таких созданий – стихотворением замечательного русского поэта Игоря Северянина «В парке плакала девочка». Я надеюсь, каждый постарается все сделать для того, чтобы душа этого стихотворения приоткрылась для нас. А возможно это будет только в том случае, если вы разделите чувства и переживания поэта, поймете мысль, которую он вложил в свое произведение <…>
Повторение основных фактов биографии И. Северянина.
Выразительное чтение стихотворения «В парке плакала девочка» и анализ читательского восприятия.
<…>.
(Чтение стихотворения учителем.)
– Перечитайте стихотворение самостоятельно.
– Понравилось ли оно вам?
– Выразите свое настроение, возникшее при чтении, в цвете. Прокомментируйте.
(Работа с сигнальными карточками.)
Цветовые сигнальные карточки постоянно используются на уроках литературы при работе с лирическими стихотворениями. Карточка белого цвета означает, что произведение оставило ученика равнодушным, не вызвало никаких эмоций; красного – восторг, радость; голубого – покой, умиротворение; розового – мечтательность; черного – тревогу и т. д.
Анализ стихотворения.
– Можно ли назвать стихотворение лирическим? Почему?
(Да, в нем выражены чувства.)
– Чьи чувства?
(Отца и девочки.)
– Можно ли в стихотворении выделить отдельные части?
(Да, в первой части говорится о чувствах девочки, во второй – о чувствах отца.)
– Постарайтесь при помощи цитат из текста озаглавить части.
– Сколько всего предложений в стихотворении?
(Два. Первое – предложение с прямой речью, второе – сложное.)
– Как они связаны в один поэтический текст?
(Темой, идеей, союзом И, смежной рифмой.)
– Одновременно ли происходят события, которые вызвали изображенные в стихотворении чувства героев?
(Нет, сначала происходит событие, взволновавшее девочку, а затем изображена реакция отца на ее чувства.)
– Прочитайте, какова эта реакция.
(«И отец призадумался, потрясенный минутою».)
– Какое чувство он испытал?
(Потрясение.)
– Чем же вызвано потрясение отца? Чтобы ответить на этот вопрос, прочитаем первую часть стихотворения. В ней раскрываются чувства девочки, создается ее образ.
Какие средства может использовать автор для создания образа героя?
(Имя, портрет, речь, авторская характеристика, самохарактеристика, характеристика другими персонажами…)
– Какие средства использованы здесь?
(Только речь.)
– Прочитайте слова автора в этом предложении.
(«В парке плакала девочка».)
– Каким глаголом вводится прямая речь?
(Плакала.)
– В стихотворении есть еще одно слово, характеризующее состояние девочки.
(Зарыдавшая – от глагола «зарыдать».)
– А когда люди плачут, даже рыдают?
(От горя, радости, страданий, то есть от сильных чувств, которые на них нахлынули, от потрясений.)
– Откуда мы узнаём, что вызвало потрясение у ребенка?
(Из речи девочки. Она говорит: «У хорошенькой ласточки переломлена лапочка».)
– Что передают эти слова?
(Состояние ласточки.)
– А как вы представляете себе эту птичку?
(Маленькая, юркая, быстрая при полете, стремительная, веселая.)
Показ картинки.
– Включите свое воображение. Какой увидела птичку девочка?
(Не может лететь, бьет по земле крылышками, испуганная, беспомощная.)
– Охарактеризуйте одним словом состояние раненой птички.
(Страдание, мучение, физическая и душевная боль.)
– Какие чувства вызвали страдания ласточки в душе девочки?
(Сочувствие, сострадание, соболезнование, сопереживание, жалость.)
– Каково значение приставки со- в этих словах?
(Совместность, объединение.)
– А как вы поняли, что именно эти чувства она испытывает?
(Она обращается к отцу за сочувствием, в речи использует слова с суффиксами уменьшительно-ласкательной оценки, хочет помочь птице: «я возьму птицу бедную и в платочек укутаю…»)
– Обратите внимание на эту строчку. Какие слова в ней ключевые?
(Возьму и укутаю.)
– Какая это часть речи? Что обозначает? В какой форме употреблена?
(Это глагол, употреблен в форме будущего времени.)
– То есть в словах девочки отразилось только ее желание. А сделала ли она это? Проэкспериментируем: изымем эту строку. Изменится ли смысл стихотворения, его логика?
(Да, отец не испытал бы потрясения, если бы девочка не действовала.)
– Но ведь в стихотворении нет описания действий ребенка. Как мы догадываемся, что поступок совершён?
(Огромную роль в стихотворении играют многоточия. Они могут означать, что у девочки перехватило дыхание от слез, не хватило слов, чтобы выразить свои чувства. Автор намеренно выпустил слова: за ними конкретные действия.)
– Как вы думаете, что сделала девочка?
(Погладила птичку, завернула в платочек, прижала к себе, попросила отца помочь ласточке, взять ее домой.)
– Какое определение можно дать ее поступку?
(Добрый, милосердный.)
– Как вы понимаете лексическое значение этих слов?
(Доброта – отзывчивость, стремление делать добро другим людям.
Милосердие – готовность помочь кому-либо или простить кого-либо.)
– Таким образом, мы видим, что девочка не только пожалела птичку на словах, но и оказалась способной совершить добрый поступок. <…>
– А могли бы вы заплакать? А взрослые? Почему же девочка отреагировала так остро?
(Она впервые так близко увидела чужую боль, это было первое живое существо, к которому она проявила милосердие, а первое чувство всегда самое острое.)
– А теперь подумайте, случайно ли автор пишет в стихотворении именно о ласточке, а не о другой птице?
(Можно предположить, что не случайно. «Первая ласточка» – устойчивое выражение. Так говорят о первых признаках появления чего-то хорошего.)
– Так что же так потрясло отца? О чем он задумался?
(Он увидел в своем ребенке первые признаки появления доброты, милосердия. На его глазах в дочери родились эти качества.) <…>
– Прочитаем последние строки стихотворения.
– Как вы понимаете слово «грядущий»?
(Будущий.)
– Почему отец прощает дочери грядущие капризы и шалости?
(В ней есть то, что сделает девочку настоящим человеком.) <…>
– Итак, сегодня мы проанализировали удивительно нежное и трогательное стихотворение И. Северянина, в котором поэт проявил себя с неожиданной стороны: как простодушный, мечтательный и даже наивный человек, а главное – удивительно добрый87.
Вышеприведенные вопросы при всей своей дидактической простоте предполагают, что дети совершат некоторое усилие, направленное на последовательно выстроенное объяснение. Если верить педагогам, стихотворение «В парке плакала девочка…» особенно нравится девочкам88. Русскоязычные дети в США тоже воодушевлены этим стихотворением:
Ключевым при анализе выступал исконно русский концепт «жалость». Почему лирической героине было жалко раненую ласточку? Почему папа простил дочери все «капризы и шалости», даже те, которые еще не случились? Любить и жалеть – людей и все живое; жалеть значит любить – таковы маркеры русской культуры, воссозданные в стихотворении. Природа стиха драматическая. Фиксируем внимание детской аудитории на том, что девочка доверительно обращается к отцу с элементами разговорной интонации – «посмотри-ка». И тут же в качестве контраста выделяем старославянизм «грядущие», незнакомый учащимся. Почему поэт употребил такое древнее слово в обрисовке вполне современной житейской ситуации? Объясняем это классической традицией словоупотребления высокой лексики для подчеркивания значительности момента: сквозь слезы девочки высвечивается ее добрая чистая душа. Выстраиваем семантический ряд: грядущий, будущий, последующий – словарный запас ученика обогащается. И все же понимание жизни американскими школьниками как чего-то устойчивого, с предполагаемыми выходами из кризисных ситуаций, совершенно неожиданно возбудило их интерес к продолжению истории о ласточке, вызвав следующие вопросы: «Была ли впоследствии оказана медицинская помощь ласточке?», «Как лечить ласточку?», «Разрешит ли отец оставить ласточку дома, чтобы она окрепла?»89.
От «взрослого» литературоведения ожидается нечто подобное: это ряд вопросов, которые могли бы стать основой для многостороннего прочтения текста. В терминах филологических методик оно предполагает совмещение синтагматического анализа, сфокусированного на линейном развертывании семантической структуры текста, и парадигматического, включающего стихотворение Северянина в более широкий контекст его творчества. В данном случае я ограничу (и, соответственно, упрощу) свою задачу, оставаясь в пределах биографического, лингвостилистического и культурно-исторического анализа с попутными замечаниями теоретического характера.
Из воспоминаний Веры Коренди, гражданской жены поэта, известно, что в последние годы жизни Игорь Северянин гулял и занимался с их общей пяти-шестилетней дочерью Валерией (урожденной Кореневой, 1932 г. р.), читая ей, в частности, стихотворение «В парке плакала девочка…»90. Известно и то, что ко времени написания этого стихотворения поэт уже был отцом двухлетней дочери Тамары, родившейся в 1908 году в отношениях поэта с Евгенией (Златой) Гуцан. Игорь Северянин определенно не читал свое стихотворение первой дочери, в воспитании которой после расставания со Златой (еще до рождения ребенка) он не принимал никакого участия и которую единственный раз увидит только в 1922 году в Берлине, но не исключено, что какая-то проекция отеческой заботы о дочери как о плачущей девочке сказалась в поэтической сценке, написанной им в 1910 году. В 1913 году у Северянина родилась вторая дочь – Валерия Семенова (названная в честь Валерия Брюсова). Остается гадать, читал ли Северянин свое стихотворение ей, – но отношений с ее матерью он, во всяком случае, не прерывал: все вместе они приехали в Эстонию в 1918 году. Так, не без некоторой натяжки можно сказать, что если не контекст написания, то по меньшей мере содержательный смысл стихотворения «В парке плакала девочка…» был для зрелого Северянина биографически небезразличным.
Вопрос в следующем: в чем таится это содержание для реальных и воображаемых читателей Северянина? Казалось бы, такой вопрос прежде всего должен быть адресован самому Северянину – но я в этом не уверен уже потому, что рассуждения об авторской интенции подчинены рецепции текста. Интерпретация любого художественного текста является литературно-антропологической – уже потому, что это интерпретация чего-то, что написано кем-то, кто отстоит от нас во времени и пространстве, чего-то, что адресовано современникам автора, а значит, уже поэтому обязывает к пониманию языка и таких обстоятельств создания произведения, которые являются сторонними по отношению к интерпретатору. При всем стремлении к воссозданию «ближайшего контекста» анализируемого текста, нам не избежать его осовременивания и «присвоения». Автором стихотворения «В парке плакала девочка» является Северянин, но в опыте восприятия и истолкования оно отчасти становится и моим тоже. Адресуясь же к читателю и обобщающе говоря, это наше стихотворение и наш Северянин.
В терминах рецептивной эстетики (в том виде, в котором она складывалась благодаря усилиям Вольфганга Изера и Ханса-Роберта Яусса), смысл текста не извлекается из текста, как некоторая заложенная в нем данность, но конституируется в процессе чтения: смысл – это создание смысла (Sinnkonstitution)91. Истолкование текста обязано встрече с воображением и опытом реципиента – оно исторично и, по меньшей мере, субъективно, но
так как уровни интерпретации, переходы между ними, поиски равновесия ведет читатель, читатель же и сообщает тексту то динамическое жизнеподобие, которое, в свою очередь, позволяет ему усвоить чужой опыт как часть собственной жизни92.
Задолго до популярности нарратологических (и поэтологических) исследований Томас Элиот усматривал в полифонии стихотворного высказывания проблему поэтической коммуникации и различения драмы, квазидрамы и недраматической поэзии.
Первый голос – это голос поэта, говорящего с самим собой – или ни с кем. Второй – голос поэта, обращенный к аудитории, большой или маленькой. И третий – это голос поэта, воплощенный в драматическом персонаже, говорящем стихами; не то, что сказал бы сам автор, а только то, что может сказать один воображаемый персонаж другому воображаемому персонажу93.
Разобраться в иерархии подобного многоголосия (да еще с учетом возможного диалогизма персонажей в границах одного стихотворения) по меньшей мере сложно94. Но у читателя есть выбор, и этот выбор основан на доверии к тому, что он слышит в прочитанном.
Доверие не является само собой разумеющимся понятием. В социологии и психологии оно понимается различно95. Но и в том и в другом случае у него есть проспективный аспект, отсылающий к будущему. Доверять кому-то или чему-то – это значит снимать границу между «знанием» себя и «незнанием» другого через предвосхищаемое будущее. Будущее присутствует в настоящем, обнадеживая возлагаемыми на него ожиданиями. В этом смысле проективна и литература – и поэзия, в том числе. Сказанное автором нечто и некогда предполагает по меньшей мере, что оно будет не просто прочитано, но прочитано как то, что обращено к будущему, – хотя бы потому, что читатель по отношению к автору всегда пребывает в будущем.
В общем виде о любом лирическом произведении можно сказать, что оно движется «от внешнего к внутреннему, от фактов объективной действительности к их эмоциональной переработке, к их переживанию некоей внутренней правды, вытекающей из предельно лично понятой и прочувствованной ситуации»96. Эстетика в этих случаях осложняется этической пресуппозицией, подразумевающей относительную «правду» поэзии. По крылатому соподчинению этих слов у Гёте, «поэзия» и «правда» взаимообусловлены. Сомнение в поэтической искренности не мешает (или, может быть, даже помогает) пониманию стихотворения, но разрушает эмпатию, которую, казалось бы, читатель и/или слушатель изначально вменяет себе по отношению к поэту и тем голосам, которые он создает.
В нашем стихотворении включение в текст прямой речи открывает пространство диалога. Непосредственные персонажи этого диалога – девочка и ее отец – в известном Северянину поэтическом контексте отсылают к Константину Фофанову (стихотворению «Рисунок», 1902) и Александру Блоку – к «пьесам» 1905 года «Поэт» («Сидят у окошка с папой…») и «У моря» («Стоит полукруг зари…»), вошедшим в раздел «Детское» сборника «Нечаянная Радость» (1907). Ввиду важности этих текстов для их возможного сопоставления со стихотворением Северянина приведу их полностью97.
- Девочка долго бумажку чертила
- И улыбалася кротко и мило, —
- Черточки, точки, кривой полукруг…
- – Что это значит, мой маленький друг?
- Девочка тихо головку склонила.
- – После увидишь! – ответила мило
- И принесла мне рисунок потом
- С ясной душою и с ясным челом.
- – Видишь, какие картиночки вышли?
- – Не понимаю: собачка ли, мышь ли?
- Или лошадка, иль серый коток?
- Что написала, скажи мне, дружок!
- – Папа, какой непонятный ты, право!
- Видишь, здесь ангелы Божьи направо,
- Видишь, тут речка и райский цветок.
- – Вижу, голубушка, вижу, дружок!
- О, золотая невинность моя!
- Может быть, так же мечтаю и я,
- Может быть, так же прилежный мой труд
- Глупые люди, смеяся, поймут98.
- Сидят у окошка с папой.
- Над берегом вьются галки.
- – Дождик, дождик! Скорее закапай!
- У меня зонтик на палке!
- – Там весна. А ты зимняя пленница,
- Бедная девочка в розовом капоре…
- Видишь, море за окнами пенится?
- Полетим с тобой, девочка, за море.
- – А за морем есть мама?
- – Нет.
- – А где мама?
- – Умерла.
- – Что это значит?
- – Это значит: вон идет глупый поэт;
- Он вечно о чем-то плачет.
- – О чем?
- – О розовом капоре.
- – Так у него нет мамы?
- – Есть. Только ему нипочем:
- Ему хочется за море,
- Где живет Прекрасная Дама.
- – А эта дама добрая?
- – Да.
- – Так зачем же она не приходит?
- – Она не придет никогда:
- Она не ездит на пароходе.
- Прошла ночька.
- Кончился разговор папы с дочкой99.
- Стоит полукруг зари.
- Скоро солнце совсем уйдет.
- – Смотри, папа, смотри,
- Какой к нам корабль плывет!
- – Ах, дочка, лучше бы нам
- Уйти от берега прочь…
- Смотри: он несет по волнам
- Нам светлым – темную ночь…
- – Нет, папа, взгляни разок,
- Какой на нем пестрый флаг!
- Ах, как его голос высок!
- Ах, как освещен маяк!
- – Дочка, то сирена поет.
- Берегись, пойдем-ка домой…
- Смотри: уж туман ползет:
- Корабль стал совсем голубой…
- Но дочка плачет навзрыд,
- Глубь морская ее манит,
- И хочет пуститься вплавь,
- Чтобы сон обратился в явь100.
В стихотворении Северянина «коммуникативная» ситуация выглядит схожим образом – с той, однако, разницей, что отец девочки, хотя и является адресатом ее обращения, «вслух» ей ничего не отвечает. Поэтический диалог в этом случае замечателен своим превращением в потенциальный полилог: девочки, ее отца и читателей/слушателей стихотворения.
Стоит заметить, что прямая речь даже в своей речи – автоцитирование («И я сказал: „…“») – разотождествляет того, кто говорит от первого лица, и того, кто говорит как бы от первого лица. В нарративном отношении это разные лица и разные рассказчики. Включение в текст чужой прямой речи и вовсе конструирует многоголосие, наделенное дейктическим – голосовым, «телесным» и пространственным – измерением. Здесь это дистанция между «повествователем», девочкой, ее отцом и «нами», свидетелями описываемого события. Девочка обращается к отцу, но читатель/слушатель оказывается в этот диалог вовлечен ситуативно – будучи не/вольным свидетелем незавершенной коммуникации, он гипотетически выступает в роли того, кто такой диалог мог бы продолжить (завершить). Голос «повествователя», сообщающего о происходящем («В парке плакала девочка…»), дополняется в этом случае голосом самой девочки («посмотри-ка..»), безмолвным «голосом» отца и потенциальными «голосами» сторонних свидетелей – читателей/слушателей стихотворения. И вот за шестью строчками стихотворного текста слышится, условно говоря, многоголосие его участников: «хор текста».
Так о чем стихотворение Северянина? О девочке, о папочке, о ласточке? О жалости девочки к ласточке, о жалости папочки к девочке, о прозрении отца, устыдившегося своей возможной строгости к капризам и шалостям дочери? В отечественном стиховедении об исследовательской пользе подобных вопросов писал М. Л. Гаспаров, видя в них
…аналитический парафраз, т. е. обоснованный ответ на простейший вопрос: «о чем, собственно, говорится в этом стихотворении?» В конечном счете такой «пересказ своими словами» (особенно – переводными) – это экзамен на понимание стихотворения: воспринять можно даже то, чего не можешь пересказать, но понять только то, что можешь пересказать101.
Суждение Гаспарова можно счесть излишне прямолинейным и даже дезориентирующим – как если бы оно подразумевало обнаружение некоего исчерпывающего смысла того или иного стихотворения. Но это, конечно, не так. Одно и то же стихотворение можно пересказать по-разному и, соответственно, «ответ на простейший вопрос» оказывается не таким уж простым102.
МЕТР. СИНТАКСИС. КОМПОЗИЦИЯ
В метрическом и интонационном отношении стихотворение «В парке плакала девочка…» прочитывается в первых трех строках как плач. Привычная для Северянина любовь к так называемым сильным цезурам подчеркивает здесь – в границах четырехстопного анапеста с дактилической цезурой и дактилической клаузулой (16 слогов) – значимость словоразделов и ударных констант, заставляющих читать это стихотворение мелодически монотонно и вместе с тем, благодаря сочетанию 3‑го и 2‑го пеона, прерывать чтение своего рода «всхлипами» – из необходимости «отдышаться» перед следующей тактовой группой103. Иначе, по замечанию Барри Шерра, отметившего особенности междуиктовых интервалов в этом стихотворении, его «было бы и трудно написать и еще более трудно продекламировать»104. Сам Северянин назвал бы свой размер «анапестом 4-ст. с кодою в 2 трети» (то есть анапестом с наращением в два слога)105:
- В парке ПЛАкала ДЕвочка: посмотРИ-ка ты ПАпочка
- У хоРОшенькой ЛАсточки переЛОмлена ЛАпочка
- Я возьМУ птицу БЕдную и в плаТОчек уКУтаю…
- И отЕЦ призаДУмался, потряСЁнный минУтою,
- И простИЛ все гряДУщие и капРИзы и ШАлости
- Милой МАленькой ДОчери, зарыДАвшей от ЖАлости
Метрико-ритмическая схема стихотворения выглядит при этом так (с учетом сверхсистемных ударений в первом и последнем стихе: В ПАрке … МИлой):
- ÚU−´UU−´UU UU−´UU−´UU
- UU−´UU−´UU UU−´UU−´UU
- UU−´ÚU−´UU UU−´UU−´UU
- UU−´UU−´UU UU−´UU−´UU
- UU−´UU−´UU UU−´UU−´UU
- ÚU−´UU−´UU UU−´UU−´UU106
Произносительная выразительность усугублена здесь же ассонансами (то есть повторением ударных гласных: А-Е-И-А / О-А-О-А / У-Е-О-У / Е-У-Е-У / И-У-И-А / А-О-А-А) и аллитерациями (повторением согласных звуков и их групп: П-П / Л-Л-Л-Л-Л / К-ЧК-К-ЧК / К-ЧК-ЧК / Ч(Е)К-К / Д-Д-Д / З-С / С-Щ-З-Ш / Ч-Ш-Ж). Открытые слоги с полнозвучными гласными позволяют искусственно растягивать слова и придают им подчеркнутую напевность. При этом благодаря серединной цезуре и регулярности наращения каждый стих распадается на два идентичных полустишия (что дополнительно поддерживается в первых двух стихах внутренней рифмой: девочка-папочка-ласточка-лапочка, а в последующих отчетливостью открытого У в словах: беднУЮ-УкУтаЮ-призадУмался-минУтоЮ-грядУщие), так что в результате стихотворение прочитывается как двухстопный анапест со сплошными дактилическими окончаниями. Системность таких окончаний, как давно замечено, в произносительном отношении способствует замедлению темпа, мягкости стихораздела и в целом характерна для повествовательных и медитативных жанров (в нашем стихотворении такая медитативность подчеркивается еще и семантически – словом призадумался)107. Между тем в анапесте
определенно ощущается порыв, стремительность, возможности быстрых нарастаний и спадов, его «волна» принимает часто характер зигзагообразного излома. В анапестических стихах обнаруживаем тенденцию к четному разделу стоп, к более «сильной» (хотя бы и краткой) паузе, к более резкому акценту. Из 3-сложных размеров анапесты выделяются ритмическим богатством и наименьшей ровностью движения108.
Используемый поэтом размер оказывается, таким образом, изначально варьирующим чередование восходящего и нисходящего интонирования и мелодики речи. Анафорическое вступление с глухих согласных (Па-Пла-Па)109 развивается повторением звонких твердых согласных (пЛа-Ло-Ла-пЛа) – при этом эвфонически изысканное наложение глухого и звонкого в словах «ПЛакала… ПЛаточек» и «ПРизадумался ПотРясенный… ПРостил» воспринимается как системный каркас стихотворения (интересный и в том отношении, что аллитерационные повторения в этих случаях находятся в словах разных частей речи).
Фонетическое оформление стихотворения замечательно и своим лексико-орфографическим, почти исчерпывающим «азбучным» строем: на шесть строк в нем 21 согласная буква и 11 гласных (с учетом утраченных в современных публикациях букв ять – ѣ и десятеричного i). При этом доминанты аллитерационных и ассонансных созвучий эффектно оттеняются неожиданным аккордом словосочетания, замечательного восемью различными согласными: «и капризы и шалости».
В незамысловатой «Теории версификации» (1933) Северянин ретроспективно сформулировал свое представление об образцовом стихосложении (все приводимые им здесь же примеры являются примерами из его собственных стихотворений):
Рекомендуется как можно шире пользоваться следующим:
1) Мало использованными или вновь найденными эпитетами, метафорами, антитезами и пр.
2) Обращать усиленное внимание на эвфонию, аллитерацию и градацию.
3) Новыми рифмами (обратив особо-пристрастное внимание на использование гипердактилических рифм), ассонансами и диссонансами, предварительно тщательно их продумав, дабы они звучали.
4) Многостопными обыкновенными, но мало принятыми размерами.
5) Размерами с кодами внутри и размерами смешанными (сложными).
6) Различными фигурами строф и разнообразными стилистическими формами110.
По сути поэт подытожил в этих рекомендациях свои версификационные достижения. Налицо они и в стихотворении «В парке плакала девочка…». Пусть в нем нет новонайденных метафор, редких эпитетов и градации (то есть повторения какой-либо строки или одних и тех же слов в разных строках), в нем есть аллитерации, ассонансы и диссонансы (разные гласные при одинаковых согласных: ПАРке, ПЕРеломлена, ПРИзадумался, ПРОстил, каПРИзы, ПотРЯсенный), гипердактилические рифмы, разнообразные стилистические формы (папочка – отец, девочка – дочь, хорошенькая ласточка – птица), оно благозвучно и написано многостопным, хотя и обыкновенным, но мало принятым размером.
Валерий Брюсов, рассматривавший звукопись пушкинской поэзии, выделял в ней многообразие сложных повторов – последовательного (secutio), перекрестного (geminatio) и обхватного (antithesis)111. Замечательно, что все виды таких повторов употреблены в границах шести строк нашего стихотворения. В очерке «Эстляндские триолеты Сологуба» (1927) Северянин писал о любимом им и «самом изысканном», по его мнению, русском поэте:
Он очень труден в своей внешней прозрачной легкости. Воистину, поэт для немногих. Для профана он попросту скучен. Поймет его ясные стихи всякий – не всякий почувствует их чары, их аллитерационное мастерство112.
То же самое можно сказать о стихотворении «В парке плакала девочка…». Ясное по смыслу, оно равно виртуозно и очаровательно по звучанию. «Теснота стихотворного ряда», о которой позже будет писать Юрий Тынянов113, обнаруживает себя в этом случае как паронимическая аттракция (то есть притяжение близкозвучных слов в горизонтальной и вертикальной структуре стиха), соотносящая звучание стихотворения с его образным смыслом114. Здесь в первых трех строках это плач, в трех последних – размышление, этим плачем навеянное115.
Артикуляционный разрыв между первым и вторым трехстишием отмечен многоточием. Для Северянина это не случайный знак. Пунктуационная традиция русской литературы связывает с многоточием смысловую эмфазу, знак внезапного перерыва речи, недоговоренности и задумчивости. Привычными примерами такого рода изобилует сентиментальная литература с характерной для нее меланхолией, слезливостью, экзальтацией и недостаточностью слов для выражения чувств и мимолетных мыслей. Но иногда умолчание указывает не на слезы, а напротив – на ликование, восторг, эмоциональную эйфорию. Как бы то ни было, обособляя на письме фразовые фрагменты, многоточие придает им дополнительную выразительность116. Северянин поступает так же, демонстрируя незаурядную склонность к его употреблению: на 138 стихотворений «Громокипящего кубка» оно отсутствует всего лишь в 16 из них. Этой склонности поэт останется верен и дальше, невольно отсылая если не к узнаваемо сентиментальной, то во всяком случае нарочито и экспрессивно «лирической» традиции русской поэзии117. В нашем стихотворении многоточие – знак паузы и вместе с тем смысловой лакуны, в которой можно увидеть как собственно временной, так и сюжетный интервал (подразумевающий, например, манипуляции по укутыванию ласточки в платочек и минутную задумчивость отца).
Еще одной семантической особенностью стихотворения «В парке плакала девочка» выступает частота уменьшительно-ласкательных суффиксов в производных (лапочка, папочка, платочек, хорошенькая, маленькая) и непроизводных, самостоятельных словах (девочка, ласточка), еще более усиливающих экспрессивно-эмоциональный эффект его первых трех строк118. В целом эффект этот сводится к тому, о чем задолго до появления стихотворения Северянина писал Константин Аксаков в «Опыте русской грамматики»:
Предмет в малом своем виде кажется доступнее, беззащитнее, и потому как бы нуждается в покровительстве; притом грубость форм исчезает, и предмет становится милым. И так мы видим, что кроме размера внешнего, уменьшительное выражает другое, отсюда вытекающее значение милого: малому свойственно быть милым. Самая ласка предполагает уменьшительность предмета, и вот почему для выражения милого, для ласки, употребляется уменьшительное. <…> Чтобы представить предметы милыми, чтобы высказать ласкающее отношение, на них как бы наводится уменьшительное стекло, и они, уменьшаясь, становятся милыми. <…> Оттенки отношения к предмету уменьшенному многочисленны. Кроме милого, предмет принимает характер жалкого, бедного, робкого, возбуждающего о себе это сознание в говорящем <…> Кроме чувства, что этот предмет мне дорог, в говорящем высказывается часто и чувство собственного смирения119.
Наблюдения Аксакова дополнил Александр Потебня, заметивший, что употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов придает и другим словам связываемого с ними высказывания субъективную экспрессию «ласкательности»:
Отличая объективную уменьшительность или увеличительность от ласкательности и пр., в коей выражается личное отношение говорящего к вещи, можно думать, что в последнем случае настроение, выразившееся в ласкательной форме имени вещи (относительного субъекта), распространяется в той или другой мере на ее качества, качества ее действий и другие вещи, находящиеся с нею в связи. Это и есть согласование в представлении120.
Лексико-грамматическим примером такого согласования является, в частности, обстоятельство, подмеченное В. В. Виноградовым:
Формы субъективной оценки заразительны: уменьшительно-ласкательная форма существительного нередко ассимилирует себе формы определяющего прилагательного, требует от них эмоционального согласования с собою (например: маленький домик; седенький старичок и т. п.)121.
Так происходит и в стихотворении Северянина, где ласточка (самостоятельное слово, но также некогда образованное путем «уменьшительной» суффиксации) оказывается «хорошенькой», а дочь («девочка», как и ласточка, сохраняющее исходно диминутивное обозначение) – «милой» и «маленькой». (Замечу в скобках, что в последнем случае «маленькая» – это еще и плеоназм, то есть избыточный эпитет, усиливающий стилистическую экспрессивность определяемого им существительного122.)
Еще один аспект диминутивного словообразования – это так называемая косвенная референция, когда оценочно уменьшительное значение выражает не буквальное «уменьшение» предмета, а положительное отношение к тому, что связывается с ним в высказывании123. Характерно, что и сами эти суффиксы – по крайней мере в русском языке – узнаваемая примета общения с детьми, разговора с детьми и разговора детей, baby-talk, создающего и поддерживающего атмосферу коммуникативной доверительности между детьми и взрослыми. И «папочка», и «лапочка», и «платочек» не только указывают таким образом на условность «детской речи», но и подчеркивают трогательно участливое отношение к происходящему со стороны всех «участников» стихотворения – и девочки, и ее отца, и поэта, рассказавшего о происшествии, и, предполагаемо, тех, кому этот рассказ адресуется.
Упоминание о «платочке», в который девочка собирается укутать – или уже укутывает – ласточку, семантически выразительно. Фонетически слово «платочек» сопутствует слову «плакала», что дополняет и усугубляет их ассоциативное и, соответственно, семантическое созвучие. Речь при этом несомненно идет о носовом, а не о головном платке124. Связь слез и носового платка устойчива (вплоть до приметы: найти носовой платок или взять чужой – к слезам)125. Женский носовой платок в модном обиходе второй половины XIX века часто декоративен: это аксессуар, не имеющий исключительно гигиенического предназначения. В наставлениях о правилах хорошего тона уже в 1870‑е годы отмечалось как само собой разумеющееся, что
дамские носовые платки утратили даже первоначальное свое назначение, потому что кусочек батиста, величиною в визитную карточку и обшитый широкими брюссельскими кружевами – нельзя назвать носовым платком. Собственно носовой платок прячется дамами отдельно в карман126.
У знаменитых современниц Северянина Лидии Чарской и Надежды Тэффи (младшей сестры боготворимой поэтом Мирры Лохвицкой) многочисленные упоминания о носовых платках в большинстве случаев связаны со слезами. От них же мы узнаем, что в начале века для девочек и девушек было принято держать носовой платок в руках, или за поясом платья, или в кармане, но так или иначе он часто оказывался на виду127. Женские носовые платки привычно шили из тонкого шелка и батиста и отделывали кружевами, тогда как мужские чаще были хлопчатобумажными и (реже) фуляровыми.
Узнаваемая образность поддерживается поэтически. Сам Северянин упомянет о «платочке-слезовике» в стихотворении «Поэза о тщете» (1915): «В ее руке платочек-слезовик, / В ее душе – о дальнем боль…»128. Двумя годами позже публикации стихотворения «В парке плакала девочка…» на слуху у публики популярна мелодекламация стихотворения Касьяна Голейзовского Louis seize («Людовик Шестнадцатый») на музыку Боккерини (составленная В. Р. Иодко). Как значится на обложке ее отдельного издания 1915 года, сочинение «исполняется с громадным успехом артистом государственных театров В. В. Максимовым», которому она и была посвящена, – кумиру тогдашней театральной сцены и немого кино (чьим характерным амплуа стали роли салонных любовников и безукоризненно одетых денди)129. Запоминающиеся строчки ее второй строфы (tempo di minuetto):
- Маркиза юная! С цветком сиреневым на стройном бюсте,
- Платочек шелковый, чуть-чуть надушенный,
- Сегодня вымочен слезами грусти130.
Девочка/девушка/женщина с носовым платком в руках – почти мем, напоминающий о чувствительности и чувствах, искренности и жеманности, женственности и эротизме. Это намек и на то, что ее слезы (а не сопли) прекрасны, как она сама.
Звуковая и синтаксическая организация стихотворения «В парке плакала девочка…» делает его трудным для перевода. В ряду других стихотворений Северянина, переводу которых на иностранные языки препятствуют придуманные поэтом неологизмы, шестистишие о девочке в парке лексически выглядит исключительно простым. Но эта простота оказывается мнимой при желании передать все те орфоэпические и грамматические особенности, о которых шла речь выше, – ассонансы и аллитерации, уменьшительно-ласкательные суффиксы, внутренние рифмы. Одной из таких трудностей является, в частности, передача слова «посмотри-ка», в котором частица -ка обозначает призыв к действию со смягчающим оттенком, указывающим, помимо прочего, на непринужденность и близость отношений между коммуникантами131. Стилистически глагол посмотри-ка усиливает уменьшительно-ласкательную доминанту в речи девочки, но повелительное наклонение в этом случае не только смягчено и потому в большей степени выражает собою просьбу, чем требование, но и наделено дополнительным значением спонтанности высказывания и скорости происходящего132. Отец должен посмотреть на раненную птицу сейчас же, а не потом.
Для языков, которые лишены уменьшительной суффиксации и стилистических нюансов глаголов в повелительном наклонении, передача семантических особенностей стихотворения «В парке плакала девочка…» невозможна по определению133. Больше соответствий в имеющихся переводах на близкородственные языки – например, украинский, болгарский и польский.
- Гірко плакала дівчинка: «Подивися-но, таточку,
- У гарненької ластівки переламана лапочка, —
- Я візьму бідну пташечку та й у хустку укутаю…»
- І замислився таточко, майже вражений скрутою,
- І пробачив всі витівки і капризні старанності
- Милій крихітній дівчинці, що ридала від жалості.
- В парка плаче момиченце: «Погледни, скъпо татенце,
- лястовичката миличка е с пречупена лапичка —
- ште превържа аз птичето бедно с меката кърпичка…»
- И баштата, обичашт го, в изненада разтърсен бе
- и прости всички следвашти и капризи, и пакости
- на прекрасната штерчица, състрадателно плакала.
- Płacze w parku dziewczynka: „Patrz, jaskółka, tatusiu,
- taka śliczna tu leży, chorą łapką nie rusza.
- Wezmę ptaszka biednego i chusteczką owinę“…
- I zamyślił się ojciec w pełną wzruszeń godzinę,
- przyszłe psoty, kaprysy już wybaczył swej małej,
- dobrej, czułej córeczce, co z litości szlochała.
Но и они, при всех своих достоинствах, свидетельствуют о той банальной истине, что поэзия труднопереводима (не исключая, конечно, переводческие поиски тех или иных эффектных альтернатив)136.
Наконец, формально-содержательные характеристики стихотворения будут неполными, если не обратить внимания на коммуникативные роли главных персонажей стихотворения – девочки и ее отца: девочка плачет и говорит, а отец молчит. То, что он призадумался и простил, сообщается поэтом, но сама сценка монологична – диалогичность в ней домысливается извне и, соответственно, распределяется как 1) слова девочки, 2) молчание ее отца и 3) поясняющий комментарий поэта-нарратора. Пространство текста тем самым как бы метафизически преломляется: читатель и слушатель видят и слышат происходящее и узнает то, что в этом происшествии увидеть нельзя. Столь же метафизичен хронотоп стихотворения: пространственно-временная рамка происходящего связывает место (парк) с тотальным временным континуумом – прошедшим (плакала, простил, зарыдавшей), настоящим (прямая речь девочки: посмотри) и будущим (грядущие). Говоря проще, мы читаем в этом стихотворении о том, что случилось однажды, что происходит прямо сейчас и что, быть может, произойдет в будущем.
О ПРОСТОТЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Стихотворение «В парке плакала девочка…» может быть названо простым – в том смысле, что описание произошедшего в нем ясно в его сюжетной завершенности. Понятно, что произошло: вначале девочка увидела раненую ласточку, затем она обратилась к отцу и сказала о своем решении помочь раненой птице, после этих слов отец девочки был тронут ее добротой и принял собственное решение простить ей «капризы и шалости». Случай в парке описан в его пространственном (парк) и временном (вначале – потом) отношении. Последнее обстоятельство, к слову сказать, отменяет категоричность мнения Ю. Н. Тынянова о том, что в лирическом стихе «время совсем неощутимо. Сюжетная мелочь и крупные сюжетные единицы приравнены друг к другу общей стиховой конструкцией»137. История, рассказанная в стихотворении, развивается последовательно в нарастании кульминации – от житейской прозы и случайного происшествия до осознания лирическим героем некоторого морально-нравственного долженствования. Это осознание происходит, по-видимому, случайно, но оно подготовлено именно случаем и требует пусть и малого, но какого-то времени: здесь, говоря буквально, это минута («потрясенный минутою»).
Наконец, стихотворение «В парке плакала девочка…» является простым из‑за простоты лексики и синтаксиса и отсутствия сложных метафор. Можно было бы сказать, что в нем вообще нет метафор, если под метафорой понимать сравнение и уподобление. Но допустимо, с опорой на когнитивистов, выделить в нем рассредоточенную метафорику, связанную единством ближнего и дальнего (общекультурного) контекста. В данном случае это связь слов и образов «девочка» и «ласточка» с их амплификацией: плачущая девочка – бедная (в значении: вызывающая жалость) птица, хорошенькая ласточка – милая дочь. Интеракционистская теория метафоры (она же теория семантического взаимодействия) подразумевает, что восприятие субъектов метафоры связано с общепринятыми «импликациями», которые ассоциируются с тем или иным словом; в нашем случае это «девочка» и/или «ласточка». При выборе «главного» субъекта (principal subject), понимаемого в буквальном смысле, он «проецируется» на область вспомогательного субъекта (subsidiary subject), наделенного переносным смыслом138. Другое дело – и это осложняет интеракционисткую теорию – что выбор главного и вспомогательного субъектов является прерогативой читателя. Кого считать «главным» субъектом нашего стихотворения: девочку, ласточку или (почему бы не) отца девочки?
Когнитивный подход к пониманию метафоры расширяет ее лингвистические истолкования, делая упор на процессе мышления и, в частности, на создании и поддержании гештальт-структур человеческого восприятия139. В том же коренится ее эмоциональный эффект:
Метафора, с одной стороны, предполагает наличие сходства между свойствами ее семантических референтов, поскольку она должна быть понята, а с другой стороны, несходства между ними, так как метафора призвана создать некий новый смысл, то есть обладать суггестивностью <…> метафора есть результат когнитивного процесса, который сополагает два (или более) референта, обычно не связываемых, что ведет к семантической концептуальной аномалии, симптомом которой является определенное эмоциональное напряжение140.
Но проблема, которая в этом случае остается дискуссионной, сводится к вопросу о том, есть ли что-то в мышлении и языке, что не является метафорой (если считаться еще и с тем, что в этимологическом отношении слова – это тоже, пусть уже и неочевидные, метафоры)?
Под филологическим углом зрения стихотворение Северянина выглядит во всяком случае лишенным особенностей поэтического красноречия. В нем отсутствуют привычные для лирической поэзии синтаксические метафоры. Оно «повествовательно» – если понимать под этим словом логическую последовательность элементов наррации, рассказа, а не только контаминацию тех или иных эмоциональных высказываний. Неслучайно и само оно, пусть и в элементарном преломлении, поддается его вполне информативному пересказу – несопоставимому, например, с пересказом стихотворений раннего Пастернака или позднего Мандельштама. Характерно, что Северянин, не любивший ни того ни другого, упомянет обоих пренебрежительно. Мандельштам, по его мнению, «тягостен для слуха» («Стихи Ахматовой», 1918)141. Пастернаку он и вовсе посвятит почти оскорбительный сонет, где назовет его «безглавых тщательноголовым пастырем», выделывающим «бестолочь»:
- Им восторгаются – плачевный знак.
- Но я не прихожу в недоуменье:
- Чем бестолковее стихотворенье,
- Тем глубже смысл находит в нем простак
Себе Северянин не устает ставить в заслугу поэтическую простоту:
- Вдохновенно и просто пишу.
- Растворяясь душой в простоте,
- Я живу на земле в красоте!
В ней же он видит главное достоинство, но и трудность поэтического творчества:
- Величье мира – в самом малом.
- Величье песни – в простоте
- Чем проще стих, тем он труднее,
- Таится в каждой строчке риф.
- И я в отчаянии бледнею,
- Встречая лик безликих рифм
- И вот передо мной дилемма:
- Стилический ли выкрутас,
- Безвыкрутасная ль поэма,
- В которой солнечный экстаз?..
Северянина никак не счесть автором, который писал «безвыкрутасно» (хотя с годами он и в самом деле начинает писать проще), но стихотворение «В парке плакала девочка…» выделяется своей кажущейся простотой и «неметафоричностью». Что говорит о таких стихах традиционное литературоведение?
Ответим так: почти ничего. Горы книг, написанных о поэтических метафорах, подразумевают, что метафоры – одно из родовых свойств поэзии. Поэзия вне метафор семантически ближе к прозе. Поборники феноменологического литературоведения подсказывают при этом, что сама востребованность метафор в поэзии – попытка противопоставить мир воображения натиску одномерного информационного шума, симулятивности и повторяемости речевой интенции. «Отказ от прагматизма используемой повседневной речи» требует, по мысли Ханса-Георга Гадамера, «уплотнения высказывания», позволяя создавать многоуровневое смысловое содержание, искушающее его персональными и непредсказуемыми истолкованиями146.
Феноменологический метод <…> в действительности есть не что иное, как следование каждым читающим за той речью, которая здесь ведется и в которой что-то себя обнаруживает. Даже то, что́ он (этот метод) помогает показать и увидеть, собственно «феномен», означает выстраивание его в самом себе <…> Чтение всегда означает понуждение к рождению звучания и смысла текста147.
Казалось бы, иносказание – modus operandi поэтического высказывания. В стремлении к усложнению обыденной речи метафора преображает номинативную цель языковой коммуникации, переназывает и переозначивает суть высказывания, главной особенностью которого становится не информативность, а выразительность. Поэзия предполагает веер смысловых ассоциаций, наделяющих поэтическое произведение разнообразием дополнительных смыслов, осложняющих сколь-либо исчерпывающий комментарий «сложных» стихотворений. Неудивительно, что теоретической отмычкой к «сложным» стихотворениям иногда объявляется их автореференциальный характер. Поэтический текст в этих случаях рассматривается как отсылающий к самому себе и не требующий понимания извне. Смыслом текста (объ)является его структура, а денотатом – «мир произведения»148.
Стоит заметить, что общей предпосылкой, позволяющей видеть в метафоре расширение и трансформативность открывающегося за поэтическим текстом (или открывающегося в нем самом) мира – мира коллективных или персональных фантазмов, переживаний и надежд, – подразумевается исходная «недостаточность» читателя, ущемленного в своем праве и желании нового имагинативного, эмоционального и социального опыта. Поэзия восполняет экзистенциальный ущерб, даруя читателю новые смыслы и ставя перед ним новые цели, сколь бы иллюзорными они ни были. Как заметил однажды Иосиф Бродский, «в поэзии мы ищем мироощущения нам незнакомого»149.
Но здесь возникает проблема. Только ли суггестия метафорически усложненной речи гарантирует терапию за счет смыслового изобилия? И более того: всегда ли такое изобилие востребовано? Всегда ли читателю в радость энигматические ребусы поэтического текста? Конечно, представление о простоте или ясности любого текста условно. Одно из афористических рассуждений на эту тему принадлежит Полю Валери:
«Открой эту дверь». – Фраза достаточно ясная. Но если к нам обращаются с ней в открытом поле, мы ее больше не понимаем. Если же она употребляется в переносном смысле, ее можно понять.
Все зависит от мысли слушателя: привносит или не привносит она эти изменчивые обусловленности, способна она или нет отыскать их150.
Понимание стихотворения требует соотнесения буквального и переносного смысла. Но стоит ли думать, что усилия, направленные на такое соотнесение, непреложны и общеобязательны?
Любой литературный текст обладает коннотативностью, которую можно рассматривать как одобряемый или предосудительный довесок к его маркированно денотативной функции. Ролан Барт писал в связи с этим, что зачастую коннотация – это «преднамеренно и сознательно создаваемый ‘шум’, который вводится в фиктивный диалог автора и читателя, это контркоммуникация»151. Но если предположить, что в поэзии читатель ищет избавления от информационного «шума» языковой повседневности, то равным образом читатель поэзии может искать в ней же избавления от коннотативного (то есть в конечном счете тоже информационного) «шума» самой поэзии. Стремление к ограничению коннотаций текста может быть в этом случае и целенаправленным приемом автора, и запросом читателя, предпочитающего «простые» тексты «сложным». Что является этому причиной?
Психологи подсказывают один из возможных ответов на этот вопрос. Давно замечено, что количество потребляемой информации может стать причиной стресса – тревоги, растерянности и интеллектуальной дезориентации. В нейрофизиологии подобные случаи описываются как проявления «синдрома информационной усталости» (Information fatigue syndrome) и рассматриваются преимущественно в сфере социальных практик (снижение способности к принятию решений, достоверным оценкам и рациональному поведению). Но ничто не мешает думать, что литература, и в частности поэзия, является таким же информационным ресурсом, потребление которого может быть как полезным, так и вредным – или (что не одно и то же) восприниматься таковым152.
Простота поэтического высказывания оказывается, таким образом, очень непростым понятием, равно отсылающим к интенции и рецепции поэтического текста. С одной стороны, как заметил уже Дэвид Юм, «произведения, которые читаются нами чаще всего и которые каждый человек со вкусом помнит наизусть, свидетельствуют в пользу простоты», а с другой – «если их освободить от изысканности оборотов и гармонии стихотворных размеров, в которые облечены содержащиеся в них мысли, то последние ничем бы нас не поразили»153.
СТИЛЬ. ПРОСОДИЯ
Владимир Марков расценивал стихотворение «В парке плакала девочка…» как китч (притом что самого Северянина считал «гением кэмпа в русской поэзии», понимая под кэмпом (англ. camp) «нечто, возбуждающее одобрение и одновременно неодобрение. Мы ощущаем нарушение вкуса, но это „нравится“»)154. Китч (нем. Kitsch), по его мнению, «можно определить как ширпотреб красоты», то есть как некоторую красивость, некогда тяготевшую к экзотике и мелодраме (а образцы такого рода он находил и у Пушкина, и у Лермонтова, и у Блока, и у Ахматовой), а впоследствии также к сентиментальности155. Стихотворение Северянина следует, вероятно, отнести к сентиментальным156. Оно «красиво» – виртуозно в формальном отношении – и вместе с тем трогает своим «позитивным» содержанием, вызывает умиление и эмпатию.
В исполнении самого Северянина «В парке плакала девочка…» читалось, вероятно, как и другие стихотворения поэта, полураспевно:
странно он читает, еще страннее, чем пишет. Сказать, что читает нараспев, вот как читает, для примера, Бальмонт, будет очень неточно <…> чаще Игорь Северянин по-настоящему поет свои стихи157.
Он не читает, а как бы поет свои стихи158.
Выразительные ассонансы и аллитерации стихотворения в этом случае вполне оправдывают музыковедческие термины:
Повторение звуков в словах часто называют звуковой инструментовкой, в этом же значении употребляется термин «словесная инструментовка». Вместо терминов «аллитерация» и «ассонанс» иногда употребляют соответственно термины «инструментовка согласных» и «гармония гласных»159.
Сохранилось много мемуарных свидетельств о таком чтении, в котором орфоэпическая музыкальность исполнения часто сопровождалась движением и театральной позой. В одной из своих работ Александр Жолковский причислил Северянина к «поэтам с позой», то есть к тем, для кого «жизнь и творчество образуют симбиотическое целое, воплощающее единый взгляд на мир», когда «не только поэзия насыщается жизнью, но и жизнь организуется как поэзия» (помимо Северянина к таким поэтам он отнес также Блока, Маяковского и Анну Ахматову)160. Применительно к Северянину Жолковский прав в буквальном – театрализованном – представлении о «позе» поэта161.
Манера читать у него была та же, что и сами стихи, – и отвратительная, и милая. Он их пел на какой-то опереточный мотив, все на один и тот же. Но к его стихам это подходило. Голос у него был звучный162.
Следует прибавить, что все свои произведения г. Игорь Северянин не читал, а пел или завывал на мотив какого-то вальса, покачиваясь из стороны в сторону163.
Двадцатидвухлетний Сергей Прокофьев, впервые услышавший стихи Игоря Северянина в авторском исполнении, записывает в дневнике:
В пол-одиннадцатого заехал автомобиль со студентом и меня повезли на вечер новейшей литературы и музыки на Бестужевские курсы. Когда я туда явился, читал свои стихи (или правильней – мурлыкал на какой-то мотив) Игорь Северянин. Курсистки неистовствовали и прямо выли от восторга, бесконечно требуя бисов164.
Монотонно, на один и тот же манер Игорь Северянин пропел подряд несколько своих поэзо-измышлений… Поэт приподымался на верхних нотах и опускался на нижних… Он не только пел, но и танцевал свои стихи165.
Он умеет быть протяжно-мелодичным… Или напряженно-напевным, восторженно звонким <…> умеет заставить свой стих звучать тихой жалобой, наподобие струн, прижатых сурдинкой166.
Заложив руки за спину или скрестив их на груди около пышной орхидеи в петлице, он начинал мертвенным голосом, все более и более нараспев, в особой только ему присущей каденции с замираниями, повышениями и резким обрывом стихотворной строки <…> Заунывно-пьянящая мелодия получтения-полураспева властно и гипнотизирующе захватывала слушателей167.
Мелодия была очень широкой, охватывающей обширный голосовой диапазон. <…> Думается, мелодия Северянина возникла из музыки типа Массне, Сен-Санса168.
Неопределенно, но также с отсылкой к «двум-трем популярным мотивам из французских опер» описывал стихотворное пение Северянина Борис Пастернак (добавляя при этом, что «это не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха»)169.
В истории русской литературы примером виртуозной просодии служит поэзия Афанасия Фета – поэта, любимого Северянином («несравненный Фет»)170 и к тому же состоявшего с ним в отдаленном родстве по материнской линии171. Целый ряд стихотворений Фета – шедевры словесной звукописи, позволяющей слышать в них едва ли не музыкальные произведения. В оценке П. И. Чайковского,
Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область… это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом172.
В обширной монографии Штефана Шнайдера «музыкальность» лирики Фета детально рассмотрена как в собственно звуковой и интонационной согласованности, так и в структурном отношении – метрической и строфической организации его стихотворений, находящей себе аналогии в тех или иных музыкальных и вокальных формах173. Одна из доминантных форм «музыкальных» композиций Фета (подмеченная Татьяной Давыдовой) – сонатина или, по меньшей мере, лейтмотивное развитие одной-двух тем, выраженных через синтаксический параллелизм и звуковые (ассонансные и аллитерационные) переклички. В итоге «семантическая сторона слова как бы нивелируется, затушевывается, а основное содержание стиха выражает звук»174. Предсказуемо, что многие из них были положены на музыку175. Увлечение мелодикой стиха – опытами в области фоники, интонации, строфики, композиции – свойственно и старшим современникам Северянина: Брюсову, Андрею Белому, Блоку и, прежде всего, Константину Бальмонту176.
Характерная для позднего Фета тяга к намеренно «мелодическим» трехсложным размерам становится у Бальмонта, часто сопровождавшего их членениями, диподиями и внутренними рифмами доминирующим авторским стилем. Именно эту особенность, по наблюдению В. М. Жирмунского, у Бальмонта и перенял Северянин177. Столь же показательна перекличка Северянина с Бальмонтом в использовании нарочитых аллитераций (таково, в частности, стихотворении Северянина «Чары лючинь» (1919), в котором в трех строфах по четыре строки буква и звук Ч присутствует в 75 из 78 слов, явно соревнующееся со знаменитой строчкой Бальмонта «Чуждый чарам черный челн»)178.
Часто это пример языковой игры – и только. Но вместе с тем для Северянина, исполнявшего свои произведения сценически и полураспевно, склонного к «композиторскому» оформлению своих «поэз» в квазимузыкальные формы («Я – композитор: в моих стихах / Чаруйные ритмы»)179, главенству ритма над смысловой стороной стиха (во многом объясняющего словотворческие вольности поэта диктатом размера и рифмы)180, установка на звуковую выразительность была одной из принципиальных особенностей поэтического высказывания. Читать в этом случае равносильно тому, чтобы прежде всего слушать и слышать прочитанное. Остается гадать, с опорой на какие согласные и гласные Северянин читал, а точнее полунапевал стихотворение «В парке плакала девочка…», но варианты его фонетически акцентированного исполнения очевидны: это и открытые гласные, и плавные согласные P и Л, и сочетание согласных Ч и К (на шесть строчек оно употреблено пять раз).
Специалисты в области вокальной речи (или, в других терминах, «певческого голоса», «музыкальной речи») подчеркивают, что
в отличие от речи, пение является процессом, который максимально включает в работу и дыхательную систему, и артикуляционный аппарат. Для естественности образования вокальной фразы необходимо решение двух задач голосовой деятельности: сознательное управление процессом формирования звуков речи на определенной высоте тона и сохранение мелодики текста, которая предполагает конкретный темп, ритм и эмоциональную составляющую процесса181.
Очевидное различие в этих случаях – это функция дыхания, и в частности артикуляция выдоха, выраженная в том, что основная опора при пении делается на гласные, которые – в отличие от согласных – не создают препятствий воздушному потоку. Из этого следует и то, что именно гласные формируют качество тембра и акустическую характеристику звука. Поэтому же вокальная речь часто выбивается из общепринятых орфографических и орфоэпических правил, заставляя исполнителя, например, в случае конечного согласного звука в слоге переносить его на следующий слог и произносить на той высоте, на которой находится нота182.
Известно, что поэт вокализовал свое исполнение, в частности, тем, что произносил в некоторых словах Е как Э, то есть усиливая его «открытость»183. Возможно, нечто похожее происходило и здесь: гласным звукам придавалась дополнительная длительность (определяемая ударением), так что стихотворение, и без того долгое по размеру, приобретало еще более протяжный и напевный характер. Говоря иначе, удивлявший аудиторию своим музыкальным исполнением Северянин как бы еще более усиливал не только вокализацию стиха, но и его медиализацию, привнося в его восприятие дополнительную «странность»: строй стихотворной речи приобретал в этих случаях напевность, не превращаясь при этом в полноценное пение.
Сам Северянин отмечал особую роль, которую сыграло в его жизни посещение «образцовой Мариинской оперы», куда его «стали усиленно водить» уже в раннем детстве. Позднее, переехав в Петербург, он стал заядлым меломаном и любителем оперы («бывал ежевечерне в театрах», а «по воскресеньям даже дважды в день»).
Благодаря оперной музыке, произведшей на меня сразу же громадное впечатление и зачаровавшей ребенка, мое творчество стало развиваться на двух основных принципах: классическая банальность и мелодическая музыкальность <…>. Да, я люблю композиторов самых различных: и неврастеническую музыку Чайковского, и изысканнейшую эпичность Римского-Корсакова, и божественную торжественность Вагнера, и поэтическую грацию Амбруаза Тома, и волнистость Леонкавалло, и нервное кружево Масснэ, и жуткий фатализм Пуччини, и бриллиантовую веселость Россини, и глубокую сложность Мейербера, и – сколько могло бы быть этих «и»!..184
Любовь к музыке и особенно к опере – важная деталь житейской и поэтической биографии Северянина, сознательно воспроизводившего в своем творчестве общие черты музыкальной формы – приемы комбинаторики, ритмической модуляции, изменения интервалов (темперации) в акустическом строе стихотворного произведения и движения в сторону полифонии185. Поэт запомнился мемуаристам выразительным баритоном: поклонникам его голос представлялся «приятным» и «бархатным»186, не лишенным вместе с тем силы и «металлически звенящего» звучания187, недоброжелателям – неестественно показным и раздражающим:
В 1913 году весной <…> приехал прилизанный, с прямым пробором Игорь Северянин, который пел скрипучим неприятным голосом свои поэзы. Фешенебельные дамы, сидевшие с нами (я была с сестрой) в одном ряду, катались в истерике от смеха. Я сердито шикала на них, но и самой мне было довольно весело. Казалось новым, а поэтому защищалось. Все же мы с сестрой тоже подфыркивали. Уж очень голос был нехороший188.
Игорь Северянин «загнусавил» <…> Игорь снова гнусавил189.
По воспоминаниям Анны Ахматовой, «на каком-то литературном вечере Блок прослушал Игоря Северянина, вернулся в артистическую и сказал: „У него – жирный адвокатский голос“»190. Максимилиан Волошин, набрасывая в 1917 году план статьи «Голоса современных поэтов», описывал голос Северянина сатирически и также неприязненно:
Теноровые фиоритуры и томные ариозо, переходящие в лакейский пафос смердяковских романсов, перед которыми не могло устоять ни одно сердце российской модистки191.
Сам Северянин оценивал свою дикцию и манеру поэтических выступлений без излишней скромности:
- <…> Как я
- Стихи читаю, знает точно
- Аудитория моя:
- Кристально, солнечно, проточно192.
Как бы то ни было, поэтические произведения Северянина, исполнявшиеся на публике с упором на их мелодичность, напрашивались и по сей день напрашиваются на музыкальное переложение. В их ряду нашлось место и стихотворению «В парке плакала девочка…».
Семен Рубанович, ценивший поэзию Северянина, видел ее основу в «эмоциональности художественного темперамента» поэта, определяющей в конечном счете технические особенности его стихосложения. «Она – источник почти песенной певучести его стихов, такой властной и заразительной, что стихи его хочется петь. И. С. и поет свои стихи – и напев их так внятен, что его можно записать нотными знаками. И это не прихоть чтеца – напев заключен в них потенциально и можно даже вскрыть технические причины этой напевности»193. Музыковед Александр Глумов писал о впечатлении, произведенном на него выступлениями Игоря Северянина: «Его напев легко можно было положить на ноты (условно, конечно), и подобная запись у меня сохранилась»194. Сохранились записи напевного чтения Северянина, сделанные в Эстонии С. Ф. Дешкиным195.
Композитор Сигизмунд Кац вспоминал, как, поступив в 1925 году в музыкальный техникум Гнесина и став учеником по классу фортепьяно у Владимира Шора, он сыграл ему собственные сочинения: «…три фортепианные пьесы и два романса на стихи Блока и почти забытого сейчас поэта Игоря Северянина. Первый назывался „Клеопатра“, второй – „В парке плакала девочка“». Шор очень терпеливо выслушал мои ранние опусы»196. Музыкальные сочинения на слова стихотворения «В парке плакала девочка» появляются по сей день197.
ОПЕРА. АМБРУАЗ ТОМА
Возможность посещения оперы в Санкт-Петербурге в начале XX века объяснялась ее сравнительной демократичностью. В отличие от балета, мода на который, как и цены на его посещение, нарочито диктовались богатой аристократией, опера была менее элитарной и доступной для широких слоев столичных и провинциальных жителей. Характерно, что модный и шикарный «журнал красивой жизни» «Столица и усадьба» (1913–1917) чуть не из номера в номер сообщал о новостях балета, но никогда об опере. Анатолий Чужой, балетоман довоенных лет, вспоминал позднее:
Если мы примем во внимание, что из всех театров балет показывали только в Мариинском, вмещавшем около двух с половиной тысяч зрителей, и что весь балетный сезон состоял из пятидесяти представлений, на сорок из которых действовали абонементы, – становится ясным, что оставалось немного мест для тех людей, кто <…> не относился ко двору, гвардии, правительству, прессе или самому театру198.
Северянина среди этой публики не было – хотя он и стремился если не в жизни, то хотя бы в поэзии походить на великосветского денди. Упоминания о балете у Северянина тоже единичны: однажды (в стихотворении «Чем больше – тем меньше», 1923) он противопоставит ценителей балета любителям ресторанных танцев (в пользу первых)199, а в другой раз вспомнит оскорбительно и насмешливо (в поэме «Невесомая» из сборника «Плимутрок», 1924) об одной из своих воздыхательниц, Violette, которая «осталась нераздетой, раздеться жаждя», – ей поэт предпочитал «нео-классический балет»200.
Значение оперы в жизни и творчестве Северянина было иным. В автобиографии поэт писал об особом влиянии, которое произвела на него оперная музыка Амбруаза Тома201. О раннем знакомстве с его музыкой свидетельствует «Мадригал» поэта, посвященный «Г-же Ван-дер-Брандт» (1905), включенный им в стихотворную брошюру «Мимоза» 1907 года. Героиню посвящения, Надежду Тимофеевну Ван-дер-Брандт (Клабановскую), по позднему воспоминанию самого Северянина, он расценивал как одну из лучших исполнительниц роли Филины в опере Тома «Миньон»: «маленькая, изящная» «сценически была очаровательная в этой партии»202. Брошюра 1910 года «Колье принцессы» предваряется самоаттестацией, связывающей поэта и композитора: «Памяти Амбруаза Тома, аккомпаниатора моей Музы». В 1913 году на поэзоконцерте Северянина в концертном зале Тенишевского училища (Моховая, 33) такой аккомпанемент будет воплощен сценически: выступления поэта и – на вторых ролях – его соратников-эгофутуристов сопровождались музыкой Тома в фортепьянном исполнении С. С. Полоцкой-Емцовой203. По свидетельству Лившица, Маяковскому нравился только что изданный «Громокипящий кубок», и он распевал его «на узаконенный Северянином мотив из Тома́»204.
Поэт посвятит Тома несколько стихотворений. Первые три из них включены им в сборник «Громокипящий кубок» – «Полонез „Титания“ („Mignon“, ария Филины)» (1910), «Песенка Филины („Mignon“, A. Thomas)» (1911)205 и сонет «Памяти Амбруаза Тома» (1908):
- Его мотив – для сердца амулет,
- А мой сонет – его челу корона.
- Поют шаги: Офелия, Гамлет,
- Вильгельм, Реймонд, Филина и Миньона.
- И тени их баюкают мой сон
- В ночь летнюю, колдуя мозг певучий.
- Им флейтой сердце трелит в унисон,
- Лия лучи сверкающих созвучий.
- Слух пьет узор ньюансов увертюр.
- Крыла ажурной грацией амур
- Колышет грудь кокетливой Филины.
- А вот страна, где звонок аромат,
- Где персики влюбляются в гранат,
- Где взоры женщин сочны, как маслины,
Здесь же он упомянет о Тома в стихотворении (опубликованном сразу после сонета «Памяти Амбруаза Тома») «На смерть Массне» (1912):
- Я прикажу оркестру, где-нибудь в людном месте,
- В память Масснэ исполнить выпуклые попурри
- Из грациоз его же. Слушайте, капельмейстер:
- Будьте построже с темпом для партитур – «causerie»!
- Принцем Изящной Ноты умер седой композитор:
- Автор «Таис» учился у Амбруаза Тома,
- А прославитель Гёте, – как вы мне там ни грозите, —
- Это – король мелодий! Это – изящность сама!206
Амбруаз Тома, фотография А. С. Адама-Саломона, 1876–1884 годы
Посвящение Амбруазу Тома в сборнике Игоря Северянина «Колье принцессы» (1910), вторая страница обложки
В сборник «Ананасы в шампанском» (1915) Северянин включит стихотворения «Колыбельная (Ариа Лотарио)» (1908) и «Поэза о „Mignon“» (1914):
- Не опоздайте к увертюре:
- Сегодня ведь «Mignon» сама!
- Как чаровательны, Тома,
- Твои лазоревые бури!
- «Mignon»!.. она со мной везде:
- И в бледнопалевых гостиных,
- И на форелевых стремнинах,
- И в сновиденьях, и в труде.
- Ищу ли женщину, с тоской
- Смотрюсь ли в давнее былое,
- Кляну ль позорное и злое, —
- «Mignon»!.. она везде со мной!
- И если мыслю и живу,
- Молясь без устали Мадонне,
- То лишь благодаря «Миньоне» —
- Грезовиденью наяву:
- Но ты едва ли виноват,
- Ея бесчисленный хулитель:
- Нет, не твоя она обитель:
- О, Арнольдсон! о, Боронат!..207
В сборнике «Поэзоантракт» (1915) будет напечатано стихотворение «Ласточки (дуэт из Mignon)» (1909). Стихотворение «Амбруаз Тома» (1923) войдет в сборник «Соловей» (1923).
- Тома, который… Что иное
- Сказать о нем, как не – Тома!..
- Кто онебесил все земное
- И кто – поэзия сама!208
Анжела Секриеру, уделившая специальное внимание теме оперной музыки в поэзии Северянина, справедливо пишет в связи с этим, что «опера „Миньон“ оказала на поэта такое сильное эмоциональное воздействие, что стала в некотором роде его „музой“»209.
Русское издание 1890 года партитуры оперы Амбруаза Тома «Миньон»
Дуэт «Вы ласточки касатки…» из оперы Амбруаза Тома «Миньон»
Интерес поэта именно к Амбруазу Тома (1811–1896) и особенно к его опере «Миньон» (1866), созданной по мотивам романа И. В. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера», примечателен. Во французской версии это была комическая опера со счастливым концом – воссоединением Миньоны с отцом, Лотарио, и возлюбленным Вильгельмом, в переписанной для немецкой аудитории – драматическая, кончающаяся смертью Миньоны. Трагическая развязка ближе к роману Гёте, хотя и в этом случае либретто оперы далеко отстоит от литературного источника: в романе главным героем повествования выступает Вильгельм, а не Миньона, нет в нем и любовного треугольника Филины, Миньоны и Вильгельма, как это происходит в опере, а отец Миньоны, счастливо вылечившись от безумия, так и не узнает о смерти дочери. Версия с трагическим финалом оперы, впрочем, широкого распространения не получила и была снята с репертуара, поскольку мало вязалась с ее в целом простодушно распевным стилем210.
К концу XIX века «Миньон» была абсолютным шлягером французского оперного репертуара (и первой оперой в истории, которая на протяжении тридцати лет выдержала более тысячи постановок только на сцене парижской «Опера комик»). Опера пользовалась триумфальным успехом в музыкальных столицах Италии, Англии и Германии. В России первое исполнение «Миньон» состоялось силами итальянской труппы в 1871 году. В 1879 году прошла ее русскоязычная премьера в Большом театре, после чего постановки оперы не сходили со сцены Москвы, Петербурга и провинциальных театров вплоть до революции211. Главными особенностями оперной музыки Тома полагались ее мелодичность, эффектные каденции и колоратуры, напевная лиричность (традиционные ранее для комической оперы разговорные диалоги Тома последовательно заменяет речитативными репликами) и исключительно богатая инструментовка. В современной Тома музыкальной критике даже сдержанные похвалы не обходились без указания на оркестровую виртуозность композитора:
Его оркестр по густоте и прекрасному распределению звука, по сочности и яркости колорита, по разнообразию и блеску приближается к берлиозовскому, который А. Тома, очевидно, изучил с немалой для себя пользой212.
Вместе с тем в ней же отмечались «несамобытность» и эклектизм Тома, как о том среди прочих писал П. И. Чайковский (критикуя оперу «Гамлет»):
Музыка его сшита из пестрых лоскуточков Мейербера, Гуно, Верди, Обера и сшита настолько ловко, что вы не разбираете, где кончается одно заимствование и начинается другое. В ней нет страстных порывов несомненной талантливости, нет переходов от сильно прочувствованных драматических моментов к менее выдающимся музыкальным идеям и формам <…> все гладко, чисто, ровно – но зато и бедно…213
Впрочем, и он оговаривался: единственное, что «несколько выкупает недостаток фантазии в Тома, это его превосходная, колоритная, поистине художественная инструментовка».
Со временем критических отзывов о Тома станет больше, и это сыграет свою (объяснимую, но несправедливую) роль в постановочной истории его опер в ХX веке. Тональная гармония, прозрачный контрапункт, эклектизм, известная «танцевальность» и «романсность» опер Тома представляются все более незамысловатыми и устаревшими на фоне атональных экспериментов рубежа веков214. Дурную службу в этой истории сослужили и доводы об искажениях и вольной интерпретации фабулы произведений, которые легли в основу оперных либретто215
