Путь сердца. Духовность пустыни и современное служение
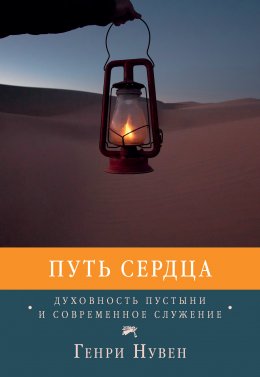
© Henri J. M. Nouwen, 1981
© МРОЕХ «ХЦ «Мирт», издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление, 2024
Посвящаю эту книгу Джону Могабгабу
Пролог
Через двадцать лет мы будем отмечать две тысячи лет христианской эры[1]. Вот только будет ли у нас что отмечать? Сейчас многие задаются вопросом, удастся ли человечеству выстоять перед лицом собственных разрушительных сил. Глядя на растущую нищету и голод, на стремительно распространяющиеся насилие и ненависть как внутри отдельных стран, так и между ними, а также на наращивание ядерных систем вооружений, мы понимаем, что наш мир вступил на путь самоубийства, и в нас с особой болью отзываются слова евангелиста Иоанна:
Слово… Свет истинный, Который просвещает всякого человека… в мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли (Ин. 1:9–11).
Кажется, что тьма сгустилась как никогда, что силы зла окончательно перестали скрываться и дети Божьи подвергаются ещё более суровым испытаниям, чем когда-либо раньше.
Последние несколько лет я непрестанно думаю о том, как должно выглядеть в такой ситуации христианское служение и что это значит: оставаться сейчас служителем. Что требуется от тех, кто хочет принести во тьму свет, «благовествовать нищим, исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18–19)? Что требуется от тех, кто призван войти в мучительную и пугающую сумятицу нашего времени и принести туда слово надежды?
Нетрудно заметить, что в этот страшный и болезненный период нашей истории нам, служителям, работающим в поместных приходах, школах, университетах, больницах и тюрьмах, очень нелегко выполнять свою миссию и делать всё возможное, чтобы в окружающей нас тьме воссиял свет Христа. Многие из нас так или иначе приспособились к общему летаргическому настроению. Другие устали, измучились, разочаровались, озлобились, обиделись или просто заскучали. Есть и такие, кто продолжает активно действовать и участвовать в происходящем, но, судя по всему, делает это, скорее, ради себя, нежели во имя Иисуса Христа. Во всём этом нет ничего странного. Служение требует неимоверных усилий; его требования постоянно растут, а удовлетворения оно приносит всё меньше. Как же нам сохранять в себе творческую энергию, ревность по Божьему Слову, желание служить и вдохновлять свои общины даже тогда, когда нам кажется, что им всё равно? Где нам искать подпитку и силы? Как нам утолить собственный духовный голод и жажду?
Именно об этом я и хотел бы поговорить в этой книге. Я надеюсь предложить кое-какие мысли и духовные дисциплины, которые могут помочь нам и дальше оставаться живыми свидетелями Христа, несмотря на подстерегающие нас искушения сойти с пути верности Иисусу, предаться комфортному себялюбию или впасть в отчаяние.
Но к кому нам обратиться? К Жаку Эллюлю, Уильяму Стрингфеллоу, Томасу Мертону, Тейяру де Шардену?[2] Безусловно, им всем есть что сказать, но на этот раз меня интересует куда более древний источник вдохновения, чья непосредственность, простота и конкретность поможет нам сразу, без околичностей, добраться до самой сути наших трудностей. Я имею в виду Apophthegmata Patrum, «Апофтегмы отцов» – Древний патерик или «Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов». Монахи-подвижники, жившие в египетской пустыне в четвёртом и пятом веках, могут рассказать много важного о жизни служения тем из нас, кто живёт и трудится в конце двадцатого столетия. Эти христиане-подвижники – кстати, среди них были не только отцы, но и матери-пустынницы – искали новую форму мученичества. Когда христиан перестали преследовать, свидетельствовать о Христе кровной жертвой стало невозможно. Однако окончание гонений вовсе не означало, что мир принял идеалы Христа и исправил свои греховные пути; мир, как и раньше, предпочитал не свет, а тьму (Ин. 3:19). Но если мир перестал враждовать с христианами, то теперь уже христианам пришлось начать вражду с миром, лежащим во власти тьмы. Бегство в пустыню было способом уклониться от искушения сообразоваться миру. Здесь, в пустыне, Антоний, Агафон, Макарий, Пимен, Феодора, Сара и Синклитикия стали духовными наставниками для других. Здесь они стали мучениками нового типа: свидетелями о спасительной силе Иисуса Христа против разрушительных сил зла. Именно их духовные наставления, советы паломникам и очень конкретные аскетические практики легли в основу моих размышлений о духовной жизни служителей-христиан нашего времени. Подобно монахам и монахиням египетской пустыни, нам нужно найти реальный и самый что ни на есть практический ответ на увещевание апостола Павла: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).
Я решил выстроить свои размышления вокруг одной истории, которую рассказывают об авве Арсении. Арсений был образованным римским сенатором и жил при дворе императора Феодосия в качестве воспитателя его сыновей Аркадия и Гонория. «Авва Арсений, ещё находясь при царском дворе, молился Богу так: „Господи! Научи меня, как спастись?“ И был ему голос: „Арсений! Бегай от людей – и спасёшься“». После того как Арсений тайно уплыл из Рима в Александрию и удалился в уединение, «он опять молился Богу теми же словами и услышал голос, говорящий ему: „Арсений! Бегай, молчи, пребывай в безмолвии; ибо в этом – корни безгрешности“»[3]. Эти слова «бегай», «молчи» и «пребывай в безмолвии» как нельзя лучше подытоживают сущность духовности пустынников. Они указывают нам три способа не дать миру сформировать нас по своему образу и подобию и, таким образом, прокладывают для нас три пути к жизни в Духе.
Сначала мне хотелось бы поразмышлять о том, что означает для нас бегство от мира, в связи с чем возникает вопрос об уединении. Затем я постараюсь определить молчание как важнейший элемент духовности христианского служения. Наконец, я хочу призвать вас подумать о том, что значит для нас призвание всегда молиться.
I. Уединение
Введение
Пожалуй, никто другой не поможет нам понять роль уединения в христианском служении так, как «отец монахов» св. Антоний. Он родился около 251 года в семье египетских крестьян. В возрасте примерно восемнадцати лет он услышал в церкви слова Евангелия: «Пойди, продай имение твоё и раздай нищим… и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21) и воспринял услышанное как сказанное лично ему. Сначала он какое-то время жил на краю деревни, работая подёнщиком, но потом удалился в пустыню, где двадцать лет оставался в полном одиночестве. Эти годы стали для него страшным испытанием: все привычные поверхностные опоры, за которые он до сих пор держался, лопнули, и ему открылась вся бездна беззакония, царившая у него внутри. Антоний вышел из этого испытания победителем – но не благодаря собственной силе воли или аскетическим приёмам, а благодаря тому, что безоговорочно предал себя Господу Иисусу Христу. Когда он вышел из своего уединения, люди увидели в нём подлинно «цельного» человека, здравого телом, разумом и душой, и начали стекаться к нему за исцелением, утешением и руководством. В старости Антоний удалился в ещё более глубокое уединение, чтобы полностью погрузиться в непосредственное общение с Богом. Он умер в 356 году, когда ему было около ста шести лет.
История св. Антония, рассказанная св. Афанасием, показывает, что Господь призывает нас оставить своё прежнее, ложное и импульсивное «я» и преобразиться в новое «я», уподобившись Иисусу Христу. Она также показывает, что горнилом, в котором происходит это преображение, является именно уединение, а источником подлинного служения является то самое преображённое, новое «я». Вот почему мне кажется, что, внимательно рассмотрев эти три аспекта жизни св. Антония, мы сможем не только увидеть возможности, открывающиеся нам в служении, но и обозначить связанные с ним потенциальные проблемы.
Служитель, вынужденный соответствовать всеобщим ожиданиям
В предисловии к книге «Мудрость пустыни» Томас Мертон пишет:
[Отцы-пустынники]… видели в обществе кораблекрушение, из которого каждому человеку надо как-то выплыть, чтобы спастись… Они не сомневались, что просто плыть по течению, пассивно принимая догматы и ценности того, что мы называем обществом, значит обрекать себя на самую настоящую катастрофу[4].
Это наблюдение подводит нас прямо к сути проблемы. Наше общество представляет собой не общину, пронизанную любовью Христа, а опасную сеть подавления и манипуляции, в которой легко запутаться и потерять свою душу. И прежде всего нам, служителям Иисуса Христа, нужно понять, не успели ли мы так глубоко сообразоваться с соблазнительными силами этого тёмного мира, что перестали видеть гибельность собственного положения и состояния других людей, утратив и силу, и всякое желание бороться за свою жизнь.
Взгляните хотя бы на наши будни. Обычно мы очень заняты. Нам нужно побывать на множестве собраний, навестить множество людей, провести множество служений. Наш календарь переполнен встречами, дни и недели – делами, а годы – планами и проектами. «Пустых» дней и недель, когда мы не знаем, чем заняться, не бывает почти никогда, и мы скользим по жизни так рассеянно, что не останавливаемся даже для того, чтобы задуматься, стоят ли все наши слова и дела того, чтобы их говорить и делать. Мы безропотно принимаем все эти бесконечные «надо» и «должен», словно в них кроется самая что ни на есть доподлинная евангельская истина. Надо мотивировать людей приходить в церковь, надо привлекать молодёжь, надо собирать достаточно денег и, самое главное, надо делать так, чтобы все были довольны. Кроме того, мы должны быть в хороших отношениях с церковными и гражданскими властями, нас должно любить или хотя бы уважать большинство прихожан, мы должны без задержек продвигаться по служебной лестнице и у нас должен быть нормальный отпуск и приличная зарплата, чтобы жить безбедно. Получается, что мы – точно такие же занятые люди, как и все другие занятые люди, и получаем за свою занятость ту же самую награду!
Всё это говорит лишь о том, что мы, христиане-служители, часто ведём совершенно мирскую, недуховную жизнь. Почему так происходит? Почему мы, дети света, так легко вступаем в сговор с тьмой? Ответ очень прост. Всё дело в том, как мы определяем себя, в чём видим основу собственного «я». Вся мирская жизнь построена на том, как реагируют на нас окружающие. Как говорит Томас Мертон, ложное, мирское, душевное «я» – это «я», складывающееся из вынужденных социальных обязательств, от которых мы не в силах отказаться. Вообще, компульсивная реактивность, почти маниакальная вынужденность поведения как нельзя лучше описывает это ложное «я». Нам постоянно нужно, чтобы нас хвалили. Как мы воспринимаем сами себя? Как человека, которого все либо любят, уважают и хвалят, либо не любят, презирают и ругают. Неважно, кто я: пианист, бизнесмен или священник, самым главным остаётся то, как меня воспринимает моё окружение, мой мир. Если постоянная занятость считается там похвальной, значит, я должен быть постоянно занят. Если залогом подлинной свободы там считаются деньги, значит, я должен как следует зарабатывать. Если признаком статуса там являются связи и знакомства, значит, я должен завязывать нужные контакты. Помимо всего прочего, эта вынужденная, навязчивая потребность соответствовать всеобщим ожиданиям проявляется ещё и в том, что мы испытываем постоянный тайный страх потерпеть неудачу в глазах окружающих и всячески стараемся это предотвратить, подгребая к себе всё больше и больше того, чего от нас ожидают: больше работы, больше денег, больше друзей.
