Пестрые рассказы
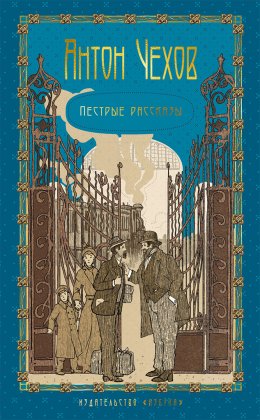
© И. Н. Сухих, составление, предисловие, 2010, 2024
© А. Д. Степанов, комментарии, 2010, 2024
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Азбука®
Рассказы из жизни моих друзей{1}
«Детвора» и «Пестрые рассказы»
Вчера я кончил и переписал начисто рассказ, но для своего романа, который в настоящее время занимает меня. Ах, какой роман!
А. Чехов – А. Евреиновой, 10 марта 1889 г.
Вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей, а ваши дети тоже должны иметь хорошую квартиру и детей, а их дети тоже детей и хорошие квартиры, а для чего это – черт его знает.
А. Чехов. Записные книжки
Проза Чехова: мир как роман
«Рассказы из жизни моих друзей» – заглавие чеховское.
Начало 1880-х гг., когда Чехов начинал как писатель, было эпохой романа. Литературные вкусы по-прежнему определяли Достоевский, Тургенев, Гончаров, Толстой. Роман с продолжением (оригинальный или переводной) был главным блюдом толстых русских журналов, предметом исключительного интереса публики и критики.
В 1884 г. Чехов сочиняет и публикует огромную «Драму на охоте», самую большую свою беллетристическую вещь, по объему не уступающую «Отцам и детям» или «Обыкновенной истории». Этот жанровый роман-фельетон, ничем не отличимый от повести, был одной из многочисленных проб пера Антоши Чехонте, о которой Чехов не любил вспоминать.
Но в конце десятилетия Чехов наконец задумывает «настоящий» роман.
«Хочется писать роман, есть чудесный сюжет, временами охватывает страстное желание сесть и приняться за него, но не хватает, по-видимому, сил. ‹…› Ведь если роман выйдет плох, то дело мое навсегда проиграно! ‹…› Те мысли, женщины, мужчины, картины природы, которые скопились у меня для романа, останутся целы и невредимы. Я не растранжирю их на мелочи и обещаю Вам это. Роман захватывает у меня несколько семейств и весь уезд с лесами, реками, паромами, железной дорогой. В центре уезда две главные фигуры, мужская и женская, около которых группируются другие шашки. Политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет; я меняю его ежемесячно, а потому придется ограничиться только описанием, как мои герои любят, женятся, родят, умирают и как говорят» (Д. В. Григоровичу, 9 октября 1888 г.; П 3, 17[1]).
Чуть позднее Чехов расскажет уже о непосредственной работе и даже раскроет тайну заглавия. «Я пишу роман!! Пишу, пишу, и конца не видать моему писанью. ‹…› Очертил уже ясно девять физиономий. Какая интрига! Назвал я его так: „Рассказы из жизни моих друзей“, и пишу его в форме отдельных, законченных рассказов, тесно связанных общностью интриги, идеи и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие. Не думайте, что роман будет состоять из клочьев. Нет, он будет настоящий роман, целое тело, где каждое лицо будет органически необходимо» (А. С. Суворину, 11 марта 1889 г.; П 3, 177–178).
Временами автору казалось, что жар-птица уже почти в руках, и он по привычке иронизировал над собой: «В ноябре приеду в Питер продавать с аукциона свой роман. Продам и уеду в Пиренеи» (А. С. Суворину, 14 мая 1889 г.; П 3, 214).
Однако вскоре разговоры о романе прерываются. От «чудесного сюжета» вроде бы не осталось ничего, кроме заглавия и – предположительно – нескольких фрагментов («После театра», «У Зелениных», «Письмо»).
Исследователь, долго и специально занимавшийся проблемой, утверждает: «Всем, да и самому Чехову еще казалось, что он идет к роману. А он уже шел от романа, точнее – вглубь романа, к созданию нового жанра, которому впоследствии суждено было получить наименование русского, или чеховского»[2]. Мнение о романизации чеховского малого жанра, о чеховском рассказе как конспекте романа является общепринятым и общепризнанным.
Однако в другом месте тем же автором мимоходом замечено: «Известно, что на рубеже 1880–1890-х гг. Чехов писал роман, завершив, по меньшей мере, какие-то три его главы. Если собрать все предположения, догадки и домыслы исследователей, то окажется, что едва ли не любое произведение этого периода попадало под подозрение, а не осколок ли это несостоявшегося романа?»[3]
Коллективное подозрение можно превратить в конструктивную гипотезу.
Чеховский роман не был написан, но все-таки он – есть.
«Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер», – заметил один из чеховских наследников[4].
Эта мысль, конечно, не универсальна. Она относится к рассказчикам (новеллистам) особого типа. В отличие от сборника, который может быть сформирован по любому принципу, романное качество малый жанр приобретает за счет тематического, мотивного и пространственно-временного единства мира, а также единства точки зрения, единства поэтики. В этом смысле мир Бабеля или Зощенко неоднороден, а мир Шукшина или, скажем, Ю. Казакова однороден и хорошо описывается определением роман рассказчика.
Конспект такого романа у Чехова можно обнаружить уже в мелочишке «Жизнь в вопросах и восклицаниях» (1882), в которой на трех страничках, разделенная на традиционные периоды («Детство» – «Отрочество» – «Юношество» – «Между 20 и 30 годами» – «Между 30–50 годами» – «Старость») перед нами, как в кинематографе, проносится вся человеческая жизнь от первого крика до последнего вздоха и похорон. Подсказками, структурирующими этот мозаичный роман, становятся и чеховские тематические сборники («Детвора», «Пестрые рассказы», «Хмурые люди»), застающие чеховского человека на разных этапах осмысления собственной судьбы.
На время забыв о хронологической последовательности, всю чеховскую прозу можно прочесть как роман «Рассказы из жизни моих друзей» – повествование с необратимым сюжетом, в котором при отсутствии сквозных действующих лиц есть единство интриги и идеи, есть разные судьбы многих семейств, есть леса, уезды, города, помещичьи усадьбы, реки, деревни, железные дороги, есть рождения, любови и смерти, есть, наконец, единство органического авторского отношения к предмету, чему нисколько не помешало отсутствие политического, религиозного и философского мировоззрения. Более универсальной, объемной картины русская литература рубежа веков не создала.
Место действия, хронотоп этого романа, как уже не раз отмечалось, – русский город. «Все большие и малые события жизни, все случайности и происшествия, вообще все, что происходит в сюжете Чехова, происходит в русском городе, в его дачных окрестностях, посадах, монастырях: действие отдельных рассказов и повестей может быть перенесено на юг или север, до крайних границ реальной России, не теряя, однако, связи с центральным образом – городом, из которого персонажи (или повествователь) уезжают, куда они возвращаются, о котором они думают или говорят. Город – объединяющий центр сложной художественной структуры… Образ города у Чехова – эволюционирующий, непрерывно формирующийся образ, структура которого сохраняется при всех жанровых вариациях чеховской прозы, от ранней до поздней поры»[5].
Соответственно, «„среднее сословие“, интеллигент, человек свободных профессий, горожанин, – будь то чиновник на жаловании, конторщик, бухгалтер, кассир частного банка, ремесленник, заводской рабочий, газетный сотрудник, технолог, инженер, архитектор»[6] (так Короленко когда-то перечислял персонажей, отсутствующих в деревенском мире Толстого) становится главным героем чеховской прозы.
«Рассказы из жизни моих друзей» – городской роман, однако разительно не похожий на петербургскую прозу, петербургский текст. Чехова отделяет от этой традиции как хронология, так и поэтика.
«Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта в конце XIX в. в мельчайших подробностях», – предсказывал чеховский современник[7].
А когда она действительно исчезла, другой писатель увеличил масштаб сравнения: «„Беспристрастным свидетелем“ прошел он через конец XIX и начало ХХ в., и для изучения русской жизни в эту эпоху все написанное Чеховым – такой документ, как летопись Нестора – для изучения начала Руси»[8].
Но начинает эту русскую сагу литератор со странной фамилией-кличкой Антоша Чехонте.
Чехонте и другие: логика жанра
«Че-хон-те!» – иронически растягивая слоги, вызывал к доске второгодника Таганрогской гимназии Федор Платонович Покровский, преподаватель Закона Божьего, любитель литературы, эффектно служивший в городском соборе и откровенно скучавший на уроках. «Из ваших детей, Евгения Яковлевна, ничего не выйдет», – объявил он однажды матери этого ученика (в гимназии учились и двое его братьев).
Через несколько лет учитель поймет, что ошибся. Он получит в подарок от бывшего ученика книгу, на обложке которой будет стоять придуманное им и уже хорошо известное читателям юмористических журналов прозвище, ставшее псевдонимом, – Антоша Чехонте.
Читатели «Осколков», «Стрекозы», «Мирского толка» и других тонких журналов 1880-х гг. знали не только его. Они смеялись над рассказами, подписанными: Балдастов, Брат моего брата, Врач без пациентов, Кисляев, Человек без селезенки и даже Гайка № 5, Гайка № 6, и т. п. в 45 вариантах.
Семь лет (за редкими исключениями) шел Чехов к собственному имени, которое сначала робко, после псевдонима, появилось на обложке сборника «Пестрые рассказы» (1886), а потом стало постоянным в рассказах-«субботниках» газеты «Новое время».
В 1880–1887 гг. Чехов написал более 500 произведений. Среди них не только тексты в одну страницу, но и большие рассказы «Барыня», «Ненужная победа», «Зеленая коса», «Цветы запоздалые» и просто огромный по чеховским масштабам уголовный роман «Драма на охоте».
За первые восемь лет Антоша Чехонте с помощью других псевдонимных «писателей-масок» заполнил 2/3 своего собрания сочинений.
«…Кроме романа, стихов и доносов, я все перепробовал. Писал и повести, и рассказы, и водевили, и передовые, и юмористику, и всякую ерунду…» – с гордостью доложит он 14 сентября 1889 г. А. Н. Плещееву, когда эта эпоха останется позади (П 3, 247).
В этой ерунде, однако, как в гамлетовском безумии, «есть своя система».
В самом низу «осколочной» жанровой системы (назовем ее так, потому что больше всего Чехов публиковался в петербургском журнале «Осколки») – подпись к рисунку (или тема для него).
«Теперь о темах для рисунков. Тут прежде всего мне нужно сознаться, что я очень туп для выдумывания острых подписей. Хоть зарежьте меня, а я Вам ничего умного не придумаю. Все те подписи, что я Вам раньше присылал, были достоянием не минуты, а всех прожитых мною веков» (П 1, 113), – жаловался Чехов Лейкину в 1884 г. Действительно, этих подписей он насочинял всего около двух десятков.
«Ваш билет! Кому говорят! Ваш билет!» – такой текст помещен в пятом номере «Осколков» за 1883 г. с подписью «Тема А. Чехонте» под заглавием «Вагонное освещение». Он совершенно непонятен без рисунка А. Лебедева. На нем кондуктор со свечой в темном вагонном купе дергает за рукав висящее на стене пальто. А. Чехонте вместе с художником принимает участие в критике беспорядков на железной дороге.
Через несколько номеров в том же году – другая чеховская тема: «А еще дворники смеют утверждать, что у меня нет вида!» На рисунке Н. Богданова молодая женщина смотрит в зеркало. Каламбурная игра омонимом «вид» (вид на жительство и наружность) становится ясной только из соотношения рисунка и текста.
Однако среди чеховских тем есть и другие, разрывающие связь с рисунком и приобретающие уже самостоятельное значение, скажем, «На вечеринке»: «„Виноват-с, позвольте пройти, ваше превосходительство!..“ – „Вы ошибаетесь: я не «ваше превосходительство»“. – „Так чего же вы в дверях-то остановились? Проходите…“»
В таких случаях функционален уже рисунок, подпись может существовать и отдельно от него, фактически превращаясь в иной жанр – мелочишки.
Мелочишка – острота, афоризм, короткий диалог, анекдот – едва ли не самая распространенная форма литературы «осколочного» типа. Это некий прозаический аналог стихотворной эпиграммы. Мелочишка обладает такими необходимыми свойствами массовой литературы, как краткость, непритязательность, включенность в конкретную ситуацию, юмористический характер.
Однако отдельная острота, афоризм, анекдот слишком случайны, фрагментарны, одиноки на журнальной полосе. Поэтому привычным приемом массовой беллетристики была циклизация, чаще всего – тематическая. Так возникали вторичные жанры, составленные, как из кирпичиков, из простейших элементов: календари, объявления, мысли, задачи, дневники, библиография и т. д. и т. п. Цикл можно было продолжать долго, из номера в номер, пока остроумие и изобретательность автора не истощатся.
Жанр мелочишки в разных ее видах очень распространен у раннего Чехова: «Каникулярные работы институтки Наденьки N», «Контора объявлений Антоши Ч.», «Задачи сумасшедшего математика», «Комические рекламы и объявления», «Календарь Будильника», «Философские определения жизни», «И то, и се», «Гадальщики и гадальщицы».
Но знаменитая «Жалобная книга» (1884) и менее известная «Жизнь в вопросах и восклицаниях» (1882) построены уже по-другому. Отдельные остроты и фразы здесь не просто объединены тематически, но вступают во внутреннюю взаимосвязь, образуя фабульное движение (правда, довольно свободное). За коротенькими записями возникают лица персонажей, «мелочишка» фактически перерастает в сценку.
Сценка похожа на стоп-кадр, мгновенную зарисовку с натуры. «Основное содержание сценки – диалог или разговор с участием нескольких человек. Поэтому вступления сведены к минимуму, они – кратчайший переход к основному, к диалогу»[9]. Сценка – самый, вероятно, распространенный и, безусловно, самый известный жанр Чехова 1880-х гг. Это «Хирургия» и «Смерть чиновника», «Радость», «Хамелеон», «Налим», «Толстый и тонкий», многое другое. Однако, превращаясь в Чехова, писатель постепенно терял к нему интерес.
Включение в рассказ развернутых пейзажных и портретных характеристик, авторского психологического анализа – словом, создание в тексте не только плана действия, но и плана повествования, – характеризует жанр, который обычно называют рассказом или новеллой.
В творчестве Антоши Чехонте обычно проводят резкую границу между так называемыми юмористическими рассказами первой половины десятилетия и лирическими рассказами второй половины 1880-х гг. Вряд ли это справедливо.
Юмор и лиризм – это разные способы авторского освещения сюжета, как сказал бы М. М. Бахтин, разные архитектонические формы, которые, однако, могут быть реализованы в сходных композиционных построениях. Поэтому и юмористические, и лирико-драматические, и даже пародийные формы можно рассматривать как разновидности чеховского повествовательного рассказа (если сценку считать драматическим рассказом), или новеллы.
Причем юмор и лирика не сменяют друг друга, а мирно сосуществуют в художественном чеховском мире. Чехов вовсе не движется от смеха к «серьезу», а показывает их как разные стороны одной и той же реальности. Легенда об Антоше Чехонте как беззаботном юмористе еще жива, хотя давно оспорена. «Чехов беззаботным, жизнерадостным юмористом, в настоящем смысле слова, никогда не был… Двух Чеховых не существует, а есть только один Чехов, с первых дней вдумчивый и глубоко серьезный наблюдатель человеческой жизни, неизменно преображающий ее то лиризмом, то юмором своего художнического восприятия»[10], – замечено еще в конце 1920-х гг.
Причем есть основания предполагать, что с самого начала творческого пути эмоциональная контрастность изображаемого была результатом сознательного авторского выбора, художественного эксперимента, о котором знал только сам Чехов, ибо вряд ли читатели-современники сопоставляли и сравнивали тексты, появляющиеся под разными псевдонимами в бесчисленных юмористических изданиях.
Когда же эти тексты выстроились в единый хронологический ряд в собрании сочинений, малозаметное стало наглядным и очевидным. У Чехова обнаружились многочисленные рассказы-дублеты, в которых сходная тема, сюжет, мотив развивается, варьируется в разных социальных и психологических аспектах, а главное – в разных эмоциональных тонах.
В таком взаимодополнительном отношении находятся «Старость» и «Горе» (мотив просмотренной жизни, такой существенный для позднего Чехова), «Приданое» и «Юристка» (бесплодное, безнадежное ожидание любви и женского счастья, причем трагическая разработка сюжета предшествует фарсовой), «Не в духе» и «Мелюзга» (томление мелкой души, завершающееся абсурдным, бессмысленным поступком), «Дочь Альбиона» и «На чужбине» (судьба иностранца в России), «Хористка» и «Беззащитное существо» («маленький человек» как агрессор и жертва, причем и здесь драматическая разработка предшествует комической).
Подобные вариации отчетливо обнаруживают фундаментальное свойство чеховского художественного мира: взаимопроницаемость в нем трагедии (драмы) и комедии, серьезного и смешного.
Однако даже у Антоши Чехонте путь от «смеха» к «слезам», от анекдота к драме оказывается короче, чем обратный. Серьезное и даже трагическое обнаруживается здесь в «смехе», а не рядом с ним. «В сущности, даже самые благополучные рассказы Чехова, если, следуя известной инерции сюжета, попробовать мысленно продлить их, теряют свою юмористическую направленность»[11].
Повествовательные рассказы Антоши Чехонте строятся, как уже замечено, путем соотнесения непосредственного действия и его описательного обрамления. Само же действие (фабульная схема) остается преимущественно одномоментным, новеллистическим. Новеллистическая фабула с обязательной пуантой, кульминационным вдруг – общий знаменатель сценки и повествовательного рассказа.
Параллельное усложнение обоих планов, как фабульного, так и повествовательного, характерно для самого большого чеховского жанра 1880-х гг. – повести. «Зеленая коса», «Барыня», «Ненужная победа», «Цветы запоздалые», «Живой товар», «Драма на охоте» кажутся самыми слабыми вещами Антоши Чехонте, растянутыми, исполненными в спешке и на заказ.
Известно, например, что повесть (в подзаголовке стоит: рассказ) «из венгерской жизни» «Ненужная победа» Чехов стал сочинять на пари с редактором «Будильника» в подражание популярному в России настоящему венгру Мавру Йокаи, причем редактор оговорил право закончить публикацию в любой момент, по своему усмотрению. Так и было сделано: с повестью было покончено на десятом номере.
Но такие тексты были для Чехонте опытом большой формы. Они интересны как фабульными неожиданностями, так и сложным переплетением архитектонических форм комизма, лирики, пародийности и драматизма. От них – пусть не совсем прямо – лежит путь к безусловной классике: чеховским идеологическим повестям 1890-х гг. вроде «Дуэли», «Рассказа неизвестного человека» или «Палаты № 6».
Итак, матрица жанров Антоши Чехонте выглядит таким образом: подпись к рисунку – мелочишка в разнообразных ее формах и трансформациях – сценка – повествовательный рассказ – повесть. Первые три жанра были для Чехова, в сущности, тупиковыми и полностью остались в 1880-х гг. Повествовательный рассказ и повесть – главные жанры позднего Чехова, линия их развития не прерывается.
Жанровую матрицу можно превратить и в жанровую лестницу, на которой каждый последующий жанр возникает в результате усложнения, трансформации предшествующей сюжетно-композиционной схемы. Подпись к рисунку, отрываясь от графического образа, превращается в мелочишку (афоризм, анекдот, короткий диалог). Мелочишки в результате циклизации образуют вторичные жанры (письма, календари, объявления и т. п.). Короткий диалог или анекдот может быть развернут в рассказ-сценку. Усложнение плана повествования, введение в сценку развернутых описательных элементов приводит к жанру повествовательного рассказа. Наконец, вторичное усложнение фабульной схемы и большая детализация плана повествования являются признаками повести, большого жанра массовой литературы, ибо качественной разницы между повестью и романом с его концептуальностью и особой масштабностью проблематики массовая беллетристика 1880–1890-х гг. не знает.
Во всех этих жанровых трансформациях и вариантах существует, однако, общее ядро, определяющее, порождающее композиционную структуру большинства ранних чеховских текстов. Это – анекдот.
Анекдот часто встречается в чистом виде. Многие мелочишки – «И то, и се», «Гадальщики и гадальщицы», «Сборник для детей», «Майонез», «Кое-что», «Финтифлюшки», «О том, о сем…» – представляют собой серии анекдотов. Анекдотичны фабулы многих сценок. Но границы анекдота шире комического в собственном смысле слова и жанра сценки. Структурные черты анекдота видны в трагической «Тоске» и большой повести «Живой товар».
Анекдот – не просто жанр, навязанный Чехову массовой беллетристикой. Анекдотичность, «философия анекдота» оказалась чем-то близка его творческому видению.
Жанр анекдота в исходной его форме чаще всего определяется по его композиционным признакам: «…небольшой устный шуточный рассказ самого различного содержания с неожиданной и остроумной концовкой»; «краткий устный рассказ с остроумной концовкой» и т. п. Но каждый жанр представляет собой еще и особый угол зрения на действительность, берет ее в своих, специфических аспектах, т. е. обладает собственной «философией».
Во-первых, анекдот сиюминутен. Анекдот был одним из немногих живых жанров, причем именно жанром городского фольклора, наиболее подвижным и непритязательным.
Во-вторых, в своих основных типологических разновидностях – исторический, драматический и комический бытовой – анекдот, а также вырастающая из него анекдотическая новелла оказывается едва ли не универсальным жанром и по богатству охвата проблем современной действительности (быт, политика, психология, разные социальные слои и группы), и по разнообразию интонаций, архитектонических форм. В этом смысле анекдот как жанр, взятый в его целостности, оказывается вполне сопоставим с романом. Эти, казалось бы, литературные полюса эпического рода сходны тематической и эмоциональной широтой и принципиальной установкой на современность.
В-третьих, и вымышленных, и исторических персонажей анекдота объединяет то, что они поданы через быт, в столкновении с бытом, «домашним образом». Эксцентрическая фабула анекдота, его неожиданная концовка вырастает на почве повседневности. Причем те и другие герои даны в едином ракурсе: реальные персонажи – без всякого пиетета, вымышленные – как реальные, без подчеркивания их условности. И те и другие испытываются в анекдоте сходными методами, изображаются в сходных ситуациях, тем самым иерархия исторически значительного и «низкой» повседневности оказывается нарушена: смех, ирония разрушают привычные барьеры.
Наконец, в-четвертых, персонажи анекдота, включая и исторических, изображаются обобщенно-знаково, они типологичны, лишены индивидуально конкретных черт: редактор ежедневной газеты, петербургский репортер, управляющий имениями одного помещика и т. п. Способом их изображения становится, прежде всего, ситуация. «В центре этого искусства самодержавно господствует сюжет»[12]. При всей крайности такая точка зрения небезосновательна. Персонаж анекдота и анекдотической новеллы действительно не имеет ни прошлого, ни будущего, он замкнут в анекдотической ситуации и словно бы ею исчерпывается. Однако размыкает эту ситуацию обычно контекстуальный фон, т. е. общее знание рассказчика (создателя анекдота) и слушателя (читателя). При опоре на это общее знание и создаются анекдотические циклы, позволяющие дать одного и того же героя в разных ситуациях и тем самым преодолевающие отчасти его знаковость.
Эти свойства охватывают большую часть ранних чеховских рассказов: сочетание быта и эксцентрической фабулы, сходный ракурс изображения разнообразных персонажей, их знаковость, типологичность – фундаментальные свойства мира Антоши Чехонте. На событийном, анекдотическом парадоксе строятся десятки (если не сотни) чеховских сюжетов, имеющих самые различные архитектонические формы: чистого юмора, сатиры, мелодрамы, даже трагедии («За яблочки», «Суд», «Торжество победителя», «Ревнитель», «Умный дворник», «Верба», «Кот», «Унтер Пришибеев» и т. д. и т. п.).
В погоне за актуальностью, используя и придумывая разнообразные анекдоты, Антоша Чехонте иногда делает глубокие сюжетные открытия, которые не раз пригодятся ему потом.
Фольклористы давно выделили и изучают особый тип сказочного сюжета – кумулятивную сказку. «Основной художественный прием этих сказок состоит в каком-либо многократном повторении одних и тех же действий или элементов, пока созданная таким образом цепь не порывается или же не расплетается в обратном порядке»[13]. Образец кумулятивного сюжета – «Теремок».
«Из дневника помощника бухгалтера» (1883) построен по классической формуле кумулятивного сюжета, самостоятельно открытой Чехонте. На двух неполных страницах, в восьми дневниковых записях варьируются всего три темы: надежды героя на смерть бухгалтера Глоткина, место которого он мечтает занять; злорадные сплетни о секретаре Клещеве; многочисленные рецепты от катара желудка, который герой никак не может вылечить. Каждая тема многократно повторяется в дневниковых записях, и от этого «голого» повтора возникает рельефный образ вечного завистника-неудачника.
Текстов, построенных на варьировании одной и той же ситуации и завершающихся неожиданной концовкой, у Чехова 1880-х гг. множество – как юмористических («Произведение искусства», «Смерть чиновника», «Налим», «Хамелеон»), так и трагических («Тоска», «Актерская гибель»).
Техника лейтмотивной детали и повторяющейся ситуации отзовется позднее в «Учителе словесности», «Моей жизни», «Черном монахе», «Доме с мезонином», «Даме с собачкой».
Парадокс чеховской краткости может быть сформулирован таким образом: сжатость повествования возникает именно благодаря многочисленным повторам и соотнесениям разнообразных элементов текста.
Чехов постепенно начал прощаться с Чехонте и его двойниками после публикации сборника «Пестрые рассказы» (1886). «В малой прессе я не работаю уж с Нового года… Определенных планов на будущее у меня нет. Хочется писать роман, есть чудесный сюжет…» (Д. В. Григоровичу, 9 октября 1888 г.; П 3, 17).
О судьбе романа речь уже шла. В конце 1880-х гг. вместе с ним окончательно исчез и Антоша Чехонте, оставив светлую память о юности и – загадку историкам литературы.
Чехонте без Чехова: версии и варианты
Разнообразные концепции, так или иначе учитывающие чеховскую эволюцию, можно свести к двум принципиальным типам, вариантам.
Первая – сильная – версия предполагает конфликтные отношения раннего и позднего творчества писателя. Согласно этой точке зрения, восходящей еще к первым критикам-современникам, с конца 1880-х гг. Чехов избавлялся, уходил от ранних приемов, жанров, форм художественного мышления.
«Чехов – поэт с историей», – сказала бы по этому поводу Цветаева.
От Чехонте – к Чехову, от Чехова без пенсне – к Чехову в пенсне, – так выглядит этот тип эволюции, сведенный к простой, минимальной формуле.
Вторая – менее распространенная – концепция исходит из внутреннего единства чеховского творчества, прежде всего его внутренних, глубинных свойств, его художественной философии. В таком понимании Чехов не столько отрицает, сколько очищает от привходящих обстоятельств собственные художественные принципы и установки.
В этом контексте Чехов оказывается поэтом без истории. Общая формула его эволюции приобретает иной характер: Чехонте – в Чехове, Чехов – в Чехонте.
Интересно обсудить и еще одну – парадоксальную – версию. У пушкинистов существует понятие возможного сюжета, обнаруживающегося то в завершенных текстах («А может быть и то: поэта / Обыкновенный ждал удел…» – несостоявшаяся судьба Ленского), то в набросках (Ю. М. Лотман попытался реконструировать пушкинский сюжет, который в записях сводится к единственному слову «Иисус»).
У писателей и у даже историков популярна категория альтернативной истории («А что было бы, если бы декабристы победили на Сенатской площади?»).
Подобную методику можно применить не только к воображаемой судьбе персонажей и ненаписанным произведениям, не только к историческим событиям, но и к творческой судьбе писателя. Если есть альтернативная история, то возможна и альтернативная биография.
В «Даре» Владимира Набокова в театральной ложе появляется старый Пушкин, Пушкин-шестидесятник. В похожие игры с Пушкиным любит играть Андрей Битов («Фотография Пушкина. 1799–2099»).
В ХХ в. разные авторы – от Бориса Пастернака до Бориса Штерна – воображали альтернативную биографию Чехова: если бы он, как Бунин или Куприн, дожил до 1917 года, где бы оказался, что бы он делал?
Представим себе противоположный вариант: в 1887 г. молодой сочинитель предпочитает «верную жену» медицину непостоянной «любовнице» литературе (привычная чеховская шутка). Или в 1890 г., как предполагалось в одном из писем, тридцатилетний автор не возвращается из поездки на Сахалин. От него остается четыре сборника рассказов («Сказки Мельпомены», «Невинные речи», «Пестрые рассказы» и «В сумерках»), сотни журнальных публикаций, подписанных 45 псевдонимами, и всего несколько десятков текстов из «Нового времени» под настоящей фамилией. В этом случае писателя Чехова практически не было, он скрылся за многочисленными журнальными масками, затерялся в море «осколочной» беллетристики.
Что тогда можно сказать о Чехонте без Чехова? Какое место этот вполне реальный, но все же воображаемый автор займет в истории русской литературы? И найдется ли для него такое место в резко изменившемся пейзаже конца века?
Место для Чехонте, конечно же, находится, но оно будет существенно иным. Он оказывается на ином этаже литературной иерархии, не в великом треугольнике русской литературы, собственно и определяющем ее мировое значение (Толстой – Достоевский – Чехов), а скорее в кругу второй прозы, по соседству с Гаршиным, Короленко или Куприным.
Существеннее, однако, что при таком воображаемом сокращении чеховского творческого пути в его художественном мире одновременно происходит переакцентуация. На первый план выступают те черты, которые с конца 1880-х гг. существенно трансформируются, отходят в тень или вовсе исчезают у автора «Степи» и «Скучной истории».
Меньше всего этот мир изменяется персонажно и предметно-тематически: героем Чехонте является средний человек (чиновник, артист, студент, мужик, барышня или дама) в обыденном хронотопе своего мира (департамент, дача, квартира, трактир, вагон или лавка).
Но другие уровни и этажи художественного мира меняются принципиально.
Критикуя в пародиях, да и позднее, авторов вроде В. Гюго или Ж. Верна, Чехонте тем не менее объединяется с ними (а еще теснее – с Мопассаном) в интересе к необычной, парадоксальной истории.
Антоша Чехонте преимущественно – новеллист, необычайно изобретательный и разнообразный. Он пишет традиционные новеллы с одной пуантой (вроде «Начальника станции», «Из воспоминаний идеалиста», «Шила в мешке», «Пересолил»), на нескольких страничках развертывает кумулятивные сюжеты («Смерть чиновника», «Произведение искусства», «Дорогая собака»), воспроизводит схему классического детектива, одновременно пародируя ее («Шведская спичка»), обнаруживает и нарушает одну из важных аксиом этого жанра – следователь не может одновременно быть убийцей («Драма на охоте»), наконец, пародирует сюжетное мышление вообще, разрушает классическую структуру фабульного повествования.
Приглашенный музыкант с контрабасом в футляре идет в княжеское имение играть на танцах, во время купания воры крадут его одежду; ожидая ночи, в кустах он встречается с прекрасной незнакомкой, голой княжной из того же имения, одежду которой стащили те же воры; спасая невинную девушку, Смычков предлагает ей футляр («Будьте любезны, не церемоньтесь и располагайтесь в моем футляре, как у себя дома!») и отправляется в дальнейший путь; заметив воров, он бросается в погоню, а футляр к князю Бибулову доставляют случайно нашедшие его приятели («Жених и граф направились к оркестру. Подойдя к контрабасу, они стали быстро развязывать ремни… и – о ужас! Но тут, пока читатель, давший волю своему воображению, рисует исход музыкального спора, обратимся к Смычкову»); вернувшись после погони, Смычков не находит футляра, считает себя убийцей и навсегда остается на месте пропажи («И теперь еще крестьяне, живущие в описанных местах, рассказывают, как ночами около мостика можно видеть какого-то голого человека, обросшего волосами и в цилиндре. Изредка из-под мостика слышится хрипение контрабаса»).
Кто, кроме Д. Хармса, был способен сочинить подобную галиматью, эти сапоги всмятку? Но «Роман с контрабасом» Антоша Чехонте опубликовал в 1886 г., почти на полвека опередив обэриутов.
«Если бы он даже ничего не написал, кроме „Скоропостижной конской смерти“ или „Романа с контрабасом“, то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, у которых ум „по всем жилкам переливается“»[14].
Во всех этих опытах и экспериментах точкой, вокруг которой развертывается повествование, является фабула. Антоша Чехонте до мозга костей фабульный художник, чего нельзя сказать о его ближайшем родственнике.
Антона Чехова будет интересовать обыденность обыденности, Антошу Чехонте занимает ее эксцентризм.
Принципиально отличается от чеховского и основной эмоциональный тон, архитектоническая форма Чехонте.
Доминантой мира Чехова оказываются меланхолия, лиризм, сглаживающий и примиряющий противоречия.
Он присутствует и у Антоши Чехонте («Приданое», «Шуточка», «Свирель»), но как одна из периферийных эмоций в составе более сложного архитектонического целого. Гораздо чаще он завершает тексты на комической ноте, причем юмор у него распространен намного больше, чем сатира: на одного «Унтера Пришибеева» или «Маску» приходится десятки сюжетов, ориентированных на смех как таковой, на гармонизирующее, приемлющее отношение к миру (в диапазоне от «Налима» до «Жалобной книги», от «Романа с контрабасом» до «Без заглавия»). Не менее часто Чехонте демонстрирует трезвость и жесткость наблюдателя-натуралиста, архитектоническую форму, если можно так выразиться, прозаизма: такова жизнь, и ничего с ней не поделаешь.
Этой эмоции прямо противоположна еще одна, весьма редко сознаваемая. «Обстоятельно разработанной биографии Чехова еще не написано. Когда она появится, откроется, может быть, что Антон Павлович был мистик по природе!» – с сильным нажимом писал в статье, так и названной «Мистицизм Чехова» (1970), эмигрантский историк Н. И. Ульянов[15]. Образцами чеховского мистицизма наряду с «Черным монахом», «Чайкой» и «Архиереем» служили для Ульянова «Драма на охоте», «Шампанское», «Страх».
Чехов-мистик – явное преувеличение. Но таинственное как тема, несомненно, привлекает Антошу Чехонте в более чистых формах, чем его позднейшего родственника. В «Черном монахе» раздвоение героя объективировано и мотивировано («Психиатрический рассказ», – говорил Чехов Щепкиной-Куперник), в «Страхах» доминирующее заглавное чувство – нет.
Чехонте – умелый новеллист, жесткий и трезвый наблюдатель, социальный хирург, весельчак, юморист и сатирик, мистик и лирик. Чехонте – это «драма имени» (М. Сендерович): противоречивые поиски, варианты и пробы, в которых экономическая и культурная зависимость оборачивается творческой свободой, – ответственность до конца не осознана, мир открыт и поэтому можно «идти куда угодно».
Чехов – разрешение противоречий в форме выбора одного пути, в результате которого относительная экономическая и культурная свобода превращается в осознанную необходимость, страшную ответственность, тяжкий долг.
Чехонте – образ бесшабашного разнообразия, литературного мультикультуризма. Чехов – образец воплощенного совершенства и гармонии.
В обратной перспективе такая эволюция кажется закономерной и единственной. Однако она не была таковой в 1880-е гг.
Когда-то в статье «О природе слова» (1922–1923) О. Мандельштам выступил пристрастным и страстным критиком теории прогресса – как в применении к искусству вообще («Теория прогресса в литературе – самый грубый, самый отвратительный вид школьного невежества»), так и к творчеству конкретного автора («Автор „Бориса Годунова“, если бы и хотел, не мог повторить лицейских стихов, совершенно как теперь никто не напишет державинской оды»).
«Подобно тому как существуют две геометрии – Эвклида и Лобачевского, возможны две истории литературы, написанные в двух ключах: одна – говорящая только о приобретениях, другая – только об утратах, и обе будут говорить об одном и том же», – заключает поэт[16]. И оказывается прав в отношении к нелюбимому им, как и другими акмеистами, писателю.
Чехов не раз пытается вернуться к собственным лицейским опытам в духе и жанре Чехонте – в незавершенном цикле «Из записной книжки Ивана Иваныча», в желании сочинить еще один «водевиль хороший», в мистическом сюжете, который сохранился в пересказах близких людей.
«В последний год жизни у Антона Павловича была мысль написать пьесу. Она была еще неясна, но он говорил мне, что герой пьесы – ученый, любит женщину, которая или не любит его, или изменяет ему, и вот этот ученый уезжает на Дальний Север. Третий акт ему представлялся именно так: стоит пароход, затертый льдами, северное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и вот на фоне северного сияния он видит: проносится тень любимой женщины» (О. Л. Книппер-Чехова)[17]
Однако все это осталось на уровне намерений и разговоров. Чехонте как самостоятельный художник прошел и ушел, был навсегда утрачен Чеховым. Но память о нем, важные поэтические принципы были усвоены автором «Студента» и «Человека в футляре».
Чехонте для Чехова: поиски и находки
В записной книжке Чехова сохранилась притча из «Заметок о жизни» А. Доде: «„Почему твои песни так крат ния?“» – „У меня очень много песен, и я хотела бы поведать их все“».
Чеховская краткость на первых порах была печальной необходимостью. Петербургские «Осколки» и другие журнальчики, в которых он сотрудничал, публиковали «мелочишки» в две-четыре страницы. Дополнительные странички, как и право сочинить что-то без сугубой насмешливости, приходилось выпрашивать у редактора как особой милости.
Но когда нужда в формальных ограничениях исчезла, привычка или изначальное писательское свойство писать кратко остались и даже стали предметом особой гордости. «Умею коротко говорить о длинных предметах» (Е. М. Линтваревой, 23 ноября 1888 г.; П 3, 76). «Приготовляю материал для третьей книжки («Хмурые люди». – И. С.). Черкаю безжалостно. Странное дело, у меня теперь мания на все короткое. Что я ни читаю – свое и чужое, все представляется мне недостаточно коротким» (А. С. Суворину, 6 февраля 1889 г.; П 3, 145).
Коротко о длинных предметах позволяла сказать прежде всего деталь (потом ее стали привычно называть чеховской). Она заменяла подробные, развернутые романные описания штрихом, намеком, по которому внимательный читатель мог (и должен был) восстановить целое.
«По моему мнению, описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер propos (кстати. – И. С.). Общие места вроде: „Заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом“ и проч. „Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали“, – такие общие места надо бросить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка и т. д.» (П 1, 242), – наставляет Чехов старшего брата Александра. Эту деталь он использует в рассказе «Волк», а потом, еще раз сократив, подарит в «Чайке» писателю Тригорину.
Тот же принцип краткости и точности применяется к изображению человеческой психологии. В повести «Скучная история» нам позволено прочесть в письме одного из героев лишь «кусочек какого-то слова „страстн…“». И за этим кусочком (конечно, соотнесенным с развитием фабулы) встает драматическая история его трепетно-неразделенной любви.
«Чехов совершил переворот в области формы. Он открыл великую силу недосказанного. Силу, заключающуюся в простых словах, в краткости»[18].
В наследство от Антоши Чехонте Чехов взял и другое: внимание к сиюминутности, интерес к самым разным сторонам человеческой жизни. Чеховские тексты необычайно информативны: дамские моды и дачные радости, профессорские лекции и каторжные работы, газетные объявления и церковные службы, свадьбы, погребальные обряды, громкие судебные процессы – чего только не отразилось в этих коротких рассказах и тоже недлинных повестях.
Круг затронутых тем и предметов, а значит, и соответствующих жанров кажется поначалу необъятным. Чехов занял бы, вероятно, если бы захотел, место «жанриста», создателя увлекательных фабульных произведений, с юмором, приключениями, броскими типами-клише, – место, так и оставшееся в русской литературе XIX в. вакантным.
Но, публикуя все это, писатель еще в 1880-е гг. делает выбор, сознательно отсекая, отбрасывая все эффектное, броское, экзотическое. «„Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. – услышит от него пришедший познакомиться Короленко. – Вот“. Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, – это оказалась пепельница, – поставил ее передо мною и сказал: „Хотите – завтра будет рассказ… Заглавие «Пепельница». И глаза его засветились весельем“»[19].
Лет через пятнадцать более молодой собеседник, чеховский знакомец уже ялтинских времен, А. Куприн, услышит от него нечто похожее. «Он требовал от писателей обыкновенных, житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленец. „Зачем это писать, – недоумевал он, – что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и всё“»[20].
Два типа фабулы, две эстетические тенденции, если угодно – две литературы воспроизведены Чеховым виртуозно. Роман приключений (нечто в духе Жюля Верна, которого Чехов специально пародировал еще в 1882 г.), разбавленный философией (не покорять полюс спешит герой, а искать примирения с людьми) и сдобренный обязательной любовной интригой, подвергается экзекуции смехом. Ему противопоставляется простая-простая история о Петре Семеновиче и Марье Ивановне, Пете и Маше.
Такова сверхкраткая формула чеховского рассказа и повести: обычный, ничем не примечательный человек в обыденных обстоятельствах, «реализм простейшего случая» (Г. А. Бялый).
«Вот меня часто упрекают – даже Толстой упрекал, – что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников… А где их взять? Я бы и рад! – Он грустно усмехнулся. – Жизнь у нас провинциальная, города немощеные, деревни бедные, народ поношенный… Все мы в молодости восторженно чирикаем, как воробьи на дерьме, а к сорока годам – уже старики и начинаем думать о смерти… Какие мы герои!»[21]
Чеховская жизнь легче всего определяется отрицательно. Это жизнь без войны, без всеобщих катаклизмов, без особых приключений. Нормальная жизнь, уклонившаяся от нормы: «Норма мне не известна, как не известна никому из нас» (А. Н. Плещееву, 9 апреля 1889 г.; П 3, 186).
В ней если и происходят дуэли, то они кончаются примирением. Если и убивают, то не патологические злодеи или философы-экспериментаторы (как у Достоевского), а случайные заблудшие души или бабы-приобретательницы, избавляющиеся от возможных наследников.
«Сергеенко пишет трагедию из жизни Сократа. Эти упрямые мужики всегда хватаются за великое, потому что не умеют творить малого, и имеют необыкновенные грандиозные претензии, потому что вовсе не имеют литературного вкуса, – иронизировал Чехов, узнав, что его таганрогский земляк и соученик по гимназии взялся за идейную драму. – Про Сократа легче писать, чем про барышню или кухарку» (А. С. Суворину, 2 января 1894 г.; П 5, 258).
Он сам мог писать и о Сократе, но поставив его в ту же ситуацию, что и кухарку.
Любого человека – монаха, нищего, чиновника, университетского профессора, институтку и «падшую женщину», ребенка и старика – Чехов испытывает общими обстоятельствами: богатством и нищетой, любовью и ненавистью близких, болезнью и смертью. Меняются имена, интерьеры и пейзажи, но постоянно воспроизводятся, повторяются ситуации, в которых оказывается (может оказаться) практически каждый из нас. В кратких, «короче воробьиного носа», рассказах неспешно развертывается извечная драма человеческой жизни – «скучная история». Чеховский герой проходит предназначенный ему (автором и обстоятельствами) путь.
Детский мир: образ и взгляд
Тема детства – сравнительно позднее литературное открытие. «Только романтизм почувствовал детство не как служебно-подготовительную фазу возрастного развития, но как драгоценный мир в себе, глубина и прелесть которого притягивают взрослых людей»[22].
Этот мир постоянно находится в поле внимания большой русской литературы XIX в. – у Лермонтова, Аксакова, Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. Причем почти всегда такая поэзия и проза автобиографична или автопсихологична. Ведь воспоминания, собственный опыт – всегда под рукой. О детстве сочиняют первые стихи и повести. Даже в старости, в ностальгической дымке невозвратимого, оно помнится лучше, чем все последующее.
Чехов, однако, необычайно закрытый писатель. «Автобиография? У меня болезнь: автобиографофобия. Читать про себя какие-то подробности, а тем паче писать для печати – для меня это истинное мучение» (П 8, 284), – отшучивался он в 1899 г. на просьбу адресата, посылая на отдельном листке лишь несколько «голых дат». А десятилетием раньше убеждал старшего брата Александра: «Главное, берегись личного элемента… Точно вне тебя нет жизни! И кому интересно знать мою и твою жизнь, мои и твои мысли? Людям давай людей, а не самого себя» (П 3, 210).
Поэтому в чеховском городе, главном, доминантном хронотопе чеховского мира, обычно не находят одного очень важного персонажа.
«Нет автора этого города. Где-то мелькнет его тень: в загорелом подростке, который только что вернулся из поездки по степи, в гимназисте, в студенте, во враче. Тень… Но нет его „Детства“ и „Отрочества“, „Гимназистов“ и „Студентов“, „Университетов“ и „Записок врача“. Мемуаров и дневников тоже нет»[23].
Его «Детства» и «Отрочества» действительно нет. Но книга о детстве, первая часть воображаемого чеховского романа, Чеховым все-таки написана. Ее главами оказываются «Гриша», «Ванька», «Иван Матвеич», «Володя», «Степь» – всего около трех десятков текстов.
М. П. Громов составил каталог персонажей чеховской прозы (только прозы!), перепись населения чеховского города. Оказывается, в нем «целая армия людей» – восемь с половиной тысяч, представляющих едва ли не все социальные, профессиональные, психологические группы России рубежа веков. Здесь аристократы, помещики, купцы, фабриканты, жандармы и профессора, чиновники всех рангов и ведомств, художники, музыканты, писатели, крестьяне и мастеровые, мещане, священники, лакеи. «В целом в повествовании Чехова детей – этих „самых полезных, самых нужных и самых приятных людей“ – много, около трехсот»[24].
Детская тема возникает у Антоши Чехонте с первых его литературных шагов. «Каникулярные работы Наденьки N» – четвертый текст в его собрании сочинений, написанный в дебютном 1880 г. «После театра» появляется в 1895 г. Пятнадцать лет из чеховских писательских двадцати пяти. Тонкая тематическая линия, пунктир, позволяющий судить о чеховском художественном мире в целом.
Чехов – художник анекдотического видения, мгновенно замечающий и фиксирующий парадоксы и несообразности человеческой жизни. И его детские рассказы часто вырастают из пародии и анекдота, хотя вещи, о которых идет речь, далеко не всегда смешны.
Институтка считает, что говядина делается из быков и коров, и списывает (точь-в-точь как нынешние школьники!) кусок своего сочинения у Тургенева («Каникулярные работы Наденьки N»).
Гимназист Вася Оттепелев (как когда-то и сам Антоша Чехонте!) никак не может, несмотря на все молитвы, сдать проклятый экзамен по греческому языку и после порки «умным и образованным» жильцом отправляется служить по торговой части («Случай с классиком»).
«Торжественная порка» – повторяющаяся ситуация в чеховских рассказах. Мировой судья Полуехтов порет по просьбе матери провинившегося гимназиста за двойку по греческому и возвращается к прерванному разговору о гуманности и изящных искусствах, о Лессинге и Шекспире («О драме»). Становой пристав срывает свой карточный проигрыш сначала на пушкинских стихах, а потом на сыне («Не в духе»).
Чехов любит писать такие рассказы-дублеты. Ставя различных героев в одинаковые ситуации, он подчеркивает какие-то глубинные черты человеческой психологии (увы, не самые лучшие). Рассуждающий о прекрасном судья по сути – такой же дикий «печенег», как и соблазненный «бесом жадности и корыстолюбия» становой, его философствование об искусстве стоит ничуть не более, чем глумливые комментарии к Пушкину.
Другой чеховский дублет сложнее. В неоднозначном, противоречивом свете здесь изображены уже не только взрослые, но и дети.
В «Скверном мальчике» (1883) маленький шантажист целое лето преследует влюбленных, требуя бесчисленные подарки. В конце рассказа он будто бы получает по заслугам: «Получивши согласие, Лапкин побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он взревел и схватил его за ухо. За другое ухо схватила Анна Семеновна, тоже искавшая и нашедшая Колю… Нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах влюбленных, когда морщился скверный мальчик. Сладка месть!» Мальчику больно, но мы смеемся: он получает по заслугам. Правда, есть в этом смехе какая-то странная нота, какое-то дребезжание. С чего бы это обретающие счастье персонажи наслаждаются не любовью, а местью несносному мальчишке?
В рассказе «Зиночка» похожая история рассказана с другой точки зрения. Бывший «скверный мальчик», а теперь «самый толстый из охотников, похожий в потемках на копну сена», тоже оказывается свидетелем свидания старшего брата и гувернантки, тоже шантажирует девушку, обещая рассказать все маме, и, наконец, рассказывает, после чего та выживает Зиночку из дома. Правда, и здесь все кончается хорошо. Но финал рассказа серьезен и загадочен, в нем нет успокоения и завершенности: «Зиночка скоро стала женою брата. Это Зинаида Николаевна, которую вы знаете. Потом я встретился с нею, когда уже был юнкером. При всем ее старании она не могла узнать в усатом юнкере ненавистного Петю, но все же обошлась со мной не совсем по-родственному… И теперь даже, несмотря на мою добродушную плешь, смиренное брюшко и покорный вид, она все еще косо глядит на меня и чувствует себя не в своей тарелке, когда я заезжаю к брату. Очевидно, ненависть так же не забывается, как и любовь…»
Из простенькой анекдотической ситуации в «Зиночке» вырастает несколько парадоксов: изменившись, став взрослым, совсем другим, герой отвечает за «ненавистного Петю», платит за его маленькие грехи; с другой стороны, ненависть оказывается столь же прочным чувством, как и любовь.
В 1899 г., включая «Скверного мальчика» в собрание сочинений, Чехов дает рассказу более «объективное» заглавие – «Злой мальчик» – и переделывает финал. Вместо прямолинейного «Сладка месть!» появляется фраза, напоминающая о «Зиночке»: «И потом они сознавались, что за всё время, пока были влюблены друг в друга, ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши». И здесь любовь отступает перед захватывающим блаженством мести «скверному мальчику».
Но Чехов может быть и откровенно сентиментален, как в «Дне за городом». Бедные сиротки (классические герои рождественских и пасхальных рассказов) на самом деле оказываются духовно богаты. Они спасаются от грозы. Они наблюдают захваченную врасплох жизнь природы – соловьев, муравьев, пчел, уток, рыбок. Они, наконец, имеют такого преданного друга, как сапожник Терентий, для которого в окружающем мире нет тайн. И что с того, что засыпают они полуголодными в заброшенном сарае… Ведь «ночью приходит к ним Терентий, крестит их и кладет им под головы хлеба». (Рассказ этот, для Чехова в общем проходной, напоминает замечательную «Июльскую грозу» А. Платонова.)
Стеклышко калейдоскопа поворачивается – и вот уже перед нами рассказ-трагедия «Спать хочется». Еще одна нищенка и сирота, прислуга Варька, вертится в заколдованном кругу нечеловеческой жизни. Ее сутки проходят в бесконечной суете – укачивает ребенка, топит печь, моет калоши, убирает комнаты, бегает за водкой, чистит картошку. А в полусонном сознании мелькают какие-то призрачные видения: зеленые пятна и тени, до отчетливости резкие картины прошлой не менее безотрадной жизни – смерть отца, попрошайничество. Убийство ребенка кажется ей избавлением. Возможность хоть немного поспать она получает столь чудовищным способом.
Этот рассказ скорее не обличение, а трезвое – в духе натуральной школы – исследование. Не только хозяева (они даже не названы по имени) виноваты в трагедии героини. Они – лишь часть той неопределенной и страшной силы, «которая сковывает ее по рукам и ногам, давит ее и мешает ей жить».
Символична последняя фраза рассказа (примечательно, что она добавлена уже после первой публикации, при включении «Спать хочется» в сборник «Хмурые люди»): «Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая…» Реальная смерть и сон как смерть, как избавление – таковы две детские судьбы.
В отличие от «Дня за городом», который по законам жанра завершается лирической сентенцией, рассказ «Спать хочется» предельно объективен. Повествователь вроде бы просто фиксирует факты, никак не проявляя своего отношения. Но потрясающее впечатление возникает как раз из-за этого. «Вот Вам мой читательский совет, – объяснял Чехов свой творческий принцип Л. Авиловой, – когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее – это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисовывается рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и вы вздыхаете. Да, будьте холодны» (П 5, 26).
В «Репетиторе», «Иване Матвеиче» преобладает добродушная усмешка над героями, юмористический тон. Вовсе не для переписывания каких-то сухих и отвлеченных текстов нужен известному ученому восемнадцатилетний Иван Матвеич. Узнавая от него, даже не читавшего Гоголя, о ловле тарантулов и птиц, профессор словно погружается в собственное детство. Все равно, о чем говорят старик и юноша, почти мальчишка: они привязались друг к другу, происходит общение душ.
Чеховские рассказы о детях, таким образом, интонационно многообразны: в них есть и добрый юмор, и сатира, и ирония, и трагизм, и сентиментальность, и мелодраматизм. Но их объединяет общая повествовательная позиция: установка на объективность, взгляд со стороны, внешняя точка зрения.
Но есть в детском цикле и другая точка зрения. Чехов не только создает образ маленького героя, но и воссоздает детское сознание, ведет повествование «в тоне и духе» героя. Такие рассказы (написанные как от первого, так и от третьего лица) вошли в сборник «Детвора»; к ним примыкают «Устрицы», «Кухарка женится», «Тайный советник».
Этот чеховский принцип изображения мира можно обозначить термином, придуманным когда-то В. Б. Шкловским в связи с поэтикой Л. Толстого, – остранение (точнее было бы остраннение, от слова «странный»). «Прием остранения у Л. Н. Толстого состоит в том, что он не называет вещь ее именем, а описывает ее, как в первый раз виденную, а случай – как в первый раз произошедший, причем он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а называет их так, как называются соответственные части в других вещах»[25].
Легко увидеть, что остранение – главный принцип видения в перечисленных чеховских рассказах. Даже те из них, которые написаны от третьего лица, постоянно демонстрируют несовпадение «субъекта речи» и «субъекта сознания». Повествователь словно переселяется в душу героя, воспроизводит (или, скорее, моделирует, опираясь на наблюдение и воспоминания о собственном детстве) его восприятие действительности.
В таких рассказах возникает особый мир детворы, со своими цветами и красками, пространством и временем, событиями и проблемами, ценностями и мотивами поступков. «У него свое течение мыслей! – думал прокурор. – У него в голове свой мирок, и он по-своему знает, что важно и не важно. Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер…» («Дома»).
В этом «мирке» копейка стоит дороже рубля, грандиозным событием становится рождение котят, родная деревня – одна на всей земле, и потому ее должен знать каждый ямщик, человек на рисунке оказывается выше дома, потому что иначе не увидишь его глаз, любой звук имеет еще и цвет и т. д.
В рассказе «Кухарка женится» принцип повествования в тоне и духе героя несколько нарушается: «Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менее ехидное выражение: нет, мол, не поймаешь, старая ведьма!» (конечно, в данном случае «читает» эмоции героев вовсе не ребенок, наблюдающий за сценой, а взрослый, невидимый повествователь).
Нарушен он и в «Событии», но по-иному – прямой моральной сентенцией от лица повествователя: «В воспитании и в жизни детей домашние животные играют едва заметную, но несомненно благотворную роль. Кто из нас не помнит сильных, но великодушных псов, дармоедок-болонок, птиц, умирающих в неволе, тупоумных, но надменных индюков, кротких старух-кошек, прощавших нам, когда мы ради забавы наступали им на хвосты и причиняли им мучительную боль? Мне даже иногда кажется, что терпение, верность, всепрощение и искренность, какие присущи нашим домашним тварям, действуют на ум ребенка гораздо сильнее и положительнее, чем длинные нотации сухого и бледного Карла Карловича или же туманные разглагольствования гувернантки, старающейся доказать ребятам, что вода состоит из кислорода и водорода».
Но такие «включения» все-таки случайны, единичны. Чаще всего исходный повествовательный принцип – взгляд ребенка – выдержан с начала до конца. Повествователь фактически скрывается за его спиной.
«Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату оспенных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами» («Беглец»). И лишь в следующей фразе выясняется, каких чудовищ увидел испуганный герой: «Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре…»
При внешнем сходстве приема остранения в толстовской и чеховской прозе функция его, его художественный смысл принципиально иные.
В знаменитой сцене «Войны и мира» (т. 2, ч. 5, гл. IX) героиня первый раз оказывается в опере. «На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками».
В типологически сходной сцене у Чехова: ребенок в первый раз выходит на городскую улицу. «В этом же новом мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и теть, что не знаешь, к кому и подбежать. Но страннее и нелепее всего – лошади. Гриша глядит на их двигающиеся ноги и ничего не может понять… Вдруг он слышит страшный топот… По бульвару, мерно шагая, двигается прямо на него толпа солдат с красными лицами и с банными вениками под мышкой… Через бульвар перебегают две большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и с задранными вверх хвостами» («Гриша»).
Остраняя, описывая событие «как в первый раз виденное», Толстой обнажает его «механику», вскрывает фальшь, лицемерие, бездушие. Его пафос сатиричен.
Взгляд ребенка у Чехова обновляет, одушевляет мир. Его остранение имеет лирико-юмористическую природу.
Персонажи Толстого (причем не только в театре) словно «ломают комедию», смысл которой предельно ясен повествователю, находящемуся вне изображаемого, резко возвышающемуся над ним.
Чеховский повествователь даже в самых объективных, далеких от сознания ребенка описаниях сохраняет интимную связь с изображаемым миром, находится внутри или на границе его. Он – участник, свидетель, но не судья свершающейся драмы жизни.
«Из ящика выглядывает кошка. Ее серая рожица выражает крайнее утомление, зеленые глаза с узкими черными зрачками глядят томно, сентиментально… По роже видно, что для полноты ее счастья не хватает только присутствия в ящике „его“, отца ее детей, которому она так беззаветно отдалась» («Событие»). Субъектом сознания является в данном случае, конечно, не шестилетний Ваня или его четырехлетняя сестра. Это взгляд повествователя, но он сохраняет своеобразие детского восприятия мира, стилизован под него. И потому это описание непосредственно готовит диалог между героями рассказа и поиск «его» среди известных детям вещей:
«– Кошка ихняя мать, – замечает Ваня, – а кто отец?
– Да, кто отец? – повторяет Нина.
– Без отца им нельзя.
Ваня и Нина долго решают, кому быть отцом котят, и в конце концов выбор их падает на большую темно-красную лошадь с оторванным хвостом, которая валяется в кладовой под лестницей и вместе с другим игрушечным хламом доживает свой век».
Мир «детворы» отнюдь не безоблачен. Он не только конфликтен, драматичен, но и скрыто контрастен. Как всегда, будучи далеким от прямолинейного социологизирования и морализирования, Чехов четко обозначает его социальные полюса. Конфликты «Детворы», «События» не выходят за порог детской, связаны с жизнью достаточно обеспеченной и комфортной. В этой жизни есть обиды и проблемы, даже трагедии (смерть матери, о которой упоминается в рассказе «Дома»), но в нем существуют кухня с прислугой, столовая и спальня, репетиторы, гувернантки, швейцары, фонтаны на даче. Персонажи «Устриц», «Ваньки», «Беглеца» живут в ином мире – холодном, неприветливом, скудном, жестоком, где хозяин «бьет чем попадя», где «скука такая, что и сказать нельзя», где, только попав в больницу, можно впервые в жизни попробовать жареного мяса и принять за обновку серый больничный халат. Но и такие с самого начала обделенные судьбой и происхождением герои сохраняют способность видеть и удивляться, и для них мир полон чудес и событий.
«А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом…» («Ванька»).
Изображаемое Чеховым детское сознание обладает некоторыми стабильными чертами, независимо от того, на какой социальной ступени находится герой.
Но сквозь конкретное «событие» каждого рассказа просвечивает глубинный, магистральный конфликт: столкновение «остраненного» детского мира с «нормальным» миром взрослых.
«Это один из серьезнейших ваших рассказов, – писал Чехову И. И. Горбунов-Посадов по поводу «Дома». – Встреча этих двух миров – детского чистого, человечного и нашего спутанного, искалеченного, лицемерного – изображена в маленькой простенькой вещице превосходно» (цит. по: П 5, 479).
Второй, взрослый мир присутствует в «Детворе» в суждениях пятиклассника Васи с его «Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать. Возмутительно!» (хотя деньги в их игре имеют чисто символическую, условную цену, что и доказывает их нежелание продать рубль за десять копеек). В «Событии» – в дурацком смехе лакея и родителей, не понимающих, что гибель котят – трагедия для привыкших к ним ребятишек. В «Ваньке» – в забавах подмастерьев и «воспитательном» битье хозяевами детей. В «Устрицах» – в жестокой насмешке богатых бездельников.
В рассказе «Дома» конфликт взрослого и детского мировосприятия становится главным предметом исследования. Исходная повествовательная точка зрения здесь меняется. Основной повествовательный слой – это несобственно-прямая речь отца-прокурора, столкнувшегося с необходимостью провести с сыном беседу о «вреде табака». Оказывается, привычные по службе и памятные по собственному детству карательные меры применить здесь невозможно: «Прежде, в мое время, эти вопросы решались замечательно просто… Всякого мальчугу, уличенного в курении, секли… Но ведь в школе и в суде все эти канальские вопросы решаются гораздо проще, чем дома; тут имеешь дело с людьми, которых без ума любишь, а любовь требовательна и осложняет вопрос. Если бы этот мальчишка был не сыном, а моим учеником или подсудимым, я не трусил бы так и мои мысли не разбегались бы!..»
«Разбегающийся в мыслях» прокурор пробует несколько подходов к решению «канальского» воспитательного вопроса.
Привычным казенным языком изложенные наставления о значении собственности («Каждый человек имеет право пользоваться только своим собственным добром, ежели же он берет чужое, то… он нехороший человек!.. У тебя есть лошадки и картинки… Ведь я их не беру? Может быть, я и хотел бы их взять, но… ведь они не мои, а твои!») наталкиваются на простую и естественную реакцию: «Возьми, если хочешь! – сказал Сережа, подняв брови. – Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери! Эта желтенькая собачка, что у тебя на столе, моя, но ведь я ничего… Пусть себе стоит!»
Попытка напугать и устрашить («Табак сильно вредит здоровью, и тот, кто курит, умирает раньше, чем следует») вызывает у сына скуку и равнодушие.
Наблюдение за рисунками приводит прокурора к безрадостному выводу: «Из ежедневных наблюдений за сыном прокурор убедился, что у детей, как у дикарей, свои художественные воззрения и требования своеобразные, недоступные пониманию взрослых. При внимательном наблюдении взрослому Сережа мог показаться ненормальным. Он находил возможным и разумным рисовать людей выше домов, передавать карандашом, кроме предметов, и свои ощущения. Так, звуки оркестра он изображал в виде сферических, дымчатых пятен, свист – в виде спиральной нити… В его понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом, так что, раскрашивая буквы, он всякий раз неизменно звук Л красил в желтый цвет, М – в красный, А – в черный и т. д.».
Кажется, диалог между «мирами» совершенно невозможен, понимание в принципе исключено. Но здесь и скрыта разгадка, на которую почти непроизвольно наталкивается прокурор, делая доморощенное открытие. Мостом в «своеобразный и недоступный пониманию взрослых» мир оказывается наспех сочиненная сказка об умершем от курения царевиче и горе его старого отца-царя. Она, а не скучные наставления вызывает бурную реакцию, слезы, раскаяние.
В конце рассказа прокурор вроде бы предлагает объяснение этого парадокса. «Скажут, что тут подействовала красота, художественная форма, – размышлял он, – пусть так, но это не утешительно. Все-таки это не настоящее средство… Почему мораль и истина должны подноситься не в сыром виде, а с примесями, непременно в обсахаренном и позолоченном виде, как пилюли? Это ненормально… Фальсификация, обман… фокусы». Но вряд ли суждение героя совпадает в данном случае с авторской мыслью. Дело не в целесообразном обмане, иллюзии красоты и художественной формы. Ведь доктор в «Беглеце» находит общий язык с Пашкой, не прибегая к сказке. Просто сказка – один из способов установить контакт с детским миром, пользуясь его собственным языком и ценностями. «Остраненный» мир на поверку оказывается миром естественным и нормальным.
«Дети святы и чисты. Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине», – напишет Чехов брату в 1889 г. (П 3, 121).
Вряд ли случайно в повести, оконченной годом раньше, которую писатель рассматривал как свой повторный дебют, пропуск в большую литературу, ему снова понадобился ребенок.
«Степь»: прощание и память
Закончив «Степь», Чехов написал Д. В. Григоровичу: «Я знаю, Гоголь на том свете на меня рассердится. В нашей литературе он степной царь» (П 2, 190). Действительно, уже первая страница повести должна пробудить нашу эмоциональную память. Бричка, на которой чеховские герои отправляются в плавание по морю житейскому, описана с не допускающим сомнений сходством.
«В ворота гостиницы губернского города N въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в каких ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, – словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок, нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод»[26].
Кажется, Чехов, начиная «Степь», перечитал первый абзац гоголевской поэмы, настолько конкретные детали, сама ритмика фразы похожи на гоголевские: «Из N., уездного города Z-й губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении; ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти на слом. В бричке сидело двое N-ских обывателей…»
Такое сходство, однако, сразу же подчеркивает различие: бричка словно прокатилась через эти, прошедшие между написанием «Мертвых душ» и «Степи», десятилетия русской жизни. Из красивой она стала ошарпанной, потеряла рессоры, тогда на ней ездили господа средней руки – теперь же только приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Самое же существенное в том, что главным пассажиром этого экипажа оказывается не хитроумный аферист-приобретатель, а ребенок, и души, с которыми он сталкивается в своем путешествии, не мертвые, а живые – мятущиеся, страдающие и тоскующие.
«Степь» заставляет вспомнить не только о Гоголе. На ее страницах мелькают образы-напоминания о Тургеневе, Достоевском, Некрасове. Но целое, как замечал сам Чехов, выходило «странное и не в меру оригинальное» (П 2, 173).
В чем же была эта странность и оригинальность? Чехов ставит в центр повествования нового героя. Он изображает не «историю одной поездки», но – «степь». Пейзаж, который всегда занимал в литературе подчиненное место (и у Пушкина, и у «степного короля» Гоголя в «Тарасе Бульбе» и «Мертвых душах», и у Тургенева, и у Толстого), стал здесь предметом специального интереса. Чехов изображает не человека на фоне природы, но степь, с включенными в нее людскими судьбами. В повести текут, сложно соотносясь, две сюжетные линии – жизнь природы и жизнь человека.
В восьми главах повести – пять дней путешествия Егорушки со своими спутниками и семь развернутых пейзажных фрагментов, выстраивающихся в определенный смысловой ряд.
Сначала – экспозиционный утренний пейзаж и переход к дневному зною, когда «трава поникла и жизнь замерла». Потом – развернутая картина томительного дневного зноя, когда плачет уже погибшая трава, а время точно застыло и остановилось. Третий пейзаж – вечерний: в природе назревает бунт, собирается гроза, гремит гром, но «невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина». В четвертой главе – замечательный ночной пейзаж, перерастающий в философское размышление повествователя о красоте, которая обязательно должна быть увидена и воспета. Пятый пейзаж – снова утренний, но уже иной по настроению, перекликающийся не с первым, а с предшествующим ночным: не томление степи делается в нем доминантой, а ее красота, мощь, сила – богатырская дорога, по которой должны ездить великаны, оказывается в центре этого описания. Следующий пейзаж – снова ночной, прямо соотносящийся с четвертым («пока долго едешь» – «когда долго едешь»): опять речь идет об одиночестве, но теперь уже не степи, а заброшенного в нее человека при виде молчаливых и равнодушных звезд; но если раньше подчеркивалось слияние со степью («душа дает отклик прекрасной, суровой родине»), то теперь – мучительное несовпадение с ней («мысли и душа сливаются в сознание одиночества»). Наконец, седьмой пейзаж оказывается кульминацией «природной» линии повести. Гроза, которая назревала ранее, без которой томилась природа, теперь разразилась. Жуткой и все же прекрасной картиной бунта степи с озорничающим видом разлохмаченной тучи, свистящим ветром, сердитым громом – и обычными мужиками, которые кажутся великанами, – завершается эта сюжетная линия.
А далее – развязка, короткое, нарочито сухое описание следующего утра: «Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было». И затем такое же сухое, «информационное» описание города, в котором теперь предстоит жить Егорушке. Степь с ее чудесами, бесконечным разнообразием и красотой осталась позади, за спиной.
Степь представляется в чеховской повести не просто пространством, местом действия, а грандиозным образом-персонажем, живущим по особым законам собственной жизнью.
«Вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой».
«Степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельноседое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью – я, мол, готово – и нахмурилось».
«Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, всё прощено и степь легко вздыхает широкой грудью».
Постоянные олицетворения и метафорические соответствия подчеркивают глубинное родство человека и природы. Но на поверхности, во внешнем сюжете Чехов показывает мучительный разлад между ними.
Люди живут в степи, едут через нее по своим делам, но не видят, не замечают окружающей их красоты. Кружит по степи Варламов, озорничает Дымов, угодничает Мойсей Мойсеич, исступленно обличает неправду Соломон, рассказывает страшные истории Пантелей, – но ни у кого не хватает желания и времени оглянуться вокруг. «Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь все такая же протяженно-сложенная, как и была: конца-краю не видать. Не езда, а чистое поношение» – вот и все, что увидел в пятидневной поездке добрейший и тонкий отец Христофор. Они все в разной степени, но все же несчастны, эти люди, скованы какой-то невидимой силой.
Чехов не только констатирует это, он ставит диагноз. Внутренняя тема «человеческой» линии сюжета намечена в первом же диалоге Кузьмичева и отца Христофора.
«Не за худом едешь, а за добром. Ученье, как говорится, свет, а неученье – тьма… Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, Богу угодные», – напутствует мальчика Христофор.
«Польза разная бывает… Ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают», – возражает купец Кузьмичов.
За душу ребенка воюют закоренелый романтик, идеалист и расчетливый прагматик с никогда не исчезающим с лица выражением сухости. И дальше этот контраст не раз повторится в повести: Соломон, сжигающий деньги, – и его брат Мойсей Мойсеич с сокрушенным: «Так жалко, так жалко! Тебе не надо, так отдай мне»; «коршун» Варламов – и загадочно-красивая «черная птица» Драницкая.
Но спор этот, кажется, уже решен самой жизнью. Ведь хозяин степи – Варламов, и добрейший отец Христофор тоже втянут в бесконечную деловую карусель и вполне профессионально считает деньги на постоялом дворе. Романтики, озорники, поэтические натуры томятся и мечутся – Варламовы и Кузьмичовы властно и сухо делают свое дело. Но какие-то общие законы мешают им видеть красоту, гармонию, разнообразие мира, увидеть лицо той же степи.
Лишь один герой повести прорывает эту невидимую пелену. «Мигавший свет словно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека». И первое, что замечают сидящие у костра, – улыбка, «одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой». Константин Звонык – единственный по-настоящему счастливый герой чеховской повести. Любовь переполняет его, дает ему подлинное переживание мира, на мгновение преображает тех, кто сидит у костра: «При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья».
Константин уходит дальше, «туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье», – и сразу же, в следующей сцене, в повести в первый и последний раз появляется таинственный Варламов. Он изображен в спокойном утреннем свете. Портрет «хозяина степи» лишен всякой поэзии, скрыто ироничен: малорослый серый человечек, обутый в большие сапоги, сидящий на некрасивой лошаденке. Любовь преображала некрасивого Константина, возвышала его, здесь же первоначальный «масштаб» героя никак не скорректирован. Малорослый серый человечек, почему-то надевший большие сапоги, – таковы приметы не только облика, но и души.
В шестой главе «Степи» Чехов впрямую сталкивает ипостаси национальной жизни: страшный вымысел (рассказы Пантелея), высокую поэтическую реальность (история любви Константина) и прозаическую деловитую действительность (Варламов). Формально торжествует третья, варламовская, правда, но реальная – художественная – победа остается на стороне второй: подлинной поэзией и человечностью овеяна сцена у костра.
В «Степи» герои не только вступают в конфликт между собой, но и проверяются степью. И выдерживает испытание только один, тот, кто счастлив сам и идет от огонька к огоньку рассказывать о нем другим.
В сложном социально-психологическом и философском замысле Чехов уже не мог, как в маленьких рассказах, всецело опираться на восприятие ребенка. Егорушка как «субъект сознания» и невидимый объективный повествователь, сопровождающий его в пути, вступают между собой в постоянный диалог. Причем повествователь «заимствует» у героя свежесть, яркость и остроту в восприятии всего, что происходит в степи и человеческой душе. И вместе с ним останавливается в конце повести перед загадкой будущего.
«Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, всё то, что до сих пор было пережито; он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него…
Какова-то будет эта жизнь?»
Вопрос, которым завершается «Степь», – это, в сущности, гоголевский вопрос о судьбе страны: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ». Но одновременно это и вопрос, обращенный к маленькому герою, оставшемуся один на один с новой неведомой жизнью.
В письме к А. Н. Плещееву Чехов, думая о продолжении повести, коротко рассказывает о дальнейшей судьбе персонажей, опираясь на биографии прототипов: «Что касается Егорушки, то продолжать его я буду, но не теперь. Глупенький о. Христофор уже помер. Гр. Драницкая (Браницкая) живет прескверно. Варламов продолжает кружиться. Вы пишете, что Вам понравился Дымов как материал… Такие натуры, как озорник Дымов, создаются жизнью не для раскола, не для бродяжничества, а прямехонько для революции… Революции в России никогда не будет, и Дымов кончит тем, что сопьется или попадет в острог. Это лишний человек» (П 2, 195).
Чуть раньше, в письме к Д. В. Григоровичу, он более подробно говорит о Егорушке: «В своей „Степи“ через все восемь глав я провожу девятилетнего мальчика, который, попав в будущем в Питер или в Москву, кончит непременно плохим. Если „Степь“ будет иметь хоть маленький успех, то я буду продолжать ее. Я нарочно писал ее так, чтобы она давала впечатление незаконченного труда. Она, как Вы увидите, похожа на первую часть большой повести» (П 2, 190).
Повесть имела успех (правда, главным образом у коллег-писателей), но так и не была продолжена. Однако магистральный сюжет чеховского романа – сюжет становления – продолжение имеет.
Проходит время – и детям приходится шагнуть за порог городской квартиры или деревенского дома, в другую жизнь. Враждебный, пугающий, непонятный, лишенный видимой цели и общей идеи мир, как лес, обступает их со всех сторон.
И. Н. Сухих
Пестрые рассказы{2}
Письмо к ученому соседу{3}
Село Блины-Съедены
Дорогой Соседушка.
Максим… (забыл как по батюшке, извените великодушно!) Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я всё еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, всё одно как и цивилизацыя и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов{4}, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимус понтифекс{5} отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами{6}. Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на щот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у предводителя дворянства{7}? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Маиора). Абат значит католический поп.
Извените меня неука за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую по-своему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а всё же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приежжайте ко мне дорогой соседушко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислениям различным поучите.
Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученыи. И насщот этого мы поговорим. Приежжайте, сделайте милость. Приежжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодеж теперь я Вам скажу дает себя знать. Дай им бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший, но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же привезет его пожже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если доставит пожже, то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приежжайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извените меня негодника за беспокойство.
Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник{8} из дворян, ваш сосед
Василий Семи-Булатов
Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?{9}
Граф, графиня со следами когда-то бывшей красоты, сосед-барон, литератор-либерал, обедневший дворянин, музыкант-иностранец, тупоумные лакеи, няни, гувернантки, немец-управляющий, эсквайр{10} и наследник из Америки. Лица некрасивые, но симпатичные и привлекательные. Герой – спасающий героиню от взбешенной лошади, сильный духом и могущий при всяком удобном случае показать силу своих кулаков.
Высь поднебесная, даль непроглядная, необъятная… непонятная, одним словом: природа!!!
Белокурые друзья и рыжие враги.
Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам. Не так полезны для героя его наставления, как смерть.
Тетка в Тамбове.
Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис; часто имеет палку с набалдашником и лысину. А где доктор, там ревматизм от трудов праведных, мигрень, воспаление мозга, уход за раненным на дуэли и неизбежный совет ехать на воды.
Слуга – служивший еще старым господам, готовый за господ лезть куда угодно, хоть в огонь. Остряк замечательный.
Собака, не умеющая только говорить, попка и соловей.
Подмосковная дача и заложенное имение на юге.
Электричество, в большинстве случаев ни к селу ни к городу приплетаемое.
Портфель из русской кожи{11}, китайский фарфор, английское седло{12}, револьвер, не дающий осечки, орден в петличке, ананасы, шампанское, трюфели и устрицы.
Нечаянное подслушиванье как причина великих открытий.
Бесчисленное множество междометий и попыток употребить кстати техническое словцо.
Тонкие намеки на довольно толстые обстоятельства.
Очень часто отсутствие конца.
Семь смертных грехов в начале и свадьба в конце.
Конец.
Каникулярные работы институтки Наденьки N{13}
По русскому языку.
а) Пять примеров на «Сочетание предложений».
1) «Недавно Росия воевала с Заграницей{14}, при чем много было убито турков».
2) «Железная дорога шипит, везет людей и зделана из железа и матерьялов».
3) «Говядина делается из быков и коров, баранина из овечек и баранчиков».
4) «Папу обошли на службе и не дали ему ордена, а он рассердился и вышел в отставку по домашним обстоятельствам».
5) «Я обожаю свою подругу Дуню Пешеморепереходященскую за то, что она прилежна и внимательна во время уроков и умеет представлять гусара Николая Спиридоныча».
б) Примеры на «Согласование слов».
1) «В Великий пост священники и дьяконы не хотят венчать новобрачных».
2) «Мужики живут на даче зиму и лето, бьют лошадей, но ужасно не чисты, потому что закапаны дегтем и не нанимают горничных и швейцаров».
3) «Родители выдают девиц замуж за военных, которые имеют состояние и свой дом».
4) «Мальчик, почитай своих папу и маму – и за это ты будешь хорошеньким и будешь любим всеми людьми на свете».
5) «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел»{15}.
в) Сочинение.
«Как я провела каникулы?
Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом Иоанном, учеником третьего класса гимназии, на дачу. К нам съехались: Катя Кузевич с мамой и папой, Зина, маленький Егорушка, Наташа и много других моих подруг, которые со мной гуляли и вышивали на свежем воздухе. Было много мужчин, но мы, девицы, держали себя в стороне и не обращали на них никакого внимания. Я прочла много книг и между прочим Мещерского{16}, Майкова{17}, Дюму, Ливанова{18}, Тургенева и Ломоносова. Природа была в великолепии. Молодые деревья{19} росли очень тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов, не густая, но почти сплошная тень ложилась от мелких листьев на мягкую и тонкую траву, всю испещренную золотыми головками куриной слепоты, белыми точками лесных колокольчиков и малиновыми крестиками гвоздики (похищено из „Затишья“ Тургенева). Солнце то восходило, то заходило. На том месте, где была заря, летела стая птиц. Где-то пастух пас свои стада и какие-то облака носились немножко ниже неба. Я ужасно люблю природу. Мой папа все лето был озабочен: негодный банк ни с того ни с сего хотел продать наш дом, а мама всё ходила за папой и боялась, чтобы он на себя рук не наложил. А если же я и провела хорошо каникулы, так это потому, что занималась наукой и вела себя хорошо. Конец».
Арифметика.
Задача. Три купца взнесли для одного торгового предприятия капитал, на который, через год, было получено 8000 руб. прибыли. Спрашивается: сколько получил каждый из них, если первый взнес 35 000, второй 50 000, а третий 70 000?
Решение. Чтобы решить эту задачу, нужно сперва узнать, кто из них больше всех взнес, а для этого нужно все три числа повычитать одно из другого, и получим, следовательно, что третий купец взнес больше всех, потому что он взнес не 35 000 и не 50 000, а 70 000. Хорошо. Теперь узнаем, сколько из них каждый получил, а для этого разделим 8000 на три части так, чтоб самая большая часть пришлась третьему. Делим: 3 в восьми содержится 2 раза. 3 × 2 = 6. Хорошо. Вычтем 6 из восьми и получим 2. Сносим нолик. Вычтем 18 из 20 и получим еще раз 2. Сносим нолик и так далее до самого конца. Выйдет то, что мы получим 2666 2/3, которая и есть то, что требуется доказать, то есть каждый купец получил 2666 2/3 руб., а третий, должно быть, немножко больше.
Подлинность удостоверяет – Чехонте
Тысяча одна страсть, или Страшная ночь{20}
(Роман в одной части с эпилогом)
Посвящаю Виктору Гюго
На башне св. Ста сорока шести мучеников пробила полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку и вышел с ним на улицу. Небо было темно, как типографская тушь. Было темно, как в шляпе, надетой на голову. Темная ночь – это день в ореховой скорлупе. Мы закутались в плащи и отправились. Сильный ветер продувал нас насквозь. Дождь и снег – эти мокрые братья – страшно били в наши физиономии. Молния, несмотря на зимнее время, бороздила небо по всем направлениям. Гром, грозный, величественный спутник прелестной, как миганье голубых глаз, быстрой, как мысль, молнии, ужасающе потрясал воздух. Уши Теодора засветились электричеством. Огни св. Эльма{21} с треском пролетали над нашими головами. Я взглянул наверх. Я затрепетал. Кто не трепещет пред величием природы? По небу пролетело несколько блестящих метеоров. Я начал считать их и насчитал 28. Я указал на них Теодору.
– Нехорошее предзнаменование! – пробормотал он, бледный, как изваяние из каррарского мрамора.
Ветер стонал, выл, рыдал… Стон ветра – стон совести, утонувшей в страшных преступлениях. Возле нас громом разрушило и зажгло восьмиэтажный дом. Я слышал вопли, вылетавшие из него. Мы прошли мимо. До горевшего ли дома мне было, когда у меня в груди горело полтораста домов? Где-то в пространстве заунывно, медленно, монотонно звонил колокол. Была борьба стихий. Какие-то неведомые силы, казалось, трудились над ужасающею гармониею стихии. Кто эти силы? Узнает ли их когда-нибудь человек?
Пугливая, но дерзкая мечта!!!
Мы крикнули кошэ{22}. Мы сели в карету и помчались. Кошэ – брат ветра. Мы мчались, как смелая мысль мчится в таинственных извилинах мозга. Я всунул в руку кошэ кошелек с золотом. Золото помогло бичу удвоить быстроту лошадиных ног.
– Антонио, куда ты меня везешь? – простонал Теодор. – Ты смотришь злым гением… В твоих черных глазах светится ад… Я начинаю бояться…
Жалкий трус!! Я промолчал. Он любил ее. Она любила страстно его… Я должен был убить его, потому что любил больше жизни ее. Я любил ее и ненавидел его. Он должен был умереть в эту страшную ночь и заплатить смертью за свою любовь. Во мне кипели любовь и ненависть. Они были вторым моим бытием. Эти две сестры, живя в одной оболочке, производят опустошение: они – духовные вандалы.
– Стой! – сказал я кошэ, когда карета подкатила к цели.
Я и Теодор выскочили. Из-за туч холодно взглянула на нас луна. Луна – беспристрастный, молчаливый свидетель сладостных мгновений любви и мщения. Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас. Пред нами была пропасть, бездна без дна, как бочка преступных дочерей Даная{23}. Мы стояли у края жерла потухшего вулкана. Об этом вулкане ходят в народе страшные легенды. Я сделал движение коленом, и Теодор полетел вниз, в страшную пропасть. Жерло вулкана – пасть земли.
– Проклятие!!! – закричал он в ответ на мое проклятие.
Сильный муж, ниспровергающий своего врага в кратер вулкана из-за прекрасных глаз женщины, – величественная, грандиозная и поучительная картина! Недоставало только лавы!
Кошэ. Кошэ – статуя, поставленная роком невежеству. Прочь рутина! Кошэ последовал за Теодором. Я почувствовал, что в груди у меня осталась одна только любовь. Я пал лицом на землю и заплакал от восторга. Слезы восторга – результат божественной реакции, производимой в недрах любящего сердца. Лошади весело заржали. Как тягостно быть не человеком! Я освободил их от животной, страдальческой жизни. Я убил их. Смерть есть и оковы, и освобождение от оков.
Я зашел в гостиницу «Фиолетового гиппопотама» и выпил пять стаканов доброго вина. Через три часа после мщения я был у дверей ее квартиры. Кинжал, друг смерти, помог мне по трупам добраться до ее дверей. Я стал прислушиваться. Она не спала. Она мечтала. Я слушал. Она молчала. Молчание длилось часа четыре. Четыре часа для влюбленного – четыре девятнадцатых столетия! Наконец она позвала горничную. Горничная прошла мимо меня. Я демонически взглянул на нее. Она уловила мой взгляд. Рассудок оставил ее. Я убил ее. Лучше умереть, чем жить без рассудка.
– Анета! – крикнула она. – Что это Теодор нейдет? Тоска грызет мое сердце. Меня душит какое-то тяжелое предчувствие. О, Анета! сходи за ним. Он наверно кутит теперь вместе с безбожным, ужасным Антонио!.. Боже, кого я вижу?! Антонио!
Я вошел к ней. Она побледнела.
– Подите прочь! – закричала она, и ужас исказил ее благородные, прекрасные черты.
Я взглянул на нее. Взгляд есть меч души. Она пошатнулась. В моем взгляде она увидела всё: и смерть Теодора, и демоническую страсть, и тысячу человеческих желаний… Поза моя – было величие. В глазах моих светилось электричество. Волосы мои шевелились и стояли дыбом. Она видела пред собою демона в земной оболочке. Я видел, что она залюбовалась мной. Часа четыре продолжалось гробовое молчание и созерцание друг друга. Загремел гром, и она пала мне на грудь. Грудь мужчины – крепость женщины. Я сжал ее в своих объятиях. Оба мы крикнули. Кости ее затрещали. Гальванический ток пробежал по нашим телам. Горячий поцелуй…
Она полюбила во мне демона. Я хотел, чтобы она полюбила во мне ангела. «Полтора миллиона франков отдаю бедным!» – сказал я. Она полюбила во мне ангела и заплакала. Я тоже заплакал. Что это были за слезы!!! Через месяц в церкви Св. Тита и Гортензии происходило торжественное венчание. Я венчался с ней. Она венчалась со мной. Бедные нас благословляли! Она упросила меня простить врагов моих, которых я ранее убил. Я простил. С молодою женой я уехал в Америку. Молодая любящая жена была ангелом в девственных лесах Америки, ангелом, пред которым склонялись львы и тигры. Я был молодым тигром. Через три года после нашей свадьбы старый Сам носился уже с курчавым мальчишкой. Мальчишка был более похож на мать, чем на меня. Это меня злило. Вчера у меня родился второй сын… и сам я от радости повесился… Второй мой мальчишка протягивает ручки к читателям и просит их не верить его папаше, потому что у его папаши не было не только детей, но даже и жены. Папаша его боится женитьбы, как огня. Мальчишка мой не лжет. Он младенец. Ему верьте. Детский возраст – святой возраст. Ничего этого никогда не было… Спокойной ночи!
Суд{24}
Изба Кузьмы Егорова, лавочника. Душно, жарко. Проклятые комары и мухи толпятся около глаз и ушей, надоедают… Облака табачного дыму, но пахнет не табаком, а соленой рыбой. В воздухе, на лицах, в пении комаров тоска.
Большой стол; на нем блюдечко с ореховой скорлупой, ножницы, баночка с зеленой мазью, картузы, пустые штофы. За столом восседают: сам Кузьма Егоров, староста, фельдшер Иванов, дьячок Феофан Манафуилов, бас Михайло, кум Парфентий Иваныч и приехавший из города в гости к тетке Анисье жандарм Фортунатов. В почтительном отдалении от стола стоит сын Кузьмы Егорова, Серапион, служащий в городе в парикмахерской и теперь приехавший к отцу на праздники. Он чувствует себя очень неловко и дрожащей рукой теребит свои усики. Избу Кузьмы Егорова временно нанимают для медицинского «пункта», и теперь в передней ожидают расслабленные{25}. Сейчас только привезли откуда-то бабу с поломанным ребром… Она лежит, стонет и ждет, когда наконец фельдшер обратит на нее свое благосклонное внимание. Под окнами толпится народ, пришедший посмотреть, как Кузьма Егоров своего сына пороть будет.
– Вы всё говорите, что я вру, – говорит Серапион, – а потому я с вами говорить долго не намерен. Словами, папаша, в девятнадцатом столетии ничего не возьмешь, потому что теория, как вам самим небезызвестно, без практики существовать не может.
– Молчи! – говорит строго Кузьма Егоров. – Материй ты не разводи, а говори нам толком: куда деньги мои девал?
– Деньги? Гм… Вы настолько умный человек, что сами должны понимать, что я ваших денег не трогал. Бумажки свои вы не для меня копите… Грешить нечего…
– Вы, Серапион Косьмич, будьте откровенны, – говорит дьячок. – Ведь мы вас для чего это спрашиваем? Мы вас убедить желаем, на путь наставить благой… Папашенька ваш ничего вам, окроме пользы вашей… И нас вот попросил… Вы откровенно… Кто не грешен? Вы взяли у вашего папаши двадцать пять рублей, что у них в комоде лежали, или не вы?
Серапион сплевывает в сторону и молчит.
– Говори же! – кричит Кузьма Егоров и стучит кулаком о стол. – Говори: ты или не ты?
– Как вам угодно-с… Пускай…
– Пущай, – поправляет жандарм.
– Пущай это я взял… Пущай! Только напрасно вы, папаша, на меня кричите. Стучать тоже не для чего. Как ни стучите, а стола сквозь землю не провалите. Денег ваших я никогда у вас не брал, а ежели брал когда-нибудь, то по надобности… Я живой человек, одушевленное имя существительное, и мне деньги нужны. Не камень!..
– Поди да заработай, коли деньги нужны, а меня обирать нечего. Ты у меня не один, у меня вас семь человек!
– Это я и без вашего наставления понимаю, только по слабости здоровья, как вам самим это известно, заработать, следовательно, не могу. А что вы меня сейчас куском хлеба попрекнули, так за это самое вы перед Господом Богом отвечать станете…
– Здоровьем слаб!.. Дело у тебя небольшое, знай себе стриги да стриги, а ты и от этого дела бегаешь.
– Какое у меня дело? Разве это дело? Это не дело, а одно только поползновение. И образование мое не такое, чтоб я этим делом мог существовать.
– Неправильно вы рассуждаете, Серапион Косьмич, – говорит дьячок. – Ваше дело почтенное, умственное, потому вы служите в губернском городе, стрижете и бреете людей умственных, благородных. Даже генералы и те не чуждаются вашего ремесла.
– Про генералов, ежели угодно, я и сам могу вам объяснить.
Фельдшер Иванов слегка выпивши.
– По нашему медицинскому рассуждению, – говорит он, – ты скипидар и больше ничего.
– Мы вашу медицину понимаем… Кто, позвольте вас спросить, в прошлом годе пьяного плотника вместо мертвого тела чуть не вскрыл? Не проснись он, так вы бы ему живот распороли. А кто касторку вместе с конопляным маслом мешает?
– В медицине без этого нельзя.
– А кто Маланью на тот свет отправил? Вы дали ей слабительного, потом крепительного, а потом опять слабительного, она и не выдержала. Вам не людей лечить, а, извините, собак.
– Маланье царство небесное, – говорит Кузьма Егоров. – Ей царство небесное. Не она деньги взяла, не про нее и разговор… А вот ты скажи… Алене отнес?
– Гм… Алене!.. Постыдились бы хоть при духовенстве и при господине жандарме.
– А вот ты говори: ты взял деньги или не ты?
Староста вылезает из-за стола, зажигает о колено спичку и почтительно подносит ее к трубке жандарма.
– Ффф… – сердится жандарм. – Серы полный нос напустил!
Закурив трубку, жандарм встает из-за стола, подходит к Серапиону и, глядя на него со злобой и в упор, кричит пронзительным голосом:
– Ты кто таков? Ты что же это? Почему так? А? Что же это значит? Почему не отвечаешь? Неповиновение? Чужие деньги брать? Молчать! Отвечай! Говори! Отвечай!
– Ежели…
– Молчать!
– Ежели… Вы потише-с! Ежели… Не боюсь! Много вы об себе понимаете! А вы – дурак и больше ничего! Ежели папаше хочется меня на растерзание отдать, то я готов… Терзайте! Бейте!
– Молчать! Не ра-а-азговаривать! Знаю твои мысли! Ты вор? Кто таков? Молчать! Перед кем стоишь? Не рассуждать!
– Наказать-с необходимо, – говорит дьячок и вздыхает. – Ежели они не желают облегчить вину свою сознанием, то необходимо, Кузьма Егорыч, посечь. Так я полагаю: необходимо!
– Влепить! – говорит бас Михайло таким низким голосом, что все пугаются.
– В последний раз: ты или нет? – спрашивает Кузьма Егоров.
– Как вам угодно-с… Пущай… Терзайте! Я готов…
– Выпороть! – решает Кузьма Егоров и, побагровев, вылезает из-за стола.
Публика нависает на окна. Расслабленные толпятся у дверей и поднимают головы. Даже баба с переломленным ребром и та поднимает голову…
– Ложись! – говорит Кузьма Егоров.
Серапион сбрасывает с себя пиджачок, крестится и со смирением ложится на скамью.
– Терзайте, – говорит он.
Кузьма Егоров снимает ремень, некоторое время глядит на публику, как бы выжидая, не поможет ли кто, потом начинает…
– Раз! Два! Три! – считает Михайло низким басом. – Восемь! Девять!
Дьячок стоит в уголку и, опустив глазки, перелистывает книжку…
– Двадцать! Двадцать один!
– Довольно! – говорит Кузьма Егоров.
– Еще-с!.. – шепчет жандарм Фортунатов. – Еще! Еще! Так его!
– Я полагаю: необходимо еще немного! – говорит дьячок, отрываясь от книжки.
– И хоть бы пискнул! – удивляется публика.
Больные расступаются, и в комнату, треща накрахмаленными юбками, входит жена Кузьмы Егорова.
– Кузьма! – обращается она к мужу. – Что это у тебя за деньги я нашла в кармане? Это не те, что ты давеча искал?
– Оне самые и есть… Вставай, Серапион! Нашлись деньги! Я положил их вчерась в карман и забыл…
– Еще-с! – бормочет Фортунатов. – Влепить! Так его!
– Нашлись деньги! Вставай!
Серапион поднимается, надевает пиджачок и садится за стол. Продолжительное молчание. Дьячок конфузится и сморкается в платочек.
– Ты извини, – бормочет Кузьма Егоров, обращаясь к сыну. – Ты не того… Черт же его знал, что они найдутся! Извини…
– Ничего-с. Нам не впервой-с… Не беспокойтесь. Я на всякие мучения всегда готов.
– Ты выпей… Перегорит…
Серапион выпивает, поднимает вверх свой синий носик и богатырем выходит из избы. А жандарм Фортунатов долго потом ходит по двору, красный, выпуча глаза, и говорит:
– Еще! Еще! Так его!
Жизнь в вопросах и восклицаниях{26}
Детство. Кого Бог дал, сына или дочь? Крестить скоро? Крупный мальчик! Не урони, мамка! Ах, ах! Упадет!! Зубки прорезались? Это у него золотуха? Возьмите у него кошку, а то она его оцарапает! Потяни дядю за ус! Так! Не плачь! Домовой идет! Он уже и ходить умеет! Унесите его отсюда – он невежлив! Что он вам наделал?! Бедный сюртук! Ну, ничего, мы высушим! Чернило опрокинул! Спи, пузырь! Он уже говорит! Ах, какая радость! А ну-ка, скажи что-нибудь! Чуть извозчики не задавили!! Прогнать няньку! Не стой на сквозном ветре! Постыдитесь, можно ли бить такого маленького? Не плачь! Дайте ему пряник!
Отрочество. Иди-ка сюда, я тебя высеку! Где это ты себе нос разбил? Не беспокой мамашу! Ты не маленький! Не подходи к столу, тебе после! Читай! Не знаешь? Пошел в угол! Единица! Не клади в карман гвоздей! Почему ты мамаши не слушаешься? Ешь как следует! Не ковыряй в носу! Это ты ударил Митю? Пострел! Читай мне «Демьянову уху»! Как будет именительный падеж множественного числа? Сложи и вычти! Вон из класса! Без обеда! Спать пора! Уже девять часов! Он только при гостях шалит! Врешь! Причешись! Вон из-за стола! А ну-ка, покажи свои отметки! Уже порвал сапоги?! Стыдно реветь такому большому! Где это ты мундир запачкал? На вас не напасешься! Опять единица? Когда наконец я перестану тебя пороть? Если ты будешь курить, то я тебя из дома выгоню! Как будет превосходная степень от facilis[27]? Facilissimus? Врете! Кто это вино выпил? Дети, обезьяну на двор привели! За что вы моего сына на второй год оставили? Бабушка пришла!
Юношество. Тебе еще рано водку пить! Скажите о последовательности времен! Рано, рано, молодой человек! В ваши лета я еще ничего такого не знал! Ты еще боишься при отце курить? Ах, какой срам! Тебе кланялась Ниночка! Возьмемте Юлия Цезаря! Здесь ut consecutivum?{27} Ах, душка! Оставьте, барин, а то я… папеньке скажу! Ну, ну… шельма! Браво, у меня уже усы растут! Где? Это ты нарисовал, а не растут! У Nadine прелестный подбородок! Вы в каком теперь классе? Согласитесь же, папа, что мне нельзя не иметь карманных денег! Наташа? Знаю! Я был у нее! Так это ты? Ах ты, скромник! Дайте покурить! О, если б ты знал, как я ее люблю! Она божество! Кончу курс в гимназии и женюсь на ней! Не ваше дело, maman! Посвящаю вам свои стихи! Оставь покурить! Я пьянею уже после трех рюмок! Bis! Bis! Браааво! Неужели ты не читал Борна{28}? Не косинус, а синус! Где тангенс? У Соньки плохие ноги! Можно поцеловать? Выпьем? Ураааа, кончил курс! Запишите за мной! Займите четвертную! Я женюсь, отец! Но я дал слово! Ты где ночевал?
Между 20 и 30 годами. Займите мне сто рублей! Какой факультет? Мне все одно! Почем лекция? Дешево, однако! В Стрельну{29} и обратно! Бис, бис! Сколько я вам должен? Завтра придете! Что сегодня в театре? О, если бы вы знали, как я вас люблю! Да или нет? Да? О, моя прелесть! В шею! Челаэк! Вы херес пьете? Марья, дай-ка огуречного рассольцу! Редактор дома? У меня нет таланта? Странно! Чем же я жить буду? Займите пять рублей! В Salon! Господа, светает! Я ее бросил! Займите фрак! Желтого в угол! Я и так уже пьян! Умираю, доктор! Займи на лекарство! Чуть не умер! Я похудел? К Яру, что ли? Стоит того! Дайте же работы! Пожалуйста! Эээ… да вы лентяй! Можно ли так опаздывать? Суть не в деньгах! Нет-с, в деньгах! Стреляюсь!! Шабаш! Черт с ним, со всем! Прощай, паскудная жизнь! Впрочем… нет! Это ты, Лиза? Песнь моя уже спета, maman! Я уже отжил свое! Дайте мне место, дядя! Ma tante[28], карета подана! Merci, mon oncle![29] Не правда ли, я изменился, mon oncle? Пересобачился? Ха-ха! Напишите эту бумагу! Жениться? Никогда! Она – увы! – замужем! Ваше превосходительство! Представь меня своей бабушке, Серж! Вы очаровательны, княжна! Стары? Полноте! Вы напрашиваетесь на комплименты! Позвольте мне кресло во второй ряд!
Между 30–50 годами. Сорвалось! Есть вакансия? Девять без козырей! Семь червей! Вам сдавать, votre excellence[30]. Вы ужасны, доктор! У меня ожирение печени? Чушь! Как много берут эти доктора! А сколько за ней приданого? Теперь не любите, со временем полюбите! С законным браком! Не могу я, душа моя, не играть! Катар желудка? Сына или дочь? Весь в отца! Хе-хе-хе… не знал-с! Выиграл, душа моя! Опять, черт возьми, проиграл! Сына или дочь? Весь в… отца! Уверяю тебя, что я ее не знаю! Перестань ревновать! Едем, Фани! Браслет? Шампанского! С чином! Merci! Что нужно делать, чтобы похудеть? Я лыс?! Не зудите, теща! Сына или дочь? Я пьян, Каролинхен! Дай я тебя поцелую, немочка! Опять этот каналья у жены! Сколько у вас детей? Помогите бедному человеку! Какая у вас дочь миленькая! В газетах, дьяволы, пропечатали! Иди, я тебя высеку, скверный мальчишка! Это ты измял мой парик?
Старость. Едем на воды? Выходи за него, дочь моя! Глуп? Полно! Плохо пляшет, но ноги прелестны! Сто рублей за… поцелуй?! Ах ты, чертенок! Хе-хе-хе! Рябчика хочешь, девочка? Ты, сын, того… безнравствен! Вы забываетесь, молодой человек! Пст! пст! пст! Ллюблю музыку! Шям… Шям… панского! «Шута»{30} читаешь? Хе-хе-хе! Внучатам конфеток несу! Сын мой хорош, но я был лучше! Где ты, то время? Я и тебя, Эммочка, в завещании не забыл! Ишь я какой! Папашка, дай часы! Водянка? Неужели? Царство небесное! Родня плачет? А к ней идет траур! От него пахнет! Мир праху твоему, честный труженик!
Летающие острова{31}
Соч. Жюля Верна перевод А. Чехонте
Глава I. Речь
– …Я кончил, джентльмены! – сказал мистер Джон Лунд, молодой член королевского географического общества, и, утомленный, опустился в кресло. Зала заседания огласилась яростнейшими аплодисментами, криками «браво» и дрогнула. Джентльмены начали один за другим подходить к Джону Лунду и пожимать его руку. Семнадцать джентльменов в знак своего изумления сломали семнадцать стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми джентльменам, из которых один был капитаном «Катавасии», яхты в 100 009 тонн…
– Джентльмены! – проговорил тронутый мистер Лунд. – Считаю священнейшим долгом благодарить вас за то адское терпение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся сорок часов, тридцать две минуты и четырнадцать секунд! Том Бекас, – обратился он к своему старому слуге, – разбудите меня через пять минут. Я буду спать в то время, когда джентльмены будут извинять меня за то, что я осмеливаюсь спать в их присутствии!
– Слушаю, сэр! – сказал старый Том Бекас.
Джон Лунд закинул назад голову и тотчас же заснул.
Джон Лунд был родом шотландец. Он нигде не воспитывался, ничему никогда не учился, но знал всё. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, которые до познания всего прекрасного и великого доходят своим умом. Восторг, который произвел он своею речью, был им вполне заслужен. В продолжение 40 часов он предлагал на рассмотрение господам джентльменам великий проект, исполнение которого стяжало впоследствии великую славу для Англии и показало, как далеко может иногда хватать ум человеческий! «Просверление Луны колоссальным буравом» – вот что служило предметом речи мистера Лунда!
Глава II. Таинственный незнакомец
Сэр Лунд не проспал и трех минут. Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо, и он проснулся. Перед ним стоял джентльмен 48 1/2 вершка роста{32}, тонкий, как пика, и худой, как засушенная змея. Он был совершенно лыс. Одетый во всё черное, он имел на носу четыре пары очков, а на груди и на спине по термометру.
– Идите за мной! – гробовым голосом произнес лысый джентльмен.
– Куда?
– Идите за мной, Джон Лунд!
– А если я не пойду?
– Тогда я буду принужден просверлить Луну раньше вас!
– В таком случае, сэр, я к вашим услугам.
– Ваш слуга последует за нами!
Мистер Лунд, лысый джентльмен и Том Бекас оставили залу заседания, и все трое зашагали по освещенным улицам Лондона. Шли они очень долго.
– Сэр, – обратился Бекас к мистеру Лунду, – если наш путь так же длинен, как и этот джентльмен, то на основании законов трения мы лишимся своих подошв!
Джентльмены подумали и, через десять минут нашедши, что слова Бекаса остроумны, громко засмеялись.
– С кем я имею честь смеяться, сэр? – спросил Лунд лысого джентльмена.
– Вы имеете честь идти, смеяться и говорить с членом всех географических, археологических и этнографических обществ, магистром всех существовавших и существующих наук, членом Московского артистического кружка{33}, почетным попечителем школы коровьих акушеров в Саутгамптоне, подписчиком «Иллюстрированного беса»{34}, профессором желто-зеленой магии и начальной гастрономии в будущем Новозеландском университете, директором Безымянной обсерватории Вильямом Болваниусом. Я веду вас, сэр, в…
Джон Лунд и Том Бекас преклонили свои колени перед великим человеком, о котором они так много слышали, и почтительно опустили головы…
– Я веду вас, сэр, в свою обсерваторию, находящуюся в двадцати милях отсюда. Сэр! Мне нужен товарищ в моем предприятии, значение которого вы в состоянии постигнуть только обоими полушариями вашего головного мозга. Мой выбор пал на вас… Вы после сорокачасовой речи навряд ли захотите вступать со мной в какие бы то ни было разговоры, а я, сэр, ничего так не люблю, как свой телескоп и продолжительное молчание. Язык вашего слуги, я надеюсь, свяжется вашим, сэр, приказанием. Да здравствует пауза!!! Я веду вас… Вы ничего не имеете против этого?
– Ничего, сэр! Мне остается пожалеть только о том, что мы не скороходы{35} и что мы имеем под ступнями подошвы, которые стоят денег и…
– Я вам куплю новые сапоги.
– Благодарю вас, сэр.
Кто из читателей воспылает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваниусом, тот пусть прочтет его замечательное сочинение «Существовала ли Луна до потопа? Если существовала, то почему же и она не утонула?». При этом сочинении приложена и запрещенная брошюра, написанная им за год перед смертью: «Способ стереть Вселенную в порошок и не погибнуть в то же время». В этих сочинениях как нельзя лучше характеризуется личность этого замечательнейшего из людей.
Между прочим там описывается, как он прожил два года в австралийских камышах, где питался раками, тиной и яйцами крокодилов и в эти два года не видел ни разу огня. Будучи в камышах, он изобрел микроскоп, совершенно сходный с нашим обыкновенным микроскопом, и нашел спинной хребет у рыб вида Riba. Воротившись из своего долгого путешествия, он поселился в нескольких милях от Лондона и всецело посвятил себя астрономии. Будучи порядочным женоненавистником (он был три раза женат, а потому и имел три пары прекраснейших ветвистых рогов) и не желая до поры до времени быть открытым, он жил аскетом. Обладая тонким, дипломатическим умом, он ухитрился сделать так, что обсерватория и труды его по астрономии были известны только одному ему. К сожалению и несчастью всех благомыслящих англичан, этот великий человек не дожил до нашего времени. В прошлом году он тихо скончался: купаясь в Ниле, он был проглочен тремя крокодилами.
Глава III. Таинственные пятна
Обсерватория, в которую ввел он Лунда и старого Тома Бекаса (следует длиннейшее и скучнейшее описание обсерватории, которое переводчик в видах экономии места и времени нашел нужным не переводить)... стоял телескоп, усовершенствованный Болваниусом. Мистер Лунд подошел к телескопу и начал смотреть на Луну.
– Что вы там видите, сэр?
– Луну, сэр.
– A возле Луны что вы видите, мистер Лунд?
– Я имею честь видеть одну только Луну.
– А не видите ли вы бледных пятен, движущихся возле Луны?
– Черт возьми, сэр! Называйте меня ослом, если я не вижу этих пятен! Что это за пятна?
– Это пятна, которые видны в один только мой телескоп. Довольно! Оставьте телескоп! Мистер Лунд и Том Бекас! Я должен, я хочу узнать, что это за пятна! Я буду скоро там! Я иду к этим пятнам! Вы следуете за мной!
– Ура! Да здравствуют пятна! – крикнули Джон Лунд и Том Бекас.
Глава IV. Скандал на небе
Через полчаса мистеры Вильям Болваниус, Джон Лунд и шотландец Том Бекас летели уже к таинственным пятнам на восемнадцати аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором находился сгущенный воздух и препараты для изготовления кислорода[31]. Начало этого грандиозного, доселе небывалого полета было совершено в ночь под 13 марта 1870 года. Дул юго-западный ветер. Магнитная стрелка показывала NWW{36} (следует скучнейшее описание куба и 18 аэростатов)... В кубе царило глубокое молчание. Джентльмены кутались в плащи и курили сигары. Том Бекас, растянувшись на полу, спал, как у себя дома. Термометр[32] показывал ниже 0. В продолжение первых 20 часов не было сказано ни одного слова и особенного ничего не произошло. Шары проникли в область облаков. Несколько молний погнались за шарами, но их не догнали, потому что они принадлежали англичанину. На третий день Джон Лунд заболел дифтеритом, а Тома Бекаса обуял сплин. Куб, столкнувшись с аэролитом{37}, получил страшный толчок. Термометр показывал –76.
– Как ваше здоровье, сэр? – прервал наконец молчание Болваниус, обратясь на пятый день к сэру Лунду.
– Благодарю вас, сэр! – отвечал тронутый Лунд. – Ваше внимание трогает меня. Я ужасно страдаю! А где мой верный Том?
– Он сидит теперь в углу, жует табак и старается походить на человека, женившегося сразу на десятерых.
– Ха, ха, ха, сэр Болваниус!
– Благодарю вас, сэр!
Не успел мистер Болваниус пожать руку молодому Лунду, как произошло нечто ужасное. Раздался страшный треск… Что-то треснуло, раздалась тысяча пушечных выстрелов, пронесся гул, неистовый свист. Медный куб, попав в среду разреженную, не вынес внутреннего давления, треснул, и клочья его понеслись в бесконечное пространство.
Это была ужасная, единственная в истории Вселенной минута!
Мистер Болваниус ухватился за ноги Тома Бекаса, этот последний ухватился за ноги Джона Лунда, и все трое с быстротою молнии понеслись в неведомую бездну. Шары отделились от них и, освобожденные от тяжести, закружились и с треском полопались.
– Где мы, сэр?
– В эфире{38}.
– Гм… Если в эфире, то чем же мы дышать будем?
– А где сила вашей воли, сэр Лунд?
– Мистеры! – крикнул Бекас. – Честь имею объявить вам, что мы почему-то летим не вниз, а вверх!
– Гм… Сто чертей! Значит, мы уже не находимся в области притяжения Земли… Нас тянет к себе наша цель! Ура-а! Сэр Лунд, как ваше здоровье?
– Благодарю вас, сэр! Я вижу наверху Землю, сэр!
– Это не Земля, а одно из наших пятен! Мы сейчас разобьемся о него!
Т-р-р-р-рах!!!!
Глава V. Остров князя Мещерского{39}
Первый пришел в чувство Том Бекас. Он протер глаза и начал обозревать местность, на которой лежали он, Болваниус и Лунд. Он снял чулок и принялся тереть им джентльменов. Джентльмены не замедлили очнуться.
– Где мы? – спросил Лунд.
– Вы на острове, принадлежащем к группе летающих! Ур-аа!
– Ур-аа! Посмотрите, сэр, вверх! Мы затмили Колумба!
Над островом летало еще несколько островов (следует описание картины, понятной одним только англичанам)... Пошли осматривать остров. Он был шириной… длиной… (цифры и цифры… Бог с ними!) Тому Бекасу удалось найти дерево, соком своим напоминающее русскую водку. Странно, что деревья были ниже травы (?). Остров был необитаем. Ни одно живое существо не касалось доселе его почвы…
– Сэр, посмотрите, что это такое? – обратился мистер Лунд к сэру Болваниусу, поднимая какой-то сверток.
– Странно… Удивительно… Поразительно… – забормотал Болваниус.
Сверток оказался сочинениями какого-то князя Мещерского, писанными на одном из варварских языков, кажется русском.
Как попали сюда эти сочинения?
– Пр-р-роклятие! – закричал мистер Болваниус. – Здесь были раньше нас?!! Кто мог быть здесь?!.. Скажите – кто, кто? Пр-роклятие! О-о-о-о! Размозжите, громы небесные, моя великие мозги! Дайте мне сюда его! Дайте мне его! Я проглочу его, с его сочинениями!
И мистер Болваниус, подняв вверх руки, страшно захохотал. В глазах его блеснул подозрительный огонек. Он сошел с ума.
Глава VI. Возвращение
– Ура-а-а!! – кричали жители Гавра, наполняя собою все гаврские набережные. Воздух оглашался радостными криками, звоном и музыкой. Черная масса, грозившая всем смертью, опускалась не на город, а в залив… Корабли поспешили убраться в открытое море. Черная масса, столько дней закрывавшая собою солнце, при торжественных кликах народа и при громе музыки важно (pesamment){40} шлепнулась в залив и обрызгала всю набережную. Упав на залив, она утонула. Через минуту залив был уже открытым. Волны бороздили его по всем направлениям… На средине залива барахтались три человека. То были безумный Болваниус, Джон Лунд и Том Бекас. Их поспешили принять на лодки.
– Мы пятьдесят семь дней не ели! – пробормотал худой, как голодный художник, мистер Лунд и рассказал, в чем дело.
Остров князя Мещерского уже более не существует. Он, приняв на себя трех отважных людей, стал тяжелей и, вышедши из нейтральной полосы, был притянут Землей и утонул в Гаврском заливе…
Заключение
Джон Лунд занят теперь вопросом о просверлении Луны. Близко уже то время, когда Луна украсится дырой. Дыра будет принадлежать англичанам. Том Бекас живет теперь в Ирландии и занимается сельским хозяйством. Он разводит кур и сечет свою единственную дочь, которую воспитывает по-спартански. Ему не чужды и вопросы науки: он страшно сердится на себя за то, что забыл взять с Летающего острова семян от дерева, соком напоминающего русскую водку.
Радость{41}
Было двенадцать часов ночи.
Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.
– Откуда ты? – удивились родители. – Что с тобой?
– Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это… это даже невероятно!
Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.
– Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!
Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.
– Что с тобой? На тебе лица нет!
– Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор{42} Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Мамаша! О господи!
Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
– Да что такое случилось? Говори толком!
– Вы живете как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!
– Что ты? Где?
Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.
– Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите!
Митя вытащил из кармана нумер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.
– Читайте!
Отец надел очки.
– Читайте же!
Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать:
«29-го декабря, в одиннадцать часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров…
– Видите, видите? Дальше!
…коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии…
– Это я с Семеном Петровичем… Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!
…и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина дер. Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку…
– Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!
…который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь…»
– Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!
Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.
– Побегу к Макаровым, им покажу… Надо еще Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу… Побегу! Прощайте!
Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу.
На гвозде{43}
По Невскому плелась со службы компания коллежских регистраторов и губернских секретарей. Их вел к себе на именины именинник Стручков.
– Да и пожрем же мы сейчас, братцы! – мечтал вслух именинник. – Страсть как пожрем! Женка пирог приготовила. Сам вчера вечером за мукой бегал. Коньяк есть… воронцовская{44}… Жена, небось, заждалась!
Стручков обитал у черта на куличках. Шли, шли к нему и наконец пришли. Вошли в переднюю. Носы почувствовали запах пирога и жареного гуся.
– Чувствуете? – спросил Стручков и захихикал от удовольствия. – Раздевайтесь, господа! Кладите шубы на сундук! А где Катя? Эй, Катя! Сбор всех частей прикатил!{45} Акулина, поди помоги господам раздеться!
– А это что такое? – спросил один из компании, указывая на стену.
На стене торчал большой гвоздь, а на гвозде висела новая фуражка с сияющим козырьком и кокардой. Чиновники поглядели друг на друга и побледнели.
– Это его фуражка! – прошептали они. – Он… здесь!?!
– Да, он здесь, – пробормотал Стручков. – У Кати… Выйдемте, господа! Посидим где-нибудь в трактире, подождем, пока он уйдет.
Компания застегнула шубы, вышла и лениво поплелась к трактиру.
– Гусем у тебя пахнет, потому что гусь у тебя сидит! – слиберальничал помощник архивариуса. – Черти его принесли! Он скоро уйдет?
– Скоро. Больше двух часов никогда не сидит. Есть хочется! Перво-наперво мы водки выпьем и килечкой закусим… Потом повторим, братцы… После второй сейчас же пирог. Иначе аппетит пропадет… Моя женка хорошо пироги делает. Щи будут…
– А сардин купил?
– Две коробки. Колбаса четырех сортов… Жене, должно быть, тоже есть хочется… Ввалился, черт!
Часа полтора посидели в трактире, выпили для блезиру по стакану чаю и опять пошли к Стручкову. Вошли в переднюю. Пахло сильней прежнего. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами. Акулина что-то вынимала из печи.
– Опять неблагополучно, братцы!
– Что такое?
Чиновные желудки сжались от горя: голод не тетка, а на подлом гвозде висела кунья шапка.
– Это Прокатилова шапка, – сказал Стручков. – Выйдемте, господа! Переждем где-нибудь… Этот недолго сидит…
– И у этакого сквернавца такая хорошенькая жена! – послышался сиплый бас из гостиной.
– Дуракам счастье, ваше превосходительство! – аккомпанировал женский голос.
– Выйдемте! – простонал Стручков.
Пошли опять в трактир. Потребовали пива.
– Прокатилов – сила! – начала компания утешать Стручкова. – Час у твоей посидит, да зато тебе… десять лет блаженства. Фортуна, брат! Зачем огорчаться? Огорчаться не надо.
– Я и без вас знаю, что не надо. Не в том дело! Мне обидно, что есть хочется!
Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Кунья шапка продолжала еще висеть на гвозде. Пришлось опять ретироваться.
Только в восьмом часу вечера гвоздь был свободен от постоя и можно было приняться за пирог! Пирог был сух, щи теплы, гусь пережарен – всё перепортила карьера Стручкова! Ели, впрочем, с аппетитом.
Размазня{46}
На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.
– Садитесь, Юлия Васильевна! – сказал я ей. – Давайте посчитаемся. Вам наверное нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите… Ну-с… Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц…
– По сорока…
– Нет, по тридцати… У меня записано… Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца…
– Два месяца и пять дней…
– Ровно два месяца… У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей… Вычесть девять воскресений… вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только… да три праздника…
Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но… ни слова!..
– Три праздника… Долой, следовательно, двенадцать рублей… Четыре дня Коля был болен и не было занятий… Вы занимались с одной только Варей… Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда… Двенадцать и семь – девятнадцать. Вычесть… останется… гм… сорок один рубль… Верно?
Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но – ни слова!..
– Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля… Чашка стоит дороже, она фамильная, но… бог с вами! Где наше не пропадало? Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок… Долой десять… Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять… Десятого января вы взяли у меня десять рублей…
– Я не брала, – шепнула Юлия Васильевна.
– Но у меня записано!
– Ну, пусть… хорошо.
– Из сорока одного вычесть двадцать семь – останется четырнадцать…
Оба глаза наполнились слезами… На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!
– Я раз только брала, – сказала она дрожащим голосом. – Я у вашей супруги взяла три рубля… Больше не брала…
– Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать… Вот вам ваши деньги, милейшая! Три… три, три… один и один… Получите-с!
И я подал ей одиннадцать рублей… Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.
– Merci, – прошептала она.
Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.
– За что же merci? – спросил я.
– За деньги…
– Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же merci?
– В других местах мне и вовсе не давали…
– Не давали? И немудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам… Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?
Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»
Я попросил у нее прощение за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла… Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!
Торжество победителя{47}
(Рассказ отставного коллежского регистратора)
В пятницу на Масленой все отправились есть блины к Алексею Иванычу Козулину. Козулина вы не знаете; для вас, быть может, он ничтожество, нуль, для нашего же брата, не парящего высоко под небесами, он велик, всемогущ, высокомудр. Отправились к нему все, составляющие его, так сказать, подножие. Пошел и я с папашей.
Блины были такие великолепные, что выразить вам не могу, милостивый государь: пухленькие, рыхленькие, румяненькие. Возьмешь один, черт его знает, обмакнешь его в горячее масло, съешь – другой сам в рот лезет. Деталями, орнаментами и комментариями были: сметана, свежая икра, семга, тертый сыр. Вин и водок целое море. После блинов осетровую уху ели, а после ухи куропаток с подливкой. Так укомплектовались, что папаша мой тайком расстегнул пуговки на животе и, чтобы кто не заметил сего либерализма, накрылся салфеткой. Алексей Иваныч, на правах нашего начальника, которому все позволено, расстегнул жилетку и сорочку. После обеда, не вставая из-за стола, закурили, с дозволения начальства, сигары и повели беседу. Мы слушали, а его превосходительство, Алексей Иваныч, говорил. Сюжетцы были всё больше юмористического характера, масленичного… Начальник рассказывал и, видимо, желал казаться остроумным. Не знаю, сказал ли он что-нибудь смешное, но только помню, что папаша ежеминутно толкал меня в бок и говорил:
– Смейся!
Я раскрывал широко рот и смеялся. Раз даже взвизгнул от смеха, чем обратил на себя всеобщее внимание.
– Так, так! – зашептал папаша. – Молодец! Он глядит на тебя и смеется… Это хорошо; может, в самом деле даст тебе место помощника письмоводителя{48}!
– Н-да-с! – сказал между прочим Козулин, начальник наш, пыхтя и отдуваясь. – Теперь мы блины кушаем, наисвежайшую икру употребляем, жену белотелую ласкаем. А дочки у меня такие красавицы, что не только ваша братия смиренная, а даже князья и графы засматриваются и вздыхают. А квартира? Хе-хе-хе… То-то вот! Не ропщите, не сетуйте и вы, покуда до конца не доживете! Всё бывает, ну и всякие перемены бывают… Ты теперь, положим, ничтожество, нуль, соринка… изюминка – а кто знает? Может быть, со временем и того… судьбы человеческие за вихор возьмешь! Всякое бывает!
Алексей Иваныч помолчал, покачал головой и продолжал:
– А прежде-то, прежде что было! А? Боже ты мой! Памяти своей не веришь. Без сапог, в рваных штанишках, со страхом и трепетом… За целковый, бывало, две недели работаешь. Да не дадут тебе этот целковый, нет! а скомкают да в лицо бросят: лопай! И всякий тебя раздавить может, уколоть, обухом хватить… Всякий оконфузить может… Идешь с докладом, глядишь, а у дверей собачонка сидит. Подойдешь ты к этой собачонке да за лапочку, за лапочку. Извините, мол, что мимо прошел. С добрым утром-с! А собачонка на тебя: рррр… Швейцар тебя локтем – толк! а ты ему: «Мелких нет, Иван Потапыч!.. извините-с!» А больше всего я натерпелся и поношений разных вынес от этого вот сига копченого, от этого вот… крокодила! Вот от этого самого смиренника, от Курицына!
И Алексей Иваныч указал на маленького, сгорбленного старичка, сидевшего рядом с моим папашей. Старичок мигал утомленными глазками и с отвращением курил сигару. Обыкновенно он никогда не курит, но если начальство предлагает ему сигару, то он считает неприличным отказываться. Увидев устремленный на него палец, он страшно сконфузился и завертелся на стуле.
– Много я претерпел по милости этого смиренника! – продолжал Козулин. – Я ведь к нему к первому под начало попал. Привели меня к нему смирненького, серенького, ничтожненького и посадили за его стол. И стал он меня есть… Что ни слово – то нож острый, что ни взгляд – то пуля в грудь. Теперь-то он червячком глядит убогеньким, а прежде что было! Нептун! Небеса разверзеся!{49} Долго он меня терзал! Я и писал ему, и за пирожками бегал, перья чинил, тещу его старую по театрам водил. Всякие угождения ему делал. Табак нюхать выучился! Н-да… А всё для него… Нельзя, думаю, надо, чтоб табакерка при мне постоянно была на случай, ежели спросит. Курицын, помнишь? Приходит к нему однажды моя матушка покойница и просит его, старушечка, чтоб он сынка, меня то есть, на два дня к тетушке отпустил, наследство делить. Как накинется на нее, как вытаращит бельмы, как закричит: «Да он у тебя лентяй, да он у тебя дармоед, да чего ты, дура, смотришь!.. Под суд, говорит, попадет!» Пошла старушечка домой да и слегла, заболела от перепугу, чуть не померла в ту пору…
Алексей Иваныч вытер глаза платочком и залпом выпил стакан вина.
– Женить меня на своей собирался, да я на ту пору… к счастью, горячкой заболел, полгода в больнице пролежал. Вот что прежде было! Вот как живали! А теперь? Пфи! А теперь я… я над ним… Он мою тещу в театры водит, он мне табакерку подает и вот сигару курит. Хе-хе-хе… Я ему в жизнь перчику… перчику! Курицын!!
– Чего изволите-с? – спросил Курицын, вставая и вытягиваясь в струнку.
– Трагедию представь!
– Слушаю!
Курицын вытянулся, нахмурился, поднял вверх руку, скорчил рожу и пропел сиплым, дребезжащим голосом:
– Умри, вероломная! Крррови жажду!!{50}
Мы покатились со смеху.
– Курицын! Съешь этот самый кусок хлеба с перчиком!
Сытый Курицын взял большой кусок ржаного хлеба, посыпал его перцем и сжевал при громком смехе.
– Всякие перемены бывают, – продолжал Козулин. – Сядь, Курицын! Когда встанем, пропоешь что-нибудь… Тогда ты, а теперь я… Да… Так и померла старушечка… Да…
Козулин поднялся и покачнулся…
– А я – молчок, потому что маленький, серенький… Мучители… Варвары… А теперь зато я… Хе-хе-хе… А ну-ка ты! Ты! Тебе говорят, безусый!
И Козулин ткнул пальцем в сторону папаши.
– Бегай вокруг стола и пой петушком!
Папаша мой улыбнулся, приятно покраснел и засеменил вокруг стола. Я за ним.
– Ку-ку-реку! – заголосили мы оба и побежали быстрее.
Я бегал и думал:
«Быть мне помощником письмоводителя!»
Умный дворник{51}
Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставление. Его слушали лакеи, кучер, две горничные, повар, кухарка и два мальчика-поваренка, его родные дети. Каждое утро он что-нибудь да проповедовал, в это же утро предметом речи его было просвещение.
– И живете вы все как какой-нибудь свинячий народ, – говорил он, держа в руках шапку с бляхой{52}. – Сидите вы тут сиднем и кроме невежества не видать в вас никакой цивилизации. Мишка в шашки играет, Матрена орешки щелкает, Никифор зубы скалит. Нешто это ум? Это не от ума, а от глупости. Нисколько нет в вас умственных способностей! А почему?
– Оно действительно, Филипп Никандрыч, – заметил повар. – Известно, какой в нас ум? Мужицкий. Нешто мы понимаем?
– А почему в вас нет умственных способностей? – продолжал дворник. – Потому что нет у вашего брата настоящей точки. И книжек вы не читаете, и насчет писаний нет у вас никакого смысла. Взяли бы книжечку, сели бы себе да почитали. Грамотны небось, разбираете печатное. Вот ты, Миша, взял бы книжечку да прочел бы тут. Тебе польза, да и другим приятность. А в книжках обо всех предметах распространение. Там и об естестве найдешь, и о божестве, о странах земных. Что из чего делается, как разный народ на всех языках. И идолопоклонство тоже. Обо всем в книжках найдешь, была бы охота… А то сидит себе около печи, жрет да пьет. Чисто как скоты неподобные! Тьфу!
– Вам, Никандрыч, на часы пора, – заметила кухарка.
– Знаю. Не твое дело мне указывать. Вот, к примеру скажем, хоть меня взять. Какое мое занятие при моем старческом возрасте? Чем душу свою удовлетворить? Лучше нет, как книжка или ведомости. Сейчас вот пойду на часы. Просижу у ворот часа три{53}. И вы думаете, зевать буду или пустяки с бабами болтать? Не-ет, не таковский! Возьму с собой книжечку, сяду и буду читать себе в полное удовольствие. Так-то.
Филипп достал из шкапа истрепанную книжку и сунул ее за пазуху.
– Вот оно, мое занятие. Сызмальства привык. Ученье свет, неученье тьма – слыхали, чай? То-то…
Филипп надел шапку, крякнул и, бормоча, вышел из кухни. Он пошел за ворота, сел на скамью и нахмурился, как туча.
– Это не народ, а какие-то химики свинячие, – пробормотал он, все еще думая о кухонном населении.
Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и принялся за чтение.
«Так написано, что лучше и не надо, – подумал он, прочитав первую страницу и покрутив головой. – Умудрит же Господь!»
Книжка была хорошая, московского издания: «Разведение корнеплодов. Нужна ли нам брюква». Прочитав первые две страницы, дворник значительно покачал головой и кашлянул:
– Правильно написано!
Прочитав третью страничку, Филипп задумался. Ему хотелось думать об образовании и почему-то о французах. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись в колени. Глаза прищурились.
И видел Филипп сон. Всё, видел он, изменилось: земля та же самая, дома такие же, ворота прежние, но люди совсем не те стали. Все люди мудрые, нет ни одного дурака, и по улицам ходят всё французы и французы. Водовоз и тот рассуждает: «Я, признаться, климатом очень недоволен и желаю на градусник поглядеть», а у самого в руках толстая книга.
– А ты почитай календарь, – говорит ему Филипп.
Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и вставляет свои замечания. Филипп идет в участок, чтобы прописать жильцов{54}, – и странно, даже в этом суровом месте говорят только об умном и везде на столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к лакею Мише, толкает его и кричит: «Ты спишь? Я тебя спрашиваю: ты спишь?»
– На часах спишь, болван? – слышит Филипп чей-то громовый голос. – Спишь, негодяй, скотина?
Филипп вскочил и протер глаза; перед ним стоял помощник участкового пристава{55}.
– А? Спишь? Я оштрафую тебя, бестия! Я покажу тебе, как на часах спать, мор-рда!
Через два часа дворника потребовали в участок. Потом он опять был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам.
Филипп, нахмуренный, красный, подошел к Мише, ударил рукавицей по книге и сказал мрачно:
– Брось!
Жених{56}
Человек с сизым носом подошел к колоколу и нехотя позвонил. Публика, дотоле покойная, беспокойно забегала, засуетилась… По платформе затарахтели тележки с багажом. Над вагонами начали с шумом протягивать веревку… Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. Кто-то где-то, суетясь, разбил бутылку… Послышались прощания, громкие всхлипывания, женские голоса…
Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая девушка. Оба прощались и плакали.
– Прощай, моя прелесть! – говорил молодой человек, целуя девицу в белокурую головку. – Прощай! Я так несчастлив! Ты оставляешь меня на целую неделю! Для любящего сердца ведь это целая вечность! Про… щай… Утри свои слезки… Не плачь…
Из глаз девушки брызнули слезы, одна слезинка упала на губу молодого человека.
– Прощай, Варя! Кланяйся всем… Ах да! Кстати… Если увидишь там Мракова, то отдай ему вот эти… вот эти… Не плачь, душечка… Отдай ему вот эти двадцать пять рублей…
Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал ее Варе.
– Потрудись отдать… Я ему должен… Ах, как тяжело!
– Не плачь, Петя. В субботу я непременно… приеду… Ты же не забывай меня…
Белокурая головка склонилась на грудь Пети.
– Тебя? Тебя забыть?! Разве это возможно?
Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал глазами и заревел, как мальчишка. Варя повисла на его шее и застонала. Вошли в вагон.
– Прощай! Милая! Прелесть! Через неделю!
Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел из вагона. Он стал у окна и вынул из кармана платок, чтобы начать махать… Варя впилась в его лицо своими мокрыми глазами…
– Айдите в вагон! – скомандовал кондуктор. – Третий звонок! Пра-ашу вас!
Ударил третий звонок. Петя замахал платком. Но вдруг лицо его вытянулось… Он ударил себя по лбу и как сумасшедший вбежал в вагон.
– Варя! – сказал он задыхаясь. – Я дал тебе для Мракова двадцать пять рублей… Голубчик… Расписочку дай! Скорей! Расписочку, милая! И как это я забыл?
– Поздно, Петя! Ах! Поезд тронулся!
Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько заплакал и замахал платком.
– Пришли хоть по почте расписочку! – крикнул он кивавшей ему белокурой головке.
«Ведь этакий я дурак! – подумал он, когда поезд исчез из вида. – Даю деньги без расписки! А? Какая оплошность, мальчишество! (Вздох.) К станции, должно быть, подъезжает теперь… Голубушка!»
Из дневника помощника бухгалтера{57}
1863 г. Май, 11. Наш шестидесятилетний бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по сему случаю белою горячкой. Доктора, со свойственною им самоуверенностью, утверждают, что завтра помрет. Наконец-таки я буду бухгалтером! Это место мне уже давно обещано.
Секретарь Клещев пойдет под суд за нанесение побоев просителю, назвавшему его бюрократом. Это, по-видимому, решено.
Принимал декокт от катара желудка.
1865 г. Август, 3. У бухгалтера Глоткина опять заболела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. Если помрет, то место останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна!
Клещев вырвал у армянина вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдет.
Одна старушка (Гурьевна) вчера говорила, что у меня не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть!
1867 г. Июнь, 30. В Аравии, пишут, холера. Быть может, в Россию придет, и тогда откроется много вакансий. Быть может, старик Глоткин помрет и я получу место бухгалтера. Живуч человек! Жить так долго, по-моему, даже предосудительно.
Что бы такое от катара принять? Не принять ли цитварного семени{58}?
1870 г. Январь, 2. Во дворе Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная примета, и мы с нею до двух часов ночи говорили о том, как я, ставши бухгалтером, куплю себе енотовую шубу и шлафрок{59}. И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке – это мне не по годам, а на вдове.
Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух неприличный анекдот рассказывал и смеялся над патриотизмом члена торговой депутации{60} Понюхова. Последний, как слышно, подает в суд.
Хочу с катаром к доктору Боткину{61} сходить. Говорят, хорошо лечит…
1878 г. Июнь, 4. В Ветлянке, пишут, чума{62}. Народ так и валится, пишут. Глоткин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума, то уж наверное я буду бухгалтером.
1883 г. Июнь, 4. Умирает Глоткин. Был у него и со слезами просил прощения за то, что смерти его с нетерпением ждал. Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофий{63}.
А Клещев опять едва не угодил под суд: заложил еврею взятый напрокат фортепьян. И, несмотря на все это, имеет уже Станислава{64} и чин коллежского асессора. Удивительно, что творится на этом свете!
Инбиря 2 золотника{65}, калгана 1 1/2 зол., острой водки 1 зол., семибратней крови{66} 5 зол.; все смешав, настоять на штофе водки и принимать от катара натощак по рюмке.
Того же года. Июнь, 7. Вчера хоронили Глоткина. Увы! Не в пользу мне смерть сего старца! Снится мне по ночам в белой хламиде и кивает пальцем. И, о горе, горе мне, окаянному: бухгалтер не я, а Чаликов. Получил это место не я, а молодой человек, имеющий протекцию от тетки-генеральши. Пропали все мои надежды!
1886 г. Июнь, 10. У Чаликова жена сбежала. Тоскует, бедный. Может быть, с горя руки на себя наложит. Ежели наложит, то я – бухгалтер. Об этом уже разговор. Значит, надежда еще не потеряна, жить можно, и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представится хороший случай, только нужно посоветоваться с кем-нибудь; это шаг серьезный.
Клещев обменялся калошами с тайным советником Лирмансом. Скандал!
Швейцар Паисий посоветовал от катара сулему{67} употреблять. Попробую.
Смерть чиновника{68}
В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор{69}, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола{70}». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось… он отвел от глаз бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.
«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».
Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:
– Извините, ваше-ство, я вас обрызгал… я нечаянно…
– Ничего, ничего…
– Ради бога, извините. Я ведь… я не желал!
– Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:
– Я вас обрызгал, ваше-ство… Простите… Я ведь… не то чтобы…
– Ах, полноте… Я уж забыл, а вы всё о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.
«Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал… что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»
Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.
– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!
– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно… Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.
На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.
– Вчера в «Аркадии»{71}, ежели припомните, вашество, – начал докладывать экзекутор, – я чихнул-с и… нечаянно обрызгал… Изв…
– Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следующему просителю.
«Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит… Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объясню…»
Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:
– Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!
Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.
– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверью.
«Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»
Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.
– Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с… а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…
– Пошел вон!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.
– Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.
– Пошел вон!! – повторил генерал, затопав ногами.
В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.
Трагик{72}
Был бенефис трагика Феногенова.
Давали «Князя Серебряного»{73}. Сам бенефициант играл Вяземского, антрепренер Лимонадов – Дружину Морозова, г-жа Беобахтова – Елену… Спектакль вышел на славу. Трагик делал буквально чудеса. Он похищал Елену одной рукой и держал ее выше головы, когда проносил через сцену. Он кричал, шипел, стучал ногами, рвал у себя на груди кафтан. Отказываясь от поединка с Морозовым, он трясся всем телом, как в действительности никогда не трясутся, и с шумом задыхался. Театр дрожал от аплодисментов. Вызовам не было конца. Феногенову поднесли серебряный портсигар и букет с длинными лентами. Дамы махали платками, заставляли мужчин аплодировать, многие плакали… Но более всех восторгалась игрой и волновалась дочь исправника{74} Сидорецкого, Маша. Она сидела в первом ряду кресел, рядом со своим папашей, не отрывала глаз от сцены даже в антрактах и была в полном восторге. Ее тоненькие ручки и ножки дрожали, глазки были полны слез, лицо становилось все бледней и бледней. И немудрено: она была в театре первый раз в жизни!
– Как хорошо они представляют! Как отлично! – обращалась она к своему папаше-исправнику всякий раз, когда опускался занавес. – Как хорош Феногенов!
И если бы папаша мог читать на лицах, он прочел бы на бледном личике своей дочки восторг, доходящий до страдания. Она страдала и от игры, и от пьесы, и от обстановки. Когда в антракте полковой оркестр начинал играть свою музыку, она в изнеможении закрывала глаза.
– Папа! – обратилась она к отцу в последнем антракте. – Пойди на сцену и скажи им всем, чтобы приходили к нам завтра обедать!
Исправник пошел за сцену, похвалил там всех за хорошую игру и сказал г-же Беобахтовой комплимент:
– Ваше красивое лицо просится на полотно. О, зачем я не владею кистью!
И шаркнул ногой, потом пригласил артистов к себе на обед.
– Все приходите, кроме женского пола, – шепнул он. – Актрис не надо, потому что у меня дочка.
На другой день у исправника обедали артисты. Пришли только антрепренер Лимонадов, трагик Феногенов и комик Водолазов; остальные сослались на недосуг и не пришли. Обед прошел не скучно. Лимонадов все время уверял исправника, что он его уважает и вообще чтит всякое начальство, Водолазов представлял пьяных купцов и армян, а Феногенов, высокий, плотный малоросс (в паспорте он назывался Кныш) с черными глазами и нахмуренным лбом, продекламировал «У парадного подъезда» и «Быть или не быть?». Лимонадов со слезами на глазах рассказал о свидании своем с бывшим губернатором генералом Канючиным. Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что от Лимонадова сильно пахло жжеными перьями, а на Феногенове был чужой фрак и сапоги с кривыми каблуками, он был доволен. Они нравились его дочке, веселили ее, и этого ему было достаточно! А Маша глядела на артистов, не отрывала от них глаз ни на минуту. Никогда ранее она не видала таких умных, необыкновенных людей!
Вечером исправник и Маша опять были в театре. Через неделю артисты опять обедали у начальства и с этого раза стали почти каждый день приходить в дом исправника, то обедать, то ужинать, и Маша еще сильнее привязалась к театру и стала бывать в нем ежедневно.
Она влюбилась в трагика Феногенова. В одно прекрасное утро, когда исправник ездил встречать архиерея, она бежала с труппой Лимонадова и на пути повенчалась со своим возлюбленным. Отпраздновав свадьбу, артисты сочинили длинное чувствительное письмо и отправили его к исправнику. Сочиняли все разом.
– Ты ему мотивы, мотивы ты ему! – говорил Лимонадов, диктуя Водолазову. – Почтения ему подпусти… Они, чинодралы, любят это. Надбавь чего-нибудь этакого… чтоб прослезился…
Ответ на это письмо был самый неутешительный. Исправник отрекался от дочери, вышедшей, как он писал, «за глупого, праздношатающегося хохла, не имеющего определенных занятий».
И на другой день после того, как пришел этот ответ, Маша писала своему отцу:
«Папа, он бьет меня! Прости нас!»
Он бил ее, бил за кулисами в присутствии Лимонадова, прачки и двух ламповщиков! Он помнил, как за четыре дня до свадьбы, вечером, сидел он со всей труппой в трактире «Лондон»; все говорили о Маше, труппа советовала ему «рискнуть», а Лимонадов убеждал со слезами на глазах:
– Глупо и нерационально отказываться от такого случая! Да ведь за этакие деньги не то что жениться, в Сибирь пойти можно! Женишься, построишь свой собственный театр, и бери меня тогда к себе в труппу. Не я уж тогда владыка, а ты владыка.
Феногенов помнил об этом и теперь бормотал, сжимая кулаки:
– Если он не пришлет денег, так я из нее щепы нащеплю. Я не позволю себя обманывать, черт меня раздери!
Из одного губернского города труппа хотела уехать тайком от Маши, но Маша узнала и прибежала на вокзал после второго звонка, когда актеры уже сидели в вагонах.
– Я оскорблен вашим отцом! – сказал ей трагик. – Между нами всё кончено!
А она, несмотря на то что в вагоне был народ, согнула свои маленькие ножки, стала перед ним на колени и протянула с мольбой руки.
– Я люблю вас! – просила она. – Не гоните меня, Кондратий Иваныч! Я не могу жить без вас!
Вняли ее мольбам и, посоветовавшись, приняли ее в труппу на амплуа «сплошной графини» – так называли маленьких актрис, выходивших на сцену обыкновенно толпой и игравших роли без речей… Сначала Маша играла горничных и пажей, но потом, когда г-жа Беобахтова, цвет лимонадовской труппы, бежала, то ее сделали ingenue. Играла она плохо: сюсюкала, конфузилась. Скоро, впрочем, привыкла и стала нравиться публике. Феногенов был очень недоволен.
– Разве это актриса? – говорил он. – Ни фигуры, ни манер, а так только… одна глупость…
В одном губернском городе труппа Лимонадова давала «Разбойников» Шиллера. Феногенов изображал Франца, Маша – Амалию. Трагик кричал и трясся, Маша читала свою роль, как хорошо заученный урок, и пьеса сошла бы, как сходят вообще пьесы, если бы не случился маленький скандал. Всё шло благополучно до того места в пьесе, где Франц объясняется в любви Амалии, а она хватает его шпагу. Малоросс прокричал, прошипел, затрясся и сжал в своих железных объятиях Машу. А Маша вместо того, чтобы отпихнуть его, крикнуть ему «прочь!», задрожала в его объятиях, как птичка, и не двигалась… Она точно застыла.
– Пожалейте меня! – прошептала она ему на ухо. – О, пожалейте меня! Я так несчастна!
– Роли не знаешь! Суфлера слушай! – прошипел трагик и сунул ей в руки шпагу.
После спектакля Лимонадов и Феногенов сидели в кассе и вели беседу.
– Жена твоя ролей не учит, это ты правильно… – говорил антрепренер. – Функции своей не знает… У всякого человека есть своя функция… Так вот она ее-то не знает…
Феногенов слушал, вздыхал и хмурился, хмурился…
На другой день утром Маша сидела в мелочной лавочке и писала:
«Папа, он бьет меня! Прости нас! Вышли нам денег!»
Дочь Альбиона{75}
К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства{76} Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.
– Господа дома? – спросил предводитель.
– Никак нет-с. Барыня с детями в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.
Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул… Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.
– Охота смертная, да участь горькая! – засмеялся Отцов. – Здравствуй, Иван Кузьмич!
– А… это ты? – спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. – Приехал?
– Как видишь… А ты всё еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?
– Кой черт… Весь день ловлю, с утра… Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим, и хоть бы один черт! Просто хоть караул кричи.
– А ты наплюй. Пойдем водку пить!
– Постой… Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше… Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный{77} служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью… с чертовкой с этой…
– Но… ты с ума сошел? – спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку. – Бранишься при даме… и ее же…
– Да черт с ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани – ей всё равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.
Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку.
– Удивляюсь, брат, я немало! – продолжал Грябов. – Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они… черт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!
– Ну, перестань… Неловко… Что напал на женщину?
– Она не женщина, а девица… О женихах, небось, мечтает, чертова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью… Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на всё смотрит… Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. и не выговоришь!
Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И всё это молча, важно и медленно.
– Видал? – спросил Грябов, хохоча. – Нате, мол, вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил… Нос точно у ястреба… А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой… У меня, кажется, клюет…
Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась… Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.
– Зацепилась! – сказал он и поморщился. – За камень, должно быть… Черт возьми…
На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.
– Экая жалость! В воду лезть надо.
– Да ты брось!
– Нельзя… Под вечер хорошо ловится… Ведь этакая комиссия, прости господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо… При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!
Грябов сбросил шляпу и галстук.
– Мисс… эээ… – обратился он к англичанке. – Мисс Тфайс! Же ву при[33]… Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте… туда! Туда уходите! Слышишь?
Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.
– Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!
Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там… Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.
– Первый раз в жизни ее голос слышу… Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?
– Плюнь! Пойдем водки выпьем!
– Нельзя, теперь ловиться должно… Вечер… Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться…
Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.
– Послушай, Иван Кузьмич, – сказал предводитель, хохоча в кулак. – Это уж, друг мой, глумление, издевательство.
– Ее никто не просит не понимать! Это наука им, иностранцам!
Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха, и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами… По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.
– Надо остынуть, – сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. – Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?
– Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!
– И хоть бы сконфузилась, подлая! – сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. – Брр… холодная вода… Посмотри, как бровями двигает! Не уходит… Выше толпы стоит! Хе-хе-хе… И за людей нас не считает!
Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:
– Это, брат, ей не Англия!
Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.
Шведская спичка{78}
(Уголовный рассказ)
I
Утром 6 октября 1885 г. в канцелярию станового пристава{79} 2-го участка С-го уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали, и глаза были полны ужаса.
– С кем я имею честь говорить? – спросил его становой.
– Псеков, управляющий Кляузова. Агроном и механик.
Становой и понятые, прибывшие вместе с Псековым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротою молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор. Кое-где попадались бледные, заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчал ключ.
– Очевидно, злодеи пробрались к нему через окно, – заметил при осмотре двери Псеков.
Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно глядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню.
– Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно? – спросил становой.
– Никак нет, ваше высокородие, – сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. – Не до гляденья тут, коли все поджилки трясутся!
– Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! – вздохнул становой, глядя на окно. – Говорил я тебе, что ты плохим кончишь! Говорил я тебе, сердяге, – не слушался! Распутство не доводит до добра!
– Спасибо Ефрему, – сказал Псеков, – без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит сегодня ко мне утром и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит!» Как сказал он мне это, меня точно кто обухом… Мысль сейчас мелькнула… Он не показывался с прошлой субботы, а ведь сегодня воскресенье! Семь дней – шутка сказать!
– Да, бедняга… – вздохнул еще раз становой. – Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царствие ему небесное! Я всего ожидал! Степан, – обратился становой к одному из понятых, – съезди сию минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправнику{80}, пущай доложит! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забеги к уряднику – чего он там прохлаждается? Пущай сюда едет! А сам ты поезжай, как можно скорее, к следователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы ехал сюда! Постой, я ему письмо напишу.
Становой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай.
– Вот-с… – говорил он Псекову. – Вот-с… Дворянин, богатый человек… любимец богов, можно сказать, как выразился Пушкин{81}, а что из него вышло? Ничего! Пьянствовал, распутничал и… вот-с!.. убили.
Через два часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков (так зовут следователя), высокий, плотный старик лет шестидесяти, подвизается на своем поприще уже четверть столетия. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его непременный спутник, помощник и письмоводитель{82} Дюковский, высокий молодой человек лет двадцати шести.
– Неужели, господа? – заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки. – Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нет, это невозможно! Не-воз-мож-но!
– Подите же вот… – вздохнул становой.
– Господи ты боже мой! Да ведь я же его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, водку пил!
– Подите же вот… – вздохнул еще раз становой. Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю.
– Расступись! – крикнул урядник{83} народу.
Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.
– Прошу, господа, лишних удалиться! – сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту. – Прошу это в интересах следствия… Урядник, никого не впускать!
Чубиков, его помощник и становой открыли дверь и нерешительно, один за другим, вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцатикопеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула, другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать, становой увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и четверть{84} водки. Под столиком валялся один сапог, покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел.
– Мерзавцы! – пробормотал он, сжимая кулаки.
– А где же Марк Иваныч? – тихо спросил Дюковский.
– Прошу вас не вмешиваться! – грубо сказал ему Чубиков. – Извольте осмотреть пол! Это второй такой случай в моей практике, Евграф Кузьмич, – обратился он к становому, понизив голос. – В 1870 году был у меня тоже такой случай. Да вы, наверное, помните… Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили и вытащили труп через окно…
Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось.
– Отворяется, значит, не было заперто… Гм!.. Следы на подоконнике. Видите? Вот след от колена… Кто-то лез оттуда… Нужно будет как следует осмотреть окно.
– На полу ничего особенного не заметно, – сказал Дюковский. – Ни пятен, ни царапин. Нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она! Насколько я помню, Марк Иваныч не курил; в общежитии же он употреблял серные спички, отнюдь же не шведские{85}. Эта спичка может служить уликой…
– Ах… замолчите, пожалуйста! – махнул рукой следователь. – Лезет со своей спичкой! Не терплю горячих голов! Чем спички искать, вы бы лучше постель осмотрели!
По осмотре постели Дюковский отрапортовал:
– Ни кровяных, ни каких-либо других пятен… Свежих разрывов также нет. На подушке следы зубов. Одеяло облито жидкостью, имеющею запах пива и вкус его же… Общий вид постели дает право думать, что на ней происходила борьба.
– Без вас знаю, что борьба! Вас не о борьбе спрашивают. Чем борьбу-то искать, вы бы лучше…
– Один сапог здесь, другого же нет налицо.
– Ну, так что же?
– А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. Не успел он снять другого сапога, как…
– Понес!.. И почем вы знаете, что его задушили?
– На подушке следы зубов. Сама подушка сильно помята и отброшена от кровати на два с половиной аршина{86}.
– Толкует, пустомеля! Пойдемте-ка лучше в сад. Вы бы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться… Это я и без вас сделаю.
Придя в сад, следствие прежде всего занялось осмотром травы. Трава под окном была помята. Куст репейника под окном у самой стены оказался тоже помятым. Дюковскому удалось найти на нем несколько поломанных веточек и кусочек ваты. На верхних головках были найдены тонкие волоски темно-синей шерсти.
– Какого цвета был его последний костюм? – спросил Дюковский у Псекова.
– Желтый, парусинковый.
– Отлично. Они, значит, были в синем.
Несколько головок репейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехали исправник Арцыбашев-Свистаковский и доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство; доктор же, высокий и в высшей степени тощий человек со впалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил:
– А сербы опять взбудоражились! Что им нужно, не понимаю! Ах, Австрия, Австрия! Твои это дела!{87}
Осмотр окна снаружи не дал решительно ничего; осмотр же травы и ближайших к окну кустов дал следствию много полезных указаний. Дюковскому удалось, например, проследить на траве длинную темную полосу, состоявшую из пятен и тянувшуюся от окна на несколько сажен{88} вглубь сада. Полоса заканчивалась под одним из сиреневых кустов большим темно-коричневым пятном. Под тем же кустом был найден сапог, который оказался парой сапога, найденного в спальне.
– Это давнишняя кровь! – сказал Дюковский, осматривая пятна.
Доктор при слове «кровь» поднялся и лениво, мельком взглянул на пятна.
– Да, кровь, – пробормотал он.
– Значит, не задушен, коли кровь! – сказал Чубиков, язвительно поглядев на Дюковского.
– В спальне его задушили, здесь же, боясь, чтобы он не ожил, его ударили чем-то острым. Пятно под кустом показывает, что он лежал там относительно долгое время, пока они искали способов, как и на чем вынести его из сада.
– Ну а сапог?
– Этот сапог еще более подтверждает мою мысль, что его убили, когда он снимал перед сном сапоги. Один сапог он снял, другой же, то есть этот, он успел снять только наполовину. Наполовину снятый сапог во время тряски и падения сам снялся…
– Сообразительность, посмотришь! – усмехнулся Чубиков. – Так и режет, так и режет! И когда вы отучитесь лезть со своими рассуждениями? Чем рассуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы с кровью!
По осмотре и снятии плана местности следствие отправилось к управляющему писать протокол и завтракать. За завтраком разговорились.
– Часы, деньги и прочее… всё цело, – начал разговор Чубиков. – Как дважды два четыре, убийство совершено не с корыстными целями.
– Совершено человеком интеллигентным, – вставил Дюковский.
– Из чего же это вы заключаете?
– К моим услугам шведская спичка, употребления которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют этакие спички только помещики, и то не все. Убивал, кстати сказать, не один, а минимум трое: двое держали, а третий душил. Кляузов был силен, и убийцы должны были знать это.
– К чему могла послужить ему его сила, ежели он, положим, спал?
– Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит, не спал.
– Нечего выдумывать! Ешьте лучше!
– А по моему понятию, ваше высокоблагородие, – сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар, – пакость эту самую сделал не кто другой, как Николашка.
– Весьма возможно, – сказал Псеков.
– А кто этот Николашка?
– Баринов камердинер, ваше высокоблагородие, – отвечал Ефрем. – Кому другому, как не ему? Разбойник, ваше высокоблагородие! Пьяница и распутник такой, что и не приведи царица небесная! Барину он водку завсегда носил, барина он укладывал в постелю… Кому же, как не ему? А еще тоже, смею предположить вашему высокоблагородию, похвалялся раз, шельма, в кабаке, что барина убьет. Из-за Акульки всё вышло, из-за бабы… Была у него солдатка такая… Барину она пондравилась, они ее к себе приблизили, ну а он… известно, осерчал… На кухне пьяный валяется теперь. Плачет… Врет, что барина жалко…
– А действительно, из-за Акульки можно осерчать, – сказал Псеков. – Она солдатка, баба, но… Недаром Марк Иваныч прозвал ее Наной. В ней есть что-то, напоминающее Нану{89}… привлекательное…
– Видал… Знаю… – сказал следователь, сморкаясь в красный платок.
Дюковский покраснел и опустил глаза. Становой забарабанил пальцем по блюдечку. Исправник закашлялся и полез зачем-то в портфель. На одного только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминание об Акульке и Нане. Следователь приказал привести Николашку. Николашка, молодой долговязый парень с длинным рябым носом и впалой грудью, в пиджаке с барского плеча, вошел в комнату Псекова и поклонился следователю в ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Сам он был пьян и еле держался на ногах.
– Где барин? – спросил его Чубиков.
– Убили, ваше высокоблагородие.
Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал.
– Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где?
– Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали.
– Гм!.. О результатах следствия уже известно на кухне… Скверно. Любезный, где ты был в ту ночь, когда убили барина? В субботу то есть?
Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался.
– Не могу знать, ваше высокоблагородие, – сказал он. – Был выпимши и не помню.
– Alibi! – шепнул Дюковский, усмехаясь и потирая руки.
– Так-с. Ну а отчего это у барина под окном кровь?
Николашка задрал вверх голову и задумался.
– Скорей думай! – сказал исправник.
– Сичас. Кровь эта от пустяка, ваше высокоблагородие. Курицу я резал. Я ее резал очень просто, как обыкновенно, а она возьми да и вырвись из рук, возьми да побеги… От этого самого и кровь.
Ефрем показал, что действительно Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно.
– Alibi, – усмехнулся Дюковский. – И какое дурацкое alibi!
– С Акулькой знавался?
– Был грех.
– А барин у тебя сманил ее?
– Никак нет. У меня Акульку отбили вот они-с, господин Псеков, Иван Михайлыч-с, а у Ивана Михайлыча отбил барин. Так дело было.
Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюковский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул. На управляющем увидел он синие панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул на Псекова.
– Ступай! – сказал он Николашке. – А теперь позвольте вам задать один вопрос, г. Псеков. Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь?
– Да, в десять часов я ужинал с Марком Иванычем.
– А потом?
Псеков смутился и встал из-за стола.
– Потом… потом… Право, не помню, – забормотал он. – Я много выпил тогда… Не помню, где и когда уснул… Чего вы на меня все так смотрите? Точно я убил!
– Где вы проснулись?
– Проснулся в людской кухне на печи… Все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю…
– Вы не волнуйтесь… Акулину вы знали?
– Ничего нет тут особенного…
– От вас она перешла к Кляузову?
– Да… Ефрем, подай еще грибов! Хотите чаю, Евграф Кузьмич?
Наступило молчание – тяжелое, жуткое, длившееся минут пять. Дюковский молчал и не отрывал своих колючих глаз от побледневшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь.
– Нужно будет, – сказал он, – сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного, Марьей Ивановной. Не даст ли она нам каких-либо указаний.
Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марью Ивановну, сорокапятилетнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокардами, она побледнела.
– Приношу прежде всего извинение за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения, – начал, расшаркиваясь, галантный Чубиков. – Мы к вам с просьбой. Вы, конечно, уже слышали… Существует подозрение, что ваш братец, некоторым образом, убит. Божья воля, знаете ли… Смерти не миновать никому, ни царям, ни пахарям. Не можете ли вы помочь нам каким-либо указанием, разъяснением…
– Ах, не спрашивайте меня! – сказала Марья Ивановна, еще более бледнея и закрывая лицо руками. – Ничего я не могу вам сказать! Ничего! Умоляю вас! Я ничего… Что я могу? Ах нет, нет… ни слова про брата! Умирать буду, не скажу!
Марья Ивановна заплакала и ушла в другую комнату. Следователи переглянулись, пожали плечами и ретировались.
– Чертова баба! – выругался Дюковский, выходя из большого дома. – По-видимому, что-то знает и скрывает. И у горничной что-то на лице написано… Постойте же, черти! Все разберем!
Вечером Чубиков и его помощник, освещенные бледнолицей луной, возвращались к себе домой; они сидели в шарабане и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге, болтун же Дюковский молчал в угоду старику. В конце пути, однако, помощник не вынес молчания и заговорил.
– Что Николашка причастен в этом деле, – сказал он, – non dubitandum est[34]. И по роже его видно, что он за штука… Alibi выдает его с руками и ногами. Нет также сомнения, что в этом деле не он инициатор. Он был только глупым, нанятым орудием. Согласны? Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный Псеков. Синие панталоны, смущение, лежанье на печи от страха после убийства, alibi и Акулька.
– Мели, Емеля, твоя неделя. По-вашему, значит, тот и убийца, кто Акульку знал? Эх, вы, горячка! Соску бы вам сосать, а не дела разбирать! Вы тоже за Акулькой ухаживали, – значит, и вы участник в этом деле?
– У вас тоже Акулька месяц в кухарках жила, но… я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я играл с вами в карты, видел вас, иначе бы я и к вам придрался. Дело, батенька, не в бабе. Дело в подленьком, гаденьком, скверненьком чувстве… Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он верх взял. Самолюбие, видите ли… Мстить захотелось. Потом-с… Толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он губами причмокивал, когда Акульку с Наной сравнивал? Что он, мерзавец, сгорает страстью – несомненно! Итак: оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое в наших руках; но кто же третий? Николашка и Псеков держали. Кто же душил? Псеков робок, конфузлив, вообще трус. Николашки же не умеют душить подушкой; они действуют топором, обухом… Душил кто-то третий, но кто он?
Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. Молчал он до тех пор, пока шарабан не подъехал к дому следователя.
– Эврика! – сказал он, входя в домик и снимая пальто. – Эврика, Николай Ермолаич! Не знаю только, как мне это раньше в голову не пришло. Знаете, кто третий?
– Отстаньте, пожалуйста! Вон ужин готов. Садитесь ужинать!
Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал:
– Так знайте же, что третий, действовавший заодно с негодяем Псековым и душивший, – была женщина! Да-с! Я говорю о сестре убитого, Марье Ивановне!
Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского.
– Вы… не тово? Голова у вас… не тово? Не болит?
– Я здоров. Хорошо, пусть я с ума сошел, но чем вы объясните ее смущение при нашем появлении? Как вы объясните ее нежелание давать показания? Допустим, что это пустяки – хорошо! ладно! – так вспомните про их отношения! Она ненавидела своего брата! Она староверка, он развратник, безбожник… Вот где гнездится ненависть! Говорят, что он успел убедить ее в том, что он аггел сатаны. При ней он занимался спиритизмом!
– Ну, так что же?
– Вы не понимаете? Она, староверка, убила его из фанатизма! Мало того что она убила плевел, развратника, она освободила мир от антихриста – и в этом, мнит она, ее заслуга, ее религиозный подвиг! О, вы не знаете этих старых дев, староверок! Прочитайте-ка Достоевского! А что пишут Лесков, Печерский!..{90} Она и она, хоть зарежьте! Она душила! О, ехидная баба! Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? Дай, мол, стану и буду молиться, а они подумают, что я покойна, что я не ожидаю их! Это метод всех преступников-новичков. Голубчик, Николай Ермолаич! Родной мой! Отдайте мне это дело! Дайте мне лично довести его до конца! Милый мой! Я начал, я и до конца доведу!
Чубиков замотал головой и нахмурился.
– Мы и сами умеем трудные дела разбирать, – сказал он. – А ваше дело не лезть, куда не следует. Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют, – вот ваше дело!
Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел.
– Умница, шельма! – пробормотал, глядя ему вслед, Чубиков. – Бо-ольшая умница! Горяч только некстати. Нужно будет ему на ярмарке портсигар в презент купить…
На другой день утром к следователю был приведен из Кляузовки молодой парень с большой головой и заячьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание.
– Был я выпимши, – сказал он. – До полночи у кумы просидел. Идучи домой, спьяна полез в реку купаться. Купаюсь я… глядь! Идут по плотине два человека и что-то черное несут. «Тю!» – крикнул я на них. Они испужались и что есть духу давай стрекача к макарьевским огородам. Побей меня бог, коли то не барина волокли!
В тот же день перед вечером Псеков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок.
II
Прошло двенадцать дней.
Было утро. Следователь Николай Ермолаич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал «кляузовское» дело; Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол.
– Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова, – говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. – Отчего же вы не хотите убедиться в виновности Марьи Ивановны? Вам мало улик, что ли?
– Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится как-то… Улик настоящих нет, а всё какая-то философия… Фанатизм, то да се…
– А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни!.. Юристы! Так я же вам докажу! Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела! Быть вашей Марье Ивановне в Сибири! Я докажу! Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное… Оно покажет вам, как права моя философия! Дайте мне только поездить.
– О чем это вы?
– Про шведскую спичку-с… Забыли? А я не забыл! Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого! Зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Марья Ивановна. И я докажу!.. Дайте только поездить по уезду, поразузнать…
– Ну, ладно, садитесь… Давайте допрос делать.
Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаги.
– Ввести Николая Тетехова! – крикнул следователь.
Ввели Николашку. Николашка был бледен и худ как щепка. Он дрожал.
– Тетехов! – начал Чубиков. – В 1879 г. вы судились у судьи 1-го участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В 1882 г. вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму… Нам всё известно…
На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его. Но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели.
– Ввести Псекова! – приказал следователь.
Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия.
– Садитесь, Псеков, – сказал Чубиков. – Надеюсь, что сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам…
– Ничего я не знаю… И улик ваших не знаю, – прошептал Псеков.
– Напрасно-с! Ну, так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне Кляузова и пили с ним водку и пиво (Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжение всего монолога). Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой на голову. В это время из сеней вошла известная вам женщина в черном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не так ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. Но далее… Задушив его и убедившись, что он не дышит, вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтобы он не ожил, вы ударили его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав, вы понесли его… Перенесли через плетень… Потом пошли по дороге… Далее следует плотина. Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что с вами? Псеков, бледный как полотно, поднялся и зашатался.
– Мне душно! – сказал он. – Хорошо… пусть… Только я выйду… пожалуйста.
Псекова вывели.
– Наконец-таки сознался! – сладко потянулся Чубиков. – Выдал себя! Как я его ловко, однако! Так и засыпал…
– И женщину в черном не отрицает! – засмеялся Дюковский. – Но, однако, меня ужасно мучит шведская спичка! Не могу долее терпеть! Прощайте! Еду.
Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает…
– Жила я только с вами, а больше ни с кем! – сказала она.
В шестом часу вечера воротился Дюковский. Он был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости.
– Veni, vidi, vici![35] – сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. – Клянусь вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, черт вас возьми совсем! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смешно и грустно! В ваших руках уже есть трое… не так ли? Я нашел четвертого или, вернее – четвертую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам я отдал бы десять лет жизни! Но… слушайте… Поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду и столько же раз получал ее обратно. Валандался целый день и только час тому назад набрел на искомое. За три версты отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек. Одной коробки нет как нет… Сейчас: «Кто купил эту коробку?» Такая-то… «Пондравилось ей… пшикают». Голубчик мой! Николай Ермолаич! Что может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габорио{91}, так уму непостижимо! С сегодняшнего дня начинаю уважать себя!.. Уффф… Ну, едем!
– Куда это?
– К ней, к четвертой… Поспешить нужно, иначе… иначе я сгорю от нетерпения! Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна – вот кто! Она купила ту коробку спичек!
– Вы… ты… вы… с ума сошел?
– Очень понятно! Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Но, однако, поедемте… Скорее, а то уже темнеет… Поедемте!
– Я еще не сошел с ума настолько, чтобы из-за какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благородную, честную женщину!
– Благородная, честная… Тряпка вы после этого, а не следователь! Никогда не осмеливался бранить вас, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халат! Ну, голубчик, Николай Ермолаич! Прошу вас!
Следователь махнул рукой и плюнул.
– Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах правосудия! Умоляю, наконец! Сделайте мне одолжение хоть раз в жизни!
Дюковский стал на колени.
– Николай Ермолаич! Ну, будьте так добры! Назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины! Дело ведь какое! Делото! Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! Следователем по особо важным делам вас сделают! Поймите вы, неразумный старик!
Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе.
– Ну, черт с тобой! – сказал он. – Едем.
Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станового.
– Какие мы свиньи! – сказал Чубиков, берясь за звонок. – Беспокоим людей.
– Ничего, ничего… Не робейте… Скажем, что у нас рессора лопнула.
Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина, лет двадцати трех, с черными как смоль бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна.
– Ах… очень приятно! – сказала она, улыбаясь во все лицо. – Как раз к ужину поспели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома… У попа засиделся… Но мы и без него обойдемся… Садитесь! Вы это со следствия?..
– Да-с… У нас, знаете ли, рессора лопнула, – начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло.
– Вы сразу… ошеломите! – шепнул ему Дюковский. – Ошеломите!
– Рессора… Мм… да… Взяли и заехали.
– Ошеломите, вам говорят! Догадается, коли канителить будете!
– Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь! – пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. – Не могу! Ты заварил кашу, ты и расхлебывай!
– Да, рессора… – начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. – Мы заехали не для того, чтобы… эээ… ужинать, и не к Евграфу Кузьмичу. Мы приехали затем, чтобы спросить вас, милостивая государыня: где находится Марк Иванович, которого вы убили?
– Что? Какой Марк Иваныч? – залепетала становиха, и ее большое лицо вдруг, в один миг, залилось алой краской. – Я… не понимаю.
– Спрашиваю вас именем закона! Где Кляузов? Нам все известно!
– Через кого? – спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского.
– Извольте указать нам – где он?!
– Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал?
– Нам всё известно-с! Я требую именем закона!
Следователь, ободренный замешательством становихи, подошел к ней и сказал:
– Укажите нам, и мы уйдем. Иначе же мы…
– На что он вам?
– К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать! Вы дрожите, смущены… Да, он убит, и, если хотите, убит вами! Сообщники выдали вас!
Становиха побледнела.
– Пойдемте, – сказала она тихо, ломая руки. – Он у меня в бане спрятан. Только, ради бога, не говорите мужу! Умоляю вас! Он не вынесет.
Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно. Накрапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями – маленький домик с покривившеюся трубой.
– Это баня, – сказала становиха. – Но умоляю вас, не говорите никому!
Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок.
– Приготовьте огарок и спички! – шепнул следователь своему помощнику.
Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса.
– Дальше!
Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутыль с водкой, тарелки, ножи, вилки.
– Но где же… этот? Где убитый? – спросил следователь.
– Он на верхней полочке! – прошептала становиха, всё еще бледная и дрожащая.
Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп…
– Нас морочат, черт возьми! – закричал Дюковский. – Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван. Эй, кто вы, черт вас возьми?
Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову.
– Кто это лезет? – спросил охрипший, тяжелый бас. – Тебе что нужно?
Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и вскрикнул. В багровом носе, взъерошенных, нечесаных волосах, в черных как смоль усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал корнета Кляузова.
– Вы… Марк… Иваныч?! Не может быть!
Следователь взглянул наверх и замер…
– Это я, да… А это вы, Дюковский! Какого дьявола вам здесь нужно? А там, внизу, что еще за рожа? Батюшки, следователь! Какими судьбами?
Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь.
– Какими путями? Выпьем, черт возьми! Тра-та-ти-то-том… Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, всё равно! Выпьем!
Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки.
– То есть, я тебя не понимаю, – сказал следователь, разводя руками. – Ты это или не ты?
– Будет тебе… Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку! Проведемте ж, друзья-я, эту… Чего смотрите? Пейте!
– Все-таки я не могу понять, – сказал следователь, машинально выпивая водку. – Зачем ты здесь?
– Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?
Кляузов выпил и закусил ветчиной.
– Живу у становихи, как видишь. В глуши, в дебрях, как домовой какой-нибудь. Пей! Жалко, брат, мне ее стало! Сжалился, ну и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником… Питаюсь. На будущей неделе думаю убраться отсюда… Уж надоело…
– Непостижимо! – сказал Дюковский.
– Что же тут непостижимого?
– Непостижимо! Ради бога, как попал ваш сапог в сад?
– Какой сапог?
– Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду.
– А вам для чего это знать? Не ваше дело… Да пейте же, черт вас возьми. Разбудили, так пейте! Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, подшофе… Она приходит под окно и начинает ругаться… Знаешь, как бабы… вообще… Я, спьяна, возьми да и пусти в нее сапогом… Ха-ха… Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь… Любовь, водка и закуска! Но куда вы? Чубиков, куда ты?
Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такою скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице.
Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал «Ниву».
– Дела-то какие на белом свете! – сказал он, встречая следователя, с грустной улыбкой. – Опять Австрия того!.. И Гладстон{92} тоже некоторым образом…
Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся.
– Скелет чертов! Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своею политикой! Не до политики тут! А тебе, – обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком, – а тебе… во веки веков не забуду!
– Но… шведская спичка ведь! Мог ли я знать!
– Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я из тебя черт знает что сделаю! Чтобы и ноги твоей не было!
Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел.
– Пойду запью! – решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир.
Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной.
– Зачем следователь приезжал? – спросил муж.
– Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены!
– Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! – вздохнул становой, поднимая вверх глаза. – Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра! Говорил я тебе, – не слушался!
В ландо{93}
Дочери действительного статского советника Брындина, Кити и Зина, катались по Невскому в ландо. С ними каталась и их кузина Марфуша, маленькая шестнадцатилетняя провинциалка-помещица, приехавшая на днях в Питер погостить у знатной родни и поглядеть на «достопримечательности». Рядом с нею сидел барон Дронкель, свежевымытый и слишком заметно вычищенный человечек в синем пальто и синей шляпе. Сестры катались и искоса поглядывали на свою кузину. Кузина и смешила и компрометировала их. Наивная девочка, отродясь не ездившая в ландо и не слыхавшая столичного шума, с любопытством рассматривала обивку в экипаже, лакейскую шляпу с галунами, вскрикивала при каждой встрече с вагоном конножелезки… А ее вопросы были еще наивнее и смешнее…
– Сколько получает жалованья ваш Порфирий? – спросила она между прочим, кивнув на лакея.
– Кажется, сорок в месяц…
– Не-уже-ли?! Мой брат Сережа, учитель, получает только тридцать! Неужели у вас в Петербурге так дорого ценится труд?
– Не задавайте, Марфуша, таких вопросов, – сказала Зина, – и не глядите по сторонам. Это неприлично. А вон поглядите, – поглядите искоса, а то неприлично, – какой смешной офицер! Ха-ха! Точно уксусу выпил! Вы, барон, бываете таким, когда ухаживаете за Амфиладовой.
– Вам, mesdames, смешно и весело, а меня терзает совесть, – сказал барон. – Сегодня у наших служащих панихида по Тургеневе, а я по вашей милости не поехал. Неловко, знаете ли… Комедия, а все-таки следовало бы поехать, показать свое сочувствие… идеям… Mesdames, скажите мне откровенно, приложа руку к сердцу, нравится вам Тургенев?
– О да… понятно! Тургенев ведь…
– Подите же вот… Всем, кого ни спрошу, нравится, а мне… не понимаю! Или у меня мозга нет, или же я такой отчаянный скептик, но мне кажется преувеличенной, если не смешной, вся эта галиматья, поднятая из-за Тургенева! Писатель он, не стану отрицать, хороший… Пишет гладко, слог местами даже боек, юмор есть, но… ничего особенного… Пишет, как и все русские писаки… Как и Григорьевич, как и Краевский… Взял я вчера нарочно из библиотеки «Заметки охотника», прочел от доски до доски и не нашел решительно ничего особенного… Ни самосознания, ни про свободу печати… никакой идеи! А про охоту так и вовсе ничего нет. Написано, впрочем, недурно!
– Очень даже недурно! Он очень хороший писатель! А как он про любовь писал! – вздохнула Кити. – Лучше всех!
– Хорошо писал про любовь, но есть и лучше. Жан Ришпен, например. Что за прелесть! Вы читали его «Клейкую»? Другое дело! Вы читаете и чувствуете, как всё это на самом деле бывает! А Тургенев… что он написал? Идеи всё… но какие в России идеи? Все с иностранной почвы! Ничего оригинального, ничего самородного!
– А природу как он описывал!
– Не люблю я читать описания природы. Тянет, тянет… «Солнце зашло… Птицы запели… Лес шелестит…» Я всегда пропускаю эти прелести. Тургенев хороший писатель, я не отрицаю, но не признаю за ним способности творить чудеса, как о нем кричат. Дал будто толчок к самосознанию, какую-то там политическую совесть в русском народе ущипнул за живое… Не вижу всего этого… Не понимаю…
– А вы читали его «Обломова»? – спросила Зина. – Там он против крепостного права!
– Верно… Но ведь и я же против крепостного права! Так и про меня кричать?
– Попросите его, чтоб он замолчал! Ради бога! – шепнула Марфуша Зине.
Зина удивленно поглядела на наивную, робкую девочку. Глаза провинциалки беспокойно бегали по ландо, с лица на лицо, светились нехорошим чувством и, казалось, искали, на кого бы излить свою ненависть и презрение. Губы ее дрожали от гнева.
– Неприлично, Марфуша! – шепнула Зина. – У вас слезы!
– Говорят также, что он имел большое влияние на развитие нашего общества, – продолжал барон. – Откуда это видно? Не вижу этого влияния, грешный человек. На меня, по крайней мере, он не имел ни малейшего влияния.
Ландо остановилось возле подъезда Брындиных.
Толстый и тонкий{94}
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флёр-д’оранжем{95}. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком – его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын.
– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!
– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах…{96} лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
– В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий. – Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом{97} за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом{98} за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
– Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на друга. – Служишь где? Дослужился?
– Служу, милый мой! Коллежским асессором{99} уже второй год и Станислава имею{100}. Жалованье плохое… ну да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником{101} по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну а ты как? Небось, уже статский? А?
– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. – Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею{102}.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…
– Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.
– Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание!
– Помилуйте… Что вы-с… – захихикал тонкий, еще более съеживаясь. – Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.
Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
Начальник станции{103}
Начальника станции Дребезги зовут Степаном Степанычем, а фамилия его Шептунов. С ним в минувшее лето случился маленький скандал. Этот скандал, несмотря на свою видимую ничтожность, обошелся ему очень дорого. Благодаря ему он потерял свою новую форменную фуражку и веру в человечество.
Летом поезд № 8 проходил через его станцию в 2 часа 40 минут ночи. Время самое неудобное. Вместо того чтобы спать, Степан Степаныч должен был гулять по платформе и торчать около телеграфистки почти до утра.
Его помощник, Алеутов, каждое лето ездил куда-то жениться, и бедному Шептунову одному приходилось дежурить. Большое свинство со стороны судьбы! Впрочем, он скучал не каждую ночь. Иногда ночью приходила к нему на станцию из соседнего княжеского имения жена управляющего Назара Кузьмича Куцапетова, Марья Ильинична. Дама эта была не особенно молода, не особенно красива, но, господа, в темноте и столб за городового примешь, да, кстати сказать, скука такая же не тетка, как и голод: все сойдет! Когда Куцапетова приходила на станцию, Шептунов брал ее обыкновенно под руку, спускался с нею вниз с платформы и шел к товарным вагонам. Там, у вагонов, в ожидании поезда № 8, он начинал свои клятвы и продолжал их вплоть до свистка.
Так в одну прекрасную ночь стоял он с Марьей Ильиничной у вагонов и ожидал поезд. По безоблачному небу тихо, чуть заметно плыла луна. Она заливала своим светом станцию, поле, необозримую даль… Кругом было тихо, спокойно… Шептунов держал Марью Ильиничну за талию и молчал. Она тоже молчала. Оба были в каком-то сладостном, тихом, как лунный свет, забытьи…
– Какая чудная погода! – изредка вздыхал Шептунов. – Ты не озябла?
Вместо ответа она теснее и теснее прижималась к его форменному сюртуку.
В 2 часа 20 минут начальник станции поглядел на часы и сказал:
– Скоро поезд придет… Давай, Маша, глядеть на путь… Кто из нас первый увидит огни поезда, тот, значит, дольше любить будет… Давай глядеть…
Они вперили свой взгляд в глубокую даль. Кое-где на бесконечном пути ласково мигали огоньки. Поезда не было еще видно… Вглядываясь в даль, Шептунов увидел нечто другое… Он увидел две длинные тени, шагавшие через шпалы… Тени двигались прямо к нему и делались все больше и шире… Одна тень, по-видимому, исходила от человеческой фигуры, другая – от длинной палки, которую держала фигура…
Тень приближалась. Скоро послышалось, что насвистывали из «Мадам Анго»{104}.
– Не ходить по рельсам! Запрещено… – крикнул Шептунов. – Долой с рельсов!
– Не распоряжайся, сволочь! – послышался ответ.
Обруганный Шептунов рванулся вперед, но в это время Марья Ильинична ухватилась за его фалды.
– Ради бога, Степа! – зашептала она. – Это мой муж! Назарка!
Не успела она это сказать, как Куцапетов стоял уже перед оскорбленным начальником станции. Оскорбленный Шептунов вскрикнул, ударился головой о что-то железное и нырнул под вагон. Выползши на животе из-под вагона, он побежал по полотну. Прыгая через шпалы, спотыкаясь о рельсы, он, как сумасшедший, как собака, которой привязали к хвосту колючую палку, полетел к водокачалке…
«Какая у него, однако… палка!» – думал он, улепетывая.
Добежав до водокачалки, он остановился, чтобы перевести дух, но в это время послышались шаги. Оглянулся он и увидел сзади себя быстро двигавшуюся тень человека с тенью палки. Объятый паническим страхом, он побежал далее.
– Погодите! Постойте! – услышал он за собой голос Куцапетова. – Стойте! Берегитесь! Поезд!
Шептунов поглядел вперед и увидел перед собой поезд с парой страшных, огненных глаз… Волосы его стали дыбом… Сердце застучало и вдруг замерло… Он собрал все свои силы и прыгнул куда глаза глядят… Секунды четыре он летел в воздухе, потом упал на что-то твердое и покатое и покатился вниз, цепляясь за репейник.
«Насыпь, – подумал он. – Ну, это ничего. Лучше с насыпи скатиться, чем дворянину принять побои от хама».
Через минуту возле его правого уха ступил в лужу большой, тяжеловесный сапог. По спине у него заходили ощупывающие руки…
– Это вы? – услышал он голос Куцапетова. – Вы, Степан Степаныч?
– Пощадите! – простонал Шептунов.
– Что с вами, ангел мой? Чего вы испужались? Это я, Куцапетов! Неужели не узнали? Я бежал за вами, бежал… Кричал, кричал… Чуть было под поезд не попали, ангел мой… Маша, как увидела, что вы побегли, тоже испужалась и на платформе теперь без чувств лежит… Вы, может быть, испужались, что я вас сволочью назвал? Вы не обижайтесь… Я вас за стрелочника принял…
– Ах, не издевайтесь… Если мстить, то мстите поскорей… Я в ваших руках… – простонал Шептунов. – Бейте… увечьте…
– Гм… Что с вами, батюшка? Ведь я к вам по делу шел, благодетель! Я и бежал за вами, чтобы о деле поговорить…
Куцапетов помолчал и продолжал:
– Дело важное-с… Маша моя говорила мне, что вы из-за удовольствия изволите с ней путаться. Я касательно этого ничего-с, потому что мне от Марьи Ильинишны приходится в общем сюжете кукиш с маслом, но ежели рассуждать по справедливости, то соблаговолите со мной договор сделать, потому что я муж, глава все-таки… по писанию. Князь Михайла Дмитрич, когда с ней путались, мне в месяц две четвертные выдавали. А вы сколько пожалуете? Уговор лучше денег. Да вы встаньте-с…
Шептунов поднялся. Чувствуя себя поломанным, исковерканным, он поплелся к насыпи…
– Сколько вы пожалуете? – продолжал Куцапетов. – С вас я четвертную возьму… И потом-с, хотел попросить у вас, нет ли у вас местечка моему племяннику…
Шептунов, ничего не слыша и не видя, кое-как доплелся до станции и повалился в постель. Проснувшись на другой день, он не нашел своей форменной фуражки и одного погона.
Ему и до сих пор совестно.
Жалобная книга{105}
Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:
«Милостивый государь! Проба пера?!»
Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:
«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я – морда твоя».
«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».
«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».
«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».
«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».
«Никандров социалист!»
«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка… (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим… (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки… (далее все зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».
«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».
«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».
«Господа! Тельцовский шуллер!»
«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай жандарм!»
«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».
«Лопай, что дают»…
«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу».
«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».
«Добродетелью украшайтесь».
«Катинька, я вас люблю безумно!»
«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».
«Хоть ты и седьмой, а дурак».
Марья Ивановна{106}
В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет двадцати трех. Звали ее Марьей Ивановной Однощекиной.
– Какое шаблонное, стереотипное начало! – воскликнет читатель. – Вечно эти господа начинают роскошно убранными гостиными! Читать не хочется!
Извиняюсь перед читателем и иду далее. Перед дамой стоял молодой человек лет двадцати шести, с бледным, несколько грустным лицом.
– Ну, вот, вот… Так я и знал, – рассердится читатель. – Молодой человек и непременно двадцати шести лет! Ну а дальше что? Известно что… Он попросит поэзии, любви, а она ответит прозаической просьбой купить браслет. Или же наоборот, она захочет поэзии, а он… И читать не стану!
Но я все-таки продолжаю. Молодой человек не отрывал глаз от молодой женщины и шептал:
– Я люблю тебя, чудная, даже и теперь, когда от тебя веет холодом могилы!
Тут уж читатель выйдет из терпения и начнет браниться:
– Черт их подери! Угощают публику разной чепухой, роскошно убранными гостиными да какими-то Марьями Ивановнами с могильным холодом!
Кто знает, может быть, вы и правы в своем гневе, читатель. А может быть, вы и неправы. Наш век тем и хорош, что никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Даже присяжные, судящие какого-нибудь человечка за кражу, не знают, кто виноват: человечек ли, деньги ли, что плохо лежали, сами ли они, присяжные, виноваты, что родились на свет. Ничего не разберешь на этой земле!{107}
Во всяком случае, если вы правы, то и я не виноват. Вы находите, что этот мой рассказ не интересен, не нужен. Допустим, что вы правы и что я виноват… Но тогда допустите хоть смягчающие вину обстоятельства.
В самом деле, могу ли я писать интересное и только нужное, если мне скучно и если вот уже две недели у меня перемежающаяся лихорадка?{108}
– Не пишите, если у вас лихорадка.
Так-то так… Но, чтобы долго не разговаривать, представьте себе, что у меня лихорадка и дурное настроение; в это же самое время у другого литератора тоже лихорадка, у третьего беспокойная жена и болят зубы, четвертый страдает меланхолией. Мы все четверо не пишем. Чем же прикажете наполнить номера газет и журналов? Не теми ли произведениями, которые вы, читатели, шлете ежедневно пудами{109} в редакции наших газет и журналов? Из ваших тяжелых пудов едва ли можно выбрать маленький золотничок{110}, да и то с великой натяжкой, с великим усилием.
Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица, у нас такие же нервы, такие же внутренности, нас мучает то же самое, что и вас, скорбей у нас несравненно больше, чем радостей, и если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь повод к тому, чтобы не работать. Каждый день, уверяю вас! Но если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.
А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но все же она есть и делает свое дело. Без нее нельзя… Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками{111}, нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде: левой! правой!
Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать по пальцам. А где мало служащих, там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время. Нельзя и не принято.
– Но все-таки могли бы сюжет избрать посерьезнее! Ну что толку в этой Марье Ивановне, право? Мало ли кругом таких явлений, мало ли кругом вопросов, которые…
Вы правы, много и явлений, и вопросов, но укажите, что собственно вам нужно. Если вы так возмущены, то укажите, заставьте меня окончательно поверить, что вы правы, что вы в самом деле очень серьезный человек и что ваша жизнь очень серьезна. Укажите же, будьте определенны, иначе я могу подумать, что вопросов и явлений, о которых вы говорите, нет вовсе, что вы просто милый малый, которому иногда нравится от нечего делать потолковать о серьезном.
Но пора, однако, кончить рассказ.
Долго стоял молодой человек перед прекрасной женщиной. Наконец он снял сюртук, стащил с себя сапоги и прошептал:
– Прощай, до завтра!
Затем он растянулся на диване и укрылся плюшевым одеялом.
– При даме?! – изумится читатель. – Да это чушь, чепуха! Это возмутительно! Городовой! Цензура!
Да постойте, не спешите, серьезный, строгий, глубокомысленный читатель. Дама в роскошно убранной гостиной была написана масляными красками на холсте и висела над диваном. Теперь можете возмущаться сколько вам угодно.
И как это терпит бумага! Если печатают такой вздор, как «Марья Ивановна», то, очевидно, потому, что нет более ценного материала. Это очевидно. Садитесь же поскорее, излагайте ваши глубокие, великолепные мысли, напишите целые три пуда и пошлите в какую-нибудь редакцию. Садитесь поскорей и пишите! Пишите и посылайте поскорей!
И вам возвратят назад.
Брожение умов{112}
(Из летописи одного города)
Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся: дошел до 35,8° и в нерешимости остановился… С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал; лень было вытирать.
По большой базарной площади, в виду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя: казначей Почешихин и ходатай по делам (он же и старинный корреспондент «Сына отечества») Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал.
На середине площади Почешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо.
– Что вы смотрите, Евпл Серапионыч?
– Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Туча тучей! Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать… да ежели… В саду отца протоиерея сели!
– Нисколько, Евпл Серапионыч. Не у отца протоиерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. Да и за что их, посудите, убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно, но все-таки тварь, всякое дыхание. Скворец, скажем, поет… А для чего он, спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание да хвалит Господа. Ой, нет! Кажется, у отца протоиерея сели!
Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лапотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протоиерея.
– Да, вы правду сказали, они у отца протоиерея сели, – продолжал Оптимов. – У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать.
Из протопоповой калитки вышел сам отец протоиерей Восьмистишиев и с ним дьячок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и, вместе с дьячком, стал тоже глядеть вверх, чтобы понять.
– Отец Паисий, надо полагать, на требу идет, – сказал Почешихин. – Помогай ему Бог!
В пространстве между друзьями и отцом протоиереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паисия, напрягавшего свое внимание на высь поднебесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ведший нищего-слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей.
– Что-то случилось, надо думать, – сказал Почешихин. – Пожар, что ли? Да нет, не видать дыму! Эй, Кузьма! – крикнул он остановившемуся мужику. – Что там случилось?
Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лабаз купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным.
– Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь! Черт свинячий!
– Где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь! Вас честью просят!
– Должно, внутри загорелось!
– Честью просит, а сам руками тычет. Не махайте руками! Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать!
– На мозоль наступил! А, чтоб тебя раздавило!
– Кого раздавило? Ребята, человека задавили!
– Почему такая толпа? За какой надобностью?
– Человека, ваше выскблаародие, задавило!
