Журнал «Парус» №82, 2020 г.
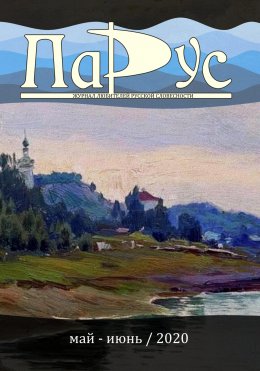
Цитата
Иван БУНИН
***
Еще от дома на дворе
Синеют утренние тени,
И под навесами строений
Трава в холодном серебре;
Но уж сияет яркий зной,
Давно топор стучит в сарае,
И голубей пугливых стаи
Сверкают снежной белизной.
С зари кукушка за рекою
Кукует звучно вдалеке,
И в молодом березняке
Грибами пахнет и листвою.
На солнце светлая река
Трепещет радостно, смеется,
И гулко в роще отдается
Над нею ладный стук валька.
(1892)
Художественное слово: поэзия
Николай РОДИОНОВ. Незримый порог
ДОЖДЛИВОЕ УТРО
Как мне важно внимание этого нового дня,
Что ещё только в самом начале, ещё поднимается только,
Но уже как-то странно глядит, грустно голову набок клоня,
Как-то странно глядит из окна, из воды,
из зеркал и ещё из каких-то осколков.
Как мозаику эту собрать, как мне целое в ней разглядеть,
Как узнать, что за день, из каких состоит он событий?
Что сегодня случится, узнать, что со мною случится и где?..
Нет, не надо: вдруг там – за драконом дракон!
А где меч? Чем я головы буду рубить им?
Почему же в лице и в наклоне твоей головы
Столько грусти? Ответь, день, поднявшийся тихо навстречу.
Ведь не ты – я живу здесь, на свете, жильцом угловым,
Знать не зная, какая судьба уготована мне
и успею ли я завершить этот день этой речью.
Ну скажи, что тебе не даёт улыбнуться в ответ,
Что мешает тебе этот час, это утро украсить улыбкой?
Может быть, ничего, просто так – настроения нет?
Или чувствуешь что-то вблизи, что ко мне подползло
незаметно рогатой улиткой?
Вот и здравствуйте! – слёзы мгновенно у нас потекли…
Вроде рано прощаться, ещё только раннее утро.
Кстати, день, дорогой, не впервой я тебя обнаружил таким
Безутешным, плаксивым, влюблённым
и черту под любовью своей подводящим как будто.
Но ведь это не так, я надеюсь, нам рано ещё
Подводить окончательно наши с тобою итоги.
Осуши свои слёзы, я тоже смахну их со щёк.
Вот и славно! И всё впереди – и пути и тревоги.
***
Бежит собака.
Снег летит к земле.
Собака что-то ищет под сугробом.
«Фольксваген» завывает.
Видно мне,
Как трудно его тронуть с места,
Чтобы
Потом легко,
Примеривая ритм
Каких-то новых радостных мелодий,
Скользить по трассе.
Кто-то говорит
Кому-то что-то. Может, о погоде.
Кто эти двое?
Лица их скучны.
Наверное, погода виновата:
Никак не могут вешние лучи
Проникнуть в город, сложенный из ваты.
Март на исходе.
На окне узор,
Мешавший обозрению, растаял.
Но – ветки голы,
Ветер – резок, зол.
А почему? Загадка не простая.
Что ж в небе галки мечутся?
Их крик
Ни радости, ни горечи не будит…
Два школьника,
Навстречу им – старик.
И снег в лицо.
И – то ли еще будет!
Согнулись, только вскидывают взгляд.
Но вспыхивают частые улыбки.
Такой уж это возраст:
Веселят
Порывы ветра.
Дети не привыкли
Ни к этим снежным вихрям,
Ни к ветвям,
Болтающим белесое пространство.
Все это – детство.
Что бывает там,
То в сердце утомившемся погасло.
И даже этот белый-белый снег
В глазах усталых – серый и надсадный,
Свалившийся на стонущий ковчег
Вдали от милой, солнечной Эллады,
За горизонтом скрывшейся давно.
Волнение в груди – не выше балла.
Когда бы я не выглянул в окно,
Собака – там, внизу – не пробежала,
«Фольксваген» не застрял или примерз
К своей необустроенной стоянке,
Не встал бы за окном немой вопрос
О прожитом,
О сбывшемся:
«А так ли?..»
Пустой вопрос.
Как тот сугроб, пустой.
Поэтому собака убежала.
Но за окном не затихает стон
И вой.
И вой,
Но не начать сначала.
Не убежать,
Не скрыться от судьбы.
Пустое не прервать препровожденье.
Сегодня снег, но завтра,
Может быть,
Начнется в этом мире возрожденье.
НЕ ПОЙМУ
Чтоб меня здесь увидали эти солнечные дали,
И живу, но кто кому тут больше нужен, не пойму.
Сколько было поколений! – отшумели, отстрадали,
Света белого хлебнули и теперь глотают тьму.
Эти солнечные дали что-то помнят, чем-то бредят,
Что-то, видно, им покоя и поныне не даёт.
В чём-то, может быть, нарушен непонятный дебет-кредит?
Где-то много народилось, ну а где-то недород?
Что мне эти их заботы о каком-то там балансе!
Мне-то солнечные дали для чего теперь нужны? —
Для того, чтобы надежды на потомков не угасли?
Что хоть это за надежды в мире злобы и вражды?!
Ничего не понимаю, хоть давно живу на свете
И пытаюсь, и пытаюсь, но, похоже, не пойму,
Почему мне так приятны дали солнечные эти.
И всерьёз подозреваю, что не мне лишь одному.
Любим солнечные дали, эту волю, эти краски,
Что живут для нас, не тратя жизнь свою на пустяки.
Потому они и вечны, их усилья не напрасны.
Как бы нам-то научиться жить с сознанием таким.
***
На побережье тишина,
Туман над озером, и даже
Ржа островная не видна.
– Эй, кто там есть еще, на барже?!
Я мог бы сам пойти, пешком,
На обжитой бурьяном остров,
Как этот рыболов с пешнёй,
Весьма, по следу судя, острой.
Взошел на лед, воткнул пешню
И, закурив, взглянул на солнце;
И – вновь шагов скрипучих шум
Пустыне белой достается.
За сто шагов не слышу и
Теряю силуэт в тумане.
А блёстки белой чешуи
Роняет ива. Кто же станет
В такое утро горевать
И сожалеть, что жил напрасно?
И если даже это – ад,
То ад – прекрасный.
Кремль – слева, справа – монастырь
Из белых невесомых кружев
Выглядывают в дивный мир
И непрестанно Богу служат.
Ему – сердечные хвалы
За истинное совершенство.
И ты, душа моя, храни
Сие блаженство.
***
Веселится поток очень грустных людей,
Щедро политых солнечным светом.
На вопрос безразличных и злых: «Это где?» —
Я не дам никакого ответа.
Не боюсь я ни их зубоскальной грозы,
Ни наглядных прямых зуботычин —
Очень грустных людей я не выдам ни злым,
Ни тем более тем, безразличным.
Очень грустных людей я, наверно, боюсь,
А не только люблю и жалею,
Потому что меня отпустившая грусть
Приказала идти им за нею.
И уходят они, не подняв головы,
Не увидев расцветок весенних;
Веселится на солнце поток, но – увы —
Не увидеть покорным веселья.
Разбирается день по высоким домам,
По разбродным и душным квартирам,
Но веселый поток даже им не отдам,
Тем, кого и весна не взбодрила.
КАМЕЛИЯ
Камелия моя,
Продрогшая в апреле
Под ветром и дождем
На бренном берегу,
Наверно, небеса
Расцвет твой проглядели,
Но я не проглядел
И в сердце сберегу.
Камелия моя,
Прелестное созданье,
И нежность, и любовь,
Сквозь грозы пронеся,
Ты подарила мне
При первом же свиданье,
И ожила душа,
Как твой цветущий сад.
Камелия моя,
Расцветшая в ненастье,
Дочь солнца и росы,
Наследница наяд,
Я счастье здесь обрел,
Но ветреное счастье
С собой не увезти,
Камелия моя.
***
Есть незримый порог, за который шагнуть не дано
Одному или всем, кто живёт или жил на планете.
Потому и тщета, что воздвиг непреложный канон
Тот, Чьи мы неразумные и нерадивые дети.
Свет снаружи нисходит, а встречного нет, изнутри
Чаще злобный огонь, обжигающий всех, вылетает.
Как источник огня, ты себя и других изнурил,
А постичь не сумел, где средина твоя золотая.
Мало времени? – да, но – на что ты потратил свои
Годы свежей и светлой энергии, данные свыше?
А теперь каждый встречный в твоём представленье – зоил,
Даже хуже: ни слова о бреднях твоих не напишет.
Вот и мучайся, душу терзая, старайся понять,
Где, когда упустил шанс пролить яркий свет над землёю,
Чтоб людей просвещать, согревать, а не просто пылать,
Осыпая сердца молодые горячей золою.
Свой ли путь ты избрал, это ль было призваньем твоим
(Ведь зачем-то ты призван, какое-то было призванье)?
Чем ты нынче томим, в чём, как в юности, неутомим —
То и стало с тех пор и наградою и наказаньем.
УТРЕННИЙ ГОРОД
Тих, пустынен город ранним утром,
Только чайки, голуби да галки
Сон ночной пытаются распутать,
С ближними вступая в перепалки.
Испаряясь, дымкой укрывает
Озеро свой дальний, южный берег,
А меня ведёт моя кривая
От потери к будущей потере.
Вот «Газель» промчалась грузовая,
Пыль сухой обочины взъерошив,
Чувств моих и прав не признавая, —
Как ты тут помыслишь о хорошем!
Память избавляет от мучений,
Пылью покрывая или дымкой
День вчерашний, дум поток вечерний,
Жутью переполненные дикой.
То ли грех за мною, то ли просто
Столкновенье с новой неудачей?
Как мне быть с навязчивым вопросом
И душой, что… то кипит, то плачет?..
Город тих, пустынен, одиноко
Мне в его сияющих просторах,
В тёплых летних воздуха потоках,
Было б вовсе горько без которых.
ГЛОТАЮ ВОЗДУХ
Глотаю воздух я, глотаю пищу,
Смотрю вокруг глазами простака
И знаю, что меня не ждут, не ищут,
Что мне верна лишь эта вот строка.
Она пришла, я ждал её, я верил,
Что, верная мне, мимо не пройдёт,
И вместе мы теперь глядим в безмерный
И солнечный июньский небосвод.
А где была? Где, сколько лет скиталась,
Чтобы найти в безмерности меня?
Не всё ль равно! – невидима усталость
И на её лице в начале дня.
Ни ей, ни мне не хочется о бедах
И думать, перемолотых душой.
Глядим вокруг, кому бы нам поведать,
Как нам с утра сегодня хорошо.
Глотаю воздух я, глотаю пищу,
Смотрю на мир глазами простака.
И пусть меня забыли, пусть не ищут —
Нерв будоражит каждая строка.
Живу, пока и строки прилетают,
Волнуют тем, что свыше нам дано,
И не раздавлен тяжкими летами,
И сердце в мир бескрайний влюблено.
СВЕТ СОЛНЦА
Свет солнца нужен нам, свет солнца губит нас:
У солнца все права распоряжаться нами.
Нежаркое с утра, такое – как сейчас,
Во мне живёт и в даль непознанную манит.
И если мне в лицо прохладный ветерок,
То стоит ли мечтать о новой, лучшей жизни!
И пыль мне не страшна немереных дорог,
И скрытые от глаз природные сюрпризы.
Хватило б только сил преодолеть жару,
Преодолеть тот путь, что сам себе наметил!
Непросто, знаю я: не первый год живу,
Не первое, дал Бог, живу десятилетье.
И сколько бы ни жил, мне радостно всегда,
Когда с утра в окно заглядывает солнце.
С ним исчезают вмиг печали без следа,
А свет, проникший в душу, остаётся.
Но так устроен мир, что слишком яркий свет
Быстрее, чем печаль, изнашивает душу
И тело, все тела – и это не секрет —
Свет солнца, страстно любящий, разрушит.
НЕ ВЫДУМКА
Всё – слава Богу: жизнь не жалко.
Смерть не страшна, не страшен тлен.
Очнусь кальмаром или галкой —
И это будет новый плен.
И снова страхи и тревоги,
И тьма враждебных сил вокруг,
И снова смерть и тлен в итоге
Телесных и душевных мук.
Была бы жизнь красивой, яркой,
Сказал бы я, что жизнь моя
Была божественным подарком,
Сказал бы, боли не тая.
Мне было б жалко, было б страшно
Такую жизнь, познав, терять.
Что я познал, перелиставший
Жизнь, будто книгу иль тетрадь?
То и познал, что жизнь не книга,
Не выдумка, не волшебство,
А более сродни веригам
Со строгим длительным постом.
Уставший, умиротворенный
Бреду навстречу жизни той,
Что, может быть, вновь чувства тронет
Своей небесной красотой.
НЕ ЗРЯ ПРЕВОЗНОСИМ
Мы не зря превозносим дождливую осень.
Вспомни лето: жара, пыль и смог,
И дурная трава на дорожном откосе,
Задохнувшийся в смоге цветок.
Задыхался и я в наших каменных дебрях,
Проходя сквозь потоки машин,
Забывая о вечном покое, о требах,
О величии горних вершин.
Но теперь-то ничто и никто не мешает
Мне проникнуться вещим, святым.
Не сравнить с летним днём и его мятежами
Эту серую мрачную стынь.
Дождь не летний, не весел, по тверди не скачет,
Вместо брызг – непроглядная хмарь.
Неужели же вечное столь же невзрачно,
Столь же мрачно, как этот октябрь?
Но не зря превозносим капризы погоды,
Отлученье от летних забот.
Осень – это же всеми заслуженный отдых,
Даже солнышко позже встаёт.
Аркадий ГОНТОВСКИЙ. Вы музыкой моей не заболейте
***
Бессонной ночью сядешь у окна,
Глядишь во тьму – и видишь времена,
Бредущие неспешно пред тобою.
Там, прикасаясь, гаснут голоса,
И тихо набежавшая слеза
Дрожит в ночи звездою золотою.
И больше ничего… Но в этот миг
Прикосновеньем через тыщи лиг,
Покачиваясь в неизвестном где-то,
Где только волны, волны в тишине,
И взгляд, и чувство, как волна к волне…
И снова ночь, окно и сигарета.
***
На рваных снах, во мгле стихий,
Когда печаль безумью ближе,
В дожди срываются стихи,
Где лунный шепот лужи лижет.
Где вечность, старый книгочей,
Забылась сном, и над бумагой
Мир оплывает со свечей;
И дождь один, шумящей влагой,
Несет смятению покой,
Тончайшей укрывая пряжей.
И – сон тяжелый колдовской,
И тишины полет лебяжий.
***
Переболеть в себе земное
И больше не глядеть назад.
Пусть в небе звёзды тишиною
Со мною вновь заговорят
О чём-то накрепко забытом
В непроходимой суете,
Где дни, заезженные бытом,
Как ни раскрашивай – не те.
И я не тот, когда хватало
Глаза прикрыть и налегке
Из шумной пустоты квартала
Шагнуть к сияющей реке,
Где нежное дыханье сада
Соприкасается с волной.
Смотреть и слушать… и не надо,
Не надо вечности иной.
ЭЛЕГИЯ
1
Выйти в ночь из прокуренных комнат,
По урочищам сонным брести.
В этих снах отыскать светлый омут,
Пить туманные звёзды с горсти.
Просто быть. Просто слушать, как рощу
Наполняет ласкающий свет,
Как он пробует звуки на ощупь
Серебристою нитью в листве.
2
Позабыться. И вровень с туманом
По мерцающим в дрёме лугам
С белоснежным уйти караваном
К очарованным берегам.
Только сны. Только сны и дорога.
Только проблеск чего-то во мгле,
Что нельзя объяснить и потрогать,
И словами сказать на Земле.
3
Там, где долгого вздоха немая печаль
Утекает в туманы осенней рекой,
Словно кто-то незримый снимает печать,
Отпуская тебя за ожившей строкой,
И живая вода, отразив небеса,
Отворяет пространство предтечею снов…
Там светло задрожит в поднебесье слеза
У твоих очарованных берегов.
***
Наследница исчезнувших империй,
На души обречённые взгляни.
В дымах столетий на обломках веры
Горят неутолённые огни.
Горят огни. Печали нет ответа,
Лишь эхом угасающей мольбы —
Мы верили, мы шли с тобою к свету,
Великих дел великие рабы.
Горят огни. За ними сумрак стужи.
Безумие, но надо делать шаг.
Кто выдумал, что не сгорают души?
Сгорает до беспамятства душа.
***
Тишина. И свет усталый.
Снег идёт, ложится снег
На дороги, на кварталы,
На страну, которой нет.
Зачарованная снегом
Спит она, и снятся ей
Города под мёртвым небом
В блеске призрачных огней.
Снятся праздные витрины
И, от блеска в стороне,
Среднерусские руины
В нескончаемой войне.
Кто их вспомнит? Кто ответит?
Кто вернёт им день былой?
Снится им: февральский ветер
Снова бродит над землёй.
Снятся банки и вокзалы,
Телеграф и поезда…
И над всеми свет усталый
Льёт погасшая звезда.
РУЧЕЙ
Течёт вода среди камней,
Течёт неспешно
И откликается во мне
Мечтою вешней,
Течёт, как сотню лет назад
И – сотню с лишним,
Как прошлым летом, где – гроза
И спеют вишни;
Течёт неспешно сквозь меня,
Как бесконечность,
Как лунный шёпот на камнях
Про сны и вечность.
***
Мне снился сон, когда казалось,
Не будет, нет, не будет. Но
Мне снился сон, такая малость,
Такое нежное кино:
Шёл по-над вечностью автобус,
И умещался шар земной
В застывший под лампадой глобус,
Объятый древней тишиной.
Но вздох рождался, и во вздохе
Сжималось время до нуля,
Чтоб разом выдохнуть эпохи:
Автобус плыл, плыла Земля.
За окнами шумел подлесок,
Сходясь с весною налегке.
Рука касалась занавесок
И вновь дрожала на руке.
Дрожали губы, и казалось,
Нет ничего главнее, не…
Мне снился сон – ты улыбалась
Чему-то давнему во мне.
***
Пожелтевшие ветви во сне не тревожь,
Завтра с музыкой ветра перекликнется дождь.
Перешёпотом листья сойдут, и во мгле
Только красные кисти, как угли в золе;
Только в небе по краю серебристая нить —
Проживу, прочитаю. Буду в полночь звонить.
Слышишь, осень уходит, и в озябшей ночи
Ветер зимних мелодий подбирает ключи:
Там на кисти рябины из алой зари
В разговор воробьиный сойдут снегири;
И расплещется с веток серебристая дрожь.
Это в памяти ветра колышется дождь.
***
Вы музыкой моей не заболейте,
Со мной навек – нельзя наверняка.
Бродягою, играющим на флейте,
Я выстудил мечты на сквозняках.
Души своей не выстелю изнанку,
Уже не тот, чтоб всем смертям назло…
Вы видели, как падают подранки,
С обрыва поднимаясь на крыло?
И оглашает клич небесный купол.
В нём зов и боль… Но, сколько ни зови,
Тот мальчик, что себе придумал кукол
Игрушечных из плоти и крови, —
Он вырос. И ушёл… О нём ли ветер
Вздыхает на изломах тростника?
Вы музыкой моей не заболейте:
В ней за дождями шепчутся снега.
***
Набираешь в ладони неба,
Это в детстве всегда так просто,
Если небо падает снегом
И в нём спят золотые звёзды;
Ты подбросишь их и беспечно
Улыбнёшься своей вселенной,
Как и небо – такой же вечной,
И такой же, как сон – мгновенной.
Может быть, это просто память
Тишину наугад листает:
То зашепчется облаками,
То закличет осенней стаей;
Тишину, где другое небо,
Позабытое на перроне
Между детством и этим снегом,
Что летит на твои ладони.
***
Однажды покачнётся вечер —
И покачнётся шар земной.
И я предстану и отвечу
За всё содеянное мной.
Быть может, предо мною разом
Откроются и свет, и тьма:
«Всё это ты». И бедный разум,
Наверное, сойдёт с ума.
Останется сердцебиенье,
Его изломанная нить,
Где эти пики и паденья
Мог только я соединить.
Тогда и прозвучат вопросы.
И в беспощадной тишине
Мои беспомощные слёзы
Расскажут правду обо мне.
Василий КОСТЕРИН. Почти идиллия
Редакция «Паруса» поздравляет своего постоянного автора – поэта и прозаика
Василия Костерина с 75-летием и желает ему доброго здравия, неиссякаемого вдохновения и, конечно, внимания чутких и благосклонных читателей
***
Ненужные встречи,
Поникшие плечи,
Бездарные речи
Далече,
Как сон.
Иконы и свечи,
Безмолвное вече,
Молитва о встрече
Так близко,
Как стон.
ПОЧТИ ИДИЛЛИЯ
Тишина цветёт стыдливо
У тенистого пруда.
Две кувшинки, мостик, ива,
Лебедь белый сиротливо
Уплывает в никуда…
Как же я забрёл сюда?
***
Свежим утром на забывшейся земле
Расстелилась влажна травушка во сне,
Разомлела зеленая на тепле
И забыла о тебе и обо мне.
Ей проснуться бы пораньше, до зари,
Точат косы деловито косари.
Ну а мы под жёлтым стогом в тишине
Влагой росною омылись на руне…
Синим утром на кормилице-земле
Разметались травы тёплые во сне.
Не проснуться им до поздней до зари,
Взяли в руки косы остры косари.
***
Нет, тебя невозможно обидеть:
Белой лебедью, словно к венцу,
Ты плывёшь. И так радостно видеть,
Что счастье тебе – к лицу.
***
Храм белокаменный —
Совсем не белый,
Особенно вблизи.
Века работали над ним,
Оплошность зодчих исправляя.
Уверенно стоит он на ветру,
На вид как будто тёмно-серый,
Но вот отходишь от него
И видишь: белый он,
Он – очень белый.
ВОСКРЕШЕНИЕ. ИКОНА
Четвертый день. Уже смердит, —
Не вырваться из пасти ада.
Отвален камень, гроб открыт, —
Благоуханье вместо смрада.
«Друг Лазаре, оставь свой гроб!»
Мертвец, повитый пеленами,
Выходит бел, темнобород…
Воскрес! Он снова будет с нами!
Все к Лазарю спешат, любя,
Тот – словно смертью распинаем:
Закрыты очи, внутрь глядят,
И что там видят, мы не знаем.
***
Лепестками устлан балкон,
Все герани побиты градом,
Словно кровью брызнул дракон,
Плащ Георгия, рдян от икон,
Ветром плещется по-над садом.
Всё как встарь, как испокон,
И копьё покоится рядом.
НА КУХНЕ
Что-то плачется сегодня…
Разгадать ли, что со мной?
То ли горе, то ли счастье,
То ли вёдро, то ль ненастье,
То ли лук попался злой,
То ли нож совсем тупой,
Или с воли в переплёт
Заоконный ливень бьёт?
Этот дождь – такая сводня,
Из меня верёвки вьёт.
Плачем плачется сегодня
Покаянно, как впервой…
Сарти, Греция, 2010
***
Василию Шукшину
Пар духмяный, запах хвойный,
Верхней полки воздух знойный,
Веник мокнет ванькой-встанькой…
Протопи-ка ты мне баньку,
Друг Алёша Бесконвойный…
***
Брошу я палаты
И вернусь в Отчизну,
Светлый и крылатый,
На святую тризну.
Не поддамся змию,
Верьте или не верьте,
Я вернусь в Россию
Сразу
после смерти.
ВАРИАЦИИ О ДУШЕ РОЯЛЯ
1
Как будто век совсем напрасно прожит.
И музыка ушла. И поделом.
Рояль взмахнёт единственным крылом,
Но оторваться от земли не сможет.
2
Мелодия не вспомнит о былом,
Взлетит – и небо растревожит,
Махнёт рояль распахнутым крылом,
Но победить себя не сможет.
3
Соната не напомнит о былом,
Мой дух заплаканный стреножит,
Рояль взмахнёт косым крылом,
Но улететь за ней не сможет.
4
Рояль играет с поднятым крылом,
И реквием на нотах подытожит
Всю жизнь мою; и душу на излом
Возьмёт и гармонично искорёжит.
***
Ах любовь моя, любовь моя, любовь,
Забурлила, заметалась в жилах кровь,
Наши встречи, словно кольца на перстах,
Поцелуи – спелой вишней на устах,
Закружил нас танец белый вихревой,
Красной горкою сияет аналой.
Пой, ликуй, Исайя, узы славословь!
Ах любовь моя, любовь моя, любовь.
***
Утренний поцелуй – бабочкой на устах,
Ветра порыв в жасминных кустах.
Дневной поцелуй – деловой и привычный,
И дань, и товарищ безличный.
Вечерний же – нетерпеливо короче,
В нём память о таинстве ночи.
Ночной поцелуй – содроганье вселенной,
Плоть едина в любви несомненной.
***
Самозабвенно тебя целую,
Расцеловываю воровски,
Словно в омут, напропалую,
От отчаяния, от тоски.
Неужели всё зря и всуе,
И мои незаконные поцелуи
Как печать гробовой доски?..
***
Высокий стиль перенимаю,
Своею музой называю,
Тебя от сердца воспеваю,
Но, кажется, наоборот:
Как будто под ноги бросаю,
Все чувства наши опошляю,
Слова ненужно распыляю,
Филологический банкрот.
***
С могучим дубом долго говорил
О жизни одинокой
Среди долины ровныя.
Он слушал вдумчиво
И листья сыпал
В карманы оттопыренные мне,
И желудями бил по голове.
Потом совсем замолк он,
Не привыкший отвечать.
Я с дубом говорил,
А он со мной молчал.
***
Я в Москве, а ты далече.
Как дождаться новой встречи?
Чтоб зажечь горючи свечи
И тебя к себе привлечь,
Чтобы волосы на плечи
Распустить на долгий вечер.
Чтобы волосы, чтоб плечи,
Чтобы тело не беречь,
Чтобы время не стеречь…
Как дождаться новых встреч?
***
Дождём умоюсь, как слезами,
И в путь-дорогу не спеша
Отправлюсь лёгкими ногами,
Просторным воздухом дыша.
Оставлю всё, что было мило,
Забуду боль, тоску, обман,
Срастутся порванные жилы,
Уйдёт в туман слепой дурман.
В дали далёкой ветром сгину,
А может, надышавшись всласть,
Шатёр дождя в полях раскину,
Чтоб каплей в лепесток упасть.
Художественное слово: проза
Дмитрий ЛАГУТИН. Кольца и флаги
Рассказ
И сейчас я объяснял это Сереге.
Серега не то сидел, не то стоял, прислонившись к капоту своего «Опеля», и пристально смотрел на пластиковый стакан с кофе. На белоснежном капоте красовался дракон в языках пламени. Серега всем говорил, что это аэрография, но я точно знал, что это наклейка – я даже знал, где он ее купил.
– У меня в кофе плавает какая-то труха, – сказал, наконец, Серега, переводя взгляд со стакана на меня.
Я к тому времени уже закончил свой монолог и ждал реакции.
Солнце палило вовсю, жара стояла невыносимая, над каждой машиной на парковке дрожал столб раскаленного воздуха, и непонятно было, как Серега может так запросто прислоняться к своему капоту. Несколько деревьев, отделяющих асфальтовый пятачок перед зданием от проезжей части, роняли на газон жидкую тень.
Серега кивнул, и солнцезащитные очки упали с его лба на переносицу.
– Пошли в тень, – сказал он и осторожно отпил кофе. – Жарко.
– Очень смешно, – сказал я и заглянул в свой стакан – нет ли и в нем таинственной трухи? – буду я перед всем офисом на газоне стоять.
Серега досадливо крякнул, вытер со лба пот и снова отпил кофе.
– Это не кофе, а помои! – воскликнул он.
Он приезжал сюда раз или два в неделю, и мы всякий раз брали растворимый кофе в продуктовом на первом этаже. И всякий раз Серега говорил, что это не кофе, а помои.
Сейчас мы стояли у дверей продуктового, двери были открыты, и изнутри Серегина критика, наверняка, была хорошо слышна.
За деревьями сигналили в несколько голосов – там снова стояла пробка. Водители высовывались из окон, смотрели по сторонам. Некоторые выходили из автомобилей, стояли, облокотившись на двери, жадно пили воду.
– Надо, наверное, увольняться, – повторил я.
Из-за очков я не видел Серегиного взгляда. Серега держал голову ровно, не двигался, и я бы не удивился, узнав, что он вдруг решил вздремнуть.
– Ау, – позвал его я. – Ты тут?
Он медленно кивнул, отпил кофе и сморщился.
– Хочешь увольняться – увольняйся.
Я вздохнул. Серега задрал голову.
– Ни облачка, – сказал он многозначительно.
Он имел в виду, что ничто не помешает нам увидеть-таки солнечное затмение, о котором трубили в новостях и которое, если верить прогнозам, должно было состояться в одиннадцать сорок семь.
Я посмотрел на часы – двадцать минут двенадцатого.
В офисе только и разговоров было что о затмении. К сисадмину тянулась очередь – он расковыривал дискеты и выдавал каждому желающему по куску магнитной пленки. Мне тоже достался черный квадратик, но потом я встретил Вячеслава из магазина инструментов, делящего первый этаж с продуктовым, и узнал, что есть еще одна свободная маска.
– Какая маска? – не понял я.
– Сварщика.
Я никогда в жизни не надевал маски сварщика, мне стало жутко интересно и я согласился. А Серега принес рентгеновские снимки – в прошлом году он по какому-то поводу ударил в стену и сломал мизинец.
– Вот, – показывал он один снимок. – Видишь, как треснуло. Еще чуть-чуть – и открытый бы был.
Я кивал.
– А вот, – показывал он второй снимок, – спица. Во какая.
Для того чтобы кость срослась как надо, ему в кисть вставляли металлическую спицу. Если бы обошлось только гипсом, Серега бы расстроился.
– Я спрашивал, можно ли ее оставить, – рассказывал он и горестно вздыхал. – Даже деньги предлагал. Нельзя.
Сейчас снимки лежали на пассажирском сиденье, окна были открыты, в салоне угрюмо урчала музыка.
На парковку вползла старенькая «Ауди» – моя ровесница. Она долго тыкалась туда-сюда в поисках места и наконец остановилась у самого крыльца. Мотор перестал тарахтеть, дверь открылась, из «Ауди» показался наш безопасник – начальник отдела безопасности – в солнцезащитных очках, футболке, бриджах ниже колена и сандалиях на босу ногу. Он потянулся, осмотрел парковку и направился к нам, закуривая на ходу.
– Здравствуйте, – сказал я и встал так, чтобы ему была видна пачка документов, которую я зажимал под мышкой.
– Здорово, – он пожал руки мне и Сереге.
– Сергей, – представился Серега.
– Сергей Викторович, – представился безопасник и улыбнулся. – Тезка.
Серега кивнул, отпил кофе и поморщился. Безопасник повернулся ко мне.
– Ну что, затмение смотрим?
– Смотрим. Там Женя пленки раздает. Из дискет.
Безопасник фыркнул.
– Что мне его пленки. Я по-дедовски.
Он наклонился и достал из кармана – карман располагался ниже колена, и для того чтобы в него залезть, нужно было наклоняться – прямоугольное стеклышко.
– В цехе окно разбили, – пояснил он.
Безопасник щелкнул зажигалкой и стал водить стеклышком по огоньку.
– Сейчас закоптим, – весело сказал он, – и вся наука. А вы возитесь дальше с вашими пленками.
Я хотел сказать, что буду смотреть не через пленку и не через какое-то там стеклышко, а через маску сварщика, но не успел – меня окликнули сверху.
Из окна офиса – на втором этаже из двух – высовывалась голова главного бухгалтера, обрамленная сияющими в лучах солнца кудрями.
– Звонят тебе! В сотый раз уже! Работать невозможно!
Я хлопнул себя по карманам и вздохнул.
– Бросать или поднимешься?
Я посмотрел на часы.
– Бросайте.
– Точно?
– Ага.
Голова исчезла и тут же появилась вновь, а рядом вытянулась рука с моим телефоном. Рядом с рукой возникла еще одна голова – сисадмина – и посоветовала, придерживая очки:
– Бросайте в траву.
До газона было метров пятнадцать. Безопасник прыснул.
– Давай я, – сказал Серега и поставил стакан на морду дракону. – Поймаю.
– Спасибо, справлюсь, – сказал я, вручил ему свой стакан и стал ровно под рукой.
– До трех считать? – спросила голова сверху.
– Считайте.
– Раз.
Я сложил руки лодочкой.
– Два.
Над зданием нависало небо – от жары оно казалось выцветшим.
– Три.
Пальцы главного бухгалтера – все разом – разжались, и телефон черным камушком полетел вниз.
– Бу! – крикнул безопасник, не прекращая коптить стеклышко.
Но я поймал. Непринятых вызовов было два. Я поднял голову.
– Всего два звонка!
Но в окне офиса уже никого не было. Серега махом допил кофе, скривился, как от сильной боли, смял стакан и метким броском отправил его в урну. Безопасник щелкнул пальцами, и следом полетел, рассыпая искры, окурок.
– Еще неделю – жара, – сказал безопасник, глядя через черное стеклышко на солнце. – Потом дожди. Ишь, какое.
Мы с Серегой вытянули шеи, заглянули под стеклышко: солнце превратилось в маленький желтый кружок. Безопасник наощупь прикурил еще одну сигарету, кружок окутало сизое облако.
Из недр магазина раздался раздраженный голос:
– Вы не могли бы не курить! Или от дверей отойдите!
Безопасник, не оборачиваясь, сделал шаг в сторону.
Меня снова окликнули – из окна первого этажа, сквозь черную чугунную решетку смотрел Вячеслав.
– Готов? – спросил он.
– Готов.
– Не началось еще?
– Кажется, нет.
– Точно нет, – авторитетно подтвердил безопасник, глядя в стеклышко. – Но скоро начнется.
Вячеслав кивнул и скрылся. А через несколько секунд появился на крыльце – невысокий, смуглый, в синем комбинезоне. В каждой руке у него было по две огромных сварочных маски. Я подошел, принял одну – и мне стало неловко. Маска была похожа на что-то космическое. Безопасник прыснул. Сигарета выпала из его рта, он растер ее сандалией.
– Отличная маска, – сказал мне Вячеслав. – Если понравится, можешь купить.
– Ага, договоры в ней составлять буду.
Я поблагодарил и пошел к Сереге. Вячеслав обернулся и закричал вглубь здания:
– Иваныч! Начнется сейчас!
Голос у него был резкий, пронзительный, как будто гвоздем водили по листу жести. «Наверное, такой голос и должен быть у продавца в магазине инструментов», – подумал я.
– Вот это шлем, – сказал восхищенно Серега.
– Сейчас начнется! – крикнул безопасник. – Где все?
Но он зря переживал. На втором этаже не было окна, из которого не высовывались бы любопытные лица. Весь наш офис громоздился друг на друга, держа в щепотках черные квадратики. Главный бухгалтер плечом прижимала к щеке телефонную трубку и почти кричала:
– Люда! У нас тут солнечное затмение! Я пришлю, пришлю!
Открылось узкое окошко серверной – точно бойница – и из него показался сисадмин. На крыльцо высыпали обитатели офисов, чьи окна выходили во двор, выбежал откуда-то сбоку завхоз – Иваныч – и принял из рук Вячеслава маску. Вячеслав свою уже надел и стоял посреди парковки, как маленький смуглый космонавт, не успевший экипироваться целиком. Он крутил головой и размахивал последней маской.
– Постучите ей! – крикнул он нам глухим металлическим голосом.
Я хотел переспросить – кому это ей? – но из магазина выпрыгнула продавщица, засеменила, спотыкаясь.
– Я здесь! Я здесь!
Она выхватила из смуглой руки маску, с помощью Вячеслава надела ее, и теперь на парковке стояли два космонавта: один в синем комбинезоне, а другой в коричневом переднике поверх блузки.
За спинами тех, кто толпился на крыльце, стоял, стараясь не привлекать к себе внимания, третий космонавт – завхоз. Серега нырнул в открытое окно «Опеля» и вытащил снимки – сразу два. Краем глаза я увидел, как на заправке – слева от нашего здания – собралась целая толпа. Все стояли, запрокинув головы к небу. За деревьями, в пробке, тоже творилось нечто необычайное – водители высовывались из окон, стояли на обочине, смотрели на солнце кто через что.
– Начинается! – взревел безопасник, и я погрузил лицо в маску, одним махом примкнув к славному племени космонавтов.
Сейчас же всё исчезло. На меня обрушилась такая кромешная тьма, что я даже вздрогнул. Рука сама собой потянулась к затылку – снять поскорее, вернуть всё на свои места – но тут я поднял голову и увидел солнце.
Во тьме висел маленький желто-зеленый кружок, похожий на монетку. С одной стороны его бок был словно укушен – на него заползала черная щербинка.
– Ну, как там? – услышал я издалека голос Сереги.
– Где? – не понял я.
– В маске!
– Отлично!
Щербинка ширилась и разрасталась.
Кто-то засигналил – я подскочил от неожиданности, Серега выругался. Я приподнял маску, посмотрел из-под нее. На парковку медленно заезжал директорский джип, два храбрых космонавта – в комбинезоне и в переднике – преграждали ему путь.
Джип просигналил еще раз, космонавт в синем комбинезоне раздраженно сорвал шлем, превратился в Вячеслава, увидел джип и потянул космонавта в переднике за руку, смущенно покачивая головой. Директор заглушил мотор и открыл дверь.
– Дайте что-нибудь! – крикнул он. – Посмотреть!
Я увидел, как завхоз стягивает маску – он был весь красный, как рак, и, кажется, радовался подвернувшейся возможности. Но безопасник его опередил. Он шагнул к директору и вложил в его огромную ладонь черное стеклышко.
– Держите вот так, – пояснил он.
Серега протянул ему снимок – со спицей.
– Тезка, – благодарно кивнул безопасник. – Уважаю.
И все задрали головы. Я опустил маску – и парковка снова утонула во тьме.
Теперь уже не было никакого кружочка – в черной пустоте лежал рожками вверх желто-зеленый месяц. Всё казалось, что он сейчас закачается.
– Люда! – услышал я чей-то голос. – У нас тут затмение!
Раздался стук. Я снова приподнял маску и увидел, что главный бухгалтер выронила трубку, и теперь трубка болталась на проводе, стукаясь о стену. Бухгалтер всплеснула руками и потянула провод. Трубка поползла вверх.
Все стояли, замерев, и смотрели в небо. Даже завхоз одумался, устыдил себя за малодушие и сошел с крыльца. У меня по вискам бежали ручейки пота. Жара стояла такая, что можно было решить, будто солнце прячется именно от нее. Это было не полное затмение, но все равно свет, заливавший парковку и отражавшийся от раскаленных автомобилей, казался каким-то необычным, непривычным – как будто в золотую краску подмешали серебрянки. Я подумал, что жутко, наверное, было бы всё время жить в таком свете, порадовался, что нам в нем жить не приходится – и опустил маску.
Через несколько минут всё закончилось. Кто-то захлопал в ладоши, безопасник протянул: «Да-а-а», Серега взял у него снимок, кивнул, очки упали со лба на переносицу. Вячеслав стал собирать маски.
– Ну? – спрашивал он так, словно затмение было делом его рук. – Как? То-то. Я же говорил.
Директор посмотрел на нас с безопасником.
– За мной.
И пошел к крыльцу.
До самого вечера в офисах обсуждалось затмение – делились эмоциями, спорили, показывали друг другу фотографии. Залезали в какие-то космические дебри, сисадмин цитировал научные статьи, рисовал на белой доске схемы, тут же стирал, рисовал новые. Философствовали.
Леонид МАЧУЛИН. Колокольчик номер четыре
Рассказ
Накануне море штормило. Целых три дня хищные волны неистово трепали пирс, вдребезги разбивались о невозмутимую серость монолитного бетона, засаливали прибрежный воздух Феодосии.
Мы молча – из-за непрерывного шума моря – гуляли по набережной. Вдруг она взяла мою руку и, напрягая свой тихий голос, воскликнула:
– Завтра обязательно сфотографирую тебя на фоне этих грандиозных волн! Смотри – они точно как на картине в твоем кабинете!
Я рассмеялся и нежно поцеловал ее в открытые, чуть солоноватые губы:
– Ты просто прелесть! Так и сделаем.
Последнюю неделю мы проводили вместе по двадцать четыре часа в сутки. На календарной границе лета и осени, изможденные бесконечными жаркими днями в шумном и пыльном Харькове, каждый из нас нашел повод улизнуть из города на недельку – и вот всё заканчивалось. Вначале, добравшись до провинциальной Феодосии, уже грустившей от близости наступающей осени и будущей безлюдной зимы, мы не стали превращаться в «морских котиков»: пока стояли прозрачные и тихие до умиротворения дни, успели сходить по горным тропам в Орджоникидзе и Планерское, побывали на заброшенном маяке, в старом феодосийском порту, поднимались на Митридат… При этом умудрились обгореть, вволю накупаться, там и сям продегустировать местное красное вино, собрать коллекцию мелких камешков для мозаики будущего панно…
Когда восточный ветер поднял шторм и закрыл доступ к воде, мы стали гулять по старой Феодосии. Упражняясь в латеральном мышлении, на ходу сочиняли и тут же рассказывали друг другу по очереди роман с интригующим названием «Опаленные солнцем», придумывали рифмы к строкам известных поэтов, дурачились, притворяясь отцом и дочерью… Накопленный за лето стресс постепенно отпускал, ощущение ужасно тяжелого года уносило волнами прибоя, и я вновь почувствовал вкус к жизни…
Буквально за месяц до этой поездки она осторожно спросила: «Ты уже разлюбил меня?» – «Почему ты так решила?» – растерянно переспросил я. «Уже давно не пишешь свои рассказы…».
Да, за последние полгода я не написал ни строчки. Даже пять полнолуний и наступившая весна оставили меня равнодушным. Но причина, конечно, была в другом. В тот год я кожей прочувствовал состояние своего любимого Бунина, когда он в определенный период жизни был раздираем сомнениями и выбором. Несмотря на понимание и поддержку друзей, я всё никак не мог найти ту внутреннюю опору, которая помогла бы устоять посреди пошлой действительности. Внутренне я готовился отправиться вслед за Иваном Алексеевичем. Но, видимо, что-то – еще мне неведомое – не отпускало меня. Как я ни старался расставить все точки над «i», подсознание скрывало вуалью свою часть работы. Неудивительно, что знакомые при встрече сочувственно качали головой: «Ты плохо выглядишь, пора в отпуск».
Как можно отдохнуть от состояния выбора?
Перед отъездом из Крыма я решил купить ей какой-нибудь сувенир на память. В его поисках ходил около лотков, произвольно расставленных вдоль набережной, переходил от одного к другому. Колечки и сережки с местными самоцветами, акварельки, плетеные кошелки, кораблики из рапанов, картинки и поделки из корней дерева… Вдруг средь этой мишуры увидел две старинные иконки, выдранные из оклада и непонятно как ставшие «сувенирами». Впрочем… Продавал их бомжеватого вида мужик в татуировках на всех открытых частях тела. Я подошел ближе и увидел рядом с иконками небольшой, размером с кофейную чашку, колокольчик. Весь его вид – и цвет меди, и потертая юбка, и форма ушка выдавали возраст.
Едва сдерживаясь, чтобы не ухватить его тотчас, я со скучающим видом стал рассматривать иконы. Было ясно: стоило мне проявить интерес к колокольчику, как его цена возросла бы неимоверно. Мне предстояло перевоплощение. Интуитивно определив приоритеты мужика в продажах, спросил:
– Вот эта иконка сколько стоит?
Он ответил. Я озадаченно и со смирением покачал головой.
– А подсвечник?
Он назвал цену, я прокомментировал и ее. Выдержав паузу минуты в три, взял в руки заветный колокольчик. Он оказался без язычка и, слава Богу, целый, без трещин и сколов. На головке была выбита цифра «4».
– Ну, а колокольчик сколько?
Мужик, видимо, понял, что я небогат, привезенные деньги спустил на отпуск и что сегодня он может совсем остаться без выпивки. Полупрезрительно оглядев меня, мол, что без толку спрашивать, назвал абсолютно приемлемую цену. Я повертел в руках колокольчик, показал мужику отсутствие языка и предложил скинуть треть. Мужик возмутился, как настоящий торговец, но я уже понял, что он уступит. Поставив колокольчик на место, показал жестом: «Ну, мол, что же…», вернул руки в позу скучающего курортника и лениво двинулся в сторону следующего лотка с безделушками.
Мужик, нарисовавший было в своем воображении поллитру с закуской, судорожно спросил у своего напарника, словно оправдываясь: «А может, отдать на почин?» И, не дожидаясь, пока я растворюсь в толпе отдыхающих, громко позвал: «Эй! Ладно, забирай!».
Не торопясь я вернулся, отдал деньги, сунул не глядя покупку в карман. Мужик суеверно пробормотал: «Первый покупатель – мужчина» и поводил моей купюрой по оставшемуся товару, словно причащая его к продаже…
Я отошел подальше, скрывшись за спины прохожих, и, сдерживая охватившее напряжение, взял колокольчик за ушко, постучал по нему монеткой. Колокольчик тут же, как ребенок, соскучившийся по маме, отозвался таким чистым и глубоким звоном, что я, неожиданно для себя, от радости рассмеялся. В тот самый момент я понял, что всё рано или поздно станет на свои места – если оставаться самим собой, не изменять себе и не ломать себя. И тогда будет всё: и «Опаленные солнцем», и «Не сгибаемые ветром», будут другие покоренные горы, соленое море, будут свобода и счастье, и будет еще много-много рассказов…
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись семнадцатая: «Скрытый рай вокруг»
«Лето летеньское», как говорили в старину, – праздник для всяких мелких и крупных тварей земных, некогда спасенных от потопа в Ноевом ковчеге. И для воды, для воздуха, для каждого дерева, камня и дня, издающих свой глас небу, по мнению святых людей. Только мы – слышим ли их?.. Или все они для нас «не прочувствованы», как упрекал народ еще Иоанн Златоуст.
Живая вода
Ночь весенняя, ночь молодая у калитки стоит моей…
Вот именно – затухшим июльским вечером, уже в легких, нежных сумерках… вдруг во дворе почувствуешь – пришла и встала невидимо – живой тайной ночь. И не только её ты слышишь…
Вон, чу, и яблоня – как она ветки склонила к серым узловатым пальцам плетня; будто расплетают где-то не здесь чьи-то пальцы зеленые косы!
Красная девица сидит в темнице, а коса – на улице; как в загадке…
И от того, что дальше не знаешь – что это? откуда? – душа и улыбнется, и загрустит…
И яблоня, и плетень, и рябинка, и серый камень у соседских ворот – всё слышит и видит эти улыбки, – лики твоей души, где-то в невидимом…
И захочется уйти по неприметной тропке в сосняк, там уже по-настоящему стемнело, будто ты идёшь без тела, всё неузнаваемо, даже хруст веток под ногами сухих – другой, нездешний.
Днём пройдешь здесь и не заметишь ничего. А тут – то сосновая лапка колко мазнет по лицу, будто кто-то, слепой, чутко осязанием обежит твоё лицо, коснётся души…
Но вот уже всё ближе тоненькое звучание, неторопливое, детское – это ночная вода в ручье, – и ты встанешь и, вслушиваясь в её древние звуки, словно осветившие ночь сиянием, и будто поймешь – чьи они!..
Или это просто душа твоя пятнадцатилетняя, вечная… или сама Родина, Россия?
Моя лягушка
Весной в болоте важно переговариваются лягушки. Это – проза, или комедия аристофановская. В небе же – лирика: вечные соловьи.
А жаркий июль – самый музыкальный месяц, все его блаженство и цветение передает многоголосое трещание кузнечиков, которое в живых звуковых красках по-своему воспроизводит хор цветов: желтая пижма, белые тысячелистники, фиолетовые и красные сорняки. Может, кузнечики и поют об этих цветах, об их райской, данной Богом красоте?
Приходишь в огород, идешь на пруд за водой. Там у меня мостки сделаны из дюралевой плиты – с них, увидев меня, каждый раз прыгает в воду большая зеленая лягушка.
Сегодня же её нет. Пошел в сарайку, рядом – на сгнившем верстаке – исклеванная лягушка. Наверно, моя. Женщины из огородов идут мимо и толкуют, что вороны ничего не боятся, а если им будешь вредить, то они мстят – и пленку тебе на теплице проклюют!
А в огороде на кабачок вспрыгнул, будто на смену погибшей моей знакомой, землянистый лягушонок величиной с ноготь, и сидит, как на площади, точно удивляясь величине выросшей желтой штуковины.
Пена
В лесу, на речке: она здесь бежит по грязным, обомшелым камням. Черные доисторические валуны горбато торчат, такие же черные ольховые стволы по корявым берегам в кустах, в глушняке. За песчаной мельчинкой мусором запрудило у одного камня, и там набухла белая, лохматая глыба пены… Бель ее потрясывается от течения и дышит, как какое-то нутряное животное, выползшее из глубин на весну.
По руслу – сыро, тишина низко стоит над журчащей водой. Выползло это белое, голое, стыдливое и захотело стать чьим-то телом. Как чья-то голая, призрачная мысль растит свое тело в ольховом глушняке, в таинственном мраке над водой. Тяжело, тоскливо. С этой ношей пришел я сюда, к роднику, заглянул, как обычно, по низкому руслу: извивами, перегороженная валунами, спешила речка по своему делу между корягами и заторами мусора у черных, кривых ольховых стволов. Даже пена случайная хочет во что-то довоплотиться, а душа моя бессмертная стала безвольной и рыхлой, и пугливой, как эта пена. Белая, рыхлая, ноздреватая, как небесный хлеб, выпадавший с неба в пустыне, она жила и хотела чем-то стать, обретала свой смысл в этом черном ольховом глушняке. А человек сам себя, свою душу, превращает в пену.
Поближе к людям
Утка-чирок небольшая, рябоватая, а утятки у неё и вовсе маленькие пушистые шарики, как одуванчики. Увидит тебя – и в осоку, за ней – спрячутся, затаятся. Пруд в огороде, ходил туда, бывало, чуть не каждый день, а то, что у тебя дикая уточка приют обрела – только раз-другой за все лето и подсмотришь.
Такая же семейка водоплавающих обнаружила себя в пруде, что в райцентре у главной котельной. С одной стороны его камыши и кусты. В прежние годы приходилось видеть чирков и в другом конце города, у паромной переправы через Волгу, в устье ручья. А как-то летом жители стали свидетелями, как прямо на центральной улице, у дома культуры, в огородном пруде поселилась утка. Пруд отгорожен забором – прохожие и автотранспорт выводку не мешали.
Совсем не случайно жмутся утки-чирки поближе к людям. В черте города стрелять охотникам запрещено. В огороде тоже не многолюдно, чужим туда входа нет. Вот и выходит, что в таких местах намного безопаснее, чем в заливах и болотах по берегам Волги, в угодьях, где в охотничий сезон начинают раскатисто бухать выстрелы.
Загорбатится в поле прохожий
Мир полон жизни подспудной, за каждой вещью, предметом – дышит, как радуга, их психическая материя. Во всем чудо. Скрытый рай, всё сияет, прорастает, как во время пророческого видения, когда слышатся божественные глаголы. Так примерно, писал в своих стихах Андрей Белый. Вот идет у него «полевой пророк», «ликованием встревожив окрестность», плетет на просторе «колючий венок из крапивы». «Загорбатится в поле прохожий – приседает покорно в бурьян».
И в этом горбатом прохожем пророке что-то чудесное, сказочное. Это детское, юношеское восприятие мира, его красок, радующих, как радуга. Отсюда же и «половодье чувств» Есенина, и даже брюсовское восприятие книжности: в ней тоже изумленность: сердце, изумленное античными морями, триремами, сиренами, героями – книжное тоже озаряется той же радугой.
Тут не вижу ничего сухого, рационального. Все символисты чувствовали эту психическую материю иного мира, она приблизилась к ним, насколько было можно, но они не услышали гремевшего за ней глагола. А может, этот глагол струился особой тишиной и молчанием, которые заглушила суета, войны? Не услышали Бога.
Умная корова
Паром плывет по Волге на правую, деревенскую сторону. На скамейке пожилая женщина с костылем рассказывает молодой о себе. О том, как держала она на дворе корову с телкой. Да однажды вышла с пойлом и поскользнулась. Упала неудачно – сломала шейку бедра. Боль жуткая. Скотина забеспокоилась. Но хозяйка не закричала, а только приказала: «Стойте тихо».
– И они послушались, не ревели. Скотина слова понимает. Что я с коровой разговариваю, что с тобой! – Говорит женщина с костылем. В избу ползла она со двора целый час. Потом попала в больницу, и надолго. В бедро вставили стальной шарнир.
– Говорят, поросята – самые умные! – отозвалась молодая. – Я бы поросеночка хотела завести. Время сейчас трудное…
– Все умные – и телята, и поросята, – строго уточняет пожилая с костылем. – Но ты, если дела не имела со скотиной, лучше ее не заводи.
– Вот и я думаю: ходи за этим поросенком, а потом его под нож. Привыкнешь, наверное, плакать будешь.
– Я плакала, – просто говорит пожилая. – Пока я лежала в больнице, и корова, и теленок над моим стариком озоровать стали. Все норовили боднуть или хвостом хлестнуть. Вроде как его виноватым считали за то, что со мной приключилось. Так я без скотины и оказалась…
И она, тяжело опершись на костыль, с трудом встала и заковыляла на сходни.
Деревья
Спуск к речушке – красная дорога, красная глина между таких же красных на солнце стволов сосен. У кустов, в тени, будто облили место спиртом и подожгли – синее пламя колокольчиков, фригийские васильки, такой же синий фитиль осота. Долгий деревянный скрип сосны – будто открывается дверь на ржавых петлях в подземелье… Два дня подряд ходил в сосняк: собирал грибы…
Вдруг захлестал дождь. Муха залетела под капюшон, а я спрятался от дождя на опушке леса и прижался спиной к толстой сосне. В позвоночник неприятно втекла холодная немота и тяжесть ее жизни, и я перебрался под другую сосну, напротив. Под ней было суше и спокойнее. Слушал дождь и все поглядывал на первую, под которой мне стало так неуютно. Кривой толстый ствол ее, как застывший ящер, внизу выбросился двумя мускулистыми короткими лапами. В ней и сквозь кору мощно чувствовалась замершая, одеревеневшая жизнь, ее слепой сон. А вся опушка вокруг в безжалостных свалках, в изрубленных бесцельно деревьях… И такая сила сдается хлипкому человеку с маленьким топориком! Молча, без сопротивления, словно дав обет все претерпеть. Так первые христиане радовались мученической смерти, когтям и зубам зверей в амфитеатре, чтобы разрешиться и быть со Христом. И, глядя на сучья, похожие на лапы допотопного ящера, я подумал: а если после смерти мы попадем в миры возмездия – не будут ли там наказывать нас и бессмысленно погубленные нами деревья с растениями? Мы ждем каких-то фантастических существ, а они – здешние покорные кусты и сосны, иван-чай и лопухи, только пробудившиеся от своего слепого сна и получившие способность двигаться, давить, подцеплять – разве не фантастичны? А мы, наоборот, потеряем там нашу свободу передвижения и от грехов одеревенеем. Развоплотимся: кто станет получеловеком-полудеревом, кто – человеком-камнем. А они – и сосна, и каждый цветок, каждая травинка обрушатся на нас, как Вии, своими мохнатыми лапами, щекотливыми щупальцами корней.
г. Мышкин
Литературный процесс
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост
(окончание)
***
Ломать коням тяжелые крестцы…
Александр Блок
В своих квартирах все мы храбрецы.
Эй, мальчик-с-пальчик! Верь своим победам,
Смиряй рабынь, ломай коням крестцы,
Но не спеши наружу, к людоедам.
И без того сейчас померкнет свет
И тьма решит свой бег начать сначала.
И, как былинка, треснет твой скелет
В тяжелой лапе века-каннибала…
Поэт может вообразить себя могучим и грубым скифом – и начать говорить от имени скифа, за всех скифов: мол, привыкли мы, хватая под уздцы… И это не будет натяжкой. Кто-то ведь должен был однажды озвучить общескифскую точку зрения на мир, скифский миф.
Но сам поэт, в бытовой своей жизни, может в то же самое время обитать в мире другого мифа – созданного кем-то другим. И в этой своей ипостаси может быть всего лишь маленьким мальчиком, сжимающимся от страха внутри маленького домика, вокруг которого шастает голодный людоед.
И оба этих сна наяву, совершенно не противореча друг другу, могут располагаться в твоей голове, читатель, в том мифе о пространстве и времени, который ты создал сам для себя.
Мешанина мифов?
Стройная их пирамида?
Интерференция мифов?
Как бы там ни было, каждый из этих «снов наяву» внутренне логичен, прочен, самодостаточен, и выходить за его пределы – опасно…
ВЕЧЕР НА ВОЛГЕ
Снова падают звезды в реку,
Снова тишь на земле и на небе.
Спит деревня на том берегу,
Мирно грезя о сене и хлебе.
Всё как в прежние тысячи дней…
И луна, голубая от века,
Так спокойна, как будто по ней
Не ступала нога человека.
Я никогда не считал себя «антисоветчиком», да и не был им. Недавно это засвидетельствовал один мой приятель, полковник ФСБ в отставке. «Я еще в конце 70-х всю твою биографию изучил, – сказал он мне за чашкой чая, – подтверждаю, не был».
Более того, я и сейчас, в первой четверти XXI столетия, не возьму на себя смелость утверждать, что модель устройства общества в последние десятилетия существования Советского Союза была однозначно ущербной, не соответствовавшей задачам, стоявшим тогда перед моим государством. Может, была, а может, и нет. Это через полвека-век решат специалисты, подытожив пореформенный опыт наших успехов и потерь.
Но было и то, что решительно не нравилось мне в советской державе. Прежде всего, «марксистско-ленинская» ложь – всеобъемлющая, безграничная, проникающая во все поры общества. А еще – цензура, невозможность открыто высказать свою точку зрения. Именно этих двух монстров (а может быть, и только их одних) я и считал своими врагами, именно с ними воевал, насколько хватало сил.
Повальный обман тех лет вызывал у меня недоверие буквально ко всему на свете! Оно проникло даже в маленький лирический пейзаж, написанный в самом начале 80-х годов. Последней строчкой, ставящей под сомнение идиллическую картинку бестревожного сельского вечера, я говорил читателю: да ведь на самом-то деле нога человека уже ступила на поверхность Луны. Нам с Земли отпечаток пятки Армстронга, конечно, не виден, но ведь в реальности этот след там есть. А посему умиляющий нас девственный вид спутника нашей планеты – не что иное, как обман. И ровно так же обманна картинка вот этого нашего нынешнего покоя, этих мирных грёз… ничего этого на самом деле нет – ни мира, ни покоя, всё чревато взрывом и распадом!
Жизнь показала, насколько я был прав в своих предчувствиях.
Есть у этого стихотворения и второй план – это мечта о том, чтобы всё было именно так: тихо и покойно. Вечная мечта не только моего лирического героя, но и всего земного человечества…
КЛИНОК
Ты помнишь, как лежал
В горниле страсти поздней?
Твой темно-красный жар
Мерцал сквозь плоть и кости,
Твой бесполезный пыл,
Искрясь, летел наружу.
А демон страсти – бил,
Выковывая душу!
Как тяжко ты молчал
В юдоли раскаленной!
Как страшно ты кричал
В обители студеной!
Как долго ты лежал,
Охваченный покоем,
Приобретя закал
Перед последним боем.
Перечитывая сейчас это стихотворение, я вижу, что оно размышляет не только о пылких чувствах мужчины по отношению к женщине, но и вообще о любой человеческой страсти: например, о страстном желании так называемых «жизненных благ» – денег, славы и так далее.
Православная традиция рассматривает любую страсть как порок и призывает вооружаться против него. Но мне представляется, что демон страсти очень схож с кузнецом, как раз и выковывающим из «заготовки» нашей души то оружие, которое необходимо нам в борьбе с сатаной.
Да, наша душа-христианка корчится и вопит под ударами беспощадного молота. Но зато какой великолепный клинок получается затем из нее!
***
Она говорит мне, что я не умею любить,
Что я не умею хранить дорогого тепла…
Кто знает, кто знает.
Рыдает и гонит, грозит, обличает вдогон
И мне предрекает бездомную старость и смерть.
Посмотрим, посмотрим…
Она еще любит – и поэтому бросает в тебя свои гневные слова. Ее трясет и колотит. А ты уже распрощался с ней в своей душе – и поэтому спокоен. Всё уже произошло, думаешь ты, осталось только собрать вещи.
Отчего она была спокойна прежде – тогда, когда трясло тебя? Почему ваши реакции не совпадают по времени, почему она всё время опаздывает? Может быть, в этом-то и причина вашего разрыва – в асинхронности ваших реакций? Ты всё время впереди: первый влюбляешься, первый делаешь первый шаг навстречу… А она всё время отстает. Когда ты интересуешься ею – она равнодушна, когда влюблен по уши – она заинтересована, когда тащишь в койку – начинаешь ей нравиться.
А сейчас, когда ты уже разлюбил ее, – она еще любит.
…Вот она бьет тебя по лицу своими неумелыми кулаками и, задыхаясь от ярости, рвет твою одежду. Боже, как же долго всё это будет продолжаться? когда фаза рефлекса сменится у нее фазой инстинкта? когда она начнет, наконец, делить квартиру, выстраивать график твоего общения с ребенком и порядок выплаты алиментов?
ВОСЕМЬ СТРОЧЕК
Один как перст
в убогой комнатушке,
при свете лампы
в сорок пыльных ватт
поэт поет
веселые частушки,
по струнам ударяя
невпопад.
Нет, он не пьян.
Он выпил, это правда.
Но весел он
отнюдь не от вина.
Он восемь строчек
сочинил недавно –
и строчки те
узнает вся страна.
А не узнает –
право, ей же хуже.
Ведь в этих строчках –
путь к любой душе.
Без них вся жизнь
пойдет скудней и суше…
Но он нашел их!
Он нашел уже!
Ему открыта
истина святая!
И потому
струится пыльный свет,
бросает тень
бутылка початая,
звенит струна
и в стенку бьет сосед…
Так оно и было у нас в советские времена: несколько поэтических строчек вдруг облетали всю империю, делая автора знаменитым. Нынешним отечественным сочинителям впору горевать об отмене цензуры и о появившейся возможности мгновенно публиковать в интернете всё, что напишется. Публиковать-то можно, но кто теперь будет читать это? кто обратит внимание? всё теряется во «всемирной паутине»… А вот раньше!..
Но я таких стенаний не поддерживаю в принципе. И склонен считать, что именно нынешняя ситуация – нормальна. Просто мы, люди рубежа двух веков, никак не можем привыкнуть к ней, нам кажется, что современное многоголосье заглушает отдельные голоса.
Нет, не заглушает. Нужно всего лишь научиться слушать, надо произвести «тонкую настройку» своего читательского уха. И тогда шум эпохи исчезнет, и в гулкой тишине вновь начнут звучать удивительные строки, прокладывающие путь к любой душе. Даже к временно оглушенной душе.
К МЕЛОЧИ
Навек обижена судьбой,
Жила ты с нею не в ладу.
Но я тебя таскал с собой –
И ты звенела на ходу.
На этот звук со всех сторон
Бежали нищие с сумой…
Все принимали этот звон
За речь мою, за голос мой.
А я молчал в укрытье лет,
Готовя жизнь к другой судьбе.
И ты звенела на весь свет,
И люди кланялись тебе.
Так жить надеешься и впредь…
Но я выбрасываю хлам.
Пустая медь, кончай звенеть!
Пора звучать колоколам!
Когда мастер колокольного звона идет по земле, медленно приближаясь к своей колокольне, в его карманах звенят медяки. Звонарь молчит, весь погруженный в свою думу, готовясь к исполнению священной своей миссии, а пустая медь звенит при каждом его шаге – и только один этот звон и слышат окружающие. И большинство из них связывают этот мелкий звон с обликом звонаря.
Он может идти так годами, десятилетиями – долог путь до первого удара в свой колокол! – и мало кто будет знать, что он и есть тот самый человек, который заставит всех в округе однажды остановиться и поднять глаза к небу.
Но это он. Медяки это чувствуют – не зря же они скопились в его карманах. Когда он, уже в силе и славе, спустится с колокольни и побредет домой, они забренчат во всю ивановскую: это мы, мы были с ним всегда!.. это наш голос вы слышали!..
Что ж, на белом свете для чего-то нужны и вы, мелкие созданья. Когда звонарь зайдет в кабак и спросит себе чару зелена вина, ему будет что бросить на прилавок.
Звени, мелочь, звени…
КРЫЛАТЫЙ ЯЩЕР
Не знаю, хорош ли я, плох ли,
Но знаю, что жив и здоров.
Я выжил, а вы передохли,
Не выдержав лютых ветров.
Рептилии! Братья по классу,
Тяжелые дети земли!
Я сбросил ненужную массу –
И выжил. А вы не смогли.
Не зря меж друзей длиннохвостых,
Под хохот тритонов и жаб
Веками я вспарывал воздух
Нелепыми взмахами лап,
Не зря напрягал сухожилья
И прыгал цыпленком смешным…
Глупцы, я растил себе крылья!
Себе – и потомкам своим.
И вот я почувствовал ветер,
И ветру подставил крыло.
Над стадом, над темным столетьем,
Над миром меня понесло.
Остались внизу мои беды
И хохот, и злое вранье —
И радостным кличем победы
Наполнилось горло мое.
Забудьте крылатого брата,
Живите без лишних затей!
Вас всех откопают когда-то
И в пыльный поставят музей,
И бирки приклеят впридачу…
Уж там-то, страдая от блох,
Вы сразу решите задачу,
Хорош ли я был, или плох.
Ученые люди говорят, что крылатый ящер – это не птица, что птеродактиль – ни разу не родственник даже археоптериксу… Но все-таки рептилии летали! И если бы не ужасный юкатанский астероид, одним махом сгубивший всех динозавров, то предкам нынешних птиц нипочем не удалось бы оккупировать воздушное пространство нашей планеты. Крылатые ящеры сожрали бы всех археоптериксов!
Палеонтология еще не раз перетряхнет свои ретроспекции. Но если современная концепция возникновения птиц и верна, это не отменяет главной идеи моего стихотворения: чтобы научиться летать, нужно постоянно прыгать, махать конечностями, напрягаться, учиться искусству планирования…
Трудись! – и однажды ветер времени поднимет тебя на высоту, недосягаемую для тритонов и жаб. Ну, если не тебя лично, так твоих потомков.
ХОЛМЫ АФРОСИАБА
Грустят холмы Афросиаба
От Самарканда в стороне.
Есть грусть и большего масштаба,
Но эта тоже внятна мне.
Непросто знать, что ты был первым
И виден был со всех сторон,
Что жестом времени неверным
Ты на окраину смещен,
Что ни в народе, ни в природе
Уже нет памяти о том,
Как ты шумел и колобродил
В забытом веке золотом.
Декабрьский дождик прочь уходит,
Грустя, как слава и талант.
Вдали шумит и колобродит
Веселый город Самарканд.
Ах, он не ведает, не знает,
Себя, прекрасного, любя,
Что вечной славы не бывает,
Что вечность славит лишь себя,
Что даже Мекка и Кааба
Уйдут однажды в забытье…
Крадется грусть Афросиаба
В стихотворение мое.
Вечность ничего не увековечит в подлунном мире – ни тебя, ни твой город, ни твою страну, ни твою планету: все наши свершения однажды будут занесены песками времени. И сами эти пески однажды исчезнут… Так думал я, бродя в начале XXI столетия по холмам древнего городища под Самаркандом.
Зачем же мы так настойчиво добиваемся известности на этом свете? зачем стремимся запечатлеть свои имена на осыпающихся твердынях материального существования? Такое стремление может говорить только об одном – о нашем неверии в вечную жизнь на просторах, сотворенных Создателем.
Значит, мы не верим в вечную жизнь? Но вот эти холмы – разве не говорят они нам о тщете жизни временной?
СТОЛПНИК И ФАРИСЕЙ
Словно ветер, вздымается зависть в толпе,
Подчиняющей душу закону.
«Ты зачем это встал на особом столпе? –
Говорит фарисей Симеону. —
Чем высок ты пред Богом – не знает никто!
Так скажи перед ликом соборным:
Для чего ты стоишь? С кем ты споришь? И что
Утверждаешь стояньем упорным?
Не по нашим канонам спасаешься ты
И не наше наследуешь знанье.
Слишком просто ты хочешь достичь высоты,
Слишком дерзко твое предстоянье.
Мы столетьями просим у славы скупой
Подаянья – а ты уже славен?
Не созрел ты, благой, чтоб стоять над толпой!
Даже нам, многогрешным, не равен!..»
Но стоит терпеливо над вечным ханжой
Кроткий пастырь на камне заветном,
Не смущаем ни речью, ни мыслью чужой,
Не колеблем завистливым ветром.
Для чего он стоит? С кем он спорит? И что
Утверждает судьбою своею?
Чем высок? Только Господу ведомо то
И неведомо то фарисею.
Фарисей есть фарисей – ему непременно нужен кто-то, кого можно гнобить. В моем отечестве на этом поприще ныне особо выделяются неофиты от православия. Заполнив домашнюю библиотеку трудами из святоотеческого наследия и вычитав в них то, что созвучно завистливой душе, такие «праведники» начинают искать жертву в среде творцов, ищущих Бога. И находят ее, чаще всего, в лице того, кто, в отличие от них, является художником, но не воспроизводит, буква в букву, древний канон, осмеливается идти в своем творчестве собственным путем.
Вот тут и начинается… Творческая немощь неистовых ревнителей восполняется псевдоправославной болтовней, понимание сущности дела подменяется обилием цитат. И на всю страну начинают звучать упреки по поводу якобы недостаточной религиозности творцов-художников, незнания ими «основ благочестия» и т.п. Упреки столь запальчивые, словно сам Господь выдал критикам пленарную индульгенцию, удостоверил, что их устами глаголет истина в последней инстанции.
Если такие фарисеи еще и не поленятся съездить на Святую Землю, то от их наставлений становится просто некуда деваться. Мы, мол, сподобились благодати Христовой, а ты не дорос до глубин, не созрел о Господе свидетельствовать, клади стило на стол. Такие лицемеры и преподобному Симеону указали бы: не смеешь ты, братец, на особом столпе стоять…
На фоне этих моих размышлений и родилось стихотворение о Симеоне-столпнике и критикующем его фарисее. Исторически секта фарисеев и святые столпники разнесены во времени, но психологические типы их, как выяснилось, живут и здравствуют.
***
Что мне сделать с Божьим даром?
Отравить хмельным угаром?
Спрятать?
Вывалять в грязи?
Иль поставить на божницу?
Иль отправить за границу?
Боже, Боже упаси!
Если есть он в самом деле,
Служит пусть единой цели –
Возвышению Руси.
Такое вот стихотворение я написал в конце 80-х годов прошлого века. Перечитывая сейчас эти пафосные строки, думаю: что ж, порыв-то был благородный… Только вот сама идея постановки человеком своего Божьего дара на службу – на любую службу! – кажется мне ныне сомнительной.
Служба – это совершение неких деяний за вознаграждение. Бескорыстной службы не бывает: даже позиционируя себя как сугубого альтруиста, в глубине своего сердца ты все равно надеешься получить за свои старания некую мзду, пусть и нематериальную. С другой стороны, если уж говорить о трудах, совершенных во славу отчизны, то они, безусловно, заслуживают поощрения.
Но при чем тут Божий дар? Кто сказал тебе, что твои дарования действительно были употреблены на пользу родине? А вдруг твои талантливые действия – пусть и совершенно искренние, совершенные с самыми благими намерениями! – сдвинули с места именно ту «костяшку домино», которую лучше было бы не трогать? И в итоге ты стал причиной бед и страданий родных людей. И твоя родная Русь в итоге не возвысилась, а опустилась…
Я это говорю не к тому, чтобы поднять на щит «ничегонеделание», – такой буддистской роскоши мы на Земле лишены. А к тому, что оценить по достоинству наши деяния, во всей их совокупности, в историческом их итоге может только Господь – никто иной! И наши благие намерения не могут стать нашей индульгенцией.
Человек, не бери на себя слишком много. Божий дар, данный тебе, – не твоя собственность, он дан тебе в пользование, по замыслу Божию. А замысел этот тебе неизвестен, не может быть известен. Храни и развивай данный тебе дар, но не мни себя его хозяином и распорядителем, не впадай в грех самовластья и гордыни. Иначе будешь лишен дара.
КОСТЕР
Не подходи к поэту близко –
Еще ужалит Божья искра!
Костер души не вороши.
Тебе светло? Будь благодарен,
И счастлив будь, что ты бездарен:
Сжигает жизнь костер души.
У костра всегда светло, а если не подходить к нему слишком близко, – еще и тепло.
Ты можешь вглядеться в его глубину: откуда берется пламя, что там такое горит? Обычные елки-палки, каких полно вокруг, хворост, сухая трава… И вдруг, откуда ни возьмись, – огонь, тепло, свет!
Феномен поэта схож с явлением пылающего костра. Поэт освещает тьму, согревает озябшие души, превращает хворост быта в пылающее бытие. Поэт – сам огонь. Правда, это огонь, контролируемый людьми, тот огонь, который не сожжет человеческих жилищ: костер – не лесной пожар, а поэт – не сумасшедший. Хотя Божья искра может порой и больно ужалить, об этом тоже надо помнить.
И все-таки: что же там горит, внутри поэта? Какие конкретно елки-палки, какой именно хворост?
Не всё ли тебе равно, друг мой…
Литературная критика
Виктор СБИТНЕВ. «Буколика»
– это мыслящий Космос!
О новой поэтической книге Евгения Разумова
Я не люблю стремление народов под одну крышу и вообще
всё атлантическое, американское. Я – бельгийский художник,
даже – антверпенский. Это совсем иной космос…
Ян Фабр
Буколос с греческого – пастух, а буколика – что-то вроде пасторалей, эклог и сентиментальных зарисовок. Так в живописи, – например, у Тициана; а в музыке – у Вивальди, Скарлатти и даже Бетховена, который как-то на спор сочинил пасторальную симфонию. Что касается литературы, то до нас дошли знаменитые «Буколики» Вергилия; буколическая новелла греческого софиста I в. н.э. Диона Хризостома, в которой, правда, действуют не пастухи, а охотники (но повествование выдержано в традиционных пасторальных тонах). И ставшая знаковой для первого тысячелетия манера эта благополучно перекочевала в европейские средние века и эпоху Возрождения. Даже гениальный предвестник европейского реализма Шекспир прекрасно знал буколику средних веков, и его Офелия из «Гамлета», безусловно, списана с беспечных пастушек пасторального искусства. Много позже к европейскому, а затем и русскому читателю пришли герои Торквато Тассо и Ричардсона, которыми увлекалась пушкинская Татьяна: «Она влюблялася в обманы и Ричардсона и Руссо». Что уж тут говорить о балладных девах Жуковского! А вот дальше… пасторальные жанры, с одной стороны, локализуются, сжимаются до лубка, а с другой – размываются, истончаясь до неких мотивов в чём-то более глобальном, злободневном, вполне отвечающем на вызовы эпохи. И так, фрагментарно, живут себе до наших дней – то почти исчезая под какими-нибудь горьковскими «Эй, вы, черти драповые!..», то преображаясь в новом контексте в блоковскую «Незнакомку» или есенинскую «Анну Снегину».
Переходя же к книге стихов «Буколика» костромского поэта Евгения Разумова, сразу хочу заметить, что герои его многочисленных посланий и обращений близки греческим пастухам и охотникам в той же степени, в какой сам наш современник близок софистам и агностикам той безумно далёкой поры. Но, знаете, если снять пелены условностей или, как нынче говорят, коды с тех и наших времён, то близок вполне: он столь же мастерски убеждает в значимости разных пустяков и мелочей и так же легко проводит читателя мимо вроде бы важных для общественного сознания эстетических колоссов и политических фетишей. Главные секреты простого человека сокрыты в одной лишь его душе, малую часть которой он, на всякий случай, сохранил для себя, а большую – по наитию или преднамеренно (!) распылил и расплескал окрест, великодушно раздарил своим многочисленным друзьям и товарищам, коллегам по цеху и просто хорошим людям.
В самом деле, послания в поэзии Евгения Разумова, и особенно в новой книге «Буколика», полагаю, превалируют надо всеми иными жанрами, собранными вместе. В определённом смысле, его поэзия – это череда обращений к друзьям и знакомым, поэтам и художникам, историческим личностям и событиям, городам и весям и даже сельскохозяйственным культурам и огородному инвентарю. Природа этой эпистолярности кроется как в экзистенциальной склонности всего поколения к классической русской традиции, так и в природе дарования самого Разумова, в специфике его поэтики, в частности в синтаксисе чередующихся инверсий.
Что до жанровой традиции, то, как известно, до Горация посланий фактически не писали. Гораций же написал их сразу несколько. Из них особенно известна рассчитанная на интеллектуальные круги того времени «Поэтика». Его последователь Овидий, напротив, подошёл к разработке жанра посланий с сугубо житейской стороны. Он с удовольствием писал любовные послания от имени женщин, послания жене, дочери, друзьям и даже королю Августу. Эту манеру свободного общения со знакомыми и одновременно со всем миром впоследствии прекрасно усвоил и развил Пушкин, благодарно упоминавший Назона (Овидия) даже в «Евгении Онегине». Впрочем, поэтические предтечи Пушкина – Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков и даже сама императрица Екатерина учились по этой части у французов Клемана Маро, Буало и Вольтера (Екатерина называла себя его ученицей). Французы практиковали стиль этакой болтовни со всеми и обо всём, что волнует и вообще приходит в голову. По ряду формальных признаков Разумов, безусловно, ближе к французскому варианту посланий, однако, по сути, в посланиях к костромским друзьям Бекишеву, Зябликову, Корнилову, Кусочкину, а тем паче к любимым европейским художникам и их полотнам он пытается ответить – хотя бы самому себе – на важнейшие вопросы искусства и бытия. И в результате некоторые его послания на поверку оказываются философскими миниатюрами, элегическими размышлениями, а то и программными декларациями некой поэтической школы. Скажем, поклонников современной буколики или умозрительного восприятия каждодневной обыденности мира.
Весьма объёмную и добротно изданную «Буколику», естественно, открывает послание к самому глобальному, что мы можем себе только представить: к Вселенной, к Космосу, который начинаешь понимать, лишь оказавшись «по случаю» вне зоны земного притяжения:
Этот шарик под ногою (и под крылышком) – Земля.
Тяготения земного нет уже четыре дня.
Здесь не слышится кукушки и не слышится шмеля.
Сны – и те не посещают бестелесного меня.
Но поэт не космонавт, он ходит по земле, то есть куда ниже, и его «мятут» совсем иные «больные» проблемы, которые терзали предтечей ещё два-три тысячелетия назад:
На вопросы отвечает только Неба Немота
(та, что Космоса пониже на микрона полтора).
На голгофе тень осталась от пилатова креста,
точно это совершилось там, внизу, позавчера.
Можно взять протуберанец Солнца голою рукой,
откусить кусок кометы, пролетая, изо льда.
Нам простит такую шалость Вечный (верится) Покой,
где покоятся Помпеи и другие города.
Заметим сразу, буде узнаваемую впредь особость этим стихам придают инверсии, то есть в данном случае преднамеренно неправильный порядок слов в предложениях. Самый, так сказать, вопиющий пример – это предложение «откусить кусок кометы, пролетая, изо льда». Из него, если упустить знаки препинания, совершенно очевидно явствует, что пролетает герой стиха не просто так, а «изо льда». Даже не знаешь, какой вопрос задать герою: Кто изо льда: ты, пролётное пространство или комета? Откуда, куда и как пролетая? Зачем? Или вот ещё, строчкой ниже: «Нам простит такую шалость Вечный (верится) Покой…» Интересно, зачем это заключённое в скобки «верится»? Не иначе – в пику устоявшейся в своё время нерушимости понятий: «Вечный Покой сердце вряд ли обрадует, Вечный Покой для седых пирамид…» В поэтическом, понятийном мире Евгения Разумова совсем иная система координат, которая изначально, с самого первого стиха, словно предупреждает читателя: привыкай, дружок! Дальше всё будет ещё зыбче и неопределённее, и ничто, как в былые времена, не станет для тебя надёжной опорой… даже пирамиды, являвшиеся залогом незыблемости со времён египетских фараонов! И напротив, «звезда, что сорвалась и падает» не является мигом. Её полёт вечен! А скукоту длящихся годами событий ты здесь можешь попросту не заметить. Военное противостояние с США, каждодневные перебранки с Украиной, все эти непрекращающиеся нефтяные и газовые войны с Европой, полемики вокруг допинга в спорте и бессмысленные споры по поводу «кто в чьи выборы вмешивается?»… На самом деле, простого русского поэта может куда больше волновать назойливый писк влетевшего в спальню (через вентиляцию) подвального комара, который мешает не только спать, но и слушать Вселенную:
Не знает комар, что живёт во Вселенной,
и даже о том, что живёт на Земле,
он думает редко – вампиришко бренный,
кусающий нас (и меня в том числе).
Поэт пытается положить предел комариным издевательствам над своим заслуженным за день покоем, но комар неуловим и неумолим почти до самого утра. Слава Богу, на память приходит наличие в семье фумигатора. И что же?..
А что же комарик?.. От знака вопроса
рукой отмахнусь. Но приснится кошмар,
где Солнце (тире) огонёк папиросы,
которую курит Вселенский Комар.
Переворачиваешь страничку, и «заявленный» Космос стремительно раздвигается от Помпей и Костромы до других городов, стран и центров мировой культуры:
Человек, который Брейгель, человек, который Босх, —
оба умерли, наверно, и давно, наверно, спят.
Но не спят картины эти. «Это ли не парадокс?» —
спросим мы у Нидерландов, у подкованных ребят.
Но в европейских центрах нынче заняты, по большей части, мелочами обыденности, о которых я писал в начале: «Не до Брейгеля и Босха нынче этой стороне». А до чего же им, голландцам и бельгийцам? А вот до чего, оказывается: «это гомосексуалы там воркуют при луне», «толерантную подругу толерантная ведёт»… Смотрите, люди русские! – Будто бы повторяет поэт наскучивший ещё с советских времён морализаторский приговор: «Вот и он – закат Европы, вот и присказка “майн Готт!”». Только «Закат Европы» был написан век назад, а сегодня, как это случается в циклично развивающихся обществах, вновь «правы» картины Брейгеля и Босха:
Усмехается картина, точно ведома судьба
ей любого человечка, копошащегося тут.
И зовёт в охрипший раструб поднебесная труба
всех, кто прожил хоть минуту на Земле, на Страшный суд.
Как видим, у Брейгеля и Босха всё чрезвычайно просто: грешны абсолютно все живущие на Земле – и те, кто давным-давно своё отжил, и кто ещё живёт, и кто будет жить впредь… через сто, двести или пятьсот лет. Поэтому надо просто жить, дышать полной грудью и делать то, что должно, и пусть всё будет так, как будет. Нынешняя Европа видит это частично и так, над чем «усмехается картина», и так, как написано в другом послании, адресованном полотну Адриана ван Остаде:
Вот и Господу не надо
укорять глазами нас.
И растут на месте ада
апельсин и ананас.
Здесь Страшного суда нет и в помине, ибо полотно называется «Крестьяне в интерьере», то есть сельские жители на фоне земли, которую они от рождения любят и неустанно обрабатывают с тем, чтобы поддерживать жизнь всех на ней, Земле, живущих. И они – тоже объекты буколического искусства, как и слоняющиеся по злачным местам Гааги и Антверпена неприкаянные молодые лентяи. Христианство вообще, а буколика в частности априори никого не осуждает, а всего лишь пытается лучше разглядеть, понять и принять увиденное:
Поглазеем и попляшем,
и отвесим тумака
на земном пространстве нашем,
где живём ещё пока.
Где тебе и пиво радо,
и лепёшка, и чеснок…
«Вот и, стало быть, награда», —
говорит усталый Бог.
Он сегодня сел в сторонке
И уже не судит нас.
И улыбка на ребёнке
ярче, чем иконостас.
Родоначальник «потока сознания» в позапрошлом веке укорял столицу России и всё человечество «слезинкой ребёнка». Провинциального поэта XXI века больше трогает «улыбка ребёнка», которая куда значимее, чем лики всех святых! Вновь цикличность цивилизации? Похоже, именно она оставляет удивительную возможность нашему времени и пространству (российской провинции!) высветить в замутнённой пеленой веков эпохе Брейгеля Младшего неожиданно близкие и родные нам (общечеловеческие!) ценности и черты. Но зачем гадать, если гораздо разумней почитать послания Разумова своим друзьям – поэтам и художникам:
Осень. Бутылки мало, чтобы согреть лопатки
под телогрейкой, Юра, Саша, Иван Иваныч.
Это не мы бредём ли мимо мясной палатки,
где колбасу закрыли от зимогоров на ночь?
Мы, очевидно, ибо вон Адриан Остаде
нас заприметил глазом: мол, колоритны рожи.
Увековечит. Изверг. Нам это, Юра, надо?
На зимогоров разве мы (тет-а-тет) похожи?
Ну, что тут ответишь? Юра – это, разумеется, поэт Бекишев, Саша – видимо, поэт Бугров, а Иван Иваныч – некий всегдашний друг и собутыльник местной творческой интеллигенции, сам в прошлом не то гравёр, не то ювелир. А зимогоры – бородатые бродяги, бомжи. Бугров – лысый и в очках, а Бекишев с Разумовым – с огромными бандитскими бородищами. Про Иван Иваныча и говорить нечего. Не висельники, конечно, но в современники Адриану Остаде вполне годятся. Опять же перечитывают «Уленшпигеля» и любят голландский/бельгийский футбол:
Главное – ван Остаде не предлагать баклагу.
Пусть нарисует трезво нас возле этой липы,
где, на скамейке сидя, кушаем мы салаку
и говорим про Вечность, ту, где мы жить могли бы.
Самое замечательное в повествовательной стилистике Разумова то, что по прочтении подобных фантасмагорий никогда не возникает стойкого ощущения, что это… фантасмагории. Так, какое-то пролётное удивление – типа, откуда здесь, возле этой обшарпанной липы, ещё и голландцы с мольбертами берутся?! И всё… «Пусть нарисует трезво…». Липы, в конце концов, растут и на берегах Северного моря, а салаку с селёдкой ван Дейки и ван Бастены любят больше нашего! Но главное, ван Остаде сразу заприметил знакомые до боли взгляды, веками устремлённые в Вечность. Они из одной буколики, и для них, по большому счёту, нет ни эпох, ни территорий, ни наций. Есть Вечность, в которой одни реально живут, а другие о ней пока только говорят и мечтают (конкретно об этом в статье о Ю. Бекишеве – «Часть золотого пути…»). Эта тема ещё глубже развивается в посланиях к поэту и доктору исторических наук Алексею Зябликову:
Под лампой с абажуром из Микен
переверните клинописи лист
и напишите строчку в Карфаген,
другую – в Рим, где тоже «Интурист»
имеется, наверное, отель
(не знаю, где я буду в этот час).
Мне голову кружит античный хмель.
Порою я встречаю там и вас.
Нам выпало бродить среди руин,
не замечая битых кирпичей.
Подмигивает Брейгель нам с картин.
Но он – не мой. Точнее, он – ничей.
Ещё точнее – он, похоже, всех,
в ком зреет мозг, не покладая рук.
(Алёша, тут раздался чей-то смех.)
Пройдите мимо, мой шумерский друг.
Не дайте повод вострубить ослу,
Что он умнее вас или меня.
…В Александрии я разгрёб золу –
там на обложке было «Ю. Тыня…».
Микены, Карфаген, Рим, Александрия – безусловная антика, подмигивающий Брейгель – позднее средневековье, а Тынянов – русский двадцатый век, согражданин Разумова по миру метафоры и коллега Зябликова – по роду научных занятий. Что ж тут удивительного? Забылся под гул авто на берегу Волги, а пришёл в себя где-то на Ниле под стенами сожжённой сельджуками Александрии. Ну и конечно, Питер Брейгель бессмертен лишь для тех, «в ком зреет мозг, не покладая рук…».
Но особое место в «Буколике» занимают послания к Юрию Бекишеву, о чём сам автор сообщает в послании к П. Корнилову, что «Бекишев устал в свой сундучок совать их». Очевидно, об этом следовало бы написать отдельную статью или даже литературоведческое исследование, но до поры заметим лишь, что Бекишев для автора «Буколики» не только друг, но и самый авторитетный учитель, создатель того особого поэтического мира, в совершенство и художественную ценность которого Разумов уверовал давно и окончательно:
«Юра! – кричу под мухой (пара бутылок пива). —
Где ты?!..» Шмелей сдувает голос тоски по другу.
Даже весной в поэтах все атавизмы живы —
дружба и прочий лепет (проще найти подругу).
Увы, сегодня поэту Разумову можно уже вполне серьёзно ответить: «Он вчера не вернулся из боя…» Не вчера, положим, а около сорока дней назад, но что из боя – это уж точно! Просто раньше было легче, ибо воевали вместе, а после недавнего Юриного ухода получается тоже как у Высоцкого – «всё теперь одному»:
Пусто – куда-то смотрят наши с тобой портреты.
Разве что Бродский Рейна так же вот спросит: «Где ты?»
Что мы оставим миру, городу, переулку?..
Бронзовых истуканов? (Писемского не троньте!).
Юра, со мною голубь ест со скамейки булку.
«Без перемен, – Ремарку пишут друзья, – на фронте».
Феномен дружеской привязанности до сих пор до конца не исследован. И, скорее всего, именно поэтому столь часто становится одним из главных позывов к созданию художественных произведений, особенно в литературе – как в прозе, так и в поэзии: «Без перемен, – Ремарку пишут друзья, – на фронте». Наверное, этот последний стих послания, так же представляющий собой привычную разумовскую инверсию, вполне может рассматриваться как классическая метафора скупой фронтовой дружбы. А что ещё напишешь, если не убили? Если рядом с тобою «голубь ест (не клюёт!) со скамейки булку»? Вот когда убьют, то, может быть, к какой-нибудь облупившейся стенке муниципальные рабочие проворно прикрутят мемориальную дощечку. А на истуканов, Женя, я бы не пенял: чай, не член партии и даже, как нынче именуют удачливых «мастеров слова», не «пропагандист». И слава Богу! Твоё назначение, что и у той вон «Нищей старухи» Питера Янса Кваста:
Возле этой старухи тропа заросла
подорожником, Юр, на четыреста миль.
От неё – никакого уже ремесла.
Вот её и обходит здесь каждый костыль.
Судя по имени художника, ясно, что старуха голландская. А Голландия – это не Италия с Грецией, и уж тем паче не Россия, ибо вопреки тысячемильной России «такую страну люди сделали с помощью собственных рук»:
Из земли и навоза, ракушек и мха,
из угля и железа, песка с кирпичом…
Вот и эта старуха от ветра суха,
потому что страну подпирала плечом.
Позабудется плоть этих кариатид.
Утрамбует земля даже имени звук.
Это, Юр, каждый камень тебе говорит
на четыреста миль от старухи вокруг.
Не правда ли, таких старух мы раньше видели только на Руси? И не только видели, но и «предъявляли» их всему миру: вот, дескать, даже старость у нас – значимая часть Родины! А тут какие-то приморские Нидерланды, в которых разве что наш царь Пётр учился ремеслу века три назад… с хвостиком. Но ведь выучился, и окно в Европу при этой выучке прорубил, и флаг российский – сродни голландскому. Да и похожи даже внешне наши новгородцы да поморы на тех же кельтов, фламандцев или каких-нибудь овощеводов из Утрехта, рыбаков из Амстердама или Антверпена. А уж про старух и говорить нечего: голландские и наши – всё равно что сам Разумов с собутыльниками и зимогоры: «тет-а-тет почти»! И эта схожесть тоже вырастает из буколики, из той земли, что собрана «из навоза и кирпича»:
Сверху яблоко свисает. Снизу огурец торчит.
Вот такая вот картина наблюдается в саду,
где буколикою пахнет, где навоз не нарочит.
Ибо овощу полезен, – по которому иду.
Но сотворённая, а потом и подпёртая нами Земля подпирает теперь и нас, заставляя работать не только наши зубы, но и наши мысли (популярный тютчевский конкурс поэзии называется «Мыслящий тростник»):
Вот такая вот картина, засучивши рукава,
кормит старческие зубы, заставляя жить пока.
Жить, как мыслящий папирус или прочая трава,
над которой век за веком проплывают облака.
И практически все послания Разумова к Бекишеву в той или иной степени исходят из двух взаимодействующих субстанций: земли и философии, рабочих фуфаек и книг, истёртого черенком лопаты сатина и литературного критика Дедкова или философа Канта:
Юра, среди фуфаек, наши тщедушны телом.
Мода на них не висла стразом и аксельбантом.
Чёрный сатин истёрся (станет, наверно, белым).
Вдавлена грудь Шекспиром, Босхом, Дедковым, Кантом…
16.1.2013
Юра, как тень Толстого, я бы ходил за плугом,
Кушая хлеб без чая, лапти латая лыком…
2.3.2013
Нам заплетёт трава по щиколотку ноги.
Накормит вишня нас на двести лет вперёд.
Нет, Бекишев, апрель – не повод для эклоги.
(А вот уж и Егор с пилой к себе идёт.)
3.5.2013
Грустно, Бекишев, на грядке посреди торчать укропа.
«Время сбора урожая», – радиола говорит…
22.9.2013
И там, поди что, мужики сидят себе в снегу.
Из аппарата самогон у каждого течёт.
И каждому в его часах отмеряно «ку-ку».
Там бабы, Бекишев, – и те уже наперечёт.
1.12.2013
Юра, надеть фуфайку просят лопатки тела,
чтобы проверить грабли, да и замок висячий…
23.2.2014
Знаю – вечером краюха упадёт опять в живот.
Знаю – снова мне расскажет пиво сказочную хрень.
Знаю – зёрнышко воскреснет, совершив круговорот.
«Так-то, Юра», – говорю я из одной из деревень.
26.8.2014
Ю. Бекишеву
Дома опустели и Гриши, и Жени.
И Грише, и Жене пиджак ни к чему.
Пора просыпаться – тебе и сирени,
Тебе и сирени – смотреть в Кострому.
2.5.2014
«Тебе и сирени – смотреть в Кострому». Потому что наши друзья Гриша Кусочкин и Женя Камынин, удостоившийся Лувра костромской художник и автор нашумевшего романа «Человек, который развалил СССР», уже несколько лет как ушли «в ту страну, где тишь да благодать». И остался родом из конца сороковых к весне 2014-го один Юра Бекишев, и вот сирень вдруг воспряла по всей Костроме, как тогда… после войны. Так рассказывают старожилы. Это врезалось в память накрепко. Тоже своего рода буколика. Смена советских земледельческих эпох: крестьянам стали выдавать паспорта и с миром отпускать в город. Многие пошли в институты, в науку и философию, но от земли, от буколики уже было не отвыкнуть!
«Жить, как мыслящий папирус или прочая трава…». В сущности, в этих не обременённых ритмическими изысками стихах заключён главный смысл весьма крупной поэтической книги «Буколика»: постоянно общаясь с землёй и травой, мы сами постепенно осознаём себя неотъемлемой частью этого растущего из земли мира… его мыслящей частью. И сам Разумов, и его друзья Бекишев, Бугров, Кусочкин, Темпачин, Камынин, Пшизов, Корнилов, Зябликов и многие-многие другие – оттуда же, из буколики. Из некоего перманентно развивающегося во времени пространства, вполне отчётливо просматриваемого с пропахшего бензином костромского моста до песчаных молов Египта и заливаемых приливной волной тростниковых каналов рукотворной страны корабелов, землепашцев и художников. Мыслящий папирус, мыслящий тростник, мыслящий Космос…
Литературоведение
Юлия СЫТИНА. О бытовании формулы «2х2=4» в русской классике и о её возможных истоках
Формула 2х2=4 и сегодня воспринимается в массовом сознании как некая элементарная «научная» истина, и потому всякие сомнения на ее счет выглядят странно и вызывающе. Став своего рода эмблемой «рационального» и логического сознания, она порою приводится в укор «иррациональной», лишенной подобной «однозначности» вере, как это делает, например, Владимир Познер в беседе с протоиереем Максимом Козловым в рамках передачи «Не верю! Разговор с атеистом» на телеканале «Спас» [«Не верю!..»: web].
Однако сомнения в универсальной истинности 2х2=4 появились уже давно. Как отмечает Э.В. Ильенков в работе, адресованной широкому кругу читателей еще в 1977 году, за «очевидностью» в данном случае кроется «поистине диалектическое коварство»: «чем “абсолютнее”, чем “безусловнее” и “самоочевиднее” та или другая “абстрактная истина”, тем более серьезного подвоха надо ждать с ее стороны». В частности, 2х2=4 верно лишь тогда, когда «умножению (сложению) подвергаются абстрактные единицы (одинаковые значки на бумаге) или “вещи”, более или менее на них похожие, <…> непроницаемые друг для друга тела. Сложите вместе две и две капли воды – и вы получите всё что угодно, но не четыре». Тем более сомнительны подобные выводы в мире человеческих отношений: «Любой реальный – конкретный – процесс, будь то в природе или в обществе, всегда представляет собой сложнейшее переплетение различных тенденций, выражаемых различными законами и формулами науки» [Ильенков: web].
Замечено это было уже в XIX веке, но тогда еще не представлялось столь самоочевидным. Так, В.Ф. Одоевский в «Русских ночах» пишет о ложности «искусственных систем, которые, подобно гегелизму, начинают науку не с действительного факта, но, например, с чистой идеи, с отвлечения отвлечения» [Одоевский, 1975: 136; курсив Одоевского. – Ю.С.]. В конце XIX века, когда неэвклидова геометрия перевернула прежние представления о мире, а затем уже в XX веке с развитием теории относительности прежняя «рациональность» оказалась подорванной, что привело к массовому отходу от казавшихся ранее незыблемыми «очевидностей». Например, об абстрактности, и потому условности, научных «истин» размышляет А.Ф. Лосев в «Диалектике мифа», говоря о «мифологичности» науки и заявляя, что «мифологична» «не только “первобытная”, но и всякая» [Лосев: 45] наука. Для русского философа открытый Эйнштейном «принцип относительности», помимо прочего, «снова делает возможным <…> чудо» [Лосев: 48].
Возвращаясь к истокам вопроса, нужно отметить, что проблема связи математики и философии возникла еще до нашей эры, ярчайшим ее представителем стал Пифагор, в античные времена к ней обращался Плиний Старший. В христианской культуре к математическим формулам в их связи с доказательством бытия Божия прибегали Фома Аквинский [Фома Аквинский: 95], Николай Кузанский [Николай Кузанский: 64–66], Аврелий Августин, Рене Декарт и другие мыслители [см.: Бубнов; Неклюдова]. Для французского философа Н. Мальбранша, как отмечает К.А. Баршт, именно 2х2=4 «было доказательством бытия Бога, и, одновременно, реальности существования Истины» [Баршт: 97]. В.А. Губайловский пишет, что «и Спиноза, и Декарт, и Лейбниц, и Шеллинг предпринимали попытки сведения философского рассуждения к математической форме», но эти пробы, по мнению исследователя, «выглядят не слишком убедительно», в частности по причине, уже отмеченной выше: «объекты, которыми оперируют философы, – содержательны», а «если в доказательство включается содержательная интерпретация, это сразу приводит к парадоксу» [Губайловский: 54].
В целом традиция доказательства бытия Бога через незыблемость математических исчислений характерна именно для католицизма. Православию же больше свойственна иррациональность, выход за пределы формальной логики. Показательно, например, что Николай Кузанский – пусть не прямо, но косвенно – выступил против томизма, «вышел за пределы аристотелевской логики, а также космологии и физики» [Тажуризина: 13], именно благодаря тому, что «побывал в православной Византии, где имел возможность читать греческие рукописи и познакомился с неоплатонизмом» [Бубнов: 34].
«Математика» и строгая детерминированность «закона» оказываются чужды русской ментальности, сформировавшейся под ключевым влиянием Православия. Существует немало высказываний писателей XIX века на этот счет [см.: Виноградов; Есаулов, 2004; Сытина; Тарасов]. Например, М.П. Погодин пишет: «Все западные государственные учреждения основаны на законе оппозиции, <…> а коренные русские учреждения предполагают совершенную полюбовность. Там все подчиняется форме, и форма преобладает, а мы терпеть не можем никакой формы. Всякое движение хотят там заявить и заковать в правило, а у нас открыт всегда свободный путь изменению по обстоятельствам» [Погодин: 386]. Этот пункт станет одним из центральных для славянофилов, которые «ратовали за глубинную сущность явлений против мертвящего формализма; против казенных юридических норм и законов общества за естественные народные обычаи и народное мнение; против знаковости за живую первозданность» [Егоров: 268].
Что до формулы 2х2=4, то в русской литературе, судя по всему, она начинает бытовать в 1830-е годы. В частности, она появляется у В.Ф. Одоевского (в повестях «Княжна Мими», «Привидение», «Косморама», в романе «Русские ночи»), возникая как антитеза рационалистической философии. Одоевский был последовательным и непримиримым критиком рационализма и позитивизма – как в науке, так и в жизни, его размышления на этот счет прорастут и в XX веке, например, у А.Ф. Лосева [Тахо-Годи: 115]. В «Русских ночах», о чем уже говорилось выше, Одоевский с иронией пишет о философии, претендующей на разрешение всех вопросов бытия, – жизнь оказывается сложнее любых силлогизмов. Непререкаемая вера в 2х2=4 становится у писателя метафорой ограниченности мышления, принципиально важным для Одоевского оказывается утверждение поэтического начала в жизни, необходимость «бесполезного», полезное же (2х2=4) воспринимается им как могильная плита позитивизма и рационализма, угрожающая гибелью человечеству.
Наиболее яркий пример развенчания непреложности 2х2=4 у Одоевского встречается в повести «Косморама» (1840). Композиционно она делится на рукопись молодого человека, в которой тот рассказывает необычайные мистические происшествия своей жизни, и на предисловие «издателя» этой рукописи. Именно в предисловии оборотистый журналист, стремящийся угодить вкусу «просвещенной» публики, пишет: «Спешу порадовать читателей известием, что я готовлю к рукописи до четырехсот комментарий, из которых двести уже окончены. В сих комментариях все происшествия, описанные в рукописи, объяснены как дважды два – четыре, так что читателям не остается ни малейших недоразумений» [Одоевский, 1840: 34; курсив мой. – Ю.С.]. Комментарии эти так никогда и не будут написаны, более того, едва ли они и предполагались Одоевским. Претензия «издателя» на полное «ученое» объяснение жизни оказывается смешной и неисполнимой и свидетельствует, прежде всего, о пошлости и ограниченности подобного рационалистического взгляда на мироздание. Одоевский явно иронизирует над издателем, что подчеркивается игрой чисел (200 комментариев из 400 – как 2х2=4).
Другим источником 2х2=4 у Одоевского оказывается вольтерьянство и шире – французский материализм, где традиция бытования формулы развивается в ином, отнюдь не идеалистическом аспекте. Герой фантастической повести Одоевского «Приведение», «вольтерьянец старого века», любил говаривать: «я верю только в то, что дважды два четыре» [Одоевский, 1838: 781]. Однако затем сам стал свидетелем необычайных событий, убедившись на практике в несводимости жизни к рациональным выкладкам.
Во французской литературе 2х2=4 появляется, например, в «Дон Жуане» Ж.Б. Мольера. Рассуждая о «математической проблеме» в этой комедии, М.С. Неклюдова исследует возможные источники (предсмертную шутку Морица Оранского и другие) выражения Дон Жуана «Я верю, что дважды два – четыре, Сганарель, а дважды четыре – восемь» [Мольер: 538]. Как убедительно пишет исследовательница, эта формула в устах Дон Жуана однозначно свидетельствует об его атеизме: «Утверждая, что “дважды два – четыре”, он указывает на наличие в природе законов, для объяснения которых не обязательно прибегать к идее божественного Провидения» [Неклюдова: 27]. Однако, рассуждая в целом о бытовании этой формулы в мировой культуре, Неклюдова отмечает, что она в иных случаях, например, «будучи помещенной в картезианский контекст, может, хотя и с некоторой натяжкой, быть интерпретирована как выражение рационалистической веры (раз дважды два – четыре, следовательно, Бог есть)» [Неклюдова: 28]. Исследовательница кратко обращается и к русской литературе, в частности, к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя, и делает вывод, что «выражение “дважды два – четыре” вольно или невольно приводит в действие определенный ход рассуждений, неизбежно подводящий к вопросу о существовании Бога <…> “дважды два” соседствует с утверждениями “Бог есть” или “Бога нет”» [Неклюдова: 35].
В начале 1840-х годов 2х2=4 появляется в разговорах и переписке И.С. Тургенева и В.Г. Белинского. Как отмечает венгерская исследовательница А. Дуккон, насущная для русской мысли этого времени проблема соотношения действительности и мечты формулируется Тургеневым и Белинским «как “2х2=4 или 2х2=5”, под чем следует понимать “реализм” и “романтизм” в широком смысле слова» [Дуккон, 1994: 60]. Белинский, о чем ранее писал и Л. Шестов [Шестов: 20], негодовал против генерализации, умаления и растворения отдельной личности перед Всеобщим. Однако он же воспринимал систему Гегеля, а затем идеи французских утопистов как истину, вынося жестокий приговор уже самому себе. Что до Тургенева, то он употребляет эту формулу по-разному. В статье 1844 года о переводе «Фауста» Гёте он с пренебрежением пишет о «самолюбивой, робкой или ограниченной критике людей, которым не хочется быть просто непосредственными натурами и между тем страшно или тяжело дойти до результатов собственных размышлений, – людей, которые целый век твердят дважды-два и никогда не скажут четыре или скажут, наконец, пять и будут хитро и многословно доказывать, что оно иначе и быть не могло» [Тургенев, 1978. Т. 1: 198–199]. Дуккон усматривает в этом высказывании намек на непоследовательную критику Белинского, но отмечает, что у самого Тургенева «несколькими страницами ниже <…> меняется положение вышеупомянутой формулы, и иллюстрирует она теперь не такую уж положительную черту характера» [Дуккон, 1994: 64], а именно – простоту и посредственность Гретхен. По мнению исследовательницы, «молодой Тургенев то решает вопрос в пользу “реализма” (2х2=4), то как раз наоборот, формула сигнализирует у него посредственность, прозаическую ограниченность или боязнь жизни и любви» [Дуккон, 1994: 61].
В «Отцах и детях» Тургенев вновь обращается к 2х2=4: здесь эта формула становится эмблемой теории Евгения Базарова. Убежденный нигилист утверждает: «Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки» [Тургенев, 1981. Т. 7: 43]. Другие герои спорят с ним, говорят о значении искусства, любви, веры, но тот не принимает их доводов. Главным оппонентом Базарова становится сама жизнь. Полюбив Анну Одинцову, он вдруг по-новому открывает для себя мир, который больше не укладывается в 2х2=4.
Однако следует ли из этого, что теперь Тургенев окончательно отказывается от истинности 2х2=4? Как представляется, двойственность позиции, отмеченная А. Дуккон, все еще остается характерной для писателя. 2х2=4 для Тургенева – еще и залог равновесия и стабильности, которые он так ценил в западноевропейском мире. Швейцарский ученый Ф.Ф. Ингольд в статье «Дважды два равно пять» [Ingold: web] с подзаголовком «О причудливой арифметике “русской души”» отмечает, что русское отношение к формулам 2х2=4 и 2х2=5 и тому, что они подразумевают, «отлично от западного: русский, в отличие от европейца, предпочитает иррациональный способ мышления» [Кузнецов: 401]. Европейскому же сознанию дорого 2х2=4 и не понятно 2х2=5. Дороги рациональность и планомерность были и «западнику» Тургеневу.
Только в позднем творчестве, вновь обратившись к формуле 2х2=4, писатель выскажется на ее счет однозначно. В «Молитве» 1881 года он пишет: «О чем бы ни молился человек – он молится о чуде. Всякая молитва сводится на следующую: “Великий Боже, сделай, чтобы дважды два не было четыре!”» [Тургенев, 1982. Т. 10: 172; курсив мой. – Ю.С.]. Доказывая непреложность того, что возможно нарушение 2х2=4, Тургенев обращается к Шекспиру («Есть многое на свете, друг Горацио…») и к Евангелию – к словам Пилата: «Что есть истина?», и ответному молчанию Христа, Который как Сын Божий и есть воплощенная Истина. Истина Нового Завета, где утверждается превосходство Благодати над Законом, чуда над «реальностью».
Христоцентризм – важнейшая составляющая русской культуры в целом [см.: Есаулов, 1998; Есаулов, 2004; Захаров, 2001]. В Евангелии немало примеров нарушения математических расчетов и «законничества» – притчи о виноградарях, о талантах, о блудном сыне. Именно в Евангелии – корни миропонимания Достоевского, в том числе и его отношения к «арифметике». Пожалуй, самое яркое и провокационное неприятие 2х2=4 появляется именно у этого писателя – в размышлениях «человека из подполья».
Подпольный парадоксалист с возмущением опровергает доводы «положительной» науки и «здравого смысла»: «Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть» [Достоевский, 1973. Т. 5: 105]. Однако он отказывается примириться с этой «каменной стеной»: «Я согласен, что дважды два четыре – превосходная вещь; но если уже всё хвалить, то и дважды два пять – премилая иногда вещица» [Достоевский, 1973. Т. 5: 119]. Сам подпольный человек как живой парадокс и нарушение всех рациональных представлений о homo sapiens служит лучшей иллюстрацией принципа: 2х2=5. Противно всякой «бытовой, эгоистической логике» [Топоров: 143], которая в мире Достоевского соотносима с «эвклидовым» разумом и рациональным 2х2=4, ведут себя и другие его герои: Прохарчин, Раскольников, Мышкин, Дмитрий Карамазов…
В бунте подпольного человека проступают возражения самого Достоевского рационалистам, прежде всего, по мнению Л. Шестова, И. Канту и Г.В.Ф. Гегелю: «Там, где умозрительная философия усматривает “истину”, <…> там Достоевский видит “нелепость нелепостей”. Он отказывается от водительства разума и не только не соглашается принять его истины, но <…> обрушивается на наши истины; откуда они пришли, кто дал им такую неограниченную власть над человеком?» [Шестов: 22]. О неприятии Достоевским философской генерализации и «представления об истине как об рационалистической объективации» пишет Т. Горичева, отмечая, что если Гегель за «статистический закон больших чисел, за общее против фрагментарного и исчезающего», то Достоевский – напротив, «за бесконечно малое органической жизни» [Горичева: 41].
Исследователи находят связь между бунтом подпольного человека Достоевского и исканиями Белинского. По мнению А. Дуккон, обращение к формуле «2х2=4» свидетельствует, что «каприз подпольного человека и бунт его против окончательной, безапелляционной правды явно восходят к Белинскому: Достоевский бессознательно воспроизводит сущность духовных исканий Белинского» [Дуккон, 2013: 15]. Ссылаясь на польского литературоведа Гжегожа Пшебинду, А. Дуккон констатирует, что в критике Белинского «влияние эстетической системы Гегеля» сочетается с «наличием евангельского начала», и именно в последнем – корень интереса Белинского к «“единственности”, уникальности каждого отдельного человека» [Дуккон, 2013: 7].
Формула 2х2=4 в качестве эмблемы материалистических взглядов на природу человека – сквозной мотив романа «Преступление и наказание». Как известно, Раскольников придумывает теорию, согласно которой можно совершить преступление во благо общества: цель оправдывает средства. Он «арифметически», то есть как 2х2=4, доказывает себе ее, хотя «“предприятию” героя оказывает сопротивление само его человеческое естество» [Тихомиров: 26]. Н. Нейчев размышляет на этот счет: «<…> “отходя” от Бога, герой теряет внутреннюю духовную опору, впадает под идейное влияние рассудочного – самую коварную область, где “дважды два – четыре”, где нет чувств, нет веры, а только сухая арифметика “эвклидового разума” – особый дьявольский периметр, дающий уверенность и силу человеку превратиться в мерную единицу “всех вещей в мире”, жить без Бога» [Нейчев: 232].
О невозможности делать подобные расчеты прямо говорит Раскольникову Соня Мармеладова: «И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?» [Достоевский, 1973. Т. 6: 313]. Раскольникову такие вопросы представляются наивными, он зовет Соню с собой, очень логично разворачивая перед ней ее безрадостное будущее («три дороги»: «броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом, или… или, наконец, броситься в разврат» [Достоевский, 1973. Т. 6: 247]), да и будущее Полечки. На все рациональные соображения Раскольникова у Сони есть только один – иррациональный – довод: «Бог, Бог такого ужаса не допустит!» [Достоевский, 1973. Т. 6: 246]. По сути, это те же слова Тургенева в «Молитве»: «Великий Боже, сделай, чтобы дважды два не было четыре!». И в художественном мире романа оказывается именно так: Бог не попускает. Соню и Раскольникова «воскресила любовь» [Достоевский, 1973. Т. 6: 421]. Таким образом, при всех разногласиях в «малом времени», в главном Достоевский и Тургенев, в конечном счете, оказываются согласны – и согласие это проступает именно в «большом времени» русской культуры.
Особую роль в судьбе Раскольникова и в сделанном им выборе играет следователь Порфирий Петрович. Разговаривая с Раскольниковым, он напирает на математику, в его речи трижды встречается формула 2х2=4 («такую уличку достать, чтоб на дважды два – четыре походило!» [Достоевский, 1973. Т. 6: 260]; «наделает чего-нибудь, что уже на дважды два походить будет» [Достоевский. Т. 6: 261]; «математическую штучку, вроде дважды двух, приготовит» [Достоевский, 1973. Т. 6: 262; курсив мой. – Ю.С.]). Однако у Порфирия Петровича эта настойчивая декларация важности «арифметики» оказывается притворной «игрой слов» [Тихомиров: 302]. Как отмечает Г. Мейер, «в разговорах Порфирия с идейным убийцей важна не выставленная напоказ, обильно разукрашенная психология, служащая для сути дела всего лишь необходимой декорацией, но первостепенно в них то, что обретается за нею: уходящее в глубь веков духовное знание России и мучительная тревога за ее будущее» [Мейер: 276]. Порфирий Петрович делает вывод о виновности Раскольникова не на рациональных уликах, но на чем-то неуловимом, интуитивном, на знании природы человеческой и остром чувстве опасности мировоззренческих сдвигов своего времени – именно на 2х2=5. Сам Раскольников также попадается не на 2х2=4, но именно на 2х2=5 – берет свое его натура, совесть, герой «безуспешно пытается “арифметически” подчинить себе трагически противостоящую ему действительность» [Тихомиров: 54].
Нежелание принимать 2х2=4 за истину в последней инстанции служит прекрасной иллюстрацией реализма «в высшем смысле» Достоевского. В.Н. Захаров, рассматривая отношение писателя к этой формуле, приходит к выводу: «Достоевский отрицал традиционную поэтику, которая основана на непреложности закона “дважды два четыре”. Дважды два пять – один из тех принципов его поэтики, который позволял ему выражать и доводить до читателя заветные идеи, в том числе возглашать осанну в горниле сомнений, утверждать вековечный идеал вопреки “математическим” опровержениям свободы, Бога, Христа» [Захаров, 2011: 113]. В мире Достоевского 2х2=4 становится символом рациональности; 2х2=5 – тем нарушением очевидности, за которым скрывается иррациональное восприятие мира, вера в Божий промысел о человеке. По сути своей, как уже было отмечено, эта оппозиция имеет глубокие корни в русской культуре и восходит к представлениям о Законе и Благодати [Есаулов, 2017: 13 –42].
Однако было бы неверно обобщать и делать вывод о неприятии 2х2=4 как о национальной русской черте, поскольку не для всякого русского сознания приемлемо 2х2=5. В.Н. Захаров, размышляя об «арифметическом измерении» философских споров Достоевского и Н.Н. Страхова, отмечает, что, «казалось бы, праздный вопрос, сколько будет дважды два, рассорил Достоевского и Страхова на всю жизнь» [Захаров, 2011: 110]. Страхову 2х2=4 было дорого; этот принцип представлялся ему основополагающим и необходимым: «Верите ли вы в непреложность чистой математики? Убеждены ли вы в том, что эти и подобные истины справедливы всегда и везде, и что сам Бог, как говорили в старые времена, не мог бы сделать дважды два пять, не мог бы изменить ни одной из таких истин? Я убежден в этом, и полагаю, что и вы убеждены; так что, как ни любопытно и важно разъяснение того, на чем основано это убеждение, можно покамест отложить это разъяснение» [цит. по: Захаров, 2011: 112]. Следует заметить, что и исследователи, в целом комплементарные мировоззрению Достоевского, не всегда принимают формулу 2х2=5. Так, Г.С. Померанц, размышляя о том, что известные слова Достоевского о Христе и об истине соотносимы с оппозицией земного «эвклидовского» сознания и высшего, «неэвклидовского» иконического постижения бытия, полагает, что «на пути к иррациональной истине Целого очень легко спотыкнуться: 2х2=5, в качестве общего правила, пожалуй, хуже, чем 2х2=4» [Померанц: 198].
Также нужно заметить, что способность сомневаться в 2х2=4 в русской литературе порою появляется в ироничном контексте, выступает не как признак гибкости и широты ума, но как иллюстрация женской логики. Так, герой романа Тургенева «Рудин» женоненавистник Пигасов размышляет: «Мужчина может сказать, что дважды два не четыре, а пять или три с половиною, а женщина скажет, что дважды два – стеариновая свечка» [Тургенев, 1980. Т. 5: 214]. Есть такой пример и у Достоевского: «Спорить с этой барыней было невозможно: дважды два для нее никогда ничего не значили» [Достоевский, 1974. Т. 9: 26], – характеризует рассказчик «Вечного мужа» «роковую женщину». Подобные высказывания встречаются и в западноевропейской литературе. Например, у Дж. Элиот: «Женщина верит, что дважды два будет пять, если хорошенько поплакать и устроить скандал» [Элиот: web].
В неоднозначный контекст помещает формулу 2х2=4 Ап. Григорьев. В статье, написанной как письмо Тургеневу, он размышляет: «Резонерство решительно противно всякому, чье мышление осиливает истины хоть немного более сложные, чем 2х2=4. Есть мышления, да и не женские только, <…> в которых 2х2 дают не 4, а стеариновую свечку» [Григорьев: 29]. Тем самым, признавая за формулой 2х2=4 некоторую «истинность», критик не считает ее исчерпывающей и ратует за «истины хоть немного более сложные, чем 2х2=4», то есть выходящие за математическое измерение жизни.
В заключение стоит привести, пожалуй, самый радикальный пример отношения к 2х2, когда отвергается вообще всякая математика. Так, в повести Г.Ф. Квитки-Основьяненко «Пан Халявский» юный герой размышляет: «Вместе с прочими науками одна честь была у меня и пресловутой арифметике, которую домине Галушкинский уверял, что сочинил какой-то китаец Пифагор, фамилии не припомню. Если бы, говорит, он не изобрел таблицы умножения, то люди до сих пор не знали бы, что 2х2=4. Конечно, домине Галушкинский говорил по-ученому, как учившийся в высших школах; а я молчал да думал: к чему трудился этот пан Пифагор? К чему сочинял эти таблицы, над которыми мучились, мучатся и будут мучиться до веку все дети человеческого племени, когда можно вернее рассчитать деньги в натуре, раскладывая кучками на столе?» [Квитка-Основьяненко: 86]. Такого же мнения о науках придерживается и сердобольная маменька Халявского. Однако и этих, по-своему ограниченных и недалеких героев, преображает иррациональное искусство.
Таким образом, в русской литературе отношение к формуле 2х2=4 становится сложным философским вопросом, имеющим онтологический, сущностный характер. По-видимому, как традиции, в которых бытие Бога подкрепляется незыблемостью математических истин (католическая схоластика, немецкая классическая философия с присущим ей рационализмом), так и «математическое» отрицание бытия Божия (французский материализм) оказали влияние на развитие «арифметики» русских писателей, но влияние по большей части «от противного», создав поле для размышлений и полемики. Доминантным для русской культуры следует признать неприятие «законничества» формулы 2х2=4. Это неприятие в основе своей восходит к Евангелию, к новозаветному предпочтению Благодати перед Законом, к убежденности в первостепенной важности веры и милосердия, а не рационального научного познания и непреклонной «законнической» логики. Причем неприятие 2х2=4 в русской культуре воспринимается не как разрушение иерархии и торжество энтропии над космосом, а напротив – как созидание космоса и гармонии, торжество Благодати.
В XX веке отношение к 2х2=4 изменится – тоталитаризм отменит непреложность этой формулы, и тогда уже она станет той чаемой элементарной истиной, знание которой – залог верности себе. А.И. Солженицын, критикуя советский «научный» подход к изучению почвенников и славянофилов, полемически замечает в скобках: «Ах, не смешили б вы кур “вашей наукой”! – дважды два сколько назначит Центральный Комитет…» [Солженицын: 272] Напротив, 2х2=5 вместо возвышения над «эвклидовым» разумом станет восприниматься как его искажение, так как деформирована будет сама действительность [Есаулов, 2015: 445–458]. Именно в таком ключе появляется 2х2=4 в романе Дж. Оруэлла «1984» (как отмечают исследователи, обращение к этой формуле вызвано советским лозунгом «пятилетка в четыре года» [Дважды два – пять: web]), где формула 2х2=5 как бы переводится на «новояз» по принципу «Война – это мир! Свобода – это рабство! В невежестве – сила!» [Оруэлл: 13]. И то, что у Достоевского является актом свободной воли и независимой мысли, у Оруэлла становится навязанной «старшим братом» абсурдностью, подчинением воле своего рода «Великого инквизитора» (благодарю за эти примеры Н.Т. Ашимбаеву и И.А. Есаулова – Ю.С.). Так банальное в «обычном» мире 2х2=4 в эпоху тотального господства определенной идеологии обретет статус желаемой истины. Возможно, и современная приверженность этой формуле, о которой говорилось в начале статьи, также обусловлена подсознательным отталкиванием от «новоязовских» «истин».
Библиографический список:
1. «Не верю! Разговор с атеистом» на телеканале «Спас» [Электронный ресурс]. // Телеканал «Спас» URL: https://m.youtube.com/watch?v=lDnwPZLfF1Q (дата обращения 25.04.2019).
2. Баршт К.А. Имя и философия Николя Мальбранша в черновых записях и произведениях Достоевского // Вопросы философии. 2015. № 2. С. 94–105.
3. Бубнов Е.С. Эвристическое влияние этики Ф.М. Достоевского на исследовательскую деятельность А. Эйнштейна // Инновационное образование и экономика. 2014. № 16 (27). С. 32–35.
4. Виноградов И.А. Страсти по Гоголю. О духовном наследии писателя. М.: Вече, 2018. 320 с.
5. Горичева Т. Достоевский – русская «феноменология духа»… // Достоевский в конце XX века: Сб. статей. М.: Классика плюс, 1996. С. 31–47.
6. Григорьев Ап. Сочинения. Вып. 11. О национальном значении творчества А.Н. Островского: (две статьи). М.: Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1915. 61 с.
7. Губайловский В. Геометрия Достоевского. Тезисы к исследованию // Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: соврем. состояние изучения / под. ред. Т.А. Касаткиной; Ин-т мировой лит. им. A.M. Горького РАН. М.: Наука, 2007. С. 39–69.
8. Дважды два – пять [Электронный ресурс] // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C (дата обращения 25.04.2019).
9. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
10. Дуккон А. Дважды два четыре или пять? Проблемы «романтизма» и «реализма» в понимании молодого Тургенева и Белинского // И.С. Тургенев. Жизнь, творчество, традиции. Budapest, 1994. С. 60–68.
11. Дуккон А. Диалог текстов: «голос» В.Г. Белинского в «записках из подполья» Ф.М. Достоевского // Культура и текст. 2013. №1 (14). С. 4–28.
12. Егоров Б.Ф. Славянофильство, западничество и культурология // Ученые записки Тартуского университета. 1973. Вып. 308. С. 268–275.
13. Есаулов И.А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 1998. № 5. С. 349–362.
14. Есаулов И.А. Постсоветские мифологии: структуры повседневности. М.: Академика, 2015. 608 с.
15. Есаулов И.А. Оппозиция Закона и Благодати и магистральный путь русской словесности // Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте. М.: Индрик, 2017. С. 13–42.
16. Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с.
17. Захаров В.Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. 2001. № 6. С. 5–20.
18. Захаров В.Н. Сколько будет дважды два, или Неочевидность очевидного в поэтике Достоевского // Вопросы философии. 2011. № 4. С. 109–114.
19. Ильенков Э.В. Учитесь мыслить смолоду [Электронный ресурс] // ЛитМир: электронная библиотека. URL: https://www.litmir.me/br/?b=121922&p=1 (дата обращения 25.04.2019).
20. Квитка-Основьяненко Г.Ф. Пан Халявский. Ч. 1–2, СПб.: Тип. Фишера, 1840. 166 с.
21. Кузнецов С.А. Рецепция русской классической литературы в немецкоязычных славистических изданиях и прессе конца XX – начала XXI века // Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте / коллектив авторов под ред. И.А. Есаулова, Ю.Н. Сытиной, Б.Н. Тарасова. М.: Индрик, 2017. С. 385–427.
22. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. 558 с.
23. Мейер Г.А. Свет в ночи (О «Преступлении и наказании»). Опыт медленного чтения. Frankfurt/Main: Посев, 1967. 515 с.
24. Мольер Ж.Б. Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 2. М.–Л.: Academia, 1937. 745 с.
25. Нейчев Н. Таинственная поэтика Ф.М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. 316 с.
26. Неклюдова М.С. Дважды два четыре, или Математическая проблема в «Дон Жуане» Мольера // Arbor Mundi (Мировое древо). М.: РГГУ, 2007. № 13. С. 9–40.
27. Николай Кузанский. Об ученом незнании // Николай Кузанский. Сочинения в 2-х т. Т 1.: Перевод / Общ. ред. З.А. Тажуризиной. М.: Мысль, 1979. С. 48–185.
28. Одоевский В.Ф. Привидение // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1838. № 40. С. 781–784.
29. Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л.: Издательство «Наука», 1975. 320 с.
30. Одоевский В.Ф. Косморама // Отечественные записки. 1840. Т. 8. Отд. 3. С. 34–81.
31. Оруэлл Дж. 1984. М.: Прогресс, 1984. 257 с.
32. Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух. М.: Институт русской цивилизации, 2011. 832 с.
33. Померанц Г.С. Открытость бездне: Встречи с Достоевским. М.: Советский писатель, 1990. 384 с.
34. Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. Paris: YMCA-PRESS, 1975. 630 с.
35. Сытина Ю.Н. Соотношение России и Европы как центральная проблема саморефлексии русской литературы в первой половине XIX века // Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте / коллектив авторов под ред. И.А. Есаулова, Ю.Н. Сытиной, Б.Н. Тарасова. М.: Индрик, 2017. С. 91–140.
36. Тажуризина З.А. Николай из Кузы // Николай Кузанский. Сочинения в 2-х т. Т 1. Перевод / Общ. ред. З.А. Тажуризиной. М.: Мысль, 1979. С. 5–46.
37. Тарасов Б.Н. Куда движется история? (Метаморфозы идей и людей в свете христианской традиции). СПб.: Алетейя, 2001. 348 с.
38. Тахо-Годи Е.А. Творчество А.Ф. Лосева и литературно-философские искания В.Ф. Одоевского // Литературоведческий журнал. 2011. № 28. С. 113–121.
39. Тихомиров Б.Н. «Лазарь! гряди вон». Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий. СПб.: Серебряный век, 2005. 472 с.
40. Топоров В.Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами мифологического мышления (“Преступление и наказание”) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1995. С. 193–258.
41. Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Наука, 1978–1982.
42. Фома Аквинский. Сумма против язычников. Книга вторая. Перевод и примечания Т.Ю. Бородай. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2004. 584 с.
43. Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М.: Прогресс – Гнозис, 1992. 311 с.
44. Цитаты и высказывания Джорджа Элиота // Цитаты и афоризмы. [Электронный ресурс] – URL: http://citaty.su/citaty-i-vyskazyvaniya-dzhordzha-eliota (дата обращения –28.12.2018).
45. Ingold F.P. Über die seltsame Arithmetik der «russischen Seele». Zwei mal zwei gleich fünf // Neue Zürcher Zeitung. 10.01.2016. [Электронный ресурс] –URL: http://www.nzz.ch/feuilleton/zwei-mal-zwei-gleich-fuenf-1.18674049 (дата обращения –28.12.2018).
Впервые опубликовано: Сытина Ю. Н. О бытовании формулы «22=4» в русской классике и о ее возможных истоках // Два века русской классики, 2019. – Т. 1. – № 1. – С. 128–147.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-90043 («Анализ, интерпретации и понимание как методологические установки в изучении наследия Достоевского»)
Сотворение легенды
Александр УЖАНКОВ. Морской пехотинец
Отец не любил рассказывать о войне, даже на парад не надевал свои ордена и медали. Задумчивый и молчаливый, видимо, он хотел вычеркнуть из жизни военные годы, хотя о них постоянно напоминали ему осколки мины, навсегда врезавшиеся в берцовую кость. И фильмы о войне он не любил смотреть, поскольку они не отражали и сотой доли правды.
Только однажды, когда на телеэкраны вышел совместный советско-американский проект «Освобождение», он посмотрел документальный фильм о сражении на Орлово-Курской дуге, который и спровоцировал его на воспоминания…
О боях 12–16 июля 1943 г. и танковом сражении на Прохоровском поле, о нашей победе на Орловско-Курской дуге, которая внесла перелом в ход Великой Отечественной войны, знают практически все.
Однако мало кто слышал, что ей предшествовала удивительная по стойкости и выносливости советского солдата битва 5–10 июля 1943 г. на Соборовском поле – северном фасе Курской дуги, сдержавшая натиск фашистских войск и сорвавшая немецкую наступательную операцию «Цитадель» на Восточном фронте.
По своей значимости это сражение сравнимо с исторически судьбоносными битвами на поле Куликовом и Бородинском поле. Официальное ее название «Оборонительная операция на Орловско-Курском направлении 5–11 июля 1943 года»1. И она, заняв свое достойное место в нашей истории, должна сохраняться и в нашей памяти.
В этом шестидневном сражении Красная Армия впервые с начала войны имела военное превосходство над немецкими войсками и «использовала тактику преднамеренной обороны»2, чтобы измотать противника и подготовить контрнаступление советских войск Центрального фронта, которым командовал генерал армии К.К. Рокоссовский.
В этом месте немцы наступали 9-й полевой армией, ее поддерживал 1-й воздушный флот. С нашей стороны им противостояла 13-я армия Н.П. Пухова, с воздуха ее прикрывала 16-я армия С.И. Руденко.
Соборовское поле, расположенное в Понырском районе Курской области, относительно небольшое: всего по 10 км в ширину и глубину, а в его центре располагалась деревня Соборовка. Поле постепенно поднималось в сторону села Ольховатка, откуда просматривалось пространство почти до самого Курска. Овладение этим плато на северном фасе Орловско-Курской дуги было стратегически важным, поэтому немцы сосредоточили здесь шесть танковых и 16 пехотных дивизий.
Первый и основной удар был нанесен немцами в направлении Соборовка–Ольховатка.
Сражение началось 5 июля. Зная о готовящемся наступлении и желая его упредить, наша артиллерия в 2 ч. 20 мин. предприняла артобстрел противника, но это не нарушило его планы. В 4 ч. 30 мин. немцы начали свою артиллерийскую подготовку, а с воздуха наши позиции бомбили около 300 бомбардировщиков. Повторный удар нашей артиллерии (около тысячи орудий и минометов) также не смог остановить немцев.
В 5 ч. 30 мин. шесть пехотных и четыре танковые дивизии вермахта начали наступление. В направлении Соборовки двигались две танковые дивизии. В воздухе их постоянно поддерживали до 100 самолетов. Только 5 июля ими было сделано более 2 500 вылетов.
По свидетельству представителя Ставки Главнокомандующего на Центральном фронте Г.К. Жукова, «в течение всего дня 5 июля немцы провели пять яростных атак, пытаясь ворваться в расположение наших войск»3. Несмотря на героическую оборону красноармейцев, немцам все же удалось продвинуться на 3–6 км в направлении Ольховатки, но деревню они захватить не сумели.
Командующий Центральным фронтом К.К. Рокоссовский о боевых действиях 5–6 июля писал: «В первый день сражения на нашем фронте определилось направление главного удара противника… не вдоль железной дороги, … а несколько западнее на Ольховатку. В этой обстановке решено было как можно скорее нанести короткий, но сильный контрудар по вклинившимся в нашу оборону немцам, использовав для этого 17-й гвардейский стрелковый корпус, 16-й танковый корпус 2-й танковой армии и 19-й танковый корпус из резерва фронта.
На рассвете 6 июля наша артиллерия и авиация нанесли удар по фашистским войскам… Контрудар сначала имел успех, и части 17-го корпуса продвинулись на 2 км. В дальнейшем их наступление было остановлено. Гитлеровцы ввели свежие силы – 250 немецких танков и большое количество пехоты атаковали позиции корпуса и заставили его отойти в исходное положение. Однако этот контрудар в целом содействовал срыву намерений врага развить наступление с целью прорыва второй полосы обороны 13-й армии на ольховатском направлении»4.
Среди бойцов 17-го гвардейского стрелкового корпуса был и мой отец – гвардии младший сержант Ужанков Николай Филиппович, снайпер 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 10-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии.
На Северный флот, в морскую пехоту, он был призван в феврале 1940 г. В начале Отечественной войны немцы блокировали Балтийское море и Ленинград, и поставки по ленд-лизу союзники направляли через северные порты: Архангельск и Мурманск. Отцу приходилось участвовать во встрече и конвоях судов союзников. Когда немцы дошли уже до Волги, морскую пехоту отправили на сухопутный фронт и перебрасывали туда, где было наиболее трудно. И моряки не подводили. Немцы их жутко боялись и называли «черной смертью», поскольку моряки воевали в черных бушлатах. Так отец и оказался сначала под Сталинградом, где был тяжело ранен, а после госпиталя – и на Орловско-Курской дуге.
В Красную Армию североморских моряков вместе с отцом, судя по его документам, перевели в октябре 1942 г., но они еще долго воевали в бушлатах и тельняшках, о чем свидетельствует и фотография отца, сделанная в июле 1943 г. после описываемых событий. И в атаки они ходили в бескозырках…
Силы противника были велики. 6 июля с 4 до 8 часов утра, четыре часа (!) немецкие самолеты бомбили передний край (всего за день – пять раз!), а затем и тыл нашей обороны.
Отец рассказывал, что он насчитывал до 600 немецких самолетов в небе! Ночью и днем к нашим приходило подкрепление, но, по словам отца, они даже не знакомились, поскольку после налета вражеских самолетов и 3–4-х часов боя в живых оставались единицы. Тогда и узнавали имена друг друга.
В наступлении немцев принимали участие шесть пехотных дивизий и уже пять танковых. Сначала 40 танков с полком солдат наступали в направлении Самодуровки, а 60 танков тоже с полком пехоты – на село Гнилец. Несмотря на обстрел нашей артиллерии и сопротивление бойцов, танкам удалось прорваться к нашим траншеям, и они стали утюжить их и пулеметные гнезда. Однако к 11 часам все атаки врага были отбиты. Тогда немцы бросили в бой на село Гнилец еще 50 танков, и красноармейцам пришлось оставить село. В нескольких километрах правее на поселок Дегтярный наступали еще 100 танков с тремя полками пехоты. А к концу дня еще 150 танков и два полка пехоты немцы направили из района Соборовки в сторону села Теплое. Однако и эти наступления немцев были остановлены.
«Корпус генерала И.Д. Васильева, 79-я, 202-я танковые бригады контратаковали фашистов в общем направлении на хутор Бобрик. Зажатый в клещи противник, потеряв два десятка танков и большое количество живой силы, откатился назад. В это же время наши основные порядки подверглись удару более сотни самолетов. Гитлеровцы попытались снова перейти в наступление, но безуспешно»5.
По подсчетам военных историков, на двенадцатикилометровом участке Соборовского поля с обеих сторон в боях «участвовало около 3-х тысяч орудий и минометов, более 5 тысяч пулеметов и около тысячи танков»6.
Получается, на каждые 10–12 метров приходится один танк, три орудия или миномета и пять пулеметов!
Такое вот было сражение, о котором мы почти ничего не слышали.
По оценке К.К. Рокоссовского, это сражение 6 июля 1943 г. на Соборовском поле «предопределило провал наступления орловской группировки»7 вермахта.
7 июля на фронте в 10 км между д. Поныри-2 и с. Гнилец немцы начали новое наступление четырьмя танковыми дивизиями и четырьмя пехотными. Их фланги прикрывали шесть пехотных дивизий. Основным направлением удара была Ольховатка. Против 17-го гвардейского стрелкового корпуса немцы бросили около 250 танков. По соседству, у деревни Красавка, красноармейцы отбили в течение дня восемь танковых атак и втрое превосходящей пехоты, четырежды контратаковали сами, подбив 22 танка.
За этот день немцы потеряли ранеными и убитыми почти 2 800 солдат и офицеров, более 100 танков и 12 самолетов8.
В эту «копилку» есть вклад и моего отца, о котором известно из его наградного листа к приказу 17-го гвардейского стрелкового корпуса № 016/н от 18.7.43 г.: «В боях за дер. Соборовку Понырского р-на Курской области 5, 6 и 7 июля 1943 года т. УЖАНКОВ как комсорг 4 роты личным примером воодушевлял бойцов на отражение атак противника. Немцы 3 раза атаковали 4 стр. роту и при поддержке танков стремились прорвать оборону, но каждый раз беспощадно уничтожались и отходили назад. Тов. УЖАНКОВ из снайперской винтовки и из автомата уничтожил 16 немцев. Противотанковой гранатой подбил 2 средних танка противника…»9.
8 июля немцы усилили свою группировку и атаковали уже девятью пехотными дивизиями и пятью танковыми в направлении Поныри-2–Ольховатка, захватили село Тëплое, располагавшееся немного западнее Ольховатки, но и тогда им не удалось взломать второй эшелон обороны 13-й армии.
Тяжелые бои продолжались 9 и 10 июля. Немецкое командование армий «Центр» и «Юг» стремилось прорвать оборону Красной Армии и захватить Курск. Перегруппировав свои силы, 10 июля они бросили в бой на десятикилометровом участке Поныри-2–Теплое шесть танковых дивизий, усиленных подразделениями из «тигров» и «фердинандов», двумя моторизованными и пятью пехотными дивизиями, обеспечив их массированной артиллерийской и воздушной поддержкой.
Но и эта сила была сокрушена мужеством наших воинов. С 8.00 до 16.00 немцы трижды атаковали 17-й гвардейский стрелковый корпус усиленной пехотной дивизией и 250 танками, 130 из которых были уничтожены нашими бойцами.
Взвесив свои потери (немцы за сутки недосчитались двух танковых и почти двух пехотных дивизий), так и не добившись успеха, 11 июля они прекратили наступление и перешли к повсеместной обороне.
Оценивая результаты боев 5–10 июля 1943 г., К.К. Рокоссовский писал: «За шесть дней непрерывных атак им удалось вклиниться в нашу оборону всего на 8–12 км. Таким образом, войска Центрального фронта выполнили поставленную Ставкой Верховного Главнокомандования задачу: упорным сопротивлением истощили врага и остановили его наступление»10. Имелась в виду наступательная операция вермахта под кодовым названием «Цитадель». Немцам не удалось вскрыть даже вторую полосу обороны Центрального фронта, а их было всего шесть.
Соборовское поле оказалось местом основного удара немецких войск. Из 50 сосредоточенных против Центрального фронта дивизий на поле шириной лишь 10–12 км были развернуты 16 пехотных и шесть танковых дивизий11. Плотность огня противника на каждую наступающую пехотную или танковую дивизию была менее двух километров, что в три-четыре раза превышало оперативные нормы12.
Всего за 5–12 июля 1943 г. в боях Центральный фронт потерял 33 897 бойцов. Значительная часть из них приходится на Соборовское сражение13.
70-й Армией, куда входил и 17-й гвардейский стрелковый корпус, в боях 5–11 июля на Соборовском поле был нанесен противнику значительный урон. Он потерял: до 20 000 солдат и офицеров, 572 танка, из которых 60 «тигров», 70 самолетов14.
О стойкости и мужестве советских солдат, проявленных ими в боях на Соборовское поле, свидетельствует еще один красноречивый факт.
За шесть дней боев с 5 по 10 июля на Соборовском поле 33 бойца Красной Армии были удостоены звания Героя Советского Союза, большинство – посмертно. Всего же это высокое звание получили за бои 5–16 июля, включая и последовавшее контрнаступление в этом районе, 35 бойцов – 25 артиллеристов, четыре летчика, четыре пехотинца, два танкиста15.
Годом ранее Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 г. был учрежден Орден Отечественной войны I и II степени16. Он высоко ценился на войне.
Согласно орденскому статуту, Орденом Отечественной войны I степени награждались те, кто лично уничтожил два тяжелых или средних танка, или три легких танка противника; или в составе орудийного расчета уничтожил три тяжелых или средних танка, или пять легких танков (бронемашин) противника; танкист, уничтоживший четыре танка или четыре орудия; кто захватил ДЗОТ (ДОТ или блиндаж) противника; кто захватил батарею противника…
Обычно сначала награждали медалью, а уже затем орденом, но не в случае Соборовского сражения.
Приказом № 016/н от 18.7.1943 г. по 17-му гвардейскому стрелковому корпусу за проявленные доблесть и мужество мой двадцатитрехлетний отец, морской пехотинец, гвардии младший сержант Ужанков Николай Филиппович был награжден Орденом Отечественной войны I степени.
Его фото сделано в июле 1943 г.
Он прошел всю войну, был много раз ранен, но остался жив. Берегла его молитва, которую его мама Феодосия, отправляя на фронт, зашила ему в поясок – 90-й Псалом «Живый в помощи Вышняго…». Он и потом носил эту молитву при себе в трудных ситуациях, будучи офицером. Когда бумага ветшала, переписывал заново. Давал переписать и другим.
Как-то на зимних каникулах, когда я был еще в первом или втором классе, мы играли с ребятами на улице в «войнушку». Я забежал домой, чтобы попить воды. В это время на обед пришел отец. Он заметил на моем пальто, подпоясанном его офицерским ремнем, круг медали «За победу над Германией». Не помню, кто мне дал ее поносить. Колодка медали была утрачена, и я прикрепил медаль к пальто с помощью старого комсомольского значка.
Отец сурово посмотрел на меня и сказал:
– Сними, и никогда не носи, если не заслужил! Садись обедать.
Раздосадованный, что не смогу больше щеголять перед друзьями медалью, я лениво ковырял ложкой суп, а потом вдруг спросил отца:
– Пап, а ты на войне хотя бы одного фрица убил?
– Не знаю, – после паузы, не глядя на меня, ответил он. – Может, и убил…
Мне как-то стало стыдно за него: я так им гордился перед ребятами, он единственный среди отцов моих друзей воевал, а выясняется, что он даже ни одного фашиста не уничтожил. А мы на улице их всегда побеждали!
Только когда отца уже не стало, перебирая его документы, из его наградного листа я и узнал, что он был снайпером…
Наши встречи
Николай СМИРНОВ. Много сказочного в нашей реальности
Беседовала И.В. Калус
– Здравствуйте, Николай Васильевич! Недавно вышла Ваша новая книга «Светописный домик» (Смирнов Н. В. Светописный домик: рассказы, эпопея. Рыбинск, изд-во АО «РДП», 2020, 456 с.). Думаю, что читателям «Паруса» было бы интересно узнать о ней побольше. Могли бы Вы как автор сделать небольшое «устное» предисловие к ней?
– В этом сборнике – рассказы, написанные в последние годы, а также начало второго тома эпопеи «Заключенные образы», две первые части или книги (первый том в четырех частях этого повествования опубликован в предыдущих сборниках: «На поле Романове» и «Сватовство»). Начальные две части второго тома называются «Ненаписанная книга» и «Глинники». Глинники – это по-древнерусски гончары, или горшели, как их еще называли: действие повести местами происходит в двенадцатом веке, во время монголо-татарского нашествия, а в целом – в поэтической стране русской старины и народных преданий.
Хочется поделиться общими соображениями по поводу опубликованных частей «Заключенных образов». Прибегаю к помощи известной книги Е. Трубецкого «Иное царство и его искатели в русской народной сказке». Он размышляет в этом сочинении: «От бедности и скудости жизни происходит все наше человеческое искание неизвестного волшебного богатства. От начала и до конца сказка – дитя нашей кручины и печали».
«Иди туда, не знаю куда» – сказочное задание герою. Философия незнания. Дурак – победитель здравого смысла, – сказка сближается с чудесным «неведением» Сократа. И с позднейшими книгами «простеца» Николая Кузанского.
В «Ненаписанной книге», в «Глинниках» – попытка найти это «неведомое», «самое само», «то, не знаю что». Она в «чудесных» сценах на колокольне церкви, у конского падалища, в истории с прапорщиком Пафомовым, с самозванцем, прикрученным проволокой ко вратам храма, в спорах со странным «постановщиком трагедии» и в диалогах-пародиях других персонажей. То есть эта попытка здесь комически заострена, обнажена.
Да разве в этой формуле: «иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» – не отражается смысл нашей жизни? Присмотришься к каждому явлению, до которого ты добрел во времени. Разве ты знаешь – что это? Зная – не знаешь: одни отслойки. И – не зная – знаешь! Такова диалектика. И куда, и зачем идешь вместе с героями?.. До глубины необъяснимо, но в конце жизни каждый находит нечто, превышающее жизнь.
Вот такой поиск, превышающий жизнь, и попытался я показать в «Глинниках» (да и в большей степени и в других книгах «Заключенных образов» – с других граней). Внешне он нелеп, игрушечен, как случай с крепостным человеком прапорщика Пафомова. Михаил Кузмин, кстати, писал в сборнике статей, изданном в Петрограде в 1923 году: «Исходя из кукольных, специально кукольных возможностей, можно достигнуть совершенно своеобразных эффектов в области ли поэтической сказки, сильной трагедии или современной сатиры». Мои персонажи сказочные, игрушечные, они – как русские народные загадки.
«Мал малышок в землю ушел, синю шапочку нашел»… Это – про лён, голубой цветок льна, подсказывает отгадка. Но ведь уже и не лён, не только лён! А нечто найденное выше жизни земляной – «иное». Шапочка эта уже из нездешнего царства, из того же вечного, где обитают глинники и где поныне борются с отслойками, то есть с разной нечистью, выдающей себе за подлинные лики, наши герои Илья Муромец и Иванушка-дурачок, представляющие две разные стороны русской души.
В детстве, помню, родственница-старушка деревенская дивила меня, школьника, своими историческими рассуждениями. Сначала жили, пересказывала она слова своей мамы, первобытные люди, а после первобытных людей – староверы, а после староверов уж – и мы, люди нонешние. Да у баб наших жили еще какие-то пленные французы, неплохие люди, только «по-руськи» говорили плохо… Ты бы посмотрел на моего дедушку! Вот бы удивился. Вот он, наверно, произошел еще от первобытных людей. Я не опровергал, понимая, что мама ей повторяла это, тоже не зная наверняка, то есть по преданию, уважая память вековечную, а в памяти – родителей. А как было точно – кто знает? Один лишь Бог!.. Я тогда дивился её простоте, а теперь думаю: а ведь в таком народном старобытном историзме брезжит живое чувство начала жизни, истока её. Время тут уплотнено: первобытные люди, староверы, а потом сразу – и мы, нонешние!.. Теряется эта связь, и наивное, но живое чувство истории умирает, а с ним и народность…
Наше время – время умирания? Или… Такой вопрос я попытался поставить в своем повествовании «Заключенные образы», которое начал писать еще в молодые годы, после того, как окончил Литинститут.
В детстве, в начальной школе, я очень любил читать былины про богатырей, сказки Афанасьева, особенно о мертвецах, «Слово о полку Игореве»; «Руслана и Людмилу», «Утопленник» Пушкина, баллады Жуковского, стихотворение Николая Языкова про Евпатия Коловрата. А вокруг – сопки пестрые и скалистые, золото в ручейках, мхи-ягели, странный лес: подтопленные мелкие лиственницы с якутскими погребениями на взгорбке – все казалось сказочным миром, то есть «иным», где вполне могла обитать и Баба Яга, и ужасный беглец-людоед, и где, конечно, защиту можно было найти только у таких храбрых, великих русских героев, как Иванушка-дурачок да Илья Муромец. Примерно так думали и другие мальчишки на нашем прииске. Так, через сказки, воспринимает мир большинство детей.
Мне отец говорил: «Ты, Коля, не подходи близко к заключенным, они детей едят». Я вырос в том чудном мире, где за кочковатым болотом широко раскинулось, как в «Руслане и Людмиле», на поле-галечнике «заключенное кладбище», там проступали едва прикрытые, провалившиеся ящики со скелетами. Само собой считалось, что там вдолблены в вечную мерзлоту вроде как и не настоящие люди, а «зэка», как говорили у нас, в отличие от и сейчас режущего мне ухо «зэк» – ходившего на материке.
– Слушая эти Ваши немного жуткие слова, я вспоминаю «русский миф» Юрия Кузнецова и слова поэта о том, как из него «повалили богатыри, герои, мужики, цари, солдаты, лежебоки, дети, старики, – и всё это был один человек». Есть ли, по-Вашему, некое общее, единое поле, откуда писатели берут вот эту глубинную народную составляющую вдохновения – может быть, это и есть основа творчества?
– Юрий Кузнецов – поэт, «сын небес»… «Прозой может писать каждый образованный человек, а стихами – только прирожденный поэт», утверждал Владимир Даль. Но, думаю, и у прозаиков такое поле есть. Только общее ли оно? Карамзин – его творчество стало основой для дворянской литературы девятнадцатого века – прозы Пушкина, Лермонтова, Тургенева. Да может, послужила примером «История» Карамзина и Афанасьеву с Буслаевым, немало потрудившимся для собирания и толкования русской мифологии (если я правильно понимаю слово «миф». Его часто теперь употребляют с разными смыслами. Раньше еще отличали от «мифа» «басню», то есть выдумку, а теперь и рекламу, а то и прямой обман порой именуют, скажем, «городским мифом»).
У разночинцев Николая Успенского, Левитова, Писарева, затем у символистов было, вероятно, другое, свое поле. Но не стоит уходить в чрезмерную чересполосицу. Помимо Библии и «Илиады», стоящих для меня выше литературы, какое произведение поразило и, значит, дало мне первые понятия о поэзии, о мире образов, творчестве? Это сказка про Колобка. Этому колоссальному образу больше тысячи лет, и он неназойливо знаком миллионам людей. Огромный, до неба, живой хлеб, разговаривающий со зверями между жизнью и смертью. Он и теперь для меня самый колоссальный образ литературы.
Пленительны «Остров Борнгольм» и «Бедная Лиза». Перечитывал их, пытался даже заучить наизусть. Наша дворянская литература, классика, не перестает удивлять своими пророчествами. Хотя бы о «среднем классе», о «людях среднего образа мыслей», о «рубле», который «убьёт Россию». Как подметил незадолго до смерти в одной статье П. Палиевский, и «справа», и «слева»: К. Леонтьев, например, и М. Салтыков-Щедрин – предупреждали об одной и той же опасности.
То, о чем мы думали и гадали в 70–80 годы прошлого века, теперь превратилось в материал для, говоря языком пушкинской эпохи, «торговой литературы». И выглядит она порой хуже поддельных советских сочинений.
Но изнутри чувствую, что моё поле – это всё-таки то, по которому катится живой, говорящий хлеб, Колобок. Говорящие звери строят свои избушки: кто ледяную, кто лубяную. Здесь будто зарыт во глубине живого великорусского языка какой-то клад – и в руки он не даётся. Я думаю, что это поле необъятное народного крестьянского творчества. Крестьянской до недавних пор была и вся Россия. Потом то, что теперь осталось от неё, – откуда родилась и «деревенская проза». Ну, это уж общее место. А так – подумаешь: «История государства Российского» и «Стих о Голубиной книге» не отталкиваются, но вроде как-то плавно сливаются в одно.
– Расскажите, пожалуйста, про обложку книги – о рисунке, который предваряет знакомство с содержанием. Какова история его появления и как он связан с характером Вашего сочинения?
– На передней стороне обложки – рисунок нашей дочки Анастасии из её школьного альбома: такими пользуются все дети на уроках рисования. Конечно, редкие из детей сохраняют увлечение рисованием, но меня всегда интересовал их сказочный подход к миру. То есть у них как раз просвечивает нечто «иное» по отношению к жизни взрослых. Они изображают не наш мир, а какое-то как раз будто тридесятое царство. Нарисуют мужчину и женщину, маму и папу, а потом еще подпишут для верности: «Люди». Будто в этом царстве людей могут смешать с другими предметами: деревьями, животными. Как-то я под березой подобрал выкинутый, видимо, каким-то озорником школьный альбом с рисунками. Отметки – тройки да редко – четверка. Но в каждом – то самое «иное», волшебное, чем дается грезить лишь раз в жизни. Я этими листами украсил папки со своими сочинениями. Так и на обложку книги пробрался детский рисунок: всадник, скачущий к сказочному золотому домику, хотя домик этот чем-то напоминает обычный барак на фоне высоких скалистых вершин.
На задней стороне обложки выцветшие колымские фотографии первой половины пятидесятых годов прошлого века. Мы стоим с младшим братом у барака, куда поселяли заключенных, освободившихся из лагеря. Переплет окна из мелких стеклышек, как в рассказах у В. Шаламова (он, кстати, в начале пятидесятых годов жил где-то поблизости в нашем Оймяконском районе, работал фельдшером). Видна входная дощатая дверь на тех самых резиновых петлях, из автопокрышки, которые так запомнились Шаламову. Меня, конечно, такие «петли» на дверях нисколько не удивляли. Я к ним привык с детства. Кстати, на фотографиях обложек сборников «На поля Романове» и «Сватовство» запечатлены разные жильцы того, давно исчезнувшего барака. Виктор, молодой человек, бывший фронтовой разведчик, завербовавшийся на Колыму работать, и добродушный шофер, которого все звали «за спиной» Серега Чума, он однажды привез на прииск знакомого фотографа, который и сделал первые немудреные снимки. А до того и фотографировать было некому.
На обложке книги «Сватовство» рядом с Виктором дневальный барака, бывший заключенный, «дядька Андрей», удивлявший нас рассказами про чудесную страну Кубань. Его так и называли «кубанский казак». Бывало, еще дошкольниками, бежим с братом с утра в барак к дядьке Андрею. Он включает приемник, ставит пластинку с рассказом про рыбалку деда Щукаря из «Поднятой целины». Слушайте! А то и – сердится притворно: «Мне уходить надо! Что вы ходите за мной, как за отцом?» А мы знаем, как его удержать: упадем на щербатый, грязный некрашеный пол: я за один валенок ухвачусь, брат – за другой, и кричим: «Мы тебя не пустим, не уходи от нас!» Раз поднял я глаза – и навсегда запомнил, каким странным, сжавшимся, как от горя, стало у него лицо. Таким я его никогда не видел… Так, видать, хотелось человеку – свою семью, своих мальчишек растить.
