Ренессанс XII века
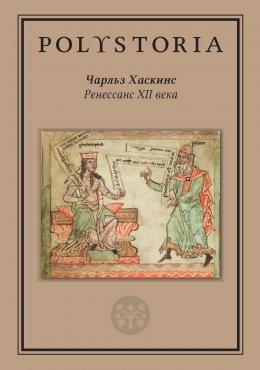
Charles H. Haskins
The Renaissance of the Twelfth Century
© Перевод с английского. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2025
Предисловие
Название этой книги может показаться многим вопиюще противоречивым. Ренессанс в XII веке? Разве Средневековье, эта эпоха невежества, застоя и мрака, не контрастирует резко со светом, прогрессом и свободой последовавшего итальянского Ренессанса? Каким образом в Средние века могло возникнуть Возрождение, если людей не интересовали ни радость, ни красота, ни знания об этом преходящем мире, а взгляд их был прикован к ужасам мира грядущего? И не резюмирует ли весь этот период зарисовка Саймондса о святом Бернарде, безразличном к красотам озера Леман, «склонившем отягощенный раздумьями лоб над шеей своего мула», – типичная картина эпохи, когда «человечество, словно осторожный пилигрим, поглощенное ужасами греха, смерти и суда, шло по дорогам мира и едва ли понимало, что оно достойно внимания или что жизнь – это благословение»?
Ответ заключается в том, что непрерывность истории отвергает столь резкие и грубые контрасты следующих друг за другом периодов, и современные исследования показывают нам, что Средневековье было менее мрачным и менее статичным, а Ренессанс – не таким ярким и менее внезапным, чем предполагалось раньше. Средневековье предъявляет жизнь, цвет и перемены, страстный поиск знания и красоты, множество творческих достижений в искусстве, литературе и институциях. Итальянскому Ренессансу предшествовали аналогичные, хотя и менее масштабные движения. Действительно, он выходил из Средневековья настолько постепенно, что историки не пришли к единому мнению, когда же он начался, и некоторые могли зайти так далеко, что отменили бы название и, возможно, даже сам факт возрождения в эпоху Кватроченто.
Настоящая книга посвящена наиболее важному из этих ранних возрождений, Ренессансу XII века, который часто называют Средневековым ренессансом. Этот век, тот самый век святого Бернарда и его мула, был во многих отношениях временем новой и активной жизни. Эпоха Крестовых походов, роста городов и самых первых бюрократических государств Запада ознаменовалась кульминацией романского искусства и зарождением готики, появлением народной литературы и возрождением латинской классики, поэзии и римского права, возвращением греческой науки с ее арабскими дополнениями и значительной части греческой философии, а также возникновением первых европейских университетов. XII век оставил свою подпись под высшим образованием, схоластической философией, европейскими правовыми системами, архитектурой и литературой, литургической драмой, латинской и народной поэзией. Такая тема слишком широка для одной книги или одного автора. Соответственно, поскольку искусство и народная литература данного периода более известны, мы ограничимся латинской стороной этого возрождения – возрождением образования в самом широком смысле; а именно – латинской классикой и ее влиянием, новой юриспруденцией и более разнообразной историографией, новыми знаниями греков и арабов и их влиянием на западную науку и философию, а также новыми учебными заведениями. И все это – на основе рассмотрения культурных очагов и артефактов столетия. Отсутствие какой-либо другой работы по этой общей теме послужит автору оправданием за его попытку дать набросок, где многое неизбежно должно основываться на информации из вторых рук.
Некоторые части книги являются результатом независимых исследований автора, более полно изложенных в его «Исследованиях по истории средневековой науки» (второе издание, Кембридж, 1927) и в аналогичном томе «Исследований по средневековой культуре», который в настоящий момент находится в процессе подготовки. В остальном читателю следует обратиться к библиографическим справкам в конце некоторых глав с напоминаниями о том, что большинство этих тем еще ждет своих исследователей. Тематический порядок представляется предпочтительнее биографического или географического. И хотя индексирование частично устраняет возникающее неудобство, связанное с дроблением повествования об отдельных персонажах и странах, в то же время есть надежда, что участие основных стран в этом процессе показано достаточно ясно, а самобытность таких фигур, как Абеляр, Иоанн Солсберийский и латинские поэты, удалось сохранить.
За критическое прочтение отдельных частей рукописи я выражаю благодарность моим коллегам, господам Э. К. Рэнду, К. Х. Макилвейну и Джорджу Сартону, а также М. Этьену Жильсону из Сорбонны. На всех более поздних этапах создания книга обязана точным знаниям и здравому суждению мистера Джорджа У. Робинсона, секретаря Высшей школы искусств и наук Гарвардского университета. Я также рад выразить признательность мисс Ирме Х. Рид, доктору Джосайе К. Расселу и в особенности миссис Маргарет Г. Комиски. Их помощь во многом продвинула мои труды и спасла меня от многих ошибок и упущений.
Чарльз Г. Хаскинс
Кембридж, Массачусетс, январь 1927 года
Глава I. Исторический контекст
(пер. Кирилла Главатских, Ивана Мажаева)
Европейское Средневековье представляет собой сложную, разнообразную и в то же время значимую эпоху в истории человечества. На протяжении тысячелетия оно охватывало разные народы, институты и типы культуры, явившие нам множество вариантов исторического развития и истоки многих этапов истории современной цивилизации. Контрасты Востока и Запада, Севера и Средиземноморья, старого и нового, священного и мирского, идеального и реального наполняют этот период жизнью, колоритом и движением, в то время как его тесная связь с древностью и современностью обеспечивает ему место в непрерывной истории человеческого развития. Преемственность и изменения характерны для Средневековья, как, впрочем, и для всех великих исторических эпох.
Такая концепция противоречит широко распространенным представлениям, популярным не только среди людей несведущих, но и среди тех, кому бы следовало разбираться лучше. Для них Средние века – синоним всего однообразного, статичного и непрогрессивного. «Средневековое» связывается с чем-то, что уже пройдено, и, как напоминает нам Бернард Шоу, даже модные пластинки предыдущего поколения называют «средневековыми». Варварство готов и вандалов распространилось на последующие столетия, даже на ту «готическую» архитектуру, которая стала одним из главных достижений творческого гения человечества. Невежество и суеверность этого времени противопоставляют просвещенности эпохи Возрождения, но при этом странным образом забывают о расцвете алхимии и демонологии на протяжении всего этого последующего периода. Словосочетание «Темные века» характеризует все, что происходило приблизительно между 476 и 1453 годами. Даже те, кто понимает, что Средние века не были «темными», часто представляют их себе однообразными, по крайней мере их центральный период, примерно с 800 по 1300 год, выделяющийся грандиозными средневековыми институтами феодализма, церкви и схоластики, период, который оказался посередине между двумя более динамичными эпохами. Такой взгляд игнорирует неравномерное развитие разных частей Европы, большие экономические изменения в ту эпоху, приток новых знаний с Востока, меняющиеся течения в потоке средневековой жизни и мысли. В частности, в интеллектуальном плане из виду упускаются средневековое возрождение латинской классики и юриспруденции, расширение знаний за счет наблюдения и усвоения античного наследия, творческие достижения этих веков в области поэзии и искусства. Во многих отношениях различного между Европой 800 года и Европой 1300 года больше, чем общего. Аналогичные контрасты, хотя и в меньшем масштабе, можно обнаружить между культурами VIII и IX веков, между условиями 1100 и 1200 годов, между предшествующей эпохой и новыми интеллектуальными течениями XIII и XIV веков.
Для удобства сегодня принято обозначать «ренессансами» такие движения, как Каролингский ренессанс, Оттоновский ренессанс, Ренессанс XII века, – по аналогии со словосочетанием, однажды закрепленным исключительно за итальянским Ренессансом XV века. Некоторые, правда, вовсе отказались бы от слова «ренессанс», поскольку оно передает ложные представления о внезапных переменах и самобытной культуре XV века и в целом подразумевает, что когда-либо может произойти настоящее возрождение какого-либо прошлого. Мистер Генри Осборн Тейлор, кажется, гордится тем, что написал двухтомник «Мысль и выражение в шестнадцатом веке»[1], ни разу не использовав это запретное слово. Тем не менее можно усомниться в том, что данный термин больше подвержен неправильному толкованию, чем другие, такие как, например, Кватроченто или XVI век. К тому же он настолько удобен и так хорошо зарекомендовал себя, что, если бы его не существовало, нам бы пришлось его изобрести – подобно Австрии[2]. Итальянский Ренессанс действительно был, как бы мы его сейчас ни называли. И мы ничего не получим от приписывания гомеровских поэм другому автору с тем же именем. Но – и это мы должны признать – великое Возрождение было не настолько уникальным и не имело такого решающего значения, как предполагалось. Культурный контраст был не настолько острым, как это казалось гуманистам и их современным последователям, а потому в Средневековье происходили интеллектуальные возрождения, влияние которых не было утрачено в последующие времена и которые носили тот же характер, что и более известное движение XV века. Одному из таких «возрождений» и посвящен данный труд – Ренессансу XII века, который также известен как Средневековый ренессанс.
Возрождение XII века, по-видимому, можно было бы трактовать так широко, чтобы охватить все изменения, через которые прошла Европа за сто с небольшим лет: с конца XI века до взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году, а также события, которые открывают XIII век, – точно так же, как мы говорим об эпохе Возрождения в Италии более позднего времени. Но такой подход становится слишком широким и расплывчатым для любых целей, кроме исследования общей истории этого периода. С большей пользой мы могли бы применить этот термин к истории культуры столетия – окончательному этапу развития романского искусства и подъему готики, полному расцвету народной поэзии (и лирической, и эпической), новому образованию и новой литературе на латыни. Век начинается с расцвета соборных школ и завершается с появлением первых университетов, открытых в Салерно, Болонье, Париже, Монпелье и Оксфорде. Он стартует в общих рамках семи свободных искусств и завершается принятием римского и канонического права, признанием нового Аристотеля, новых Евклида и Птолемея, греческих и арабских медиков, что сделало возможными новую философию и новую науку. Это было возрождением латинских классиков, латинской прозы, латинской поэзии – как в классицизирующем стиле Хильдеберта, так и в новых стихах вагантов. Это было время формирования литургической драмы. Новый импульс в историописании отразил разнообразие и широту эпохи: появляются биографии, мемуары, королевские анналы, народная история и городские хроники. Библиотека около 1100 года располагала немногим больше, чем Библией и текстами латинских Отцов и их комментаторов эпохи Каролингов, церковными молитвенниками и множеством житий святых, учебниками Боэция и некоторых других авторов, небольшим количеством местных историй и, возможно, римских классиков, довольно часто покоившимися под слоем пыли. К 1200 году или чуть позже мы обнаружим не только множество искусно сделанных копий этих древних сочинений, но и «Свод гражданского права» (Corpus Juris Civilis), классику, частично спасенную от забвения, «Свод канонического права» Грациана, тексты недавних пап, теологию Ансельма, Петра Ломбардского и других ранних схоластов, сочинения святого Бернарда и прочих монашеских лидеров (добрая четверть из 217 томов Латинской патрологии [Patrologia Latina] относится к этому периоду), массу новых исторических, поэтических и эпистолярных произведений, трактаты по философии, математике и астрономии, неизвестные раннесредневековой традиции и заимствованные у греков и арабов в течение XII века. В это время появились великий эпос феодальной Франции и лучшие сочинения провансальской лирики, самые ранние произведения на средневерхненемецком языке. Романское искусство достигло своего расцвета, а новый, готический, стиль прочно утвердился в Париже, Шартре и других, меньших центрах Иль-де-Франса.
Обзор всей западноевропейской культуры XII века увел бы нас слишком далеко, а обобщающие труды по многим направлениям все еще отсутствуют. Ограниченный объем предлагаемой книги, как и наших знаний, принуждает нас оставить в стороне архитектуру и скульптуру столетия, а также ее литературу на новых языках – и сосредоточить внимание на латинских сочинениях эпохи и на том, какие аспекты жизни и мысли XII века они обнаруживают. Искусство и литература никогда не бывают полностью разделены; латинская и народная традиции, конечно же, не могут быть оторваны друг от друга, поскольку их линии развития, которые часто идут параллельно, постоянно пересекаются или сходятся. Это и убеждает нас, что совершенно невозможно сохранять между ними четкое разделение, которое когда-то решили считать границей между сочинениями ученых и неученых. Необходимо постоянно иметь в виду взаимопроникновение этих двух литератур. Тем не менее каждый из этих вопросов заслуживает отдельного обсуждения, и, поскольку обычно гораздо больше внимания уделяется народной литературе, нетрудно найти обоснование более конкретному обращению к латинскому ренессансу.
Нелегко установить и хронологические рамки. Века – это в лучшем случае удобные условности, которым нельзя позволять засорять или искажать наше историческое мышление: история не может оставаться историей, если она распилена на равные столетние отрезки. Самое большее, что можно сказать, – это то, что конец XI века продемонстрировал множество признаков обновления жизни – политической, экономической, религиозной, интеллектуальной, – для которой, как и для возрождения римского права и возобновления интереса к классике, точные даты подобрать удается нечасто: если мы возьмем начало Первого крестового похода в 1096 году в качестве удобной отправной точки, то лишь осознавая, что это конкретное событие само по себе не имеет решающего значения для интеллектуальной истории и что реальные изменения начались на полстолетия раньше. Окончание нашего периода размыто еще сильнее. Однажды пробудившаяся интеллектуальная жизнь не затухает и не изменяет резко своего характера. Четырнадцатый век вырос из тринадцатого, как тринадцатый вырос из двенадцатого, так что не существует реального разрыва между Средневековым ренессансом и Кватроченто. Данте, как сказал один студент, «одной ногой стоит в Средневековье, а другой приветствует восходящую звезду Возрождения»! И даже если в литературе, искусстве и мысли около 1250 года легко можно распознать отпечаток XIII века, отличающегося от предыдущей более текучей и созидательной эпохи, никакого резкого разграничения между ними нет. Мы можем только отметить, что на рубеже веков падение Греческой империи, рецепция «нового» Аристотеля, победа логики над письмом, а также закат творческого периода в латинской и французской поэзии знаменуют переход, который мы не можем игнорировать, тогда как два поколения спустя новая наука и философия были упорядочены Альбертом Великим и Фомой Аквинским. К 1200 году Средневековый ренессанс развился в полной мере, а к 1250 году его сила почти иссякла. В таком выражении, как «Ренессанс XII века», слово «век» следует понимать очень свободно, чтобы мы могли охватить не только собственно XII столетие, но и непосредственно предшествующие ему и последующие годы, при этом делая акцент на центральном периоде, чтобы выявить выдающиеся особенности его культуры. Что касается движения в целом, мы действительно должны вернуться на пятьдесят или более лет назад и продвинуться почти на столько же вперед.
Более того, различные фазы этого движения не вполне синхронизированы, как и в более позднем Ренессансе не было полного параллелизма между возрождением классического образования, расцветом итальянского искусства, открытиями Колумба и Коперника. Безусловно, возрождение латинской классики начинается в XI веке, если мы, конечно, не рассматриваем его как непрерывный процесс со времен Каролингов, в то время как сила нового гуманизма была в значительной степени исчерпана еще до окончания XII века. С другой стороны, новая наука не возникла раньше второй четверти XII века, но, однажды начав свое движение, она продолжила его в непрерывной последовательности в XIII веке, по крайней мере до тех пор, пока не было завершено усвоение греческих и арабских знаний. Возрождение философии, которое началось в XII веке, достигло своей кульминации в XIII столетии. Здесь, как и на протяжении всей истории, одна и та же дата не имеет одинакового значения во всех направлениях развития.
В отличие от Каролингского возрождения, Ренессанс XII века не был делом королевской династии или ее двора, и, в отличие от итальянского Ренессанса, он не обязан своим рождением ни одной стране. Если Италия и сыграла свою роль в том, что касается римского и канонического права и перевода текстов с греческого языка, то эта роль не была решающей в Ренессансе XII века, за исключением разве что области права. В целом наибольшее влияние оказала Франция, с ее монахами и философами, с ее соборными школами, кульминацией которых стал новый Парижский университет, с ее вагантами и народными поэтами, с ее центральным местом в новом готическом искусстве. Англия и Германия заслуживают внимания скорее как распространители культуры, пришедшей из Франции и Италии, чем как ее создатели; ведь по мере приближения к XIII веку эта эпоха для Германии становится периодом упадка, в то время как Англия, находясь в тесных отношениях с Францией, движется вперед в том, что касается как латинской, так и народной культуры. В свою очередь, Испания стала главным связующим звеном с ученостью мусульманского мира, и сами имена работавших здесь переводчиков отражают европейский характер нового стремления к знанию: Иоанн Севильский, Гуго из Сантальи, Платон из Тиволи, Герард Кремонский, Герман из Каринтии, Рудольф из Брюгге, Роберт Честерский и др. Христианская Испания стала проводником идей на Север.
Все эти имена, большая часть которых остается для нас всего лишь именами, говорят о том, что XII веку не хватает изобилия и разнообразия ярких личностей, которыми богат итальянский Ренессанс. Выдающихся людей в XII веке относительно немного, о нем не сохранилось такого количества воспоминаний и писем. Наш период не может претендовать и на художественный интерес к портретной живописи. Искусство XII столетия богато и самобытно как в скульптуре, так и в архитектуре, но это искусство типов, а не индивидов. Этот век не оставил нам портретов ни ученых, ни литераторов, даже портретов правителей и прелатов крайне мало. Не дошло до нас и изображений лошадей, сравнимых с теми, что украшают дворец герцогов Гонзага в Мантуе[3].
О предшествующих обстоятельствах, породивших это интеллектуальное возрождение, сложно говорить с какой-либо определенностью. XI век во многих отношениях темен, а X век – непонятен еще более, истоки интеллектуальных движений даже при самых благоприятных обстоятельствах проследить нелегко. Один из наиболее очевидных фактов конца XI века – быстрое развитие торговли, особенно в Италии, и, как следствие, оживление там городской жизни. Возникает соблазн провести параллель с экономическими и градостроительными предпосылками, которые современные авторы выделяют как объяснение итальянского Возрождения в XV веке. Но Ренессанс XII века не был сугубо итальянским, в действительности он был наиболее заметен к северу от Альп, где экономический подъем едва начинался, так что мы не можем объяснить динамику исключительно в терминах, столь близких к экономическому детерминизму. Наблюдался также определенный политический прогресс, как это видно на примере нормандских земель Англии и Сицилии, Каталонии, Франции в процессе феодальной консолидации; этот прогресс способствовал установлению относительного мира, развитию путешествий и налаживанию связей, которые лучше всего реализуются в мирном обществе. Все эти факторы имели значение как для Средиземноморья, так и в отношениях между Средиземноморьем и северными землями, в то время как процветающие феодальные и королевские дворы были, как мы увидим в следующей главе, центрами, отдающими предпочтение литературе как на латыни, так и на родном языке. Процветала, конечно, и церковь, так что и черное, и белое духовенство имело больше средств для путешествий, покупки и копирования рукописей и, соответственно, больше физических возможностей для обучения и научных занятий. Усиление папской монархии привлекало огромное количество клириков и мирян в Рим: его, как и другие паломнические центры, часто посещали толпы набожных странников, для которых написаны многие из «песен о деяниях» (chansons de gestes). Кроме того, в памфлетах, посвященных борьбе за инвеституру, в последующих канонических сочинениях и, в целом, в более обширном и лучше организованном своде письменных источников любого рода нашло отражение более точное определение церковной системы.
В то время как общее оживление духа естественным образом сопровождало более активную жизнь этой эпохи, в некоторых случаях мы можем выявить и более конкретную взаимосвязь с интеллектуальным движением. Так, возрождение римского права в Италии около 1100 года было тесно связано с развитием экономических и социальных условий, к которым была применима улучшенная судебная практика. Формирование паломнической литературы сопровождало рост числа пилигримов, которые отправлялись в Рим и Компостелу. Переводы научных и философских сочинений с арабского зависели от христианской Реконкисты в Северной Испании, которая к 1085 году достигла Толедо, а к 1118-му – Сарагосы, открыв знания сарацинов христианским ученым с Севера, с энтузиазмом обратившим взоры на полуостров. Появлению переводов с греческого способствовали завоевание норманнами Сицилии и Южной Италии, а также торговые и дипломатические отношения, поддерживаемые с Константинополем и городами-республиками Северной Италии. Географическое положение Салерно, безусловно, способствовало его возвышению до доминирования в средневековой медицине. История приобретала все больший объем и разнообразие по мере того, как все более разнообразными и увлекательными становились действия. Истории о Крестовых походах нуждались в крестоносцах задолго до историков!
Было время, когда сами Крестовые походы послужили бы исчерпывающим объяснением этого и любого другого изменения XII и XIII веков. Разве эти «дорогостоящие и опасные походы» не укрепили (или не ослабили!) монархию, не возвысили папство, не расшатали феодализм, не создали города, не высвободили человеческий дух и, в целом, не открыли новую эру? Разве Гиббон, например, не заявляет, что обнищание баронов-крестоносцев «вырвало у этих гордецов хартии свободы, которые снимали путы рабства, защищали хозяйство крестьянина и мастерскую ремесленника и постепенно восстанавливали сущность и душу самой многочисленной и полезной части общества»? К несчастью для всех этих догадок и поверхностной риторики, сегодня историки различают Крестовые походы и эпоху Крестовых походов и отмечают, что они были только одним из этапов, причем не самым важным, в жизни динамичной эпохи. Они тесно сблизили Восток и Запад, стимулировали торговлю, развитие транспорта и денежное обращение, активизировали многие другие уже существовавшие тенденции, но их интеллектуальные последствия менее ощутимы и, вероятно, менее значительны. Гиббон справедливо заметил, что «пыл усердной любознательности пробудился в Европе по разным причинам», если не вовсе благодаря «недавним событиям»; а один современный автор заметил, что «человек может много путешествовать, но мало что видеть», так что «Людовик Святой, как нам его изображает Жан де Жуанвиль, или же сам Жуанвиль не изменились интеллектуально во время Крестовых походов»[4]. В любом случае Крестовые походы не подходят нам в качестве отправной точки латинского ренессанса, поскольку он начался задолго до Первого крестового похода и эти два движения почти не соприкасаются.
Теперь, когда мы исчерпали все подобные объяснения, как бы хороши или плохи они ни были, у нас остается только то, что уже не поддается методам непосредственного анализа. Ансельма, Абеляра, Ирнерия, Турольда (или того, кого мы захотим считать автором «Песни о Роланде»), Аделарда Батского в начале века, Фридриха II, Франциска Ассизского и великих схоластов конца того же столетия нельзя понять, исходя только из эпохи и окружения, а тем более наследственности, которую (за исключением, возможно, Фридриха II) мы не можем отследить. Подобного рода проявления индивидуального гения и смутные обобщения о том, что столь щедрая на события эпоха могла бы настолько же щедро отразиться и на интеллектуальном развитии, по-прежнему оставляют место для дальнейших исследований по мере роста наших знаний. Такие изыскания особенно необходимо перенести в XI век, в этот смутный период зарождения, хранящий тайну нового движения, возникшего задолго до Крестовых походов и завоеваний, которые не могут служить его объяснением главным образом потому, что начались позже. Между тем мы можем до некоторой степени упростить проблему, вспомнив, что имеем дело скорее с активизацией интеллектуальной жизни, чем с новым творением, и что преемственность между IX и XII веками никогда не была полностью нарушена. Но если в целом справедливо, что «каждый новый век Средневековья, помимо наследования того, что было достигнуто в предшествующее ему время, пытался обратиться к далекому прошлому в поисках новых сокровищ»[5], то XII век охватил и обрел еще больше.
Возрождение образования и литературы в IX веке, известное как Каролингский ренессанс, брало начало и развивалось при дворе Карла Великого и его непосредственных преемников. Первоначально ограничиваясь обеспечением достойного уровня образования среди франкского духовенства, это движение развило интерес к обучению как к самоцели, привлекая в Галлию ученых из Англии, Италии и Испании для обучения нового поколения, которое должно было продолжить их дело. Это было в большей степени возрождением, нежели рождением, – возрождением латинских Отцов, латинских классиков и латинского языка, который так много претерпел в недавно окончившиеся Темные века. Богословские трактаты IX века представляли собой компиляции трудов Отцов Церкви. Латинская проза и поэзия эпохи в основном обходились старыми сюжетами, хотя и ввели новые правила композиции для последующих времен. Движение скорее оберегало, чем порождало что-то новое. Тем не менее оно изменило письмо в Европе, изобретя каролингский минускул, который мы продолжаем использовать в качестве алфавита, а писцы той эпохи сохранили для современного мира классические латинские произведения, почти все из которых дошли до нас, прямо или косвенно, благодаря каролингским копиям. Были собраны библиотеки, а в таких мужах, как Луп Ферьерский и Иоанн Скот, проснулись гуманисты. Отныне латинский язык никогда не откатится до глубин эпохи Меровингов и европейское образование никогда не утратит великих достижений IX века.
Поскольку Каролингский ренессанс сосредоточился при дворе и в придворной школе, его завершение совпало с распадом Франкской империи в конце IX века, и он так и не оставил своих непосредственных выразителей при дворах наследовавших империю малых королевств. Официальные анналы заканчиваются 882 годом, «поток капитуляриев иссяк», и бдительные имперские командиры больше не обходили границы. К счастью, однако, Карл Великий настаивал на открытии школ при каждом монастыре и соборе, и именно в этих местных центрах в основном и процветала наука. Таковы великие аббатства в Туре и Фульде, Райхенау, Санкт-Галлен и Лорш, Флери и Сен-Рикье, Корби; школы открылись при соборах в Меце и Камбре, Реймсе, Осере и Шартре. С приобретенными под покровительством Каролингов богатством и льготами эти центры не имели никаких внутренних причин для прекращения преподавания или создания письменных памятников, но своим происхождением они были обязаны миру и порядку, установленным Карлом Великим, и разрушение таких оснований могло привести к их уничтожению. «Железный» X век стал настоящим испытанием на прочность. Это был век анархии и «закона силы», когда «никто не думал об общей защите или широкой организации: сильные возводили замки, слабые становились их слугами или находили убежище под капюшонами; правитель сделался графом, епископ или аббат усиливали хватку, превращая делегированную власть в независимую, а личную – в территориальную, и они едва ли принадлежали далеким и слабым сюзеренам»[6]. И то, что король или местный сеньор оставлял монастырю в теории, на практике он же мог себе вернуть в качестве светского аббата[7]. Если эти местные правители, которые, по крайней мере номинально, были христианами, еще могли относиться к церкви с определенным уважением, того же нельзя было ожидать от некрещеных захватчиков – сарацин, венгров и норманнов, которые наводнили Франкскую империю и нашли лакомую добычу в монастырях и соборах. Каждый год «блестела сталь язычников». В 846 году сарацины разграбили собор Святого Петра в Риме, в 843 году норманны убили епископа Нанта перед главным алтарем, в 854 году они сожгли базилику Святого Мартина в Туре, в 886 году от них с трудом откупился Париж. Целые области масштаба Фландрии, долины Мааса, Сены и Луары, будущая Нормандия подверглись опустошению. Монастыри Баварии пали под натиском венгров, монастыри Центральной Италии – под натиском сарацин. Многие величественные аббатства были полностью разрушены, спасавшиеся бегством монахи забирали с собой совсем немного книг и еще меньше учеников. Даже укрепленные епископские города подвергались той же участи.
На протяжении всего X века именно Германия лучше всех поддерживала каролингские традиции, так что период правления саксонских Оттонов немецкие историки любят называть «Оттоновским ренессансом». В то время как Франция и Италия переживали упадок, вызванный вторжениями и раздробленностью, Саксония пожинала плоды завоевания и христианизации ее Карлом Великим, включая монастыри и епископства новой веры. Возрождая империю, Оттон Великий следовал примеру Карла: он привлек итальянских грамматиков и богословов к укреплению интеллектуального течения, которому сам он и его брат Бруно, архиепископ Кельна, оказывали сильную поддержку. Такими «связующими звеньями» стали грамматик Стефан из Павии, богослов Ратерий, епископ Льежский и Веронский, поэт Лев из Верчелли, знаменитый Лиутпранд Кремонский, которого Оттон использовал в качестве своего посланника в Константинополь.
Когда же мы вступаем в XI век, германская культура уже не проявляет внутренней жизнеспособности. Конечно, некоторые императоры, например Генрих II, Генрих III и Генрих IV, получили достойное образование и проявляли интерес к науке, а латинская литература начала XI века могла похвастаться трактатом по канонистике Бурхарда Вормсского (ум. в 1025), текстами видений и искушений монаха Отлоха Санкт-Эммерамского, школами Ноткера Льежского (ум. в 1008), переводами Ноткера Санкт-Галленского (ум. в 1022), а также значительным количеством анналов и жизнеописаний. Однако больше не существовало настоящего придворного учебного центра, а монастырские центры прежних времен приходили в упадок. Интеллектуальный прогресс в конце XI–XII веке происходил в Германии не столько изнутри, сколько посредством контактов с Италией и Францией. Отношения с Италией волей-неволей сохранялись благодаря возрождению империи Оттоном Великим, римским походам (Römerzug) за имперской короной, а также благодаря ученым и книгам, прибывавшим на Север вместе с императорской свитой, как в случае с рукописями, которые попали в собор Генриха II в Бамберге. Какими бы печальными ни были политические последствия образования Священной Римской империи для германских земель, результаты связей с Италией имели первостепенное значение для германской культуры. С Францией же отношения были совершенно иные – они сложились в основном из-за того, что германское духовенство обучалось в школах Северной Франции, а позже было связано с колонизаторской деятельностью аббатств Клюни и Сито, направленной на реформирование и расширение монашества в Германии. Такого рода связи хорошо известны в XII веке, но мы можем найти их и гораздо раньше: у епископа Гериберта Айхштеттского (1021–1042) мы читаем, что он презирал тех, «кто получил образование дома, а не в долине Рейна или Галлии»[8]. Однако нам следует остерегаться подчеркивания политических границ в эпоху, когда такие границы мало что значили. Кельн и Льеж, по-видимому, находились в более тесных интеллектуальных отношениях с Реймсом, Шартром и Флери, нежели с северной и восточной частями Королевства Германия.
В Италии возрождение культуры впервые проявилось на юге страны, в непосредственном контакте с греческим и мусульманским мирами. Южная Италия оставалась частью Византии вплоть до XI века, а после нормандского завоевания на этой территории, особенно в Калабрии, сохранились значительная часть греческих монастырей и грекоязычное население. Сицилия с 902 по 1091 год находилась под арабским господством, и многие греческие и арабские элементы культуры выжили здесь и при нормандских правителях. Оба этих региона поддерживали торговые отношения с Северной Африкой и Востоком, примером чему может служить город Амальфи, торговавший с Сирией и имевший собственный квартал в Константинополе. Мы уже видим предысторию блестящего двора Фридриха II за двести лет до его появления. Как бы то ни было, хотя такие влияния особенно нелегко проследить в этот ранний период, разумно предположить, что греческая и арабская цивилизации сыграли важную роль в латинском возрождении. Наиболее показательный пример – Константин Африканский (ок. 1015–1087), который осуществил переводы и адаптации важнейших медицинских сочинений. Правда, сам Константин – фигура загадочная, и исследователи, как правило, считают, что развитие медицины в Салерно началось еще до его переводов и было связано, скорее, с более ранней местной традицией. Конечно, сочинения Диоскорида и греческих врачей встречаются нам в рукописях из Беневенто еще в период между IX и XI веками, так что некоторые учения этих авторов были известны до Константина. Важной деталью для нашего исследования является то, что к XI веку Салерно стал главным медицинским центром в Европе. Хотя своей славой Салерно как школа полностью обязан медицине, есть некоторые свидетельства более ранней работы и в других направлениях. Архиепископ Альфан (1058–1085) проявил незаурядное мастерство в метрическом стихосложении на латыни, охватывающем самые разные темы, как светские, так и церковные, и указывающем на довольно близкое знакомство с римскими поэтами. Его имя также связывают с одной из версий греческого трактата «О природе человека» (De natura hominis) Немезия. С Монтекассино связаны имена историка Амата и математика Пандульфа из Капуи, здесь же Константин Африканский окончил свои дни, а монах Альберих написал первое руководство по новому искусству сочинения (dictamen). Позже у нас будет возможность более подробно рассказать о Монтекассино как о центре просвещения; здесь же необходимо только подчеркнуть его связь с возрождением образования в XI веке.
В Северной Италии это была эпоха возрождения римского права – в том смысле, что полный курс обучения основывался на тексте «Свода гражданского права». Каким бы ранним ни было влияние лангобардских законоведов и какие бы факты до нас ни доходили о ранних римских школах, именно в 1076 году мы встречаем первое, спустя почти пять веков, упоминание «Дигест» и первого известного болонского преподавателя в лице Пепо, «прославленного и блистательного светоча Болоньи». Уже к концу века Болонья становится признанным лидером, а Ирнерий – ее признанным магистром. В двух других областях Италии этот период отмечен новыми произведениями, пользующимися большим влиянием. Это «Глоссарий» ломбардского лексикографа Папия (ок. 1050) и музыкальные произведения Гвидо из Ареццо, которые остаются значимыми, даже если их автору больше не приписывают введение современной системы музыкальной нотации. В целом Италия выступила достойно задолго до Крестовых походов!
Еще один факт, который следует отметить в Италии XI века, – это живучесть образования среди мирян. Не воспринимая слишком буквально строки германского историка Випо, согласно которым вся итальянская молодежь не вылезала из школ, мы можем увидеть здесь явные свидетельства устойчивости старых традиций светской культуры спустя еще долгое время после того, как они исчезли за Альпами. Итальянские миряне, говорит Ваттенбах, «читали Вергилия и Горация, хотя сами книг не писали»[9]. Если эта категория людей не выражала себя в литературе, она по крайней мере послужила почвой для светских профессий в области права и медицины, которые рано заняли заметное положение в итальянском обществе. Она также включала значительную группу нотариев, передававших от отца к сыну свои должности и сохранявших на протяжении Средневековья институт римских табеллионов[10]. Нотарии были очень важным элементом жизни итальянских городов, в которых они часто превращались в местных историков, а с экспансией римского права нотариат распространился на другие страны.
Если Италия была колыбелью права и медицины, то Франция лидировала в свободных искусствах и хорошо зарекомендовала себя в философии, теологии, латинской и народной поэзии. В какой степени влияние Италии в сфере образования, а также архитектуры и скульптуры распространялось на Францию, остается неясным. Конечно, в Италии побывал Герберт, а Ланфранк из Павии привнес многие знания в нормандскую школу Ле-Бека, где его сменил другой итальянец, Ансельм из Аосты, но тем не менее мы должны быть осторожны, используя такие факты для обоснования общих выводов. Герберт побывал в Испании до того, как отправился в Италию, и неясно, создавалась ли его математика за пределами Галлии. Ланфранк по характеру был скорее юристом, чем теологом. Ансельм, настоящий теолог, не демонстрирует никаких явных связей с итальянскими мастерами. Во всех существенных отношениях французское образование XI века, по-видимому, укоренилось непосредственно в почве каролингской традиции.
Преемственность, пожалуй, наиболее очевидна в Реймсе, где Флодоард к 966 году составляет очень ценные анналы, а Герберт начинает преподавать в соборной школе до 980 года. Учение Герберта охватывало весь спектр семи свободных наук, причем логики и риторики (с обилием классических примеров) – не в меньшей степени, чем математики и астрономии. Но современников изумляли его трактаты по арифметике и геометрии, а также то, что он использовал астрономические инструменты, которые, хоть и были простыми, казались им «почти божественными». С таким же энтузиазмом он собирал рукописи. Он был, как говорит Тейлор, «первым умом своего времени, его величайшим учителем, любознательнейшим учеником и самым универсальным ученым»[11]. Его ученик Аббо, ставший аббатом Флери-сюр-Луар в 988 году, внес существенный вклад в развитие логики и астрономии в этом древнем центре каролингской культуры, от которого позже свои литературные традиции унаследовал Орлеан. Другим его учеником, вероятно, был Фульберт, ректор и с 1007 по 1029 год епископ Шартра, который с этого времени стал лучшей соборной школой. И действительно, еще в 991 году монах Рихер Реймсский, влекомый изучением Гиппократа, составил любопытное описание путешествия в Шартр. Разносторонняя образованность Фульберта нашла яркое отражение в его стихах классического и более позднего ритма, в его объемной переписке, отличавшейся превосходным стилем, в письмах, касающихся медицины, канонического права и всевозможных вопросов современной политики. Влияние этого школьного «Сократа» иллюстрирует стихотворение одного из его учеников, Адельмана Льежского, а именно каролингская разновидность «плача» (planctus), в котором он оплакивает смерть своих бывших друзей по Шартрской школе: ректора Шартра Хильдегера и магистров Ральфа и Сиго, риторов Ламберта Парижского и Энгельберта Орлеанского, Регинбальда, учителя грамматики в Туре, паломника к Гробу Господню Жерара из Вердена и Вальтера из Бургундии, математика Регинбальда из Кельна и еще троих выпускников школы из Льежа. Это далеко не полный список учеников Фульберта, достигших значительных успехов, но он дает нам представление о большой и активной группе учителей и писателей, занятых в области свободных искусств в первой половине XI века, а также более конкретную информацию о математической традиции, которая перешла от Герберта к школам Лотарингии и Шартра и отражена в любопытной переписке между Регинбальдом из Кельна и Ральфом из Льежа, относящейся примерно к 1025 году. В середине века Франко Льежский занялся проблемой квадратуры круга, тем временем Герман, хромой монах из Райхенау, изучал астролябию, о которой узнал из арабских источников. Поколением позже лотарингские абакисты[12] поселились в Англии, где, вероятно, ввели абак в практику казначейства.
Диалектика, еще одно из свободных искусств, в этот период выдвигается на передний план, что предвещает ее более позднее распространение и начало острых схоластических споров. Беренгар Турский, один из самых блестящих учеников Фульберта, с 1049 года и до своей смерти в 1088 году вел споры с Ланфранком Бекским и целой школой консервативных теологов. Постоянно обсуждался вопрос о реальном Божественном присутствии в Святых Дарах. Метод Беренгара состоял в том, чтобы обратиться от авторитета к разуму или, как он это называет, к диалектике: «Есть доля смелости в том, чтобы прибегать к диалектике во всех делах, ибо обращение к диалектике – это обращение к разуму, и тот, кто не пользуется этим разумом, отказывается от своей главной чести, поскольку разумом он образ Божий». Немного позже Росцелин Компьеньский поднял вопрос универсалий, который стал центральной проблемой схоластических споров, а в 1092 году его номиналистическую доктрину осудил собор в Суассоне на том основании, что из неделимой Троицы он создает трех Богов.
В латинской поэзии XI век начинается с Фульберта Шартрского и заканчивается Хильдебертом Лаварденским, сочинения которого некоторые издатели Нового времени путали с античными классиками. Хотя влияние Каролингов очевидно, но все же новый стиль более богат и разнообразен, и потому он стал, пожалуй, самым характерным выражением своей эпохи. Многое из этой поэзии до сих пор не опубликовано. Ее темы самые разнообразные: богословие, жития святых, свойства растений и драгоценных камней, монастырские истории, такие события, как сожжение Сент-Амана в 1060 году, сатиры на современников, множество надписей (tituli) и эпитафий друзьям или покровителям. Долина Луары – важнейший центр поэзии, но распространялась она по всей Северной Франции и прилегающей Лотарингии. В конце века поэты этого направления появились в Англии в лице Реджинальда Кентерберийского и Годфрида Винчестерского.
Наконец, помимо деятельности, отразившейся в этих новых сочинениях, шло развитие библиотек и собраний древних авторов. В этом отношении X столетие было куда более плодовитым, нежели мы могли бы ожидать, о чем свидетельствуют разрозненные перечни манускриптов и особенно важных рукописей основных латинских классиков. XI век продолжил это направление и расширил его. Около 1000 года Оттон III в Италии имел доступ к Орозию, Персию, Титу Ливию, Фульгенцию, Исидору и Боэцию. Его преемник Генрих II привез множество рукописей на Север, в кафедральный собор в Бамберге. Епископы Бернвард (993–1022) и Годехард (1022–1038) собирали классику для соборной библиотеки в Хильдесхайме, как и аббат Фромунд для монастыря в Тегернзее. У нас есть длинный перечень рукописей, переписанных в Монтекассино. Обширная библиотека Флери сформировалась в XI столетии. Датировка таких рукописей в лучшем случае приблизительна, поскольку различия между манускриптами X и XI веков крайне незначительны, как, впрочем, и между манускриптами XI и XII столетий. В палеографии, как и в истории знания, одна эпоха сливается с другой.
Вот и все об истоках. Все подобные периоды – смутные, темные, привлекательные, однако очевидно, что новое движение вовсе не было внезапным или катастрофическим, оно уходит корнями далеко в XI век и даже более раннее время. Столь же очевиден и другой факт. До сих пор мы имели дело с ренессансом римским, поскольку он предшествовал Крестовым походам, новым знаниям, пришедшим из Испании, трудам греческих переводчиков в Сицилии. За исключением адаптаций медицинских текстов Константина Африканского и уверенного использования астролябии, новое движение не имеет никакого отношения к арабской науке. Кроме нескольких агиографических сочинений и единственного трактата Немезия[13], оно ничего не взяло напрямую из греческого наследия. Все это придет в свое время в XII веке. А до тех пор Ренессанс – это латинское движение, возрождение римского права, латинских классиков, латинской поэзии, философии и теологии, восходящей к Боэцию и латинским Отцам. Каждую из этих тем мы проследим отдельно на протяжении всего XII века. Пока что нам необходимо получить некоторое представление об основных интеллектуальных центрах и их взаимосвязях, а также о библиотеках и рукописях, которые содержали знания и литературу этой эпохи.
Обобщающей работы по интеллектуальной жизни в XII веке не существует. Различные краткие характеристики этого периода приведены в книге L. J. Paetow “Guide to the Study of Medieval History”, с. 384–385 (Беркли, 1917), которая особенно подробно описывает интеллектуальный контекст XII и XIII веков и будет полезна всем изучающим Средневековье. “The Medieval Mind” H. O. Taylor (четвертое издание, Нью-Йорк и Лондон, 1925) – не менее полезный источник, в котором дан хороший очерк обо всем XI веке, но фактически не затрагивается век XII. “Illustrations of the History of Medieval Thought and Learning” R. L. Poole (второе издание, Лондон, 1920) содержит несколько превосходных глав, относящихся к рассматриваемому периоду. Для общего ознакомления можно рекомендовать пятый том “Cambridge Medieval History” (Кембридж, 1926) с его полной библиографией. Обычно общие исторические труды мало что проясняют в вопросах, касающихся интеллектуальной истории. Более ценны труды по истории Церкви, энциклопедии и биографические словари.
Многое из того, что служит нашей цели, можно почерпнуть в трудах по истории латинской литературы. К сожалению, лучший из них и имеющий ценность в рамках данной главы – “Geschichte der lateinischen Litteratur des Mittelalters” M. Manitius (Мюнхен, 1911–1923) с полной библиографией – не продвинулся дальше 1050 года, тогда как ценнейший обзор покойного F. Novati “Le origini” (Милан, без даты) в совместной “Storia litteraria d’Italia” также доводит нас лишь до XI века. У Novati см. также “L’influsso del pensiero latino sopra la ciciltà italiana del medio evo” (Милан, 1897) и статью о франко-итальянских литературных отношениях в XI веке в “Copmtes-rendus de l’Académie des Inscriptions”, с. 169–184 (1910). Обзор G. Gröber “Übersicht über die lateinische Litteratur von der Mitte des 6. Jahrhunderts bis 1350” в его “Grundriss der romanischen Philologie”, том II, часть I (Страсбург, 1902) охватывает все периоды и страны. История французской литературы богата на латинских авторов, но, к сожалению, большинство статей об интересующем нас периоде устарели. Прекрасные тома Ch. V. Langlois “La vie en France au moyen âge” (новое издание, Париж, 1924) касаются как интеллектуальной, так и социальной истории, причем основаны они на народной литературе. Дает пищу для размышлений и “The Legacy of the Middle Ages”, изданная C. G. Crump и E. F. Jacob (Оксфорд, 1926) и рассматривающая позднее Средневековье.
Не следует забывать, что, хотя авторы XII века в значительной степени представлены в крупных публикациях исторических, литературных и богословских текстов, многие их сочинения все еще не опубликованы и многие проблемы все еще требуют более пристального изучения и монографических исследований. Единого руководства по этому новому материалу, как представляется, нет. Вероятно, наиболее полезной является текущая библиография церковной истории в “Revue d’histoire ecclésiastique”, издаваемая в Левене.
Глава II. Центры интеллектуальной жизни
(пер. Ивана Мажаева)
Интеллектуальная жизнь западнохристианского мира в Средние века не была широко распространена среди населения. Ей явно не хватало привычных для современного мира повсеместности и быстроты связей. Относительно немногие умели читать и писать. Это были главным образом клирики; и все образованные люди, не считая отдельных приходских священников с их весьма скромными познаниями, примыкали к определенным группам, отдаленным друг от друга широкими пространствами сельского невежества. Примитивные способы передвижения осложняли установление связей, но оно тем не менее было востребовано, особенно церковью, так что крайний локализм в некоторых отношениях сосуществовал с общеевропейской цивилизацией. В то же время такие контакты устанавливались в основном между интеллектуальными центрами одного вида, пусть и удаленными друг от друга, а не между различными центрами, находящимися в одном регионе. И хотя, в конечном счете, нельзя игнорировать более сложные локальные отношения, мы должны сосредоточить свое внимание в первую очередь на основных видах. Эти интеллектуальные центры, представляющие различные социальные слои, состояли главным образом из монастырей, соборов, дворов правителей, городов и университетов. Но на протяжении всего Средневековья их значимость менялась. Некоторые из них были неизвестны раннему Средневековью, а развитие новых видов представляет характерный этап Ренессанса XII века.
На протяжении всего раннего Средневековья главными центрами культуры были монастыри. Разбросанные подобно островам в море невежества и варварства, они спасли от исчезновения образованность в Западной Европе в то время, когда никакие другие силы не предпринимали решительных мер для достижения этой цели. Правда, на них тоже повлияла местечковость, характерная для той эпохи, а также трудности поддержания жизни в аскетических условиях. При этом они сохраняли некие взаимосвязи благодаря влиянию Рима, путешествиям ирландских монахов, централизирующим усилиям Карла Великого и Клюнийской реформе X–XI веков. Таким образом, книги и идеи часто пересекали большие расстояния с удивительной даже для современного студента быстротой. Однако не стоит думать, что монастыри всегда и везде были центрами знаний и учености. Нам следует попытаться сформировать более конкретное представление о природе их интеллектуальной жизни.
Прежде всего нужно вспомнить замечание одного современного бенедиктинского аббата о том, что «все заслуги бенедиктинцев перед цивилизацией, образованием и литературой были лишь побочными продуктами»[14]. Монастырь мог быть убежищем для путешественников, экономическим центром, шедевром архитектуры, местом обмена идеями и информацией, источником новых жанров музыки и литературы, но некоторые из этих вещей или даже все – были случайны и вовсе не обязательны для существования монастыря. В уставе святого Бенедикта, который доминировал на Западе, центральным моментом было «Божье дело» (opus Dei) – ежедневное пение в хоре, которое первоначально занимало от четырех до четырех с половиной часов, а позднее шесть или семь часов. От трех до пяти часов, в зависимости от времени года, высвобождали для чтения, под которым подразумевалось вовсе не дискурсивное чтение различных произведений, а изучение Библии и трудов Отцов Церкви, таких как Василий Великий или Иоанн Кассиан, и последующее размышление над ними. В начале Великого поста каждый монах должен был получить из библиотеки по книге, «которую всем следовало прочесть полностью по порядку», однако никаких ограничений по времени не устанавливалось, и из пересмотренных установлений Ланфранка нам известно, что книга обычно хранилась год, возвращали же ее торжественно в первый понедельник следующего Великого поста. Тогда же монахи, не дочитавшие свои книги, вынуждены были публично признаваться в этом. Вопреки распространенным современным представлениям, устав бенедиктинцев ничего не говорит о копировании книг. Но все же для этого оставалось время в соответствии с предписанным им ручным трудом, и необходимые для хора и библиотеки книги, естественно, копировали, не забывали о важности «борьбы с дьяволом пером и чернилами», если воспользоваться выражением Кассиодора. Устав бенедиктинцев ничего не сообщает о другой известной монастырской институции – о школах, хотя мы узнаем о них из более поздних правил. «Школы в современном смысле, – пишет Пайпер[15], – а именно учреждения, в которых обучение проводится в определенное время специально назначенным учителем по специальным направлениям и для специально отобранных учеников, – такие учреждения были для монастырей Средних веков не правилом, а исключением». Трудно найти свидетельства о каких-либо специализированных классах для занятий. Обучение было религиозным: молитвы, устав ордена, проповеди, сопоставления текстов священных книг, особенно Библии. Семь свободных искусств не выходят на передний план обучения, да и все семь мы обнаружим далеко не везде.
Давайте попробуем быть более точными. В соответствии с условиями своего возникновения монастыри располагали библиотекой богослужебных книг, обычно с несколькими экземплярами Библии и богословских трудов. При ней была школа для послушников, и библиотечные книги часто выступали в роли первых учебников, хотя это и не всегда предполагалось. Как владелец земли, монастырь имел свои хартии и акты о праве собственности, иногда сводившиеся в картулярии и, вероятно, составлявшие важные архивы, для которых мог потребоваться специальный хранитель. Также велся реестр послушников – и живых, и умерших. Нередко в монастыре составляли списки почивших монахов из других обителей, с которыми образовывали братство, чтобы молиться за их души. Для служения в монастыре необходим был календарь, в который время от времени добавлялись имена новых святых или сообщения о смерти монахов и донаторов. Новости из внешнего мира, поступающие в монастырь, служили поводом для записи анналов, основой которых могли служить таблицы Пасхалий, тоже вносившиеся в календарь. Исторические записи не были обязательными, однако их элементы периодически встречались, и со временем многие монастыри превращались в центры местного историописания, порой становясь даже единственными такими центрами. Библиотека, школа, архив, зачатки собственного историописания – все это было связано с существованием монастыря и составляло ядро определенной интеллектуальной жизни. Часто они так и оставались лишь ядром: хотя монастырей и было много, настоящих центров учености и образования было относительно мало, лучшие из них переживали свои взлеты и падения, периоды активности и глубокого упадка. Разумеется, это относится и к монашеству в целом, потому что, как напоминает нам настоятель Индж, «в религии ничто так не вводит в заблуждение, как успех»[16]. Процветание обычно приводило к распущенности, что порождало волну реформ, оканчивающихся принятием новых уставов или нового порядка, которые содействовали процветанию, и в итоге все снова скатывалось к распущенности. В лучшем случае большинство монастырей вело скудное в интеллектуальном плане существование. Например, богатое аббатство Троарн в Нормандии, тщательно изученное Р. Н. Соважем, может похвастать только одним выдающимся сочинителем – своим первым настоятелем, Дюраном (1059–1088); школы монастыря почти не упоминаются в документе 1169 года, а его единственный библиотечный каталог, датированный 1446 годом, почти полностью состоит из религиозной литературы. Немногие нормандские аббатства или монастыри могли похвастать бо́льшим.
Для бенедиктинских монастырей XII век стал периодом ощутимого упадка, если, конечно, упадок не наступил еще раньше, как в древних центрах Корби, Люксей, Санкт-Галлен и Боббио. Только в первой половине столетия мы все еще находим интеллектуально значимые бенедиктинские центры. Самый старый из них, Монтекассино, переживает период своего расцвета в XI и начале XII века. Этот центр, будучи родиной особого южноиталийского письма, известного как «беневентское», собрал огромную библиотеку копий, количество которых хронист с гордостью доводит до семидесяти. Список «содержит в основном богословские и богослужебные сочинения, но есть и несколько исторических: Иосифа Флавия, Григория Турского, Павла Дьякона, Эрхемперта и др.; есть также несколько античных произведений: “О природе богов” Цицерона, “Институции” и “Новеллы” Юстиниана, “Фасты” Овидия, “Эклоги” Вергилия, произведения Теренция, Горация, Сенеки, грамматики Феодора и Доната»[17]. Многие из этих рукописей сохранились до наших дней. Без них мир потерял бы Апулея и то немногое, что у нас есть от Варрона, потеряны были бы «Истории» Тацита и, вероятно, сохранившиеся части его «Анналов», а также несколько текстов и местных записей средневекового периода. У нас есть многочисленные доказательства того, что эти книги читали и копировали для будущих времен. Около 1140 года Петр Дьякон, прекрасный фальсификатор, составил длинный перечень «прославленных мужей Монтекассино», начиная со святого Бенедикта и заканчивая самим Петром, что наглядно отражает его авторские амбиции. Среди этих выдающихся людей двое пап, но большинство из них – писатели: Константин Африканский – «новый блистательный Гиппократ», Альфан Салернский, ритор Альберих (имена, которые мы уже встречали), Лев Остийский, превосходный хронист монастыря, и еще длинный перечень авторов религиозных сочинений. В целом список, которым действительно могло бы гордиться любое учреждение. Но этот перечень, на самом деле, – эпитафия: впоследствии великих писателей в монастыре не было, и сам Петр стал симптомом его упадка.
К северу от Альп, но все еще под итальянским влиянием, самым известным интеллектуальным центром конца XI века был Ле-Бек. Основанный в 1034 году, он был обязан своим интеллектуальным возвышением Ланфранку, который поступил в монастырь в 1042 году и вскоре стал аббатом, а также его преемнику Ансельму, аббату с 1079 по 1092 год. Знаток церковного и, возможно, гражданского права в Павии, в Ле-Беке Ланфранк посвятил себя в основном тривиуму и теологии, уделяя большое внимание правильному копированию библейских и святоотеческих рукописей. Ансельм же в Ле-Беке писал свои важнейшие богословские трактаты, критикуя доктрины Росцелина точно так же, как и Ланфранк противостоял Беренгару, так что в двух главных богословских спорах века ортодоксия нашла своих лидеров в Ле-Беке[18]. В начале XII века Бекская школа была известна на всю Европу. Она воспитала одного папу, Александра II, и множество епископов и аббатов. Непосредственные преемники Ансельма, хоть и не обладали большой личной известностью, сохраняли традицию, поэтому Ордерик Виталий мог сказать, что в его время «почти каждый монах Ле-Бека казался философом, и даже самым малообразованным из них было чему научить поверхностных грамматиков». В начале XII века в Ле-Беке существовала библиотека из 164 томов, к которым в 1164 году добавились еще 113 от епископа Байе[19]. Тем не менее XII век для монастыря вскоре становится временем упадка, и во второй половине столетия этот закат очевиден. «Отныне писатели Ле-Бека для истории литературы – всего лишь анонимы, то есть образованные монахи, которые, несомненно, заслуживают похвалы за свою трудолюбивую жизнь, но чья известность не выходит далеко за пределы стен монастыря или узкого круга их друзей… Ученые юноши больше не стремились сюда»[20].
Многие бекские монахи начинали свой путь в Англии, но ни один английский монастырь не занимал столь высокого положения. За нормандским завоеванием последовала волна религиозных реформ: нормандские аббаты были поставлены над английскими монастырями, нормандские монастыри получили английские земли и привилегии, а нормандские бароны составили новый правящий слой в Англии. За этим стремительным развитием материальной составляющей последовала определенная интеллектуальная активность: в копировании текстов, в школах, в литературе. Тем не менее литературные достижения английских бенедиктинцев XII века не оправдывают ожиданий, за исключением области историописания, где этот пробел восполняется Уильямом Мальмсберийским и англосаксонским хронистом из Питерборо, а также соборными монахами, Флоренсом Вустерским и Симеоном Даремским. В течение века это движение в Англии тоже угасает: великий расцвет истории при Генрихе II был связан скорее с его двором и соборами, чем с монастырями. Монашеское историописание в Англии вновь ожило в XIII веке, достигнув расцвета в Сент-Олбансе и в трудах Матвея Парижского.
Если мы возьмем в качестве образца самое известное аббатство Англии – Вестминстер, то окажется, что в интеллектуальной жизни XII века оно играло совсем скромную роль. Его аббатом с ок. 1085 по 1117 год был Гилберт Криспин – монах Ле-Бека, «владевший квадривиумом не хуже, чем тривиумом»; его богословскому авторитету придавалось большое значение на Реймсском соборе 1148 года. Помимо некоторых писем к Ансельму, он написал историю основания Ле-Бека и различные полемические трактаты, из которых самым популярным был «Спор между христианином и иудеем». Вестминстер не оставил никаких важных анналов. Местный исторический интерес был сосредоточен на покровителе аббатства, короле Эдуарде Исповеднике: его биографию написал приор Осберт Клэрский (ок. 1138). Еще одна биография была составлена Элредом из Риво и посвящена аббату Лоуренсу по случаю перенесения мощей Исповедника в 1163 году. Осберт также посвятил Генриху II стихи в преддверии восшествия того на престол.
Упадок монашеской жизни настиг и Германию. Старые имперские аббатства Фульда, Корвей и Лорш почти разорились, число монахов сократилось, а все их интеллектуальное лидерство сошло на нет. Германия стала благодатной почвой для новых реформаторских движений – цистерцианского, августинского и премонстратского – как в старых регионах, где произошел упадок, так и в новых землях миссионерской деятельности, но ни один из этих новых орденов не возник в Германии – все они возникли в романских землях. Их расширение во многом способствовало распространению на Восток французской агрокультуры и архитектуры и – в меньшей степени – книг и образованности. Более поздние библиотеки XII века почти полностью состояли из одних только трудов Отцов Церкви, хотя библиотека Тегернзее все еще хранила сочинения классических авторов. Новые идейные течения зарождались в другом месте. В праве и медицине, что очевидно, и даже в теологии «во второй половине века Германия, несомненно, отстает от романских стран»[21].
В Испании естественное развитие монашеской жизни было прервано мавританским нашествием и последовавшими за ним религиозными войнами, и в возрождении XI века ведущую роль взяли на себя клюнийцы, а не бенедиктинцы. Это древнее движение уже пережило свой расцвет к XII веку: в сохранившихся рукописях библиотеки аббатства Силос едва ли можно обнаружить французское влияние, характерное для того века. Санта-Мария-де-Риполь достиг своего расцвета при аббате Олибе (1008–1046), к этому же времени относится каталог его знаменитой библиотеки из 246 наименований. Однако к рассматриваемому нами периоду монастырь стал зависимым от марсельского аббатства Сен-Виктор. Сан-Педро-де-Карденья был известен главным образом гробницей Сида. Новым знаниям, которые Испания распространяла по Европе в тот период, не нашлось места в ее собственных монастырских библиотеках. Общее количество известных рукописей XII века из Испании, в самом деле, на сегодняшний день разочаровывает.
Упадок в XII веке коснулся и Клюнийского ордена. Основанный в 910 году в знак протеста против секуляризации монашеской жизни, Клюни стал центром великого движения – церковной реформы, достигшей своего апогея во времена Григория VII. Помимо стремления освободиться от мирского и епископского контроля, она упростила ручной труд бенедиктинцев удлинением службы с хоровым пением и сменила их децентрализованную систему автономных аббатств монархическим режимом, при котором один верховный аббат назначал приоров всех подчиненных монастырей и посещал их лично или отправлял туда своих заместителей. Наряду с этим представители всего ордена позже вызывались на ежегодный капитул под руководством верховного аббата. Такая организация была хороша для введения и поддержания дисциплины в старых монастырях, пришедших в упадок. Она также подходила для колонизации, так что клюнийские приораты стремительно поднимались вдоль паломнических путей, ведущих в Испанию, и распространялись на самом полуострове в ходе Реконкисты до тех пор, пока орден не стал насчитывать 26 монастырей за Пиренеями, некоторые из которых серьезно поспособствовали восстановлению там христианской культуры. Саагун даже называли «испанским Клюни». Кроме того, в Испании XI века Клюни проделал заметную для Рима работу, поддерживая литургию по римскому образцу вместо мосарабского обряда и добиваясь епископства для своих «способных и образованных юношей» (juvenes dociles et litterari), прибывавших из Франции. Клюнийская централизация также была очень важна для стимулирования путешествий и налаживания связей, а вместе с тем, несомненно, и для обмена книгами, идеями и формами искусств. Обычаи Клюни допускали копирование рукописей, но классическое обучение не одобряли. Если в часы тишины монаху требовалась книга, то он подавал знак, имитируя перелистывание страниц; если ему нужна была книга классического автора, то по-собачьи чесал ухо. Тем не менее в Клюни читали классиков, особенно Вергилия, Горация и даже Овидия с Марциалом. Среди 570 томов каталога Клюни XII века, удивительно крупного и полного собрания для своего времени, встречается много подобных авторов. Клюнийский орден располагал малым количеством известных школ, их авторы посвящали свои труды в основном вопросам благочестия и биографиям священнослужителей. Историей, например, пренебрегали в особенности. Из семи великих аббатов, под руководством которых процветал Клюни, последний умер в 1156 году. Этот знаменитый человек – Петр Достопочтенный. В его переписке сохранились описания путешествий в Испанию и Италию, заметки о собственных трудах против ересей, об усилиях по борьбе с мусульманами посредством перевода Корана и написания антимусульманских трактатов. Также до нас дошла его переписка о медицине с салернским учителем Бартоломео, не говоря уже о проповедях, богословских трактатах и поэмах, свидетельствующих о его знакомстве с древними. Однако Клюни уже соперничает с «новыми воинами Христовыми» (novi milites Christi) из Сито – и теряет свое лидерство перед лицом нового аскетизма святого Бернарда.
XII век и предшествующие ему годы были плодотворны для новых орденов: картезианцев, премонстрантов, августинских каноников, гранмонтенсов, камальдулов, ордена Фонтевро и – особенно – для ордена Сито, цистерцианцев. Однако они ставили перед собой скорее духовные, чем интеллектуальные задачи; их влияние сказывалось в распространении миссионерства или более строгом соблюдении аскетических принципов, но не в развитии образования. Конкретные обязательства, подобные картезианскому правилу молчания и созерцания, действительно, работали в противоположном от образования направлении, несмотря на прямое упоминание о копировании рукописей в кельях. Лучшей иллюстрацией этих аскетических тенденций служат цистерцианцы и их великий наставник святой Бернард. Доказательство популярности этого ордена – его разрастание в течение сорока лет: ко времени смерти Бернарда в 1153 году он охватывал сорок три общины.
Цистерцианцы, сторонники простой жизни, стремились восстановить устав святого Бенедикта в его самой суровой форме. Работа в поле считалась обязательной, пение в хоре теперь стало занимать шесть часов, включая службу посреди ночи. Не было ни одного свободного часа. Все должно было быть максимально простым, и в особенности – сами церкви. Рукописи копировали и переписывали, однако запрещалось украшать их иллюстрациями и орнаментом, поскольку основная цель копирования заключалась в том, чтобы предоставить хору правильный текст. Все цистерцианские монастыри должны были пользоваться идентичным текстом «миссала, Посланий апостолов, Библии, коллектариума, градуала, антифонария, устава ордена, сборника церковных гимнов, псалтири, лекционария и календаря». Библиотека Клерво воссоздана на основании того, что сохранилось до наших дней; рукописи XII века в ней почти полностью содержат библейские, святоотеческие и литургические тексты, немного истории, несколько учебников и несколько классических произведений. Право, медицина, философия, схоластическое богословие практически полностью отсутствуют. «Сито не был центром образования, даже теологического»[22]. Величайший лидер цистерцианцев, Бернард, был мистиком, а не ученым. В лучшем случае цистерцианские библиотеки были богословскими, светской же литературы в них, как мы можем судить по каталогам Риво и австрийских монастырей, было очень мало. Для вступления в орден умения читать не требовалось.
Новые ордена имели еще одно значение для интеллектуальной истории – их европейские организации противодействовали крайнему локализму отдельных монастырей и требовали регулярных сообщений между различными и часто очень удаленными учреждениями, в отличие от редких и случайных связей более ранних времен. Путешествовать в Рим и из Рима монахов также побуждали тенденции внутрицерковной централизации в вопросах апелляций и подтверждения владений, а также рост папской защиты отдельных монастырей. С другой стороны, индивидуальные привилегии и папское покровительство новым орденам ослабляли местные связи, которые соединяли монастырь с епархией, и таким образом усиливался контраст между черным и белым духовенством. Тем не менее нам не следует предполагать полное интеллектуальное разделение черного и белого духовенства даже в период их расхождения, особенно в отношении других групп клириков. Например, в случае Парижа, в силу множества причин, мы можем мысленно объединить соборное духовенство, секулярных каноников аббатства Сент-Женевьев, регулярных каноников Сен-Виктора и монахов Сен-Жермен-де-Пре вкупе с представителями других окрестных монастырей. Не следует также забывать, что во многих соборах были монашеские капитулы, особенно в Англии, где Кентербери, Рочестер, Винчестер, Вустер и Дарем стали яркими тому примерами.
В то же время нельзя упускать из виду интеллектуальные связи монастырей с мирянами, особенно после убедительных примеров, приведенных Жозефом Бедье в его исследованиях генезиса французского эпоса[23]. Если распространение культуры из монастыря в окружающее его пространство полей или лесов происходило медленно, то в городах и вдоль больших дорог, особенно вдоль паломнических путей в Рим и Компостелу, дело обстояло совсем иначе. Пристанища для путников, места исцеления и утешения, источники святости и даже чудес – все эти религиозные учреждения фиксировали в своих анналах далекие свидетельства и слухи, рассказывали о чудесах, творимых местными святыми и реликвиями, и становились источником всевозможных сюжетов для народных эпосов, которые слагались вдоль этих дорог и об этих святынях. Такие места были естественными точками соприкосновения мира монаха и ризничего с миром паломника, торговца и жонглера, местом встречи священного и мирского, латыни и просторечия, пока все это не стало неразличимым для нашего глаза. Сен-Дени, Мо и Фекан, Везле и Новалеза, Желлон и Сен-Жиль, клюнийские приораты на пути в Испанию – эти и многие другие монастыри теперь известны как центры создания и распространения эпоса XI–XII веков.
С закатом монастырей как интеллектуальных центров соборы на некоторое время занимают то положение, к которому они давно готовились. В результате реформы, которая стала всеобщей в IX веке, духовенство, прикрепленное к собору, было подчинено режиму общей, квазимонашеской жизни, регулируемой уставом или каноном, от которого и получило свое название. Со временем эти каноники обрели возможность выбирать епископа, претендуя на часть доходов его кафедры: постепенно они превращались в личные пребенды. Каноники образовывали капитул, который вместе с различными младшими служащими – регентом хора, схоластиком и канцлером – находился под руководством настоятеля. Иногда распадающийся капитул преобразовывался в обычную монашескую общину. В любом случае капитул также нуждался в своих книгах, своей школе и своей документации, так что нам следует помнить и о тех, кто непосредственно помогал епископу в управлении епархией и составлял епископский двор, в котором в то время роль каноников и секретарей была весьма значительной. Для наших целей капитул и епископа в XII веке можно рассматривать как единый интеллектуальный центр, богатый, могущественный, часто высокообразованный и всегда находящийся в городской общине, а не в сельской изоляции, как большинство монастырей. Соборная библиотека, соборная школа, соборные архивы, деяния епископов, писания каноников, епископское правосудие, покровительство епископа в образовании – все это играло большую роль в тот период, занимая промежуточное положение между монастырем с одной стороны и дворами правителей – с другой.
Наиболее активными в интеллектуальном отношении центрами в XII веке были соборы Северной Франции. Значения их школ мы коснемся тогда, когда речь пойдет о происхождении французских университетов; их связь с литературой и философией эпохи мы будем обсуждать в другом месте. Остановимся на значении Шартра и Орлеана как центров классического Возрождения, Реймса и Лана как центров схоластического обучения, Парижа как родины первого северного университета. Все они привлекали учеников из Германии, Англии и даже из-за Альп. Список великих писателей того времени включает в себя епископов, таких как Хильдеберт в Ле-Мане (и Туре), Жильбер Порретанский в Пуатье, Петр Ломбардский в Париже и Иоанн Солсберийский в Шартре; секретарей епархий, таких как Ансельм Ланский, Бернард Шартрский, Петр Коместор и Петр из Пуатье в Париже; каноников, таких как вагант Гуго Орлеанский и автор стихотворной Библии Петр Рига из Реймса[24]; соборных учителей, таких как Роберт Меленский, Гильом Коншский, Бернард Сильвестр и Абеляр. Большинство великих имен в поэзии, теологии и образовании связано с соборами. Даже прелаты, которые сами не писали, поощряли образование; например, Гильому Белорукому, епископу Шартра, затем архиепископу Санса и Реймса (1176–1202), кардиналу и регенту Франции во время Третьего крестового похода, посвящены «Александреида» Вальтера Шатильонского, «Микрокосмография» некоего Гильома, «Сентенции» Петра из Пуатье и «Схоластическая история» Петра Коместора. Примечателен и двор его жившего по соседству брата, Генриха Щедрого, графа Шампани.
Английский Кентербери – лучший пример такого мощного соборного сообщества. Уильям Стаббс даже сравнивает его в качестве литературного центра с современными Оксфордом и Кембриджем. Архиепископ Теобальд (1138–1161), обучавшийся в Ле-Беке, собрал вокруг себя в Кентербери ученых. Его секретарем был Иоанн Солсберийский, «в течение тридцати лет являвшийся центральной фигурой английской учености», чьи письма затрагивали как литературные, так и управленческие темы, отражали отношения с континентальными учеными и его многочисленные поездки во Францию и Италию. Его советником по вопросам права был магистр Вакарий, итальянский юрист, писавший о богословии, каноническом и гражданском праве. Кентербери уже тогда был тесно связан с великими школами континента. Его следующим архиепископом был Фома Бекет, учившийся как под руководством Теобальда, так и в Королевской курии. И в Кентербери, и в изгнании он опирался на группу своих приближенных, «ученых святого Фомы» (eruditi Sancti Thome), которые своими письмами и биографиями сделали очень многое для сохранения памяти о нем. Один из них, Петр Блуаский, оставил нам следующее описание архиепископского двора.
Этот двор, в котором я живу, уверяю вас, есть стан Божий, не что иное, как дом Господа нашего и врата небесные. В доме моего господина архиепископа живут самые ученые люди, справедливые в правосудии, осторожные в предусмотрительности, эрудированные во всяком знании. После молитвы и перед едой, в чтении, в споре, в решении дел они постоянно упражняются. Все запутанные вопросы королевства передаются нам, и, когда они обсуждаются на общем слушании, каждый из нас без распри и обвинений оттачивает свой ум, дабы хорошо говорить о них, и, исходя из более тонких соображений, предлагает то, что он считает самым здравым и рассудительным советом[25].
Кентербери был монашеской общиной, и среди монахов мы найдем историка Гервасия Кентерберийского, поэта Нигелла Вирекера, автора знаменитой сатиры на студентов Парижа, и многих участников переписки «Кентерберийских писем» (Epistolae Cantuarienses) конца XII века, один из которых с удовольствием цитировал «Искусство любви» Овидия. В соборе также была знаменитая библиотека, разрушенная к настоящему времени, но ее содержимое было искусно восстановлено упорным трудом доктора Монтегю Джеймса.
Ни один другой английский собор не мог соперничать с Кентерберийским, многие архидьяконы и каноники которого отличились в литературе того времени: каноники – чаще всего в исторической, архидьяконы – в области права. И то и другое они изучали в Болонье, наслаждаясь плодами своих английских пребенд и, вероятно, прислушиваясь к дискуссии на злободневную тему: «Может ли архидьякон спастись?» (An archidiaconus possit salvus esse)[26]. И хотя епископ Винчестера Генрих Блуаский, брат короля Стефана, был знаменитым покровителем искусства и литературы, с течением времени самым важным интеллектуальным центром Англии стал, пожалуй, собор Святого Павла. Если какой-либо гость посещал город, «то декан собора, почтенный Радульф де Дисето, показывал ему прекрасную рукопись “Исторических записок” (Ymagines historiarum). От каноника Ричарда, главного казначея, гость мог узнать историю Палаты шахматной доски или даже позаимствовать драгоценную “Трехколонную книгу” (Liber Tricolumnis), которая впоследствии была утрачена. Петр Блуаский жаловался на маленький доход от занимаемого им места архидьякона, но мудро полагался на успех своего пера. Роджер Нигер, по-видимому, спасался от гнева короля, которого довел до бешенства своими дикими оскорблениями, а сам великий Гилберт Фолиот, талантливый государственный деятель, использовавший все свое мастерство, опыт и ученость в борьбе с Фомой Бекетом, проиграл, по крайней мере по мнению современников»[27]. Как ни странно, мы сравнительно мало слышим о школах этих соборов, и ни одна из английских соборных школ, собственно говоря, так и не превратилась в университет.
В Испании самым значимым был Толедский собор, хотя следует упомянуть и о библиотеке Барселоны, переводах арабской астрологии под руководством епископа Михаила Тарасонского (1119–1151) и «Кодексе Каликста» (Codex Calixtinus), хранящемся в великом паломническом центре Сантьяго-де-Компостела и важном для истории каролингского эпического цикла. С возвращением былого первенства в 1085 году в результате христианской Реконкисты Толедо стал местом естественного обмена знаниями между христианами и мусульманами. В этом древнем центре научного знания «можно было найти богатейшие собрания арабских книг и множество людей, владевших обоими языками. Стараниями мосарабов и местных евреев здесь расцвели школа перевода арабско-латинской литературы и наука, притягивающая жаждущих знаний со всей земли… и поставившая подпись Толедо на многих наиболее известных переводах арабских учений»[28]. Во всем этом самое деятельное участие, по всей видимости, принимал архиепископ Раймунд (1125–1151). За философскими переводами последовали труды по медицине, математике, логике и астрономии; и если связь архиепископа с величайшим из этих переводчиков, Герардом Кремонским, прямо не устанавливается, то уже медицинские переводы его современника Марка, каноника Толедского собора, демонстрируют серьезный уровень учености в соборе конца столетия. Фигура Герарда примечательна еще и тем обстоятельством, что большинство переводчиков, работавших в Испании, были иностранцами; интересно и то, что они отправлялись на поиски «мудрейших философов мира» в Толедо, независимо от того, работала ли там формально соборная школа.
В Германии и Италии дела обстояли иначе. Борьба за инвеституру нанесла серьезный ущерб более ранним культурным центрам, таким как Льеж. XII век стал периодом интеллектуального упадка в Германии, как среди мирян, так и среди клира. Великие прелаты занимались политикой, причем, как в случае с рейнскими архиепископами, были погружены в нее с головой. Кристиан Майнцский был послом Фридриха Барбароссы в Италии, куда Райнальд Кельнский сопровождал императора, взяв с собой Архипииту и вернувшись с обогатившими соборную сокровищницу мощами трех волхвов. Возвышение Фрейзинга при епископе Оттоне происходило скорее благодаря его личности, нежели вследствие институционального развития. Оттон и в самом деле был совершенно исключительной фигурой. Во Франции он познакомился с новой диалектикой и стал первым, кто ввел ее в Германии. Он был монахом и епископом, братом Конрада III и дядей Фридриха Барбароссы, почти придворным историком, повествующим о событиях, которые он наблюдал дома, в Италии и на Востоке[29].
В Италии высшее духовенство также занималось политикой – как на местном, так и на имперском уровне. Вовлечение в нее возрастало по мере того, как все более ожесточенной становилась борьба гвельфов и гибеллинов, что в итоге привело к тому, что Италия утратила интеллектуальное лидерство, характерное для нее в предшествующую эпоху. Редко можно было встретить такого епископа-историка, как Ромуальд II Салернский (1153–1181), автор ценнейшей всеобъемлющей «Хроники», которая устами очевидца рассказывает о важнейших событиях истории Сицилийского королевства. Не менее примечательна внушительная «Книга братии» (Liber confratrum) кафедрального собора Салерно, которая к концу XII столетия насчитывала порядка 12 000 имен. Но это памятник скорее местной номенклатуры и палеографии, чем интеллектуальной деятельности, и те иностранцы, которые фигурируют в этой «книге жизни», несомненно, были привлечены в Салерно его врачами, а не соборным духовенством. Архиепископ миланский Петр Хрисолан, дискутировавший о богословии с греками в Константинополе в 1112 году, был и вовсе исключительной фигурой; его преемники уделяли больше внимания вопросам управления и сложностям миланской и ломбардской политики, чем амвросианскому обряду.
Что касается двора как интеллектуального центра, феодального или королевского, то здесь представления могут разниться. Около 1155 года поэт Низами из Самарканда провозгласил, что правильно организованный двор должен иметь четыре категории образованных людей – секретарей, поэтов, астрологов и врачей: «Дела королей не могут вестись без компетентных секретарей; их триумфы и победы не будут увековечены без красноречивых поэтов; деяния монархов не увенчаются успехом, если они не будут осуществляться в периоды, признанные проницательными астрологами благоприятными; здоровье же, основа всякого счастья и деятельности, может быть обеспечено только услугами способных и заслуживающих доверия врачей»[30]. Все это звучит немного по-восточному и замысловато, хотя даже на Западе в XIII веке большинство дворов имело своих астрологов – граф Честер уже в XII веке, – а остальные три категории существовали и раньше, но в менее бюрократической форме. Двор мелкого сеньора, не умевшего ни читать, ни писать, в интеллектуальном плане оставался примитивной средой. Тем не менее при нем всегда был по крайней мере капеллан, способный и мессу отслужить в часовне, и написать необходимые письма, а со временем этим начал заниматься канцлер или секретарь, поскольку делопроизводство разрасталось, а архивы требовали внимания. В самом деле, канцелярия на регулярной основе стала верным показателем управленческого развития. Наставник, как, например, у молодого Генриха II при дворе его отца или дяди, был такой же редкостью, как и изучение книг принцами. Поэта или жонглера, как правило, легко можно было найти, но только если мы готовы расширить значение этого слова, понимая под ним кого угодно, начиная от придворного шута или дурака и заканчивая профессиональным трувером или трубадуром, и при этом принимать его в небольших домохозяйствах не за постоянного, а за случайного гостя. «Путь долгим был, и ветер ярым, а менестрель – бессильным, старым»[31]. Этого в любом случае было достаточно, чтобы двор стал потенциальным источником как народной, так и латинской литературы. Сакральные и мирские элементы, однако, не всегда идеально сочетались. Какого бы мнения касательно будущего архидьякона ни придерживались писатели-клирики, в отношении жонглеров они соглашались, что те «ни полезны, ни добродетельны» и «лишены надежды на спасение». Так, как всегда, верный своей древности Иоанн Солсберийский замечает, что актеры и шуты его времени скорее подражают непристойностям Нерона, чем благородству Августа и античному театру. Великие праздники, такие как коронация, свадьба, посвящение в рыцари или даже три ежегодных заседания Большого королевского совета, собирали то, что хронисты назвали бы «бесчисленным множеством жонглеров и актеров». Провансальский роман «Фламенка» (Flamenca) 1234 года подробно перечисляет истории, которые они могли рассказать, – от Трои, Фив и Александра до Голиафа и Артура, Карла Великого и Горного Старца[32]. Двор всегда оставался центром литературного меценатства, постоянного или периодического, и не в меньшей степени центром историописания, как это будет показано в следующей главе. Что касается литературы, то в отсутствие книжного рынка придворное покровительство было первостепенной необходимостью для тех, кто не имел стабильного церковного дохода. Зачастую это было и лучшим способом достичь определенного положения в церкви.
Процесс феодальной консолидации в этот период поднял многие из таких дворов в качестве административных и интеллектуальных центров до более высокого уровня. На юге примерами могут служить различные центры провансальской поэзии. При этом не следует забывать о таких государях-поэтах, как Гильом IX Аквитанский, и тех, кто поэтам покровительствовал, как его внучка Элеонора. У графов Шампанских был свой ученый двор, для которого в 1167 году переписали произведения Валерия Максима, а многие из них, например Тибо IV, были выдающимися поэтами. Даже такой мелкий сеньор, как граф Гин, мог позволить себе содержать собственного историка, священника из Ардра (с которым мы встретимся позже), переводившего на французский Гая Юлия Солина и других античных классиков. В Саксонии же культуру поддерживал Генрих Лев, правда, лишь до тех пор, пока не покидал пределы своей страны. В Англии видным почитателем литературы был граф Роберт Глостерский. Ему были посвящены исторические труды Уильяма Мальмсберийского и эпохальная «История бриттов» капеллана Гальфрида Монмутского, открывшего восхищенному графу кельтский эпос. Немногим позже «каждый английский барон держал свой штат клерков», хотя «совершенно очевидно, что немногие из баронов, не являвшихся при этом придворными чиновниками, знали какой-либо язык, кроме нормандского французского»[33].
Своего апогея англо-нормандская бюрократия, восходящая к Вильгельму Завоевателю, запомнившемуся «Книгой Страшного суда», а также своим менестрелем Тайлефером, тем, «что песен много знал»[34], достигает при Генрихе II (1154–1189), хозяине империи, простиравшейся от шотландской границы до Пиренеев, и, вероятно, самом могущественном монархе своего времени в латинском христианском мире. Хотя его владения не имели единой столицы в современном смысле слова, финансы и правосудие располагались в фиксированных центрах, таких как Вестминстер и Кан, которые король часто посещал. В них производили конкретные финансовые, судебные и канцелярские процедуры, которые требовали настолько большого числа должностных лиц, что один современник уподобляет их армии саранчи. Когда король устраивал большой придворный праздник, как, например, на Рождество 1182 года в Кане, он мог потребовать от своих вассалов, чтобы те, покинув собственные дворы, присутствовали у него. Кроме того, Генрих был человеком образованным, воспитанным в доме своего дяди Роберта Глостерского и знакомым со многими языками Европы – от Ла-Манша до Иордана. Он располагал широкими международными связями, его дочери были замужем за правителями Саксонии, Сицилии и Кастилии, и объединение этих различных земель в одних руках способствовало взаимопроникновению германских, кельтских, французских и провансальских культурных элементов. Будучи покровителем литературы и менестрелей, он имел собственного официального хрониста. Кроме того, многое из того, что, видимо, обсуждалось за королевским столом, затем оказалось на страницах сочинений Вальтера Мапа. А еще есть масса документальных записей, полнота и точность которых вызывают справедливое восхищение. Из множества книг, написанных при его дворе, десятка два было посвящено ему самому: немного богословских, немного научных трудов, народная поэзия, возможно, что-то из медицины, большое количество исторических книг на латыни и французском, а также две работы, описывающие его систему правосудия и финансов, – уникальные памятники высокому уровню развития организации управления при Генрихе. Бессистемная дележка имущества достигала в те времена больших масштабов, но даже такие случаи были систематизированы Генрихом I в «Устройстве королевского двора» (Constitutio domus regis), самом раннем из многочисленных постановлений в отношении домохозяйства европейской королевской семьи, где указывалось, что каждый из большого числа чиновников имел свою ежедневную порцию хлеба, вина и огарков свечей – и так на всех уровнях, начиная с канцлера и заканчивая начальником скриптория и капелланом. Таким образом, Палата шахматной доски совмещала тщательный учет своих чиновников с полугодовыми публичными отчетами, которые должны были быть понятны и присутствующим при этом неграмотным шерифам.
Сицилийский двор был, несомненно, более бюрократичен. Его отличал ярко выраженный восточный колорит, настолько же византийский, насколько и арабский, а многочисленные придворные астрологи и поэты, арабские врачи и говорящие на разных языках секретари способствовали воспроизведению того антуража, описанного поэтом из Самарканда, с которого мы начали. Делопроизводство при дворе, как на латыни, так и на греческом и арабском, требовало большого штата опытных секретарей и постоянного хранилища в Палермо. Дворцы поражали красотой мусульманского Востока, а быт напоминал об интимности гарема. Интеллектуальное влияние Сицилии соответствовало ее географическому положению и возможностям. Место встречи Севера и Юга, Востока и Запада, Сицилия была благодатным источником переводов с греческого и арабского и даже местом создания произведений на этих языках. Ее первый король, Рожер II, увлекался географией и руководил подготовкой большой карты аль-Идриси с сопроводительным текстом на арабском языке. При его преемнике Вильгельме I главные переводчики, Аристипп и Евгений из Палермо, служили в королевской администрации. Правление Фридриха II (1198–1250) переносит нас в более поздний период, но он в значительной степени стал кульминацией предшествующего. Колыбель итальянской поэзии, двор Фридриха продолжил арабские традиции своих предшественников, причем космополитические научные и философские вкусы самого Фридриха были сицилийскими настолько же, насколько и личными. Все эти вопросы нам необходимо будет рассмотреть в следующих главах[35].
Менее бюрократические дворы не так для нас сейчас важны, поскольку их кочевой характер воспрепятствовал формированию центра ведения документации, историописания и придворной литературы в целом. Среди таких центров империя в лице Фридриха Барбароссы и его сына Генриха VI занимает первое место. Оба были людьми с интеллектуальными потребностями, оба особенно поощряли официальную латинскую поэтическую историографию, о чем мы поговорим позже. В самом деле, таких текстов за их время сохранилось больше, чем за время правления их более даровитого преемника – Фридриха II. Французская монархия едва ли могла похвастать ролью покровителя учености, в то время как в Испании для этого придется ждать появления Альфонсо X Мудрого в конце XIII века.
Пример высокоорганизованных центров проясняет еще один вопрос, имеющий большое культурное значение, а именно взаимодействие дворов, которое в этих случаях становится более распространенным и лучше прослеживаемым явлением. У Генриха II долгое время гостит его зять, герцог Саксонии. Дочка Генриха, принцесса Иоанна, в сопровождении великолепной свиты отправляется в Сицилию. Король принимает норвежского архиепископа, который остается у него на несколько месяцев, и говорят, что королевскую «Ассизу о вооружении» пытаются скопировать менее успешные властители соседних государств – король Франции и граф Фландрии. Петр Блуаский был одинаково незаменимым как при нормандском, так и при сицилийском дворе. Англичанин Томас Браун вместе с другими иностранцами приглашен ко двору Рожера II, здесь он в качестве судьи и капеллана заверяет финансовую документацию на арабском, подписываясь «аль-каид Брюн»[36]. Однако он все же возвращается в Англию и занимает ответственный пост в Палате шахматной доски. Гервасий Тильберийский также сменяет английский двор на сицилийский, а затем становится маршалом Арелата, по пути в который создает для императора Оттона IV «Императорские досуги» (Otia imperialia). Еще один латинский стихотворец, Генрих Авраншский, писавший для папы и других властительных особ, подвизался при дворах Фридриха II и Генриха III. Император Фридрих II чествовал прибывших ко двору философа Феодора Антиохийского и Михаила Скота из Испании, поддерживал переписку с учеными и философами различных мусульманских правителей Северной Африки и Востока, способствовал контакту поэтов его Великой курии с трубадурами, миннезингерами своих заальпийских владений.
Города XII века играли бо́льшую роль в мире торговли и политики, нежели в мире литературы. Тогда еще не существовало такой самобытной городской культуры, которая возникла в позднем Средневековье, и тем более горожан – покровителей искусства и литературы, подобных тем, которых мы находим в итальянском Возрождении. В меценатах в XII веке все еще ходили светские или церковные правители. В то же время ни научное, ни популярное представление о культуре не может игнорировать значение городов этого периода в перспективе всей интеллектуальной истории. По крайней мере для Северной Европы XII век оказался временем экономической и социальной революции, которая ознаменовала начало серьезных интеллектуальных перемен. Странствующий купец «привел в движение среду людей, привязанных к земле; миру, верному традиции и чтившему иерархию, которая определяла роль и положение каждого, он открыл расчетливую и рационалистическую деятельность, в которой удача больше не измерялась социальным положением, а зависела только от умственных способностей и энергии»[37]. К традиционному делению на воюющих, пашущих и молящихся города добавили четвертую категорию – торговцев и ремесленников, буржуазию будущего, готовую назвать горожанином даже Бога, «первейшего, древнейшего и главнейшего из горожан» (li premierz plus anchiiens et souverains bourgois de tous), как сказал эшевен Дуэ в 1366 году. Резко контрастируя с окружавшей его сельской неволей, город стал территорией свободы, центром капитала, средоточием интенсивной деятельности, форумом дискуссий, со своим собственным законом и, по крайней мере, с некоторой степенью самоуправления. Часто городские законы заимствовались, причем не всегда у соседей. Многие жители городов иногда путешествовали по своим делам на большие расстояния. В этих путешествиях они встречали главным образом людей из других поселений, пересекаясь с ними в придорожных храмах, на рынках, где создавалась народная литература, собирались большими группами на крупных ярмарках, куда съезжались люди со всех концов Европы и где для запыленных просителей действовал особый, торговый закон «ярмарочных судов». Путешественники, таким образом, могли усваивать странные и даже запретные идеи, подобные тем дуалистическим ересям, пришедшим издалека по торговым путям с Востока и распространившимся в северных городах, где «ткач» и «еретик» часто становились синонимами[38]. Все это очень средневеково по духу и очень актуально по своим последствиям!
Развитие чтения и письма в этих условиях было скорее вопросом удобства, чем необходимости. Тем не менее, в то время как крестьяне в течение многих последующих столетий обходились без того и другого, горожане Севера создавали мирские школы, где можно было получить начальное образование. В поисках чего-то большего мы должны обратиться к древним городам Юга, особенно Италии, где традиции светского образования сохранились среди нотариев и писцов и где, как в Венеции, чтение и письмо распространились среди торгового класса. Итальянские города уже имели свои местные архивы, хроники и юридические школы. Более того, торговые республики Средиземноморья были главным средством сообщения с Востоком. У Венеции и Пизы были свои торговые кварталы в Константинополе и в главных сирийских городах. Они часто посылали дипломатические миссии, и их граждане даже могли занимать определенные должности при византийском дворе. Именно в Константинополе в 1136 году мы находим Якова Венецианского, выполнившего перевод «новой логики» Аристотеля; Моисея Бергамского, располагавшего драгоценной библиотекой греческих рукописей и написавшего латинскую поэму о родном городе; Бургундио Пизанского, который за свою долгую жизнь путешествовал по Востоку и перевел на латынь многие труды по греческой теологии и медицине[39]. Немного ранее анонимный уроженец Пизы восславил в стихах победу своего города над сарацинами Майорки, а его земляк по имени Стефан тогда же переводил арабские медицинские сочинения в Антиохии. И хотя общение Запада и Востока было завязано в основном на торговле, мы не должны забывать, что со времен греческих и финикийских торговцев невозможно отделить торговый обмен от обмена знаниями и идеями. К сожалению, такие последствия торгового обмена, как правило, неосязаемы и оставляют мало прямых свидетельств.
Университет как особый интеллектуальный центр относится скорее к более поздней эпохе, чем к той, о которой мы здесь говорим. Правда, что XII век создал модель университета, востребованную и позже, и мы увидим, что по крайней мере пять университетов восходят к этому времени: Салерно, Болонья, Париж, Монпелье и Оксфорд. Тем не менее они еще не полностью выделились из общей группы школ: само название «университет» едва ли имело такой смысл, а его особенная организация едва ли была общепризнанной. Университеты еще не были связаны друг с другом, и папство пока не поставило их под свой контроль.
О связи внутри и даже между этими несколькими группами интеллектуальных центров, о реальных перемещениях идей, знаний и книг мы знаем слишком мало. Сухопутные маршруты, которые нам известны, с их вспомогательными речными и морскими путями, по большей части проходили по древним римским дорогам, соединявшим древние города, ставшие епархиями, резиденциями епископов, а также новые поселения, усеянные святынями, пристанищами и монастырскими обителями, – таковы пути всех интеллектуальных контактов на большом расстоянии. «В начале была дорога», – говорит Бедье[40]. Лишенные безопасности римского мира и заброшенные из-за безразличия местных властей, магистрали все еще служили средством частого и достаточно быстрого сообщения. Средний путь для длительных путешествий составлял от 20 до 30 миль в день, но отдельные посыльные могли пройти и 40 миль. «Сообщение из Рима могло дойти до Кентербери чуть меньше чем за пять недель… обычный путешественник, в отличие от посыльного, проводил в таком пути около семи недель»[41]. Известие о смерти Фридриха Барбароссы в Малой Азии дошло до Германии за четыре месяца, и примерно за то же время достигло Англии известие о пленении Ричарда в Австрии. В 1191 году тело архиепископа Кельнского было доставлено из Неаполя в Кельн за шесть недель. Как быстро путешествовали книги?
Более конкретные свидетельства интеллектуальных контактов обычно ускользают от нашего взора, а наше знание о них носит скорее качественный характер, нежели количественный. Нам известны маршруты паломников и купцов, но не их число и степень влияния. Можно проследить маршруты крестоносцев, но не идеи, которые они несли с собой. Мы знаем о перемещениях студентов, но даже известным свидетельствам Оттона Фрейзингенского и Иоанна Солсберийского не хватает деталей. Гораздо внимательнее можно проследить за перемещением высшего духовенства, что определенно заслуживает дальнейшего изучения. Так, судя по всему, английские клирики часто ездили в Рим. Пять епископов и четыре аббата из Англии присутствовали на Латеранском соборе в 1139 году. В 1144 году в Риме побывал английский кардинал, а в 1154-м – только что вернувшийся из Скандинавии английский папа[42]. Во время последнего из нескольких визитов в Рим, около 1150 года, епископ Генрих Винчестерский приобрел древние статуи и вернулся домой через Компостелу. Роберт, приор приората Святой Фридесвиды, посвятивший Генриху II сокращенного Плиния, не раз посещал Рим и добрался до самой Сицилии. В составе большой английской делегации, присутствовавшей на соборе 1179 года, были два литератора – Вальтер Мап и Адам Бальшамский. Аббатство Святого Августина в Кентербери в течение столетия направило в Рим 30 миссий, а церковь Святого Креста в Оксфорде – 17. Епископ Байе Филипп, известный коллекционер книг, совершил по меньшей мере четыре визита в Рим. Иоанн Солсберийский посещал Италию не менее шести раз для общения с сицилийским канцлером, а также служил в течение восьми лет при папском дворе. Там он общался с пизанским переводчиком Бургундио и по крайней мере еще с одним переводчиком с греческого. С чем он вернулся домой? Все эти примеры, при должном старании, могут приоткрыть завесу интеллектуальных возможностей того времени. Тем не менее в основном мы ограничены заманчивыми догадками, приходится смириться с тем, что большая часть занимательных и важных свидетельств, относящихся к XII веку, утрачена. Мы можем попытаться утешить себя, вспомнив, что это верно в некоторой степени для всех периодов истории и – в особом смысле – для тех непредсказуемых фактов, которые составляют историю мысли.
Для монастырей в целом главным источником являются уставы (Consuetudines) различных орденов, а также многочисленные биографии и хроники отдельных учреждений; но для XII века нам не хватает конкретных деталей, приведенных в более поздних и более систематических источниках. Для исчерпывающей библиографии см.: “Cambridge Medieval History”, том V, глава 20. Неплохое исследование монастыря как института – в работе F. Pijper “De Kloosters” (Гаага, 1916). Интересный очерк авторства нынешних бенедиктинцев у U. Berliere – “L’ordre monastique” (второе издание, Париж, 1921) и F. A. Gasquet – “English Monastic Life” (Лондон, 1904). Об интеллектуальной жизни Клюни см.: E. Sackur “Die Cluniacenser” (Галле, 1892–1894); о цистерцианцах см.: H. d’Arbois de Jubainville “Études sur l’état intérieur des abbayes cisterciennes au XIIе et au XIIIе siècle” (Париж, 1858) и E. Vacandard “Vie de Saint Bernard” (четвертое издание, Париж, 1910). Монтекассино все еще ждет своего исследователя; тем временем ознакомьтесь с превосходными исследованиями E. A. Loew “The Beneventan Script” (Оксфорд, 1914) и E. Caspar “Petrus Diaconus” (Берлин, 1909). О монастыре в Ле-Беке см.: A. A. Porée “Histoire de l’abbaye du Bec” (Эвре, 1901); об аббатстве Сен-Эвруль – введение к пятому тому книги L. Delisle “Ordericus Vitalis” (Париж, 1855); об аббатстве Сен-Мартен в Троарне – R. N. Sauvage “L’abbaye de Saint-Martin de Troarn” (Кан, 1911). О Вестминстерском аббатстве см.: J. A. Robinson “Gilbert Crispin” (Кембридж, 1911); об английских цистерцианцах – F. M. Powicke “Ailred of Rievaulx” (Манчестер, 1922). Об интеллектуальной жизни – G. G. Coulton “Five Centuries of English Religion”, том I, с. 1000–1200 (Кембридж, 1923). О Германии см.: A. Hauck “Kirchengeschichte Deutschlands” (Лейпциг, 1887–1911); об Испании см. отдельные исследования, такие как M. Férotin “Histoire de l’abbaye de Silos” (Париж, 1897) и монография о Риполе, которая будет упомянута в следующей главе.
Собор как институт описан в учебниках канонического права, а как интеллектуальный центр все еще требует исследования. Между тем можно обратиться к биографиям выдающихся архиепископов и епископов, например в “Dictionary of National Biography”, или к монографии V. Rose “Ptolemaeus und die Schule von Toledo” в “Hermes”, том VIII, с. 327–349 (1874). “Necrologio del Liber Confratrum di S. Malteo di Salerno” превосходно издан C. A. Garufi (Рим, 1922). О соборных школах см. в главе XII.
Обычные книги о жизни при дворе или в замке мало что сообщат об этих местах как интеллектуальных центрах. См. вместо этого: E. Faral “Les jongleurs en France au moyen âge” (Париж, 1910); K. J. Holzknecht “Literary Patronage in the Middle Ages” (Пенсильванский университет, докторская диссертация, 1923); а также многие другие книги о трубадурах. О Генрихе Льве см.: F. Philippi в “Historische Zeitschrift”, том CXXVII, с. 50–65 (1922). О дворе Генриха II см.: W. Stubbs “Seventeen Lectures on Mediaeval and Modern History”, главы 6 и 7 (третье издание, Оксфорд, 1900); С. Н. Haskins “Norman Institutions”, глава 5 (Кембридж, 1918); С. Н. Haskins “Henry II as a Patron of Literature” в “Essays in Mediaeval History Presented to Thomas Frederick Tout”, с. 71–77 (Манчестер, 1925). О сицилийском дворе см.: С. Н. Haskins “Studies in the History of Mediaeval Science”, главы 9, 12–14 (Кембридж, 1924) и “England and Sicily in the Twelfth Century” в “English Historical Review”, том XXVI, с. 433–447, 641–665 (1911). Также в университетской библиотеке Гарварда есть неопубликованные докторские диссертации – “Englishmen in Italy in the Twelfth Century” P. B. Schaeffer (1923) и “Henry of Avranches” J. C. Russell (1926).
Обширная литература о средневековых городах тоже мало говорит об их интеллектуальной жизни в этот период. Блестящий очерк ранней истории северных городов см. в книге H. Pirenne “Medieval Cities” (Принстон, 1925); о североитальянских переводчиках – С. Н. Haskins “Mediaeval Science”, глава 10.
Об установлении связей см.: J. J. Jusserand “English Wayfaring Life in the Middle Ages”, J. Bédier “Les légendes épiques”, общие труды о торговле, F. Ludwig “Untersuchungen über die Reise- und Marschgeschwindigkeit im XII. und XIII. Jahrhundert” (Берлин, 1897) и С. Н. Haskins “The Spread of Ideas in the Middle Ages” в “Speculum”, том I, с. 19–30 (1926).
О темах этой главы см. также в библиографических справках к другим главам, в частности к главе VIII.
Глава III. Книги и библиотеки
(пер. Ивана Мажаева)
Любое исследование интеллектуальной среды XII века обязано обращаться к книгам, доступным для читателей того времени, учитывать особенности их создания и использования. Разумеется, было бы предпочтительнее (если бы такое вообще было возможно) изучать интеллектуальный фон каждого писателя, основываясь на приводимых им цитатах, его путешествиях и книгах, к которым он имел доступ. По крайней мере, нам уж точно следовало бы отказаться от существующих ныне предубеждений касательно не только таких очевидных вещей, как тиражи и продажи, но и более опасных предположений о якобы легком доступе к стандартным материалам. Без реалистичного представления о библиотеках изучаемой эпохи мы легко можем прийти к ошибочному пониманию происходившего. «Платон, – утверждает Колтон[43], – вполне мог бы пожать руку Ансельму», но в реальности это было невозможно: греческих рукописей на Западе не было, Ансельм не знал греческого, никаких переводов Платона на латынь не существовало, за исключением фрагмента «Тимея». Превосходным примером правильного подхода к исследованию автора XII века является предисловие Леопольда Делиля к «Церковной истории» Ордерика Виталия, где мы находим каталог библиотеки его монастыря Сен-Эвруль, подробное изучение образовательной среды аббатства, краткий обзор прочитанного автором, особенно в том, что касается цитируемых им материалов, а также свидетельства его нечастых поездок в такие отдаленные края, как Камбре и Вустер.
Нужно помнить, что люди Средневековья, говоря о библиотеке, не имели в виду специальную комнату и уж тем более не представляли себе отдельное здание. Библиотеку называли латинским словом armarium, буквально означающим стеллаж или книжный шкаф. По сути, это и было «библиотекой». Обычно она находилась в церкви, а позже, довольно часто, – в помещении, примыкавшем к клуатру, с полками, врезанными в стену. В некоторых случаях существовало также отдельное место для учебных книг. Такие собрания, отнюдь не по вине их владельцев, были довольно малы, а самые ранние монастырские каталоги включают в себя буквально несколько томов, десятка два или около того. «Установления» (Consuetudines) Ланфранка, написанные для английских бенедиктинцев в конце XI века, допускают, что все монастырские книги можно разложить на одном ковре, но в то же время их количества будет достаточно для того, чтобы обеспечить каждого монаха одним экземпляром для чтения на весь год. Именно такое количество книг являлось обязательным минимумом: «Монастырь без библиотеки – все равно что замок без оружейной», – гласила поговорка того времени (Claustrum sine armario est quasi castrum sine armamentario).
Подобные коллекции разрастались за счет подарков, покупок или изготовления прямо на месте. В XII веке книги покупали нечасто, поскольку тогда не было еще ни прослойки профессиональных писцов, ни сформировавшегося рынка книг, однако Болонья и Париж уже тогда становятся местами, где можно было приобрести книги. Рукописи, естественно, ценились очень высоко, особенно большие богослужебные книги для хора. Мы знаем о великолепной Библии, купленной за 10 талантов, и о миссале, обменянном на виноградник. В 1043 году епископ Барселоны приобрел у еврея два тома Присциана в обмен на дом и участок земли. Есть сведения о дарениях библиотекам: от монахов, поступавших в монастырь, от путешественников, которые пользовались его гостеприимством, но особенно – по завещанию. Например, в XIII веке кафедральный собор Руана перечисляет следующие подарки: от архиепископа Ротру (1165–1183) получили «Естественную историю» Плиния, письма святого Иеронима, трактат блаженного Августина «О граде Божьем», «Этимологии» Исидора Севильского, труды Витрувия, а также два тома трудов предшественника Ротру, архиепископа Гуго; от архидьякона Лаврентия – половину Библии; от господина Галерана – миссал; от господина Р. де Антана – девять томов Библии, один из которых был одолжен аббатству Сен-Жорж-де-Бошервиль в обмен на Псалтирь с комментариями (стоит отметить, что практика заимствования оставалась еще довольно популярной). В 1164 году епископ Филипп из Байе завещал библиотеке Ле-Бека 140 томов, 27 из которых так и не прибыли; в 1180 году Иоанн Солсберийский оставил собственную маленькую библиотеку Шартрскому собору. Главным источником пополнения библиотеки, однако, являлось производство книг в самих монастырях, где труд монахов не оплачивался, а запасы пергамена часто можно было получить с собственных земель.
Монастырский скрипторий был самостоятельным учреждением. Хотя переписывание книг, согласно ранним уставам, не являлось регулярным послушанием монахов, оно очень быстро стало признаваться достойной формой труда, и «каждое возрождение монашеской дисциплины сопровождалось обновленным рвением к письму»[44]. Клюнийцы освободили переписчиков от службы в хоре, а аббат Петр Достопочтенный постоянно настаивал на том, что переписывание – намного более достойное занятие, чем работа в поле. Цистерцианцы позволили своим переписчикам не трудиться в поле, если речь не шла о сборе урожая, и допускали к запретной кухне для удовлетворения их трудовых нужд. Картезианцы сажали монахов за переписывание книг в нескольких своих обителях. Ослабевающее со временем рвение стимулировалось надеждой на вечную награду: «Ибо за каждую букву, строчку и точку мне прощается грех», – пишет монах из Арраса в XI веке. Ордерик Виталий повествует нам о грешном монахе, который заслужил спасение, переписывая книги, избежал ада, поскольку его труды превысили его многочисленные прегрешения на одну-единственную букву. И тем не менее задержать монахов на этой работе было непросто, и сведения о наемных переписчиках начинают появляться все чаще и чаще. Даже монастырские переписчики могли работать по найму, как, например, в случае, когда Фридрих Барбаросса заказал миссал и сборник писем из Тегернзее.
Переписывать книги от руки было как минимум утомительно, а в некоторых случаях – мучительно. Даже такой усердный переписчик, как Ордерик Виталий, был вынужден откладывать перо, когда пальцы немели от зимней стужи, а брат Лев из Новары в X веке жаловался, что пока три пальца пишут, спина согнута, ребра впиваются в живот и от этого страдает все тело. Что же касается необходимого времени, то есть несколько описаний, дошедших до нас из более раннего и более требовательного к переписчикам периода. В 1004 году Константин из Люксейского аббатства скопировал так называемую «Геометрию» Боэция за 11 дней. Объем рукописи составлял примерно 55 современных печатных страниц. В XII веке декан из Синт-Трейдена потратил целый год на то, чтобы составить сборник гимнов, начиная с заготовки пергамена, заканчивая финальным украшением и музыкальной нотацией. Известно также, что в Леоне в 1162 году произошло подлинное чудо: там Библию удалось скопировать всего за шесть месяцев и иллюминировать в течение седьмого[45], в то время как чуть позже, в 1220–1221 годах, переписчик из Новары справился с этим за год с четвертью. Если требовалось быстрое исполнение, то переписываемый том делился на части, чтобы над ним могли трудиться сразу несколько монахов.
В любом случае окончание работы воспринимали вполне по-человечески, о чем свидетельствует множество подписей. Фраза «Хвала Господу, что работа окончена» является самым распространенным выражением, дополненным надеждами на небесную награду и порой желаниями более земными – вина, пива, жирного гуся, хорошего обеда:
- Explicit, Deo gratias.
- Finito libro sit laus et gloria Christo.
- Hic liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus.
- Propter Christum librum bene condidit istum.
- Qui scripsit scribat, semper cum Domino vivat.
- Qui scripsit scribat et bona vina bibat.
- Finito libro pinguis detur auca magistro.
- Detur pro penna scriptori pulchra puella.
- Конец, Богу благодарение.
- Закончена книга в похвалу и славу Христа.
- Книга написана, благословен писавший.
- Христа ради он достойно написал эту книгу.
- Писавший пусть пишет, вечно пребудет с Господом.
- Писавший пусть пишет и пьет хорошие вина.
- Пусть за долгий труд магистру воздастся гусем.
- Пусть писцу красивой девушкой воздастся.
Переписчик начинает петь или играть:
- Explicit expliceat, psallere scriptor eat.
- Explicit expliceat, ludere scriptor eat.
- Заканчивается и пусть заканчивается, а писец пойдет петь.
- Заканчивается и пусть заканчивается, а писец пойдет веселиться.
Иногда он вполне осознанно гордится своей работой и прославляет ее, как, например, переписчик из Кентербери Эдвин:
- Scriptorum princeps ego, nec obitura deinceps
- Laus mea nec fama: qui sim, mea littera, clama.
- Я первый среди писцов, и ни моя слава,
- ни мое признание не угаснут: буква моя, поведай обо мне.
К XII веку различным службам монастыря были переданы специальные земли или доходы, и если библиотеке не оказывалось подобного внимания, то она, скорее всего, начинала зависеть от случайных подношений. Так, например, библиотекарь из Корби имел особое содержание для починки старых книг и создания новых, в то время как в Сент-Олбансе для найма переписчиков была выделена специальная десятина, достаточная для того, чтобы содержать как минимум одного постоянного писца. В Абингдоне сохранился детальный отчет о расходах на каждую службу в аббатстве, за исключением создания книг; а в Ившеме к 1206 году «приорат выделил десятину с одной деревни для того, чтобы предоставлять пергамен и выплаты переписчикам», в то время как «на средства из запасов ренты и десятины регент хора приобрел чернила и краски для оформления и материалы для переплета»[46]. Что же касается длинного списка поучительных книг, которые Отлох Санкт-Эммерамский скопировал и раздал своим друзьям, то они были созданы в редкое свободное от выполнения обычных обязанностей школьного учителя время.
В интересующий нас период большинство книг написаны на пергамене, поскольку папирус перестал использоваться уже в раннем Средневековье, а бумагу на Западе еще не знали. Тщательно изготовленный толстый пергамен из овечьей кожи или тонкий из кожи ягненка нарезался и складывался в тетради, а затем, согласно определенным правилам, разлиновывался[47]. Рукописи существенно отличались в размерах: хотя сохранилось множество Библий и богослужебных книг большого формата, написанных размашистым почерком, XII век оставил нам значительное количество книг размером в 1/16 листа или меньше, написанных легко читаемым, но часто микроскопическим почерком, достаточно маленьких, чтобы помещаться в кармане путника. Начало XII века стало одним из золотых периодов средневековой рукописной книги, поскольку рука еще хранила память о читаемости каролингского минускула. Вскоре мы обнаружим зачатки готических росчерков, лигатур и многочисленных сокращений, которые станут распространенным явлением в XIII веке, когда вернется и скоропись.
XII век был также временем возрождения искусства иллюминирования манускриптов, поскольку каролингская традиция в большинстве мест к XI веку исчезла. Прекрасные инициалы XII века уже предвещали великие достижения грядущей эпохи. На тот момент искусство росписи в основном ограничивалось инициалами, выполненными в красном, зеленом и золотом цвете, но мы также знаем, что Петр Коместор впервые добавил изображения фигур в свою знаменитую «Схоластическую историю». Известным образцом монашеского изобразительного искусства XII века стали также иллюстрации к книге «Сад наслаждений» (Hortus deliciarum) аббатисы Геррады Ландсбергской; книга погибла в пожаре вместе со всей Страсбургской библиотекой в 1870 году. Новый уровень художественного мастерства в этот период стал крайне важным этапом для развития искусства в целом. Еще одно проявление особого внимания к книжному оформлению – превосходные тиснения на кожаных переплетах, которые дошли до нас из того столетия.
Что же таили в себе манускрипты XII века? Дадим слово непререкаемому авторитету, доктору Монтегю Родс Джеймсу[48]:
Сила и энергия Европы тогда достигли небывалой силы в каждой из жизненных сфер, и не в последнюю очередь в той, что интересует нас. Наши библиотеки на сегодняшний день переполнены манускриптами XII века. Копии трудов Григория, Августина, Иеронима, Ансельма исчисляются сотнями. Это век великих Библий и глосс – отдельных книг или набора томиков Библии, испещренных комментариями между строк и на полях (многие из которых, к слову, были написаны, как кажется, в Северной Италии). Огромен также труд писателей того времени, таких как Бернард, Гуго и Ришар из Сен-Виктора, Петр Коместор, Петр Ломбардский. Двое последних были авторами самых популярных учебников Средневековья: «Сентенции» (основы вероучения) Петра Ломбардского и «Схоластическая история» (комментированный пересказ библейской истории) Петра Коместора. Орден цистерцианцев, основывавший свои обители повсюду, на мой взгляд, особенно активно пополнял свои библиотеки изящными, но аскетичными копиями стандартных трудов, избегая украшательства как в рукописях, так и в постройках, не особо заботясь о светской учености.
Мы еще даже не добрались до множества миниатюрных Библий, сентенций, сумм, многочисленных учебников, а также великих богословских и юридических комментариев XIII века.
Что же касается наполнения библиотек в XII веке, то они содержали в себе не только копии, но и множество древних рукописей. Об их наличии мы знаем частично благодаря каталогам того времени, частично по более поздним описаниям библиотек, по владельческим надписям, оттискам и прочим характерным отметкам, которые можно обнаружить на этих томах и сегодня, хотя многие из них были утрачены при повторном переплетении. Воссоздание содержимого этих библиотек представляет не только профессиональный интерес, но и общую значимость, поскольку дает нам представление о европейском сознании в определенную эпоху. Каталоги[49], количество книг в которых могло исчисляться даже трехзначными числами, не всегда в состоянии прояснить ситуацию, поскольку обычно это сухие списки на форзацах манускриптов, не сообщающие ничего о дате написания и зачастую неточно – о содержании: например, сочинения классических авторов записывали просто как «учебники» (libri scholastici). В более позднем Средневековье описания стали полнее и точнее, часто включали в себя первую строчку второго листа каждого тома, номер или оттиск. Эти каталоги практически никогда не составлялись в алфавитном порядке, поскольку в Средние века о нем особо не заботились, по крайней мере не шли дальше первой буквы. На современные телефонные справочники составители таких каталогов наверняка бы глядели с оцепенением американского курьера. Единственные каталоги, в которых я мог бы отметить хотя бы приблизительный алфавитный порядок, – это каталоги из Корби и из Сен-Бертена, но даже они сгруппированы по содержанию, в общих чертах, начиная с Библии, богослужебных книг и трудов Отцов.
Каждая хорошо организованная библиотека того времени, таким образом, обладала определенными постоянными элементами. Во-первых, Библией, часто с большим количеством копий, а в случае, если это был перевод святого Иеронима, то и с комментариями, которые дополняли текст тропологическими, аллегорическими и анагогическими интерпретациями, накладывавшимися на буквальный смысл массой стандартных и общепринятых толкований. Во все эпохи средневековый разум полнился не только фразами и аллюзиями, почерпнутыми из текста Писания, но и подтекстами аллегорий и мистицизма, кроющимися за каждым стихом. Вот и получалось, что «лисята, которые портят виноградники» в «Песни Песней» Соломона (II, 15) настолько часто толковались как еретики, что сами еретики – в ранних комментариях вальденсов – понимали это место так же. Даже без комментариев Библия обычно занимала несколько томов и именовалась bibliotheca, поскольку воистину была ею для тех, кто мог понять всю глубину ее смыслов. Естественно, определенные части Библии (например, Псалтирь, Евангелия, Послания апостолов) часто хранили по отдельности для использования в богослужебных целях. За Библией обычно шли богослужебные книги: миссал, антифонарий, лекционарий, градуал, тропарий и проч. – церковный календарь, один или несколько монашеских уставов. Затем шли труды Отцов Церкви: Амвросия, Иеронима, Августина и Григория. Их сочинения всегда были важной частью библиотеки, и это касалось не только комментариев к Писанию. Из всех четверых меньше всего места занимали Иероним и Амвросий, хотя письма Иеронима, превозносящие монашескую жизнь, пользовались широкой популярностью и потому их автор играл большую роль в традиции христианского вероучения. Ни в одном из средневековых каталогов мы не встретим полный список многочисленных сочинений Августина, хотя добрая их часть, включая экзегетические, богословские труды и «О граде Божьем», обычно присутствовала. Ни один другой автор не оказал более стойкого влияния на самые высокие уровни средневековой мысли; его значимость для XII века часто определяется формированием схоластической теологии и философии истории, как мы увидим это на примере трудов Оттона Фрейзингенского. Григорий Великий был очень популярен в Средние века, поскольку занимал более низкую интеллектуальную ступень, чем строгий и классичный Августин, а его истории о чудесах находили широкий отклик в человеческом легковерии. Писание, в его понимании, содержало пищу для любого ума – «пруды и отмели, по которым может перейти вброд ягненок, и глубины, по которым может плавать слон». Он помнил о нуждах всякого скорее в средневековой, нежели римской манере. Ни одна претендующая на полноту библиотека не считалась таковой без шести томов его «Морального толкования на Иова», этого великого «кладезя для истории литературы»; его «Бесед на пророка Иезекииля»; историй и чудес из его «Диалогов»; изложения обязанностей епископа в «Правиле пастырском». В 1133 году на самом отдаленном краю католического мира исландский епископ Торлак попросил, чтобы ему читали «Правило пастырское», пока он умирает, «и люди думали, что теперь он готов был встретить свою кончину смелее, чем до того, как чтение началось»[50].
Другой набор необходимых книг, «без которых ни одна библиотека благородного человека не может считаться полной», состояла из тех, кто передал (или переделал?) древние знания: Марциана Капеллы, Присциана, Боэция, Исидора Севильского и Беды Достопочтенного. Марциан, которого, хотя и с небольшим преувеличением, называли автором самых популярных произведений Средневековья после Библии и Вергилия, передал нам концепцию семи свободных искусств, описав каждое из них. Имя Присциана было неотделимо от латинской грамматики и, благодаря приведенным у него примерам, от большей части латинской литературы. Боэций был широко известен в XII веке благодаря своему гуманистическому «Утешению философией», богословским трудам, ныне возвращенным ему современной наукой, но прежде всего благодаря учебникам по логике, риторике, арифметике и музыке, а также ошибочно приписываемым его имени учебникам по геометрии. «Этимологии» Исидора оставались главной средневековой энциклопедией (иногда напоминающей детскую), хотя многие из описанных там чудес восходят к старому доброму Плинию. Никто не считал списки «Этимологий» XII века, но мы знаем, что к 850 году, то есть более чем через два века после их написания, 54 полные копии и более сотни выдержек попали из Севильи за Пиренеи. У Беды тоже был неплохой «тираж» в среде ирландских и англосаксонских монахов. Помимо его превосходных комментариев к Библии, его учебники считались образцовыми по части хронологии и астрономии.
Встречалось в библиотеках того времени и кое-что из области права, особенно права церковного. Германские кодексы и франкские капитулярии переписывались теперь редко, а «Свод гражданского права» пока только начинал распространяться. Зато регулярно можно было наткнуться на собрания папских писем, деяния церковных соборов, новый для того времени «Декрет Грациана». Поэзия была представлена в христианской форме, в основном Пруденцием, Венанцием Фортунатом, Фульгенцием и некоторыми стихами каролингского периода. Книги на народных языках редки.
Вокруг этого центрального ядра наиболее популярных сочинений прочее содержимое библиотек распределялось довольно неравномерно. В некоторых местах, как, например, среди немецких цистерцианцев, помимо Отцов почти ничего и не было. Классики, как мы увидим позже, попадались, но непоследовательно и нерегулярно. Часто хранилось что-то, вышедшее из-под пера каролингских теологов и гуманистов, таких как Алкуин, Рабан Мавр, Пасхазий Радберт, Гинкмар, Ремигий, Смарагд, а также «Книга об исчислении» (Computus) Хильперика Осерского. Жития святых, правда всегда разных, встречались повсеместно; кое-что из истории – всеобщие хроники раннего Средневековья, Григорий Турский, местные анналы региона или даже церкви. Конечно, нам следует быть готовыми столкнуться с чем-то уникальным, характерным для отдельно взятого монастыря или собора, будь то письма, биографии, труды их обитателей или материалы архивного характера. Известные писатели XII века, такие как святой Ансельм, святой Иво, святой Бернард и Петр Ломбардский, быстро обретали свое место на полках; однако менее успешные авторы постоянного положения в каталогах не имели, и, если судить по ним, новые знания по логике, медицине и естественным наукам распространялись крайне медленно.
Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров из каталогов, ведь, как говорил Анатоль Франс, нет ничего более легкого, приятного и завлекательного, нежели чтение каталогов рукописей[51]. В 1123 году Арнольд, аббат Сен-Пьер-ле-Виф в Сансе, распорядился составить список тех 20 томов, которые он переписал за 27 лет своего служения для того, чтобы воссоздать библиотеку, уничтоженную пожаром: 14 из них, начиная с Пятикнижия, составляющего отдельный том, «чтобы освободить братьев от тяжести всей Библии», были библейского и литургического содержания; Отцы Церкви представлены Григорием, Августином и Оригеном; «История лангобардов» Павла Дьякона – историческое сочинение; есть также истории «славных войн язычников и христиан в Иерусалиме и описание святых мест», кое-что из агиографии. Фридрих, аббат Санкт-Годехарда в Хильдесхайме (1136–1151), передал своему аббатству 16 томов «из самого лучшего пергамена», а именно: 3 тома «Морального толкования на Иова» Григория, 8 томов проповедей и собеседований[52], 3 тома житий и две части Библии. Известные нам 44 тома из цистерцианского монастыря Поблет по большей части посвящены литургии. 85 томов, написанных в Фульде, – к тому времени почти все литургические или святоотеческие. Многое из сказанного выше справедливо и для аббатства Сант-Анджело-ин-Формис, подчинявшегося Монтекассино, библиотека которого, насчитывавшая 143 тома, пополнилась 20 псалтирями, 9 процессионалами, 9 антифонариями, но также и 4 книгами по медицине, лапидарием и «книгой басен». Более крупные библиотеки, разумеется, располагали бо́льшим разнообразием. До 1084 года собор Туля имел 270 томов – как церковных, так и классических текстов, включая хорошую подборку христианской и языческой поэзии. Практически такой же тематический разброс можно встретить среди 342 томов в Корби около 1200 года. Михельсберг в период между 1112 и 1123 годами обладал достаточно современной библиотекой, чтобы среди 242 томов в ней нашлось место «сарацинской книге по математике» и двум греческим книгам схожего содержания, а также оригинальной рукописи «Истории» Рихера Реймсского, которая ныне хранится в Бамберге. Из 102 томов Сент-Амана многие посвящены медицине. Не менее важную роль медицина играла и в Даремском соборе, библиотека которого из 546 томов, должно быть, являлась одной из самых больших в конце XII века.
Пока мы говорили только о корпоративных библиотеках монастырей и соборов, поскольку они были, пожалуй, самыми важными для XII века. Любой студент или клирик мог владеть книгами – никаких внутренних причин для подобных запретов тогда не существовало. Но имя владельца фиксировалось только в том случае, если позднее книгу дарили монастырю или библиотеке. Правители украшали книгами свои часовни, а образованные правители – как в случае с Генрихом Шампанским или графом Гинским – располагали отличными библиотеками книг на народном языке. Известны нам и королевские библиотеки. В Англии есть свидетельства о «книгах короля Гарольда» (libri Haroldi regis), а Генрих II, как мы знаем, собрал серьезную коллекцию сочинений, посвященных ему лично. Его сын Иоанн, наверняка не книжный червь, получил от аббата Рединга Ветхий Завет в шести томах, трактат «О таинствах христианской веры» Гуго Сен-Викторского, «Сентенции» Петра Ломбардского, «О граде Божьем» Августина (представьте Иоанна, читающего его в долине Раннимид!)[53] и некоторые другие тома. Все они, как удается судить, были одолжены аббату, равно как и «наша книга, именуемая Плинием», возвращенная несколькими днями позже[54]. Фридрих I хранил книги в Хагенау и Ахене, внушительная библиотека наверняка была и у Фридриха II. Людовик IX Святой тоже проявлял интерес к собиранию книг. И все-таки королевские и меценатские библиотеки тогда еще не вошли в моду, и нам придется подождать до XIV века и даже дольше, чтобы увидеть библиотеки правителей, из которых потом вырастут Ватикан, Лауренциана, Британский музей и Национальная библиотека Франции.
Средневековые библиотеки, конечно же, не были публичными, поскольку читающая аудитория к тому времени еще не сформировалась. Библиотеки не одалживали книги, как в будущем университеты. Они предназначались исключительно для использования их владельцами, хотя довольно часто встречаются примеры одалживаний с целью создания копий. Списки постоянных «заемщиков» появляются в более поздний период. С течением времени книги стали делить на те, которые хранились в сундуке под замком, и те, что выставлялись для свободного использования прямо на месте и приковывались цепью к столу для сохранности – «для общей пользы сцепленные» (cathenati ad communem utilitatem). «Прикованная Библия», которая часто являлась объектом столь праведного негодования со стороны протестантов, привязывалась именно в целях сохранности, а не для ограничения ее использования.
Не часто библиотека или ее часть занимает сегодня то же пространство, что в XII веке. Основные исключения – некоторые старые соборы Испании, Италии, Германии и Англии, но даже они порой перестраивались в более поздние времена. Примеры сохранности помещений монастырских библиотек, как в монастыре Санкт-Галлен или в цистерцианских аббатствах Австрии, довольно редки. Монтекассино до сих пор оправдывает свое название, поскольку все еще располагается на бесподобной горе, откуда Бенедикт Нурсийский «смотрел вокруг и внутрь себя»; но здания все современные, и бо́льшая часть старинной библиотеки ныне рассеяна по разным местам[55]. Когда в XIV веке Боккаччо посетил одно из таких помещений, его взору открылась печальная картина: дверь в библиотеку отсутствовала, окна заросли травой, рукописи покрылись толстым слоем пыли, а некоторые из лучших томов были разорваны на части или обрезаны по краям, потому что монахи использовали обрезки для изготовления карманных псалтирей и молитвенников на продажу. Возможно, ради красочности описания он несколько преувеличивал ситуацию, как это делал, например, Поджо Браччолини, когда описывал спасение своей знаменитой копии Квинтилиана из сырого и сплошь покрытого плесенью подвала башни монастыря Санкт-Галлен[56]. В любом случае самые бережливые по отношению к книгам монастыри свободно продавали их копии в XIV и XV веках. Роспуск английских монастырей при Генрихе VIII привел к тому, что их библиотеки были рассеяны по самым отдаленным и неожиданным местам, а раннее Новое время стало эпохой великого обветшания библиотек континентальной Европы. Заметный ущерб библиотекам нанесли Французская революция и близкие ей по духу волнения в других странах, где монастырские и прочие библиотеки изымались в пользу публичных хранилищ. В рамках секуляризации библиотека Мон-Сен-Мишель была перенесена в Авранш, а библиотеки Тегернзее и Бенедиктбойерна оказались в Мюнхене. Те, что ранее принадлежали флорентийским монастырям, попали в Центральную национальную библиотеку в Уффици. Но в большинстве случаев спасительный перенос происходил слишком поздно. Библиотека из Флери отправилась в Орлеан, но большая ее часть была растаскана протестантами в 1562 году, и теперь за ее фрагментами следует отправляться в Берн, Рим, Лейден, Лондон и Париж. Рассеялись библиотеки Ле-Бека и Боббио. Отдельные рукописи расплетали, развозили по разным землям, а на месте оставалась пара листов в качестве воспоминания. Стоило книге покинуть библиотеку, как она тотчас оказывалась в смертельной опасности. Она могла попасть в разумные руки и очутиться в какой-нибудь другой библиотеке, а могла пойти на пергамен, на обложки, на крышки для горшков, на патронташи. И все это вне зависимости от содержания, поскольку в случае с книгами время беспощадно к авторитетам.
В отличие от библиотек, об архивах в раннем Средневековье знали мало. Исключения составляли те случаи, когда традиции римской бюрократии все еще сохраняли определенную силу, как, например, в некоторых итальянских городах, и особенно в Папской курии. Еще совсем недавно практически никто не видел разницы между рукописями и официальными документами, а потому неудивительно, что в Средние века признание их отличий протекало крайне медленно. Один и тот же сундук или пресс использовался и для того и для другого, а один и тот же чиновник служил и архивистом, и библиотекарем, и часто много кем еще. Тем не менее как по происхождению, так и по дальнейшему использованию существовало различие между официальными документами и литературными трудами, и это различие четко проявляется вместе с развитием организованной администрации в XII веке. Из-за случаев уничтожения документов непрерывный цикл папских регистров и переписки начинается лишь с Иннокентия III (а именно с 1198 года), хотя папы хранили свои записи начиная еще с VI века, а Ватиканский архив – старейший в Европе. Но неслучайно, что единый реестр английских хартий, указов и свитков датируется только началом правления Иоанна Безземельного. Хотя стоит отметить, что наиболее развитое ведомство английского правительства – казначейство – хранило документы и до 1130 года, а знаменитая и уникальная перепись в «Книге Страшного суда» относится и вовсе к 1086 году. Сицилийская администрация была такой же ранней, как и английская, хотя самые ранние ее свитки, за исключением тех, что касались военных, пропали. К середине века здесь уже был свой казначей, скриниарий, ответственный за массу финансовых отчетов, списков земель и крепостных, которые, вероятно, восходят еще к римским реестрам. Именно здесь усвоили свои первые уроки бюрократии германские императоры, управление которых до того было, в сущности, домениальным и патриархальным, кочующим подобно перекати-полю и не знающим архивов. Французские архивы также были передвижными вплоть до 1194 года, когда потеря обоза в битве вынудила Филиппа Августа хранить свои хартии в Париже, в специально организованной для этого Сокровищнице хартий (Trésor des Chartes). Монастыри и соборы не сталкивались с такими проблемами, но им тоже приходилось заниматься сортировкой, классификацией и, в частности, копированием документов в большие картулярии, так называемые «Черные книги», «Белые книги» и «Красные книги». Это делалось в основном для сохранности документов и удобства ссылок на оные. Один из примеров – замечательный картулярий Мон-Сен-Мишель, составленный по заказу Роберта де Ториньи. Примерно в это же время появляются муниципальные архивы, а на юге – нотариальные реестры, как, например, реестр генуэзского нотария Джованни Скрибы, многое рассказывающий о средиземноморской торговле в 1155–1164 годах. В итоге идея архива, как местного, так и национального, прижилась. Некоторые из тех архивов до сих пор остаются на своем первоначальном месте. Если церковным архивам так или иначе пришлось разделить судьбу церковных библиотек, то городские архивы, в отличие от них, существуют по сей день и продолжают непрерывную традицию с XII века. Преемственность папства и английского правительства лучше всего иллюстрируют архивы Ватикана и большие коллекции подлинных свитков, собранных в настоящее время в Государственном архиве Великобритании.
Рост числа разнообразных документов, увеличение количества судебных разбирательств и развитие литературного мастерства в XII веке повлекли за собой еще одно следствие, а именно богатый урожай фальсификаций. Писательская сознательность в подобных вопросах была развита меньше, чем в более поздние времена. Да и можно ли в чем-то упрекнуть монахов, документы о собственности которых гибли во время набегов норманнов, и чтобы выстоять в прениях со своими беспринципными противниками – феодалами, первые были вынуждены ссылаться на лучшие из тех подделок, что им удавалось произвести. Но в то же время «создание подложных документов всегда было излюбленным занятием, особенно в те времена, когда литературное мастерство достигало нужного уровня»[57]. Самые известные из средневековых подделок относятся к более раннему периоду, например «Константинов дар», составленный в VIII веке, и «Лжеисидоровы декреталии» IX века[58]. Но и в XII веке подобного было достаточно. Например, у Вальтера Мапа мы читаем о том, что существовала идеальная копия печати Генриха II, а Иннокентий III счел необходимым усилить меры предосторожности, чтобы обезопасить папские буллы от подделывания. Не кто иной, как архиепископ Кентерберийский Ланфранк, в попытке обеспечить главенство Кентербери над Йорком, подделал девять документов, которые впоследствии были отвергнуты Папской курией, поскольку были без печатей и «не имели совсем никакого сходства с римским стилем». Еще один любопытный пример из XII века – так называемое «Установление о римском походе» (Constitutio de expeditione Romana), рассказывающее об обязанностях вассалов во время поездки императора в Италию за короной. «Установление», как утверждается, было издано самим Карлом Великим в 790 году, «до коронации», то есть за десять лет до того, как средневековая империя появилась на свет! Современные критики без труда выявили подделку и установили место ее происхождения в имперском аббатстве Райхенау на Боденском озере и автора – местного архивиста и учителя Удальрика: его руку и стиль узнают в целом ряде подделок, созданных для аббатства. Как архивист он выдает себя, вырезая пергамен из принадлежащих Райхенау хартий Карла Толстого, а как учитель – по рифмованной прозе этой и других хартий этого аббатства. Еще более системно в те же годы за переписывание всей документации Фульды взялся монах Эберхард, а документации Монтекассино – Петр Дьякон. С другой стороны, XII век не в ответе за те поздние фальшивки, которые были ему приписаны, как, например, хроника Ингульфа из Кройланда, поддельные хартии города Мессины или «Австрийская привилегия», якобы восходящая к Юлию Цезарю и Нерону, которую император Карл IV предоставил Петрарке для исторической критики. Работа, проделанная Франческо Петраркой и Лоренцо Валлой, служит нам напоминанием о том, что эпоха фальшивок порождает и критиков, и некоторые зачатки исторической критики мы обнаруживаем уже в XII веке[59].
Лучшее описание средневековых книг можно найти в работе W. Wattenbach “Das Schriftwesen im Mittelalter” (третье издание, Лейпциг, 1896). О почерке см.: E. M. Thompson “Introduction to Greek and Latin Paleography” (Оксфорд, 1912) и M. Prou “Manuel de paléographie latine et française” (четвертое издание, Париж, 1925). О библиотеках см.: J. W. Clark “The Care of Books” (третье издание, Кембридж, 1909). Более популярна G. H. Putman “Books and their Makers during the Middle Ages” (Нью-Йорк, 1896–1897). Работа M. R. James “Wanderings and Homes of Manuscripts” (Helps for Students, No. 17) хотя и небольшая, но много чего черпает непосредственно из источников. Ценные наблюдения корифея в изучении рукописей содержатся в книге L. Traube “Vorlesungen und Abhandlungen”, том I (Мюнхен, 1909).
Лучшими путеводителями по содержимому средневековых библиотек являются каталоги, собранные G. Becker в “Catalogi bibliothecarum antiqui” (Бонн, 1885); см. также: T. Gottlieb “Über mittelalterliche Bibliotheken” (Лейпциг, 1890) и объемную серию средневековых немецких каталогов, опубликованных P. Lehmann и др., начиная с 1918 года. Множество любопытных фактов о популярности отдельных авторов собраны J. de Ghellinck в работе “En marge des catalogues des bibliothèques médiévales” в “Miscellanea” Francesco Ehrle (Рим, 1924). Специальные исследования об иллюминированных рукописях: M. R. James “The Ancient Libraries of Canterbury and Dover” (Кембридж, 1903); L. Delisle “Recherches sur l’ancienne bibliothèque de Corbie” в “Mémoires de l’Académie des Inscriptions”, том XXIX, часть I, с. 266–342 (1861); H. Omont “Recherches sur la bibliothèque de l’église cathédrale de Beauvais”, там же, том XL, с. I–93 (1916); R. Beer “Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll” в “Sitzungsberichte” Венской Академии, phil.-hist. Kl., том CLV, часть 3, том CLVIII, часть 2 (1907, 1908); P. Batiffol “L’abbaye de Rossano” (Париж, 1891). О странствиях кодекса Флери см. в работе E. K. Rand в “University of Iowa Philological Quarterly”, том I, с. 258–277 (1922). Формирование современного собрания из средневековых элементов мастерски изложено L. Delisle в книге “Le Cabinet des Manuscripts de la Bibliothèque Nationale” (Париж, 1868–1881).
О средневековых архивах см.: H. Bresslau “Handbuch der Urkundenlehre”, главы 4, 5 (второе издание, Лейпциг, 1912–1915). О подделках см. последнюю главу книги A. Giry “Manuel de diplomatique” (Париж, 1894); R. L. Poole “Lectures in the History of the Papal Chancery”, глава 7 (Кембридж, 1915). Об «Установлении о римском походе» см.: P. Scheffer-Boichorst “Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts”, с. I–26 (Берлин, 1897); “Die Reichenauer Urkundenfälschungen” (Гейдельберг, 1890).
Глава IV. Возрождение латинских классиков
(пер. Кирилла Главатских)
Начиная с падения Римской империи и вплоть до наших дней знание латинских классиков было главным культурным показателем каждой эпохи в Западной Европе. Никогда полностью не прекращаясь, их изучение развивалось в тесной взаимосвязи с текущим уровнем образования и интеллектуальной деятельности. В неспокойные времена раннего Средневековья классики на время оказались в тени, но вновь возродились вместе с наукой и образованием при Карле Великом и его наследниках. «Железный» X век отодвинул их на задний план, чтобы они вновь вышли на свет в эпоху Ренессанса конца XI и XII века. Частичным исключением стал XIII век как эпоха интенсивной деятельности скорее в философии и науке, чем в литературе, подпитываемой переводами с греческого и арабского больше, нежели прямыми заимствованиями из латинских текстов. Наконец, в XIV–XV веках наступило великое возрождение учености, в первую очередь латинской, которое нашло своего первопроходца в лице Петрарки, ценителя Цицерона, Вергилия и страстного собирателя латинских рукописей. Латинский дух гуманизма сохранялся даже после «возвращения» греческого языка, и долгое время латынь была основой современного гуманитарного образования.
Первые два возрождения были хоть и менее продолжительными, но от этого не менее подлинными. Вне всяких сомнений, IX век заслуживает внимания историка. Переписчики спасли от забвения многих древних, было создано значительное число выдающихся произведений латинской поэзии, и был задан уровень владения латинским языком и стилем на столетия вперед. Однако центры были относительно немногочисленны и разрозненны, и таких гуманистов, как, например, Луп Ферьерский, который «активно брал книги взаймы, но неохотно их давал» и переписка которого демонстрирует столь увлекательную картину жизни ученого в монашескую эпоху, встретить можно было нечасто. Более того, Каролингское возрождение ограничивалось землями франков, тогда как к XII веку культура распространилась далеко за их пределы, охватывая всю Европу, а не только Франкскую империю; и количество соборных и монастырских центров значительно возросло. Вместе с тем жизнь становилась более разнообразной и насыщенной, но это сулило классикам появление конкурентов и даже врагов. Помимо невежества и варварства, древним всегда приходилось противостоять религии. Теперь же они обрели нового врага – логику. Кривая возрастания и убывания интереса к классике в Средние века должна выстраиваться с учетом всех этих переменных.
Конфликт между христианством и латинскими классиками восходит к римским временам, поскольку латинская литература была частью языческой среды, в которой родилась новая вера и с которой она вела ожесточенную борьбу, а латинский язык и литература были восприняты Средневековьем как неотъемлемая часть собственного римского наследия. Латынь оставалась языком Церкви, и римская литература была открытой книгой, которую могли читать все, кто владел основами церковного образования. До тех пор, пока священные книги Церкви, ее вероучение, закон и ритуалы были на латыни, знакомство с латинским языком было обязательным для всех священнослужителей. Эта открытая книга, однако, была книгой языческой – в том, что касается религии, которую она признавала, если не напрямую проповедовала, и еще больше в ее взгляде на жизнь с ее искренним принятием мира со всеми его радостями и удовольствиями. Так из века в век передавалось неразрешенное противоречие, присущее культурной традиции и церковной системе. По мнению наиболее строгих последователей христианства, изучение латыни должно быть жестко ограничено основами грамматики, которые позволяют освоить практическое владение языком. Любое дальнейшее изучение древних в лучшем случае будет пустой тратой времени, а в худшем – опасностью для души. Сама по себе красота латинского стиля могла представлять опасность для людей, отвернувшихся от мира сего. Святой Иероним приводит часто цитируемый рассказ о видении, в котором ангел упрекал его в том, что он цицеронианец, а не христианин. Четвертый Карфагенский собор в 398 году запретил епископам читать книги язычников. «Последователи святого Петра и его учеников, – говорил легат Лев в X веке, – не будут иметь своими учителями ни Платона, ни Вергилия, ни Теренция, ни остального философского скота». Григорий Великий был против изучения даже основ грамматики, когда писал: «Я вовсе не гнушаюсь варварской неразберихи. Я презираю правильный порядок слов и падежи, потому что считаю совершенно неуместным, чтобы слова Небесного Судии ограничивались правилами Доната». Присциана и Доната критиковали за то, что они не упоминали имя Господа – упущение, за которое также обвиняли Конституцию Соединенных Штатов и таблицу умножения! Так, Смарагд в IX веке написал грамматику с примерами, взятыми из Вульгаты, а не из «опасных» языческих авторов.
К XII веку эти проблемы остались. Гонорий Августодунский вопрошал: «Какую пользу приносят душе борьба Гектора, споры Платона, поэмы Вергилия или элегии Овидия, которые, вместе с другими подобными им, теперь скрежещут зубами в тюрьме дьявольского Вавилона под жестокой тиранией Плутона?» Даже Абеляр удивлялся: «Почему епископы и учителя Церкви не изгоняют из града Божия тех поэтов, которым Платон запретил входить в свой град земной?», а между тем «Николай, секретарь Бернарда Клервоского, воздыхает о том очаровании, которое он когда-то нашел в Цицероне и поэтах, в золотых изречениях философов и в “песнях Сирен”»[60].
Гвиберт Ножанский жалел латинских поэтов своей молодости. К ним относились с особой неприязнью, иногда причисляя их к колдунам. Так, на иллюстрациях из «Сада наслаждений» Геррады Ландсбергской четыре фигуры «поэтов или колдунов», каждого из которых сопровождал злой дух, помещены вне круга семи свободных искусств. Когда Грациан около 1140 года подготовил «Согласование противоречивых канонов», одним из главных противоречий, которое он стремился примирить, был вопрос: «Должны ли священники быть знакомы с мирской литературой или нет?» Как показывает следующий аргумент, авторитеты выстроились с обеих сторон:
Исходя из всех этих примеров, видно, что клирики не должны стремиться к знанию мирской литературы.
С другой стороны, в Писании сказано, что Моисею и Даниилу была известна вся мудрость египтян и халдеев. Также известно, что Господь повелел сынам Израилевым отнять у египтян их золото и серебро. Нравственное толкование учит нас, что если мы находим у поэтов золото мудрости или серебро красноречия, то нужно обратить их на пользу учения о спасении. Кроме того, в Книге Левит сказано, что необходимо приносить в жертву Господу первые плоды меда[61], то есть сладость человеческого красноречия. Волхвы принесли Господу три дара, которые понимались некоторыми как три части философии[62].
Папа Климент и другие ссылались на то, что знание мирской литературы необходимо для понимания священных книг, а Грациан делал скромный вывод о том, что священники не должны быть невежественными. Очевидно, что для канонистов это была непростая проблема, и полностью она так никогда и не была разрешена, ведь даже в итальянском Ренессансе Кватроченто чувствуется веяние неприкрытого язычества.
Но на деле самым опасным врагом классиков была не религия, а логика и практические интересы, которые в конце концов убили классическое Возрождение XII века. Восприятие «новой логики» Аристотеля к середине столетия возвысило диалектику в сравнении с остальными свободными искусствами, и это неравенство только усиливалось с дальнейшим восстановлением аристотелевского корпуса. При таком объеме логики и философии, которые необходимо было освоить, оставалось мало времени и меньше охоты к неспешному изучению словесности. Логика встала во главе, и литература должна была уступить ей дорогу. Новое поколение учителей, как, например, так называемые «корнифициане», гордились своим подходом к обучению, в котором грамматике отводился минимум[63]. Точно так же риторы из Болоньи преподавали практическую риторику, не тратя время на Цицерона. Классические авторы (auctores) отступают перед искусствами (artes). В то время как соборные школы Шартра и Орлеана уделяли большое внимание классическим авторам, они начали исчезать из учебных программ новых университетов. Уже в 1215 году их убрали из курса по искусствам в Париже, а более полная учебная программа 1255 года предписывала изучать из латинских писателей только Доната и Присциана, делая упор на новые переводы Аристотеля. Париж стал олицетворять собой триумф логики, а грамматика и классики нашли пристанище в Орлеане. Последняя фаза борьбы очерчена в поэме Анри д’Андели «Битва семи искусств», написанной около 1250 года и повествующей о сражении книг, в котором грамматика олицетворяет Орлеан, а логика – Париж. В этом конфликте Присциану и Донату помогают главные латинские поэты, а также сочувствие автора поэмы, и логика на мгновение возвращается в свою цитадель только для того, чтобы восторжествовать в конце:
- Париж и Орлеан враждуют,
- Какое горе и потеря,
- Что эти двое не согласны.
- Известна вам причина разногласий?
- Она лежит во взглядах на ученье;
- Ведь логика, что вечно спорит,
- Зовет всех авторов – писаками,
- Студентов Орлеана ж – школярами.
- …
- Однако же, за логикой идут студенты,
- Пока грамматика теряет их.
Классическое Возрождение XII века выразилось в постоянном обращении к латинским авторам, особенно к поэтам, и их комментированию; в активном изучении грамматики и риторики; в создании большого количества превосходной латинской прозы и стихов, некоторые из которых обладали античным достоинством и чувственностью. Это был гармоничный и сбалансированный тип культуры, в котором литература и логика занимали подобающее им место, но враждебный духу профессионализма и практицизма, торжествовавшему в новых университетах. В этом отношении его главным представителем был Иоанн Солсберийский, воспитанный долгими годами неспешного изучения философии и литературы на севере Франции. Он отдавал предпочтение научным методам Бернарда Шартрского, которого называл «самым щедрым источником словесности современной Галлии» и методику преподавания которого мы рассмотрим, когда будем говорить об изучении грамматики[64]. Прекрасно разбираясь в сочинениях латинских авторов, Иоанн цитировал их свободно и вовремя. И, хотя он не знал греческого языка, ни один средневековый автор, говорит Пул, не сравнится с ним по уровню и глубине знания классики. Стаббс по знанию классиков и умению их цитировать сравнивал его с Бертоном, автором книги «Анатомия меланхолии». Особенно Иоанн увлекался Цицероном, которого считал величайшим латинянином, и придерживался цицероновского отношения к философии и гуманитарным наукам. Его удивительно чистый и гибкий стиль демонстрирует сильное влияние Цицерона, а разнообразие его сочинений – писем, историй, стихов, философских размышлений о жизни, учении и государстве – обладает цицероновской многогранностью. «Кто сомневается, – спрашивает он, – в том, что нужно читать поэтов, историков, ораторов, математиков, тем более что без этих знаний нельзя считаться грамотным? Тех, кто ничего не знает об этих авторах, следует считать невеждами, даже если слышали названия их трудов… Однако не начитанность создает философа» – мудрость приходит только через истину[65]. Иоанн знал не только классиков, но также Библию и латинских Отцов Церкви, параллельно цитируя и тех и других. Для него обращение к классикам было не просто подготовкой к изучению богословия, их знание было важно как ради достижения нравственного блага, так и само по себе. Здесь нет антагонизма между римской и христианской культурами, они сливаются в едином христианском гуманизме. Иоанн Солсберийский был самым выдающимся представителем Шартрской школы, где он учился в молодости и где умер в сане епископа в 1180 году, завещав собору свою коллекцию рукописей патристических и классических сочинений.
