Строгий отчет
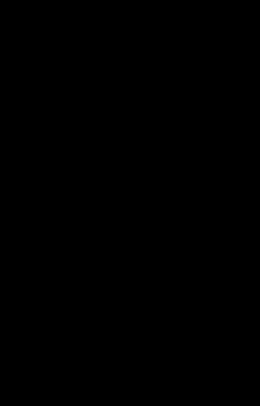
© ООО «Литературная матрица», 2023
© ООО «Литературная матрица», макет, 2023
© А. Веселов, оформление, 2023
1. Die erste kolonne marschiert, die zweite kolonne marschiert…[1]
О критике и (его) капитале
Коллега Арсений Гончуков недавно обратил внимание на высказывание Алексея Иванова о современной отечественной критике. Цитата: «Литературная критика как институт, увы, умерла. Критики превратились в блогеров. Чем отличается блогер от критика? Поясню, пользуясь пищевой метафорой: блогер рассказывает о вкусе блюда, а критик – о рецепте. Нынешние критики заняты трансляцией своих впечатлений, хороших или плохих, а мне их впечатления неинтересны, потому что о вкусах не спорят. Спорят о содержании, о смыслах, а вскрывать смыслы критики уже не умеют»[2]. Слова Иванова зацепили частной правильностью – и явным непроговариванием чего-то большего.
Для понимания ситуации воспользуюсь терминами из хорошо забытой политэкономии. Кто-то, возможно, упрекнет меня в забвении гуманистических традиций русской литературы, а кто-то, вспомнив студенческие годы, похвалит за «ламповость».
Итого. Все мы, пишущие люди, обладаем «литературным капиталом» – величиной изменяемой, зависящей от внешних обстоятельств. Первый и важнейших из факторов – состояние рынка. Сегодняшний «литературный рынок» постоянно сокращается, следствием чего выступает его монополизация. «Одно издательство, одна серия, один главный автор». Единственно радующий момент, что на поступательном пути вниз мы еще не дошли до отметки «один главный критик».
Есть Акунин, который пишет исторические детективы. Пелевин ежегодно выдает по культовому роману о жизни. Прилепин – штатный бунтарь и ниспровергатель основ. Издательство, которое сегодня действительно одно, не нуждается в новых именах. На них элементарно не хватает читателей. Да, что-то издается для «ассортимента», полки нужно заполнять.
В этой ситуации отечественный критик попадает в сложное положение. Написать отзыв на новый роман Виктора Олеговича, который обсудили уже с полсотни твоих коллег? «Мы здесь стояли». Очередность подрывает смысл «критики». Тем более что чем глубже ты копаешь, тем позже напишешь и опубликуешь. Отложенная публикация ставит со всей большевистской прямотой вопрос о читателе. И мы попадаем в очередную «культурно-экономическую» ловушку. Если тебе как критику повезло и у тебя появился читатель, то не спеши радоваться. С вероятностью около девяноста процентов перед тобой не потребитель, а такой же производитель «культурного продукта» – образованный, умело оперирующий понятием «репрезентативность», со вкусом рассуждающий о Лакане и Джойсе. Читатель, который честно зарабатывает на жизнь таксованием или мойкой стекол, нам практически недоступен.
Перехожу к следующей выписке из потрепанной клеенчатой тетради. Падение рынка делает бессмысленными длинные инвестиции. Они попросту не окупаются. Активное освоение социальных сетей выражается не только в размещении семейных фотографий. Многие из нас пытаются там «критиковать». Подспудно в сознании складывается простая формула: «Лайк тебе поставят сегодня, а статью твою не прочитают завтра». Тут я попытался выразить сказанное в «солидном» математическом виде, но, вспомнив свои страдания на уроках алгебры, благоразумно отказался от задуманного.
Итого. Лайк есть лайк. Охотно в сетевые критики идут начинающие авторы, рассчитывающие «заработать имя» с последующей капитализацией. Увеличивает ли лайк наш литературный капитал? Есть ли эффект от «быстрых денег»? Формально – да. В реальности не появилось еще ни одного значимого критика, по-настоящему перешагнувшего границы своей виртуальной популярности. Большинство же поставивших на «сети» вынуждены, как реальные сетевые проекты, прибегать к акциям и дисконтам. В ход идут коммент-ауты. Допустим, ты замечаешь, что «с интересом прочитал “Протоколы сионских мудрецов”, которые заставили задуматься». Или: «у Донцовой есть смешные страницы». Можно вконец распоясаться и дерзко заявить, что Быков[3] написал эпохальный для русской литературы роман. Нет таких тем и авторов, на которые нельзя пойти ради трехсот полноценных лайков или комментов.
Но и эта тактика не приводит к каким-то зримым результатам. Заработанный капитал некуда выводить. Рынок за время лихорадочной сетевой деятельности еще больше сократился, инфляция, напротив, бодро выросла. Некоторые творцы впадают в отчаяние и превращаются в каких-то мистических печальников отечественной словесности. От критики недостойных, но почему-то популярных авторов (эффективная тактика, но для иного времени и другого состояния рынка) они переходят к проклятиям в адрес пишущих как таковых. Затем возникает подспудная неприязнь к тем, кто просто владеет алфавитом и может читать. Следующая ступень – признание в усталости от литературы, переход к меланхолическим репостам фотографий кошечек и клипов диско-звезд далеких семидесятых.
Вспомним теперь красивое слово «диверсификация». В последнее время мы слышали и даже видели попытки вложений в другие активы. Думаю, что проект «Культурный ПЗДЖ» уже знаком многим. Татьяна Соломатина выразила желание говорить о книгах без цензуры. Непонятно, правда, где она существует, эта самая цензура. Многие из авторов мечтают стать ее жертвами. Но, увы, цензура – признак социальной значимости литературы, который нужно еще заслужить и выстрадать. Мимоходом отмечу, что постмодернизм стал фактом нашей культуры еще двадцать лет тому назад, когда в премиальном поле появился Александр Проханов с романом «Господин Гексоген». Стилистика и проблематика книги Проханова ничем не отличались от его ранних романов. Но изменилось наше представление о литературе. Роман превратился в «текст», с которым действительность «разъехалась». Тогда окончательно сформировалось понимание, что текст – это всего лишь текст. В этой ситуации критик и может транслировать лишь свои впечатления. Все остальное требует кавычек.
Возвращаясь к «ПЗДЖу», отмечу, что тактика выбрана правильная. Учитывая охват аудитории, можно рассчитывать на стремительный рост актива. Подкачало исполнение. Ролики тягостно длинные, дерзость сводится к натужному хамству, не спасают даже ненужные вставки из классического кино. Но авторов в общем и Соломатину в частности можно похвалить за то, что они показали, как не нужно делать. Это тоже ценно.
Итожу. Как ни странно, поводы для оптимизма есть. Крах наших индивидуальных проектов можно рассматривать как необходимый элемент этапа накопления капитала. Читателям и авторам не уйти от критиков, выживших в это непростое время. Очень возможно, что литературное «вскрытие» романов Алексея Иванова, о котором он говорит, не понравится автору, и он еще с благодарностью вспомнит о славных литературных блогерах минувших времен.
2020
О березках, сакурах и графоманах, которые нужны поэзии
В тридцатые годы советские писатели практиковали поездки на места, по результатам которых давали строгий отчет. Вот результаты писательского забега некоего писателя Чернявского: «проконсультировал 35 писателей», читал лекции, «держал связь с крайкомом», «согласовывал резолюции», редактировал произведения, проводил занятия литкружков, «выявил 9 графоманов», боролся с «антисоветскими выпадами». Порадуемся за длинное дыхание автора. Обратим внимание на арифметическую четкость результатов, включающих «9 выявленных графоманов». О них – мучениках, перемалывающих тысячи тон словесной руды в современной поэзии, хочу сказать несколько слов. Незлых, как вы увидите.
Борьба с графоманией в советской поэзии объяснялась одновременно прагматично и высокоидейно. Поэзия – прекрасное средство агитации, пробирающее даже малограмотных или аполитичных. Нужные слова в нужном порядке намертво врезались в подкорку. Сочинителей идейно правильных, но плохих стихов ссылали в областные газеты. Там они осваивали искусство рифмованных отчетов о посевных и выплавке чугуна.
В шестидесятые годы графоманов прессовали коллеги. Проблема сместилась целиком в прагматическую область. Речь шла о распределении поездок в Болгарию и покупке кооперативных квартир. Естественно, мы говорим о крупных советских поэтах. Просто талантливые обходились путевкой в Гагры и помощью при постройке дачного домика. На всех не хватало не только Болгарии: каждая сотка в садовом обществе «Парнасец» была под прицелом поэтов-горожан в первом поколении, жаждущих возвращения к истокам. Тогда борьба с графоманами имела свою красную линию – членство в Союзе писателей. После ее прорыва графоман становился молодым, независимо от возраста, поэтом и претендовал на свою малую долю народной любви в виде минимального набора житейских благ.
После крушения Советского Союза профессиональные поэты незаметно растворились. Сейчас можно назвать таковыми лишь пенсионеров, сочиняющих стихи безо всякого ущерба для семьи и поэзии. Казалось, борьба с графоманами должна также утихнуть. Социальные блага делить не нужно в силу их отсутствия. Но тем не менее борьба продолжается. Видимо, она снова, очистившись от материального искушения, приобрела идейный характер.
Недавно я прочитал статью замечательной Яны Сафроновой, в которой она проявила максимальную принципиальность в отношении тех, кто беззастенчиво использует «березки», «рожь», «сосны» и многие другие растения в низких графоманских целях. В статье приведены примеры, многие из которых, действительно, трудно отнести к вершинам русской поэзии. Критик делает общий вывод о «морально-нравственном и художественном уровне». Заканчивается текст загадочной фразой, требующей отдельного толкования: «Если мы так пишем про Родину, находясь в ее литературных пределах, то мы вредим будущей России и лишаем ее читателя». Действительно, так писать не нужно. Будущему России мы не повредим, но за обычный смысл обидно почему-то становится.
Морально-нравственных качеств сочинителей я касаться не буду, так как не знаком с ними. Относить к абсолютным грехам зорко отмеченное «отсутствие культуры интернет-общения», «истерические капслоки» также не буду. Константин Комаров, допустим, иногда «нарушает культуру». Но на высоком качестве его поэзии это не отражается.
Скажу о «березках», «теме войны». Хотим ли мы того или нет, перед нами то, что Юнг назвал архетипами, а теперь именуется «концептами национальной культуры». Поэтому одна из задач критика – увидеть отличие штампа от концепта, как бы внешне они ни были похожи. Концепты настолько укоренены в сознании, что работают сами по себе. «Стихийный стихотворец» использует их автоматически: на стадии «рука к перу». Искушенный эстет отвергает их, ищет собственные тропы во всех смыслах. И здесь, между прочим, присутствует опасность «скатывания в оригинальность».
Для примера приведу поэзию из журнала, в котором работает сама Яна. Практически наугад:
- Костлявый,
- длинный, неуклюжий,
- с кругами темными у глаз,
- я в этой жизни тоже нужен –
- я говорю не напоказ.
- Мой шаг неровен,
- речь угрюма,
- сутула узкая спина,
- но из очков
- сквозь карий сумрак
- глядит иная глубина.
Да, здесь нет «берез», «ржи», «взрывов войны». Но спасает ли это «иную глубину» от почетного звания нешедевра?
Почему искушенные любители прекрасного так ценят японскую поэзию? Ведь там дремучая традиция, начиная с опостылевшего трехстрочья хокку и семнадцати слогов? Есть даже банальные сакуры, лотосы, холодные ветры и прочие штампы. Но для ценителей поэтического слова устоявшиеся образы обладают особым обаянием и притягательностью. В нашем же случае мы видим исключительно корявость и примитивность.
К тому же напомню, что того же Николая Рубцова в свое время клевали за «вторичность». Мало кто помнит, что он начинал в ленинградской «неофициальной поэзии». И потом неожиданно пришел ко «ржи» и «звезде полей». Исходя из логики критика: Рубцов «скатился», примкнул к «графоманам»? Мне кажется, что в живом развитии поэзии «стадия графомании» – необходимый этап отстаивания архетипов. Кто-то посчитает этот этап отстойным. Но потом внезапно возникает поэт, который заставляет заново почувствовать «жгучую смертную связь» со всем набором «штампов и стереотипов». Потребовались сорок лет после ухода Есенина, чтобы слова и образы снова набрали свою силу и зазвучали в полный голос. Подражательная «есенинщина» неожиданно обернулась явлением большого оригинального поэта. Мне кажется, что сегодня мы переживаем тот самый этап отдыха слова, когда оно настаивается, сохраняя тепло, которое поддерживается неловкими и где-то смешными графоманами. Здесь можно вспомнить слова «преемственность поколений», «хранители очага поэзии», но боюсь, что в таком случае я сам могу стать следующей законной добычей охотников за графоманами. И за меня вряд ли кто-то заступится.
2021
Старикам здесь место. О современной отечественной прозе
Недавно я обратил внимание на интересную тенденцию в западной массовой литературе. Все больше авторов приходят в писательство в возрасте «за пятьдесят». Джон Вердон, автор серии о Дэйве Гурни, опубликовал первый роман в 68 лет. Алан Брэдли издает дебютный роман, положивший начало приключениям Флавии де Люс, в 70 лет. На этом фоне Грегори Дэвис, вошедший в литературу с романом «Шантарам» в 51 год, кажется почти юным. На мой взгляд, «старение» затрагивает всю литературу, независимо от ее этажей. Постепенно оно приходит и в отечественную словесность.
Начну разговор с процессов в читательской среде, которую мы зачастую недооцениваем. Читательский мир переживает непростую трансформацию. Книжная аудитория одновременно сокращается и зримо взрослеет, если не сказать честнее – стареет. Сейчас при самом оптимистичном раскладе основа ее – категория «тридцать плюс» с тенденцией движения к загадочному, интригующему понятию «предпенсионер». На наших глазах сбылось то, чего требовал и не получил сто лет тому назад Столыпин: отсутствие потрясений и относительное благополучие. Выросло хорошее поколение, которое пока не может сделать одного: писать вещи, которые были бы интересны читающей публике.
Что интересного может найти она у молодых авторов, которые выросли в стерильной атмосфере нулевых? Жизненные отсечки большинства из них – выход нового поколения Sony PlayStation, эпическая борьба между вселенными Marvel с DC, Android против Apple. Попытки найти общий язык приводят, например, к появлению «поколенческих» текстов, связанных с темой школьного буллинга. Их популярность объясняется возможностью хоть какой-то межвозрастной коммуникации. Старшее поколение с любовью и благодарностью вспоминает тоталитарное пионерское детство, среднее – непростое взросление на фоне тяжелых девяностых, младшие тоже пытаются на что-то пожаловаться. Их готовы слушать: с нежностью и максимальным сочувствием. Для стимуляции молодых талантов их книги издают, им дают премии, бережно перевозят с одного форума на другой. Некоторые из них выпускают даже программные документы. Например, Артемий Леонтьев не так давно порадовал публику «Манифестом новой российской литературы». В нем он выразил сомнение в необходимости сюжета в литературе: «Серьезная проблема современной отечественной литературы в том, что большинство авторов считает, что проза может писаться только в сфере историй, то есть сюжетов».
Объявленная борьба за язык означает несколько иную проблему. Несмотря на искусственную подпитку, творческий порыв молодого поколения быстро иссякает. Выясняется банальная вещь – им просто не о чем писать. Конечно, можно для второй книги, «отточив языковое мастерство», закрутить текст и описать один день из суровой жизни офисного труженика. Но зачем и для кого? Уже написан «Улисс», повторить такой фокус с хотя бы наполовину сопоставимым эффектом невозможно. Лепить никому не нужный кирпич «на волевых» трудно и скучно. Знакомый нам автор манифеста написал книгу, в которой «обращается к историческому ландшафту Второй мировой войны, чтобы разобраться в типологии и формах фанатичной ненависти, в археологии зла, а также в природе простой человеческой веры и любви». Хорошая аннотация для курсовой работы по культурологии, которая почему-то именуется романом.
К чему это ведет? Отсутствие быстрого успеха, денег и продажи прав на экранизацию заставляет молодых авторов замолкнуть и продолжить полевые исследования офисного мира. Означает ли это оскудение пишущего мира? Нет. Приходят те, кто ценил литературу, но не мог раньше профессионально ею заниматься. Это люди, которые состоялись в нелитературной или окололитературной профессии, решили бытовые вопросы. Для них литература – не путь к славе, а внутренняя потребность, которая всегда жила в молчащем авторе. Прошедшие годы сложились в то, что мы условно называем «жизненный опыт». Параллельно накапливались характеры, ситуации, повороты, которые спрессовались в сюжеты. Длинный разбег дает возможность писать то, что знаешь, и то, что тебе интересно. Нет времени на ощущение себя писателем, нужно просто писать. Ограниченность времени, как бы цинично это ни звучало, также работает на возрастного автора. Опасность исписаться можно считать условной.
Есть в этой ситуации отрицательные стороны? Да, есть, глупо считать создавшееся положение идеальным. Но что-то такое, о чем я говорю, понимали уже давно:
«Летом неохотно работается. Нет ощущения приближающейся смерти, как это бывает осенью – вот когда мы беремся за перо. Пора расцвета проходит у всех – но мы же не персики, и это не значит, что мы гнием. Обстрелянное ружье делается только лучше, равно как и потертое седло, а уж люди тем более. Утрачивается свежесть и легкость, и кажется, что ты никогда не мог писать. Зато становишься профессионалом и знаешь больше, и когда начинают бродить прежние соки, то в результате пишется еще лучше.
Посмотри, что получается на первых порах: творческий порыв, приятное возбуждение – писателю, а читателю ничего не передается. Позже творческий порыв иссякает и нет того приятного возбуждения, но ты овладел мастерством и написанное в зрелом возрасте лучше, чем ранние вещи».
Это написал Эрнест Хемингуэй осенью 1929 года в письме Фицджеральду. Ему было тогда тридцать лет. И он уже был «зрелым». Сегодня для этого нужны десятилетия.
2021
О том, куда уходят критики и откуда они могут появиться
В последнее время много и по делу говорится о том, какой должна быть критика. Ставятся острые вопросы, предлагаются к обсуждению концептуальные вещи. При этом бессознательно огибается проблема – кто, собственно, будет воплощать разработанные принципы и подходы? За методологическими высотами не видно критика как такового. Есть ли он вообще?
В современном литературном пейзаже критик – фигура уходящая. Слава Богу, уходит он не в вечность, а в иные жанры. Если вспомнить имена тех, кто был на слуху последние двадцать лет, выяснится, что большая часть значимых авторов известны теперь в других сферах. Лев Данилкин пишет биографии, Лев Пирогов занимался журналом «Литературная учеба», в преподавание ушел Андрей Немзер. Понятно, что еще больше тех, кто, попробовав себя в критике, опубликовав энное количество текстов, в итоге без особого сожаления сменил сферу деятельности. На мой взгляд, литературная эмиграция объясняется двумя основными причинами.
Первая – эмоциональное выгорание. Автор-критик вкладывается в текст, который многими воспринимается как вторичный информационный продукт. Если представить себе ситуацию, требующую нашей похвалы роману/повести/рассказу, стихотворению и критической статье, то мы без труда отметим, что в каждом случае эпитеты будут резко, качественно различаться. Не от души, но спокойно мы назовем роман великим, стихотворение – пронзительным. Объект похвалы спокойно и с достоинством принимает словесную награду, считая в душе, что все же «несколько недодали, поскупились». Что касается критического текста, то все обходится определением «неплохо». Критик краснеет, смущается, подозревая, что его по доброте сердечной немного перехвалили. При этом автор-критик стремится поддерживать «неплохой уровень». Учитывая количество написанного и, в общем-то, прохладную реакцию со стороны окружающих, рано или поздно возникает справедливое сомнение в необходимости своего занятия. Годы занятий подсобной литературной работой оборачиваются пониманием жизни, прожитой зря… Если прозаик замолчит на два года, а потом выпустит роман, то окружающие выразят законное удивление по поводу высокой скорости его работы. Критик обязан писать все время, чтобы оставаться в актуальном пространстве. Молчание выводит его за рамки профессии.
Вторая причина относится к грешной материальной стороне нашей жизни. Прозаик готов превозмочь страдания, семья деловито отыскивает в магазине продукты с желтыми ценниками. Все ждут, что следующая книга станет бестселлером, после чего поступит предложение об экранизации. Переврут, объемные характеры раскатают в картон. Единственное утешение – гонорар за попранное достоинство художника. У поэтов также есть причины для светлого взгляда в будущее – возможный интерес к стихотворному шедевру со стороны пляшуще-поющего сегмента отечественной культуры. Немного, для красоты поломавшись, творец согласен отдать свои отливающие золотом и вечностью слова на утеху жадной на развлечение публики. Ничего, Пугачева тоже Пастернака с Мандельштамом пела. Не говоря уже о Вознесенском. В общем, все ждут и готовы страдать. Сегодня – от легкого недоедания, завтра – от трагического чувства, что тебя поглотила алчная машина шоу-бизнеса.
В этой ситуации критик спокоен. Он знает, что потолок его успеха – «неплохая статья». Вряд ли кто-то ее экранизирует или даже споет. Можно лишь спеть что-то самому. Жалобно-протяжное. Поэтому количественное и, увы, качественное вымывание критиков из профессии – явление неизбежное. Что следует из этой ситуации?
Во-первых, я не раз наблюдал, как в критику приходят стратегически мыслящие прозаики и поэты. Зорко отметив определенный дефицит критиков и накинув волчью шкуру Зоила, они представляются начинающими Белинскими. Расчет вполне ясен. Заработать «имя», втереться в доверие к издателям и редакторам, а потом достать из-за пазухи теплый от многомесячного хранения роман. Ну а дальше мы знаем. Бестселлер, экранизация, готовность к страданиям зрелого Мартина Идена. Несмотря на определенную расчетливость, стратегия оказывается провальной. Хитроумному автору предлагают вернуться к написанию статьи о последнем романе Водолазакина, а роман опубликовать на «паритетных началах» в «Ридеро».
Во-вторых, возникают явления как бы новые, но при ближайшем рассмотрении воскрешающие память о давно минувших днях. Так, примерно год тому назад появилось объединение так называемых «новых критиков». Они обещали жечь, сечь, бичевать всех, кто позорит отечественную словесность. Таковыми оказались практически все, кто издает книги не за свой счет, а после того получает литературные премии. Есть сайт, на котором публикуются отчеты о порках. Разоблачительные тексты, как правило, не слишком хорошо написаны, но чувствуется «душа». Проблема в том, что сами «новые критики» – опять же несостоявшиеся прозаики и поэты. Их восхождение на Парнас застопорилось на разной высоте. Кто-то напечатал несколько книг, но так и не дождался внимания со стороны города и мира. Кто-то пытался издаться, но был отвергнут туповатыми редакторами. Кто-то просто замыслил что-то шедевральное, но мир также остался холоден. К слову, умение достойно пережить свой литературный неуспех – во многом делает сочинителя писателем. По стилистике большинство текстов «новых критиков» напоминает жалобы пенсионеров доинтернетовской эпохи в компетентные органы: от ЖЭКа до Верховного суда ООН. Упор делается на низкий моральный уровень осуждаемого автора, вплоть до ссылок на статьи УК. Далее указывается на слабое владение предметом. Например, калибр патронов, указанный писателем, в реальности не подходит к конкретному пулемету. Из этого делается вывод о неизбежной духовной и умственной бедности. Общая унылость и однотипность приемов осуждения погасила первоначальный интерес к «новым критикам», которые, как оказалось, совсем и не «новые», и, понятно, не «критики» как таковые.
Но само появление подобного – признак тревожный. Размывается профессиональное сообщество, становятся зыбкими, текучими критерии того, что называется критика.
2021
Об университетских писателях
Не так давно я высказался о возможном и желаемом приходе в литературу «возрастных» авторов. Текст вызвал определенный интерес. Часть аудитории поддержала озвученный тезис. Были и те, кто не согласился. В частности, озвучен следующий аргумент. «Взрослый» автор в свои книги неизбежно привнесет личный опыт. А нужно ли снова читать в энный раз роман о «лихих 90-х»? Не слишком ли много написано, не дать ли теме остыть? Тогда какой актуальный для современного читателя материал может использовать «зрелый» писатель? Законный вопрос…
Тут нужно заметить, что проблема «знания жизни» – одна из причин общего падения интереса к литературе. Интерес к автору с «прошлым» ведет к тому, что неожиданным плюсом становятся факты биографии, которые языком науки обозначаются как «девиантность» и «маргинальность». Алкогольное прошлое считается серьезной заявкой на вхождение в литературу. Преодоленная наркомания идет классом выше: «уникальный жизненный опыт». Отсидка – тут можно рассчитывать сразу на включение в шорт-лист какой-либо престижной премии. При этом отечественных Чарльзов Буковски и Вильямов наших Берроузов все равно как-то не наблюдается. Авторам не о чем писать, поэтому читателю незачем читать. Исторические романы и фантастика даются не всем, да и поляна там достаточно утоптанная. Для сегодняшнего писателя средних лет, но с высокими – то есть нормальными для писателя – амбициями проблема выбора материала – не пустой звук.
Есть ли выход из данной ситуации? Есть. И решение, как говорили раньше, должно носить комплексный характер. Предлагаю обратиться к опыту бездуховного Запада и вспомнить такие понятия, как creative writing и «университетский поэт». Большинство западных университетов и колледжей предлагает программы «творческого письма». Значительная часть преподавательских кадров состоит из действующих писателей. Считаю необходимым использовать накопленный опыт в отечественной высшей школе. И сразу возникнет обоснованное сомнение. Какой из вузов захочет по собственной воле «нанимать» писателя? Механизм же стимуляции достаточно простой. Сделать наличие собственного писателя в университете бонусом при прохождении многочисленных плановых и внеплановых аттестаций и проверок, при составлении рейтингов вузов. Кроме этого, «свой писатель» – важный элемент персонификации вуза, способ выделиться среди себе подобных. Заманивать абитуриентов и их родителей новыми баскетбольными мячами и командой КВН, прошедшей в областной полуфинал, уже несколько старомодно. Необходима индивидуализация.
Очень важно, чтобы «университетский писатель» не был социальным иждивенцем, просто получающим зарплату. Он должен вести разработанный им факультативный курс свободной тематики: «Проблемы современного городского фэнтези», «Современная русская поэзия (от Бродского до меня)», «Трагедия и величие писателя, не понятого своим временем». Не нужно устанавливать какие-то количественные рамки посещаемости курса. Двадцать человек – прекрасно, два – тоже хорошо. Будут ходить те, кому это интересно. Среди молодого поколения много тех, кто тянется к писательству, но не удовлетворен пабликами в социальных сетях или роликами на YouTube. В воспоминаниях многих больших, состоявшихся писателей присутствует почти обязательная сцена. Он, неуверенный в себе вьюнош, побуждаемый родителями получить нормальную профессию (строитель, учитель, инженер), встречает «настоящего писателя». Надежды родителей рушатся. Да, прошло время, мы живем в эпоху цифры. Но при всей изощренности современных технологий эффекта личного общения ничто не способно заменить. В будущем армия маркетологов или айтишников может и потерять одного из своих бойцов. Им же, надеюсь, прирастет отечественная словесность.
Впрочем, «творческое письмо» обязательно пригодится и тем, кто писателем не станет. В наших школах, где ученики по-прежнему исправно строчат сочинения, правильной организации текста почти не учат. Выпускники не знают ни о ритмических приемах в прозе, ни о «плотности текста», ни о контрапунктах. А ведь эти знания помогут написать и толковый пресс-релиз, и сценарий документалки об Уральском руднике, и длинное романтическое письмо девушке. Чего в жизни не бывает? Даже банальная заявка на какой-нибудь президентский грант у того, кто владеет creative writing, получится гораздо более связной и отчетливой, чем у конкурента.
Теперь несколько слов о самом университетском писателе. Что получает он помимо денег и стажа к гипотетической пенсии? Каков его нематериальный интерес? Он есть. Это обратная сторона общения студента с писателем. Автор также «закупорен» в своем пространстве, ему катастрофически не хватает общения за рамками привычного круга. Вдобавок издержки профессии и груз традиций: склонность к рефлексии, мрачноватый взгляд на мир, сформированный под влиянием русской классики, для которой «бедные люди – пример тавтологии». Но очень часто стенания по поводу несовершенства мира объясняются банальным незнанием этого самого мира. Общение с молодым поколением может и должно поколебать эти вековые установки. Конечно, самым лучшим итогом работы университетского писателя станут книги, написанные им. И они будут важны не только для него. Спросим себя: кто и когда читал роман о современном студенчестве? И здесь я с некоторым ужасом осознаю, что в памяти у меня всплывают чуть ли не «Университет» Григория Коновалова и «Студенты» Юрия Трифонова. Кто сегодня знает, чем живет, интересуется, к чему стремится эта не самая маленькая часть нашего общества? Которая, извините, является нашим будущим. Почему потенциально премиальные книги о «невписавшихся» важнее взгляда на тех, кто стремится и делает?
Прекрасно понимаю все возражения и их резонность. Да, кто-то «наймет» писателя для статистики. Ушлый проректор вспомнит о родном дяде, сорок лет тому назад опубликовавшем стихи в многотиражке «Бой за уголь». Кто-то из принятых писателей забьет на работу и примется писать очередной роман о тех, кто не понят и не принят во всех смыслах. Но в нашем случае важен даже точечный результат. Если раз в год выйдет роман о молодом поколении, основанный не на внимательном чтении Фейсбука[4], а на живом общении с теми, без кого раньше трудно было написать роман, – с прототипами, то можно считать программу сработавшей. Не говоря уже о молодых авторах, которые продолжат русскую литературу благодаря иноземному creative writing.
2021
Сердце, память и бетономешалка
Вокруг все чаще говорят о создании/реформировании большого писательского союза, вслед за которым грядут благие изменения в жизни и судьбах мастеров пера. Думаю, что оптимизм имеет основания. Откроются некоторые перспективы перед одаренными прозаиками, получат толику благ и признания поэты. Есть основания для светлого взгляда на будущее у таинственных драматургов. При этом многие уверены, что у последних и так все замечательно. Всегда есть повод припомнить коллеге постановку его пьесы в Тюменском кукольном театре в 1987 году. Опасения возникают только по поводу возможной судьбы критиков.
Именно критики являлись той частью советского писательского сообщества, судьбе которой трудно завидовать. Их тяжкое положение объяснялось рядом причин. Главная ловушка следовала из статуса советского писателя. Принятие в ряды ССП означало коллективное признание таланта или как минимум литературных способностей. Соответственно, советский критик был всегда ограничен в собственно критической функции. Он не мог прямо назвать автора или его творение бездарными.
Попытки бунта всегда пресекались, хулиганов били по рукам. В памяти всплывает история со статьей Владимира Бушина «Кушайте, друзья мои. Все ваше…», которая была напечатана в журнале «Москва» в 1979 году. Критик в ней разобрался с исторической прозой Булата Окуджавы. И сейчас статья читается прекрасно: она ладно сделана, точна и не оставляет сомнений по поводу таланта Окуджавы как исторического романиста. Бушин мгновенно прославился. Текст особо смаковался в писательских компаниях. Следующая статья литературного критика вышла в 1986 году. «Сведение личных счетов» и волюнтаризм не поощрялись.
Сложилась парадоксальная ситуация. Чем разбираемый текст был новее, тем статья о нем скучнее и унылее. И наоборот. Гремели работы Лотмана о Пушкине. Настоящим бестселлером могла стать книга о Шекспире. Издание же с подзаголовком «современная советская литература» прочно врастало в прилавки книжных магазинов и позже находило последний, тихий приют на библиотечных полках. Неудивительно, что по-настоящему любящие слово критики независимо от их мировоззрения (Вадим Кожинов, Бенедикт Сарнов, Олег Михайлов) вынужденно мигрировали в иные сферы литературы.
Нужно отдать должное нашим коллегам из прошлого. Все же в большинстве своем советские критики сами были людьми читающими, поэтому они симпатизировали – а самые совестливые и сочувствовали – любителям книг. Автор предупреждал читателя сразу. Взгляд на обложку – и протянутая рука потенциального поклонника советского Белинского замирала в воздухе. Был особый изыск – сочинить название сборника критических статей, сразу и бесповоротно отвращающее от его чтения. Возьмем базовое название: «Память сердца». Книга об исторических романах могла именоваться «Долгая память сердца». Если труд посвящался военной литературе, то рождался вариант «Суровая память сердца». Книга о современной проблемной прозе радовала не меньше: «Сердце обретает память».
В названиях приветствовались многоточия, намекающие на особое эмоциональное состояние критика, взволнованность от прочитанного, некоторую переполненность мыслями и чувствами. В аннотации пунктуационная имитация непосредственности отливалась в формулу «автор ведет живой, искренний разговор с читателем». В ту же кассу – фотография критика, задумчиво и со смыслом прикусившего дужку очков.
Название, аннотация и портрет гармонично сочетались с содержанием. Любимые жанры советских критиков – литературный портрет и обзорные статьи. Выбор первого объясняется биографическим моментом. Если поэты и прозаики могли прийти в литературу от сохи или станка, то в критики зачастую забривали доцентов филологических факультетов пединститутов. Как люди рациональные и рачительные, они использовали тексты своих диссертаций в качестве базы «литературной работы». Отсюда во многом мертвящий, замороженный язык их критических публикаций. Естественно, что, защитив диссертацию, допустим, по творчеству Федина, критики продолжали писать о нем, но уже для «широкого круга читателей». Тексты разных лет не единожды переписывались, переназывались. Ограниченность круга читателей играла в пользу критика. Чем незаметнее и тише пройдет публикация, тем больше шансов на вторичную переработку литературного продукта.
Тяга к написанию обзорных статей также объясняется прагматическими соображениями. Их объем регулировался не погружением в тему, а заказом редакции журнала или издательства. Всегда можно прибавить или убавить по желанию. Книг и публикаций на историко-революционную тему, гражданского мужества, морального самоопределения было в избытке. Тонкие эстеты разбирались с портретом современного лирического героя.
Содержание держалось на трех китах: пересказе в лучших традициях школьных изложений, цитировании, когда критик уставал от пересказа, и на необязательных рассуждениях. При пересказе хорошим тоном считалось задавать себе вопросы по поводу действий героя: «Считают ли показанные в романе строители ГЭС себя героями или полагают, что спасение бетономешалки – обычная часть их работы?» Это имеет отношение к упомянутому выше диалогу с читателем и фотографии с очками.
Рассуждения также опирались на цитаты. Не обязательно разбираемого автора. В дело шли работы основоположников марксизма, классиков. Либералы любили ссылаться на Маркса, Маркеса и Симонова. Почвенники уважали Достоевского, Гоголя и Тютчева. Пушкина цитировали все. Как таковое содержание высказывания критика волновало мало. Оно выступало в качестве отправной точки рассуждения. До конечного пункта читатель зачастую не добирался. Как и автор, в свободной последовательности размышляющий о судьбах современников, нравственности и связи поколений.
Собственно критическая часть должна была вытекать из хвалебной. Приветствовалась диалектика: «Образ Натальи настолько ярок, что на его фоне несколько теряются другие персонажи». Или: «К сожалению, писатель не рассказал о дальнейшей судьбе столь полюбившихся читателю героев». Кстати, на основании последнего замечания автор мог и превратить повесть в роман, а роман – в дилогию.
Клевещу ли я на наших предшественников? Не без того. Но считаю, что отстаиваю цеховой интерес. В очередной раз проявлю оптимизм. Надеюсь, здоровый. Я считаю, что современная русская критика переживает не худшие времена. Естественным и обычным делом оказалось говорить о книгах и авторах, исходя из своего желания, своим языком. Сильно потеряв в количестве, мы сохранили интерес и желание понять русскую литературу. И, быть может, потому мы сами до сих пор кому-то интересны. Заходить в новый союз необходимо. Но при этом обязательно сохраняя автономность и независимость, без которых нам гарантированно придется знакомиться с устройством и функционалом современных бетономешалок.
2022
О поиске читателя на звездолете
Иногда я участвую в обсуждении вопроса, который волнует почти каждого пишущего в нашей стране. Формулируется он просто и драматически: как найти своего читателя?
Братья по перу делятся опытом и соображениями. Первого всегда меньше по сравнению со вторым. Кто-то рассказывает о встречах с потенциальными читателями в ходе рейдов по библиотекам, другие ссылаются на призовые места в крепких региональных литературных премиях. Некоторые с интересом посматривают на литературные площадки типа Author.today. Но рано или поздно в ходе горького, непростого разговора звучит неизбежное: «Моя книга, ее качество говорят сами по себе. Этого достаточно – читатель оценит». После произнесенного все чувствуют некоторую приподнятость, торжественность в сочетании с неловкостью. Но для меня подобный пассаж почему-то рождает в сознании словосочетание «опрятная бедность». Объяснюсь.
Недавно я с большим интересом прочитал три книги петербургского прозаика Виктора Точинова. Автор давно и достойно работает в литературе, пишет романы и повести в таком непростом для отечественного писателя жанре как фантастические ужасы. Это тем ценнее, что обычно у нас получается вариант с инверсией – ужасная фантастика. Но три книги, которые привлекли мое внимание, имеют несколько иную природу и относятся к категории литературных расследований. Две из них: «Остров без Сокровищ» и «Одиссея капитана Флинта, или Остров без сокровищ-2» посвящены разбору «Острова сокровищ» Стивенсона, третья – «Дороги авантюристов, или Загадочная яхта лорда Гленарвана» – препарирует «Детей капитана Гранта» Жюля Верна. Писатель предлагает остроумные и неожиданные версии всем известных событий, переворачивающие привычные с детства образы героев и негодяев, рисует собственные сюжетные линии поверх классических текстов.
Самое показательное, что книги Точинова вызвали живейший интерес со стороны читателей. Они соглашались с интерпретатором или спорили с фальсификатором, посмевшим, поднявшим руку и т. д. Были и такие, кто, проявив изрядную эрудицию и наблюдательность, предложил собственные версии и трактовки. Я задумался. Книги Стивенсона и Верна написаны полтора века назад. И они известны уже семи-восьми молодым поколениям. Нет оснований полагать, что в ближайшей перспективе они исчезнут, канут в книжную Лету. Родители, желающие приобщать детей к слову, покупают свежее издание тех книг, которые они сами читали в детстве. А вот что делать современным детским авторам, пытающимся найти своего читателя? Что делать писателю как таковому?
Нам хорошо знакомо понятие «постмодернизм». Как правило, оно употребляется в книжной речи рядом с другими красивыми словами: после коннотации и перед дискурсом. Что есть на практике? Как происходит смена культурных эпох? И по каким признакам мы можем судить о произошедшем переходе?
Один из главных маркеров – обнуление предыдущей эпохи. Все, что было значимым и ценным, объявляется устаревшим и даже опасным. Средневековье начинается с отрицания античной культуры – языческой и греховной. Уже средневековый культурный код обнуляется Новым временем. На материале русской культуры это хорошо видно в формировании того, что мы называем «золотым веком». Если брать литературу, то она состоялась, утвердилась в сознании через отрицание русской литературы XVIII века. Чтобы Пушкин или Лермонтов приобрели статус классиков, нужно было вычеркнуть условного Сумарокова или Хераскова. Причем вычеркнуть буквально – из учебников и хрестоматий, освободив в них место для «новых классиков». Интересно, что в качестве «обнуления» использовалась ирония и осмеивание. Практически вся русская литература XVIII столетия символически отразилась в ставшей комической фигуре графа Хвостова – не просто графомане, но сгущенном образе литературы прошлого.
Постмодернизм ничего не вычеркивает. Он может «низводить» и пародировать. Но для этого необходимо знакомство с первоисточниками. В этом отношении самый классический писатель современности – Владимир Георгиевич Сорокин. Без Тургенева и Чернышевского он просто никто. В том же ряду Акунин, Водолазкин, Татьяна Толстая.
Но что это означает для рядового талантливого писателя наших дней? Между ним и читателем ряды книжных полок: магазинных и библиотечных. С каждым днем их все больше. Если представить, что в 00 часов все писатели прекратят свое служение слову, что изменится в жизни читателей? Ничего. Поклонники классического американского детектива, прочитав все романы Рекса Стаута, перейдут к освоению следующего недурного автора – Росса Макдональда. Эстеты могут по кругу перечитывать «Улисса», засыпать и просыпаться над Прустом.
Другое дело, что нарисованная фантастическая картина фатальна для самой литературы. Остановка означает прекращение ее жизни. Писать книги и говорить о книгах необходимо. При этом приходится молчаливо принимать за данность, что читателем современный писатель прирастать не будет. Редкие флуктуации – Яхина, «Пятьдесят оттенков» и прочие Цыпкины – лишь подчеркивают общую негативную тенденцию. В этой ситуации у современных писателей есть очевидный и неправильный выход. Объявить себя последними хранителями ценностей и скорбно отвернуться от современников, потерявших связь с областью Духа. Специфика литературы в том, что это не балет и не опера. Она не может превратиться в элитарную забаву, доступную немногим избранным.
На мой взгляд, одна из немногих возможных стратегий – наладить прямые контакты с аудиторией, знать в лицо, в прямом смысле слова, своего читателя. Не бояться этого. В одном из рассказов Роберта Шекли (еще восемь томов прекрасной прозы) поэт в мире будущего, странствуя по другим планетам, встретил своего единственного читателя. Подчеркну разницу: единственного, а не последнего. Когда-то этот рассказ считался фантастическим.
2022
О кукольных персонажах на пальце Стивена Кинга
