Элеонора Дузе. История и иллюстрации одной театральной революции
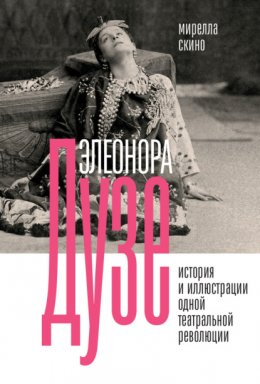
ББК 85.333(4Ита)53-8Дузе Э.
С42
Il volume pubblicato con il contributo della Fondazione Giorgio Cini, Istituto per il Teatro e il Melodramma, che ha fornito gran parte delle fotografie. Издательство благодарит Итальянский Институт культуры за помощь в подготовке издания. Все фотографии принадлежат Фонду Джорджо Чини, если не указано иное. Автор выражает глубокую благодарность Институту изучения театра и оперы Фонда Джорджо Чини и лично директору Института Марие Иде Биджи и научному координатору Института Марианне Дзаннони за консультации, сотрудничество, а также за разрешение на публикацию этих материалов. Автор также благодарит Даниэлу Рицци за предисловие и содействие в подготовке издания на русском языке
Мирелла Скино
Элеонора Дузе. История и иллюстрации одной театральной революции / Мирелла Скино. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – («Театральная серия»).
Книга Миреллы Скино об Элеоноре Дузе (1859–1924) – результат многолетнего и кропотливого исследования, охватывающего не только жизнь и творчество великой актрисы, но общее состояние итальянского театра ее эпохи. Во всем мире художественная элита рубежа XIX–XX веков – от Сары Бернар, Д’Аннунцио, Л. Пиранделло, Э. Г. Крэга до А. Чехова, Вс. Мейерхольда и К. Станиславского – восхищалась талантом Дузе. Однако только теперь, с сегодняшней временной дистанции можно с уверенностью говорить о ее подлинной гениальности: Дузе не только предвосхитила, но и определила тенденции развития и становления театрального искусства на столетие вперед. Это же касалось и драматургии, поскольку внимание актрисы в пору ее зрелого творчества сосредоточилось на пьесах Д’Аннунцио, М. Метерлинка, Г. Ибсена. Дузе неоднократно гастролировала в России (1891–1892, 1908), ее спектакли имели ошеломительный успех, а И. Репин написал портрет актрисы. Кончину Дузе оплакивал весь мир, траурные церемонии сопровождались огромным стечением народа и в Америке, и в Италии. Мирелла Скино – театровед, профессор Третьего университета Рима.
На 1-й ст. обложки: «Антоний и Клеопатра». Фотограф П. Одуар, 1890.
На 4-й ст. обложки: «Фру-Фру», Э. Дузе в роли Фру-Фру. Фотограф А. Льер; Э. Дузе за чтением. Карикатура неизвестного автора; Э. Дузе. Фотограф А. Генте, 1923.
Arnold Genthe Collection, la Library of Congress, Prints & Photographs Division.
Фотографии публикуются с любезного разрешения Фонда Чини, Венеция; Э. Дузе на холме Джаниколо, Рим. Фотограф Ж. Примоли, 1898 (?).
© Fondazione Primoli, fondo fotografico, 6674/A.
ISBN 978-5-4448-2859-5
© Mirella Schino, 2023
© И. Зверева, перевод с итальянского, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Даниэла Рицци
Предисловие
Книга, которую читатель держит сейчас в руках, несомненно, представляет собой важную веху в истории исследований, посвященных Элеоноре Дузе – величайшей актрисе своего времени. «Элеонора Дузе. История и иллюстрации одной театральной революции» – плод десятилетий вдумчивой исследовательской работы, которую автор ведет с начала девяностых годов прошлого столетия. В действительности это уже третья книга об Элеоноре Дузе, написанная Миреллой Скино – одним из самых крупных итальянских историков театра (первая книга вышла в 1992 году, вторая – в 2008‑м). Более тридцати лет автор занимается Дузе и параллельно изучает другие темы, уделяя наиболее глубокое внимание так называемому «театру Великого Актера» XIX века и вопросам, связанным с зарождением режиссуры как таковой в начале XX века. Иными словами, это книга специалиста, досконально изучившего как с национальной, так и с международной точек зрения все аспекты театра той эпохи, в которую жила и работала Дузе. И действительно, в этом исследовании мы обнаруживаем не только и не столько биографический портрет Дузе, но прежде всего попытку вписать ее личность в контекст времени с тем, чтобы подчеркнуть исключительность таланта актрисы и приоткрыть великую тайну ее мастерства, взглянув на него как бы изнутри самой театральной системы.
Как сейчас, спустя столетие после ее смерти, понять глубинные причины того сокрушительного впечатления, которое игра Дузе производила на зрителей? Даже дошедшие до нас описания и свидетельства современников не объясняют, почему ее театр был для зрителя «потрясением, опытом экзистенциального типа», почему он «потрясал устоявшуюся стабильность и подрывал привычное мировоззрение», а ее спектакли «представляли собой ментальное крушение, они меняли жизнь людей» (с. 14). Сложно проникнуть в механизм этих спектаклей и актерской игры Дузе еще и потому, что она не оставила никаких письменных размышлений на эту тему, ее театр не был режиссерским – это был актерский театр, непременной частью которого являются импровизация и спонтанность. Театр Дузе – это область предельно насыщенной эмоциональной коммуникации, которую великая актриса устанавливала со своим зрителем. Каким образом она достигала столь мощного результата? Какие потребности и душевные травмы вели ее вперед? Иными словами – какие чаяния она возлагала на театр? Именно на эти вопросы, относящиеся как к творчеству, так и к области экзистенциального выбора, пытается ответить книга Миреллы Скино.
Цель автора ясно обозначена: «рассматривать то, как она [Дузе] подходила к театру вообще» (с. 153), что, помимо анализа сыгранных актрисой ролей, подразумевает воссоздание ее ви́дения театра. И это «революционное» ви́дение, о чем говорит само название книги.
На самом деле Дузе совершила не одну, а две революции. Одна из них – стилистическая, которая привела к разрыву с предыдущим актерским поколением и радикальным образом преобразовала театральный язык, что признавали все – с самых первых шагов Дузе. Вторая революция – концептуальная, касающаяся самой структуры театра и понимания ее взаимоотношений с ним: с юных лет актриса стремилась к тотальному контролю над спектаклем, к управлению каждым его аспектом с тем, чтобы усилить тот эффект, который ее игра производила на зрителя. Ей было недостаточно имени первой актрисы – она стремилась стать единоличным творцом спектакля, и уже в 1887 году, когда ей еще не исполнилось тридцати, Дузе встала во главе собственной труппы. В те времена – то есть когда театр как таковой еще не был постоянным и режиссерским институтом – это означало одновременно заниматься финансированием спектаклей, подбором актеров, репетициями, определением репертуара и, конечно же, быть примой этой труппы. Что касается репертуара, то непрерывный поиск ведет Дузе от Дюма и Сарду к Д’Аннунцио, а потом к Ибсену – и это лишь неполное перечисление главных этапов ее «все более осознанного творческого пути в театре» (с. 20).
Мирелла Скино в своем исследовании «тайны» очарования театральных творений актрисы и осуществленной ею трансформации самого смысла сценического искусства использует не только классический инструментарий историка театра, но и самые разнообразные косвенные свидетельства. Среди них и воспоминания современников, и эпистолярное наследие, и различные изображения – и в этом в том числе новизна исследовательского подхода автора. Фотографии, помещенные в книге, которые автор анализирует, представляют актрису в сыгранных ею ролях, однако сделаны они в студии, ибо фотографическая техника того времени не позволяла проводить съемок спектакля. Таким образом, эти снимки не могут дать нам представление об игре Дузе на сцене, однако рассказывают о самой природе актрисы: позы, жесты и микрожесты, мимика, выражения лица – раскрывая язык тела, они приближают нас к решению загадки Дузе.
Первые две части книги рассказывают о периоде между 1887‑м и 1909 годами (в 1909 году Дузе оставила театр и вернулась на сцену лишь в 1921‑м). Одна из самых интересных частей, вторая, фокусирует внимание читателя на спектаклях, которые автор называет «безумными проектами» (с. 22), то есть на тех, что были задуманы во время творческого союза с Д’Аннунцио. Мирелла Скино оставляет в стороне сугубо биографические аспекты связи актрисы и поэта, о которых было написано излишне много, и исследует особенности их творческого сотрудничества и причины провала совместной попытки создания поэтического театра.
Что искала Дузе в текстах Д’Аннунцио, в его идее поэтического театра? Безусловно, она жаждала прорыва в качестве литературного материала, который воплощала на сцене, и этого она, без сомнений, добилась. Но ей не удалось воплотить этой новой театральной формулы в своей актерской игре: зрительская реакция не оправдала ожиданий актрисы и писателя – публика была разочарована, сравнивая теперешнюю Дузе с ее прежними ролями. В итоге общий замысел двух величайших творцов того времени не сработал, и с определенного момента Дузе отказалась от постановок пьес Д’Аннунцио, несмотря на его настойчивые просьбы. Конечно, свою роль сыграли и финансовые обстоятельства, удерживавшие Дузе от продолжения этого сотрудничества, однако они объясняют далеко не все, и Мирелла Скино исследует именно творческие причины этого провала.
В третьей части книги рассматривается путь Дузе после ее возвращения в театр – «золотое время для актрисы» (с. 24). Возвращение на сцену в 1921 году в возрасте 63 лет в той же роли, в которой она предстала в своем последнем спектакле 1909 года, – это была ее самая «высокая ставка». Пожилая, уставшая, поседевшая Дузе вернулась на сцену в образе молодой и прекрасной девушки Эллиды – главной героини «Женщины с моря» Ибсена, одной из самых любимых ее пьес, – и это возвращение стало оглушительным и единодушно признанным триумфом. Об этом последнем, коротком периоде театрального пути Дузе некоторые (в том числе такой светский интеллектуал, как Пьеро Гобетти) говорили как о религиозном, духовном и мистическом опыте.
Книга Миреллы Скино – это бесценный проводник в «опыт неведомого», которым был театр для Дузе и ее зрителя. Этот опыт познала и Россия. Как известно, актриса четырежды приезжала туда с гастролями между 1891 и 1908 годами, и реакция зрителей всегда была очень живой. О спектаклях великой актрисы писали многие: театральные критики, литераторы и знаменитые режиссеры. Труды, посвященные Дузе, вышедшие на русском языке, особенно ярко осветили вопросы рецепции1 и биографии2, но, несомненно, для глубокого понимания феномена актрисы русскому читателю не хватало актуального научного инструмента, отражающего современное состояние исследований в области театра. Книга «Элеонора Дузе. История и иллюстрации одной театральной революции» наконец восполняет этот пробел.
Предисловие. От имени актеров
Why are we all so alone? You our Queen and we who love you and thrill of the mention of your name. When you are far off and all of us scattered sometimes we think: «she does not love us at all».
I don’t know what my brothers and sisters do, but I have always held you as our queen our Ruler and have looked for years for some sign – listened for some order <…>. But why we are so alone – so divided – and so distant.
Эдвард Гордон Крэг (1917)3
«Обожаема, боготворима, неведома»
«Обожаема, боготворима, неведома» («Il Piccolo della Sera», 22 января 1905 года)4 – последнее определение, как кажется, противоречит двум предыдущим, но именно так описывается Элеонора Дузе в статье начала двадцатого века. Актрисе скоро исполнится пятьдесят, она на вершине славы, ее считают единственной соперницей всемирно знаменитой Сары Бернар5. Если автор и называет Дузе «неведомой», то, разумеется, он имеет в виду лишь то, что она «не понята», а вовсе не «неизвестна». Но и такое определение представляет собой проблему. Как столь знаменитая актриса может быть непонятой? Непонятым может быть особое, очень отличное от привычного ви́дение театра, тем более что в данном случае речь идет об актере и, что еще более важно в начале двадцатого века, – о женщине. Редко, крайне редко за актером, за актрисой признавалось что-то отличное от исполнительского искусства, то есть способность выработать свое глубоко личное (а в случае Дузе еще и предельно новаторское) ви́дение театра и воплотить свой проект на сцене. Признать новизну, выраженную и подкрепленную теорией, гораздо проще, но актеры и актрисы обычно не отличаются склонностью к теоретизированию. Однако в первую очередь речь идет о недостаточном к ним уважении. И это касается даже Дузе.
Если мы имеем в виду только стиль Дузе-актрисы, то слова о совершенной ею театральной революции являются почти общим местом. Как замечали современники, ее актерская игра была настолько далека от нормы, что зрители порой приходили в замешательство и лишь потом влюблялись в нее. Разговор о революции применительно к ее представлению о том, каким должен быть театр, однако, может вызвать недоумение. В отличие от признанных новаторов Дузе никогда не занималась построением теорий, она не изменила внешней формы спектакля, равно как и принципов его создания.
И тем не менее революция произошла. Это была революция особого типа: без слов, без последователей, но фундаментальная. Дузе изменила восприятие театра, предложив и внушив зрителю его иную функцию. Театр больше не был культурным размышлением, эстетическим опытом, развлечением, чистым удовольствием, способом коммуникации – вместе с Дузе он превратился в потрясение, в опыт экзистенциального типа. Странными дорогами она приводила своих зрителей к необычным размышлениям. Парадоксальным образом эта совершенная Дузе трансформация сближает ее с великими мастерами режиссуры, чья деятельность была совершенно иной, но зачастую развивалась, тем не менее, параллельным путем.
В отличие от них, Дузе шла по пути отрицания. Она не провозгласила нового порядка, однако навсегда изменила казавшиеся незыблемыми устои: ее актерская игра затрагивала самые глубокие пласты, она была доведена до предела, вплоть до того, что само актерское искусство превращалось в нечто совершенно иное. Дузе была великим мастером беспорядка. Ее спектакли в итоге потрясали устоявшуюся стабильность и подрывали привычное мировоззрение. Спектакли с Дузе представляли собой ментальное крушение, они меняли жизнь людей, но затем у зрителя возникало инстинктивное желание отодвинуть их, чтобы сохранить себя (и это отличает Дузе от других деятелей театра, которые разрабатывали и предлагали публике новые порядки). В том числе поэтому ее искусство казалось непрочным и хрупким, готовым вот-вот исчезнуть: зрители постоянно говорили о причиняемой Дузе боли, которая выходила за пределы страдания, тем самым вызывая замешательство. Именно ради самосохранения они выворачивали наизнанку происходящее: превознося способность Дузе выражать на сцене страдания, зрители хотели воспринимать актрису не как создателя трагического образа, а как обычную женщину, которая сама мучается в жизни. Об этом говорили многие, более враждебно настроенные зрители говорили о ее «долоризме» (подчеркнутое и постоянное проживание боли). Но на самом деле они прежде всего видели в ней отражение боли собственной. Подобным образом искажая происхождение этой боли, они неосознанно стремились забыть, сколь опустошительным могло быть созерцание Дузе на сцене. Это был способ упорядочивания вещей в более простой и удобной форме.
В статье 1905 года, с которой я начала, автор причисляет Дузе к тому сообществу выдающихся творцов, которые меняли сознание XX века, а рядом с ее именем упоминаются имена Фридриха Ницше или Генрика Ибсена. Многие зрители ощущали нечто подобное. Но перевести это ощущение в слова, ясно произнести их в отношении актрисы – это было нечто невозможное. Не было правильных слов, не было примеров. Лишь немногие более явно говорили об искусстве Дузе как о духовном феномене и о прикосновении к неведомому, но это произошло уже в поздние годы Дузе, в разгар двадцатого века.
Есть и другие косвенные подтверждения. Многие великие мастера начала двадцатого столетия считали ее своей попутчицей. И на протяжении всей ее жизни зрители, принадлежавшие к культурным течениям, которые считались в большей или меньшей степени новаторскими, проживали ее театр как близкий им самим опыт. После ее смерти – а Дузе умерла, когда ей было больше шестидесяти, – поколение молодых зрителей, не видевших ее прежде на сцене, удивительным образом окрестило ее «нашей современницей»6.
Любопытно, насколько для двадцатого века были актуальны и даже чрезмерно важны такие вопросы, как ценность, необходимость артистов и их собственные потребности, чего нельзя сказать о предыдущем времени. Об этих вопросах молчали сами актеры, их не признавала современная им публика. Но это не значит, что сами вопросы отсутствовали. Несмотря на значительное количество исследований, особенно в Италии, в отношении девятнадцатого века предпочтение до сих пор отдается изучению костюма, обычаев, разных традиций, различных интерпретаций, и все еще остаются неизученными многие другие аспекты: например, экзистенциальный накал или стремление к переменам, которые совершенно иначе осмыслялись в девятнадцатом веке. Пример Дузе подтверждает важность и значимость этих вопросов. Дузе сама по себе уже является необыкновенно привлекательной и сложной фигурой, но, кроме того, ее деятельность показывает нам существование еще одного пути трансформации театра конца XIX века, отличного от того, что выбрали великие мастера двадцатого века. Дузе была главным действующим лицом и вершиной этой трансформации, но умерла раньше, чем это преобразование действительно оформилось. И все же она рассказывает нам о том, что даже «старый» актерский театр стремился к изменениям и шел к ним своим, вовсе не банальным путем. Фигура Дузе демонстрирует нам возможность и необходимость пересмотра наших исторических точек отсчета.
Осознавала ли Дузе, что была «только» актрисой, и сознательно ли она никогда не говорила о том, чего хотела от театра, и о своей революции? И каковы были основы, то есть ее собственные потребности как актрисы? Она принадлежала к другому времени, отличному от нашего, и полагала, что основа обновления заключалась в новых текстах, хотя потом это обновление произошло совершенно иначе. В определенные моменты Дузе была восприимчива к влиянию некоторых личностей, которые были с ней особенно близки – таких, как Арриго Бойто и Габриэле Д’Аннунцио, – и следы этого влияния переплетаются затем в ее творчестве. Трудно избавиться от некоторых устоявшихся стереотипов, и даже сегодня исследователи склонны преуменьшать значение многих ее решений, сводя их к простой страсти. Если Дузе ставит произведения своего возлюбленного – значит, она делает это из‑за любви: подобные автоматические связи свойственны мышлению, в котором проявляется наихудший набор общих мест и предвзятых убеждений, связанных с актерами. Свободному же от этих стереотипов взгляду автономность действий Дузе предстает очевидной, в том числе потому, что многие ее устремления предшествуют некоторым встречам, а не следуют за ними. Она была неординарной женщиной – и как исключительная актриса, и как руководительница труппы, за которую она отвечала с художественной, организационной и финансовой точек зрения. Похоже, Дузе осознавала, сколь особенной и отличной была ее сценическая игра, однако упоминала об этом лишь вскользь.
Многие великие актеры говорили хотя бы о своем искусстве, она же молчала и об этом. У нее не возникло желания сформулировать отличительные особенности собственного понимания театра – и речь идет не просто об актерской игре. Возможно, актриса и не смогла бы этого сделать. Дузе ограничилась несколькими вводящими в заблуждение утверждениями, которые по большей части касались текстов. Но если она ничего не говорила, то это не значит, что ей нечего было сказать, что у нее не было ясного понимания или же что у нее не было своего личного и даже осознанного пути. Ее молчание всего лишь означает, что в силу исторических, личных или неотделимых от ремесла актера обстоятельств она решила этого не делать.
Следы
Даже непроизнесенные слова оставляют следы – но их надо суметь распознать. В этом заключалась одна из моих задач во время работы над книгой. Наряду с анализом художественных, финансовых, административных, политических и касающихся человеческих отношений аспектов, в рамках которого я использовала источники самого разного рода, от рецензий и писем (изданных и не изданных) до редких контрактов и документов, касающихся организации похорон Дузе; наряду с самыми устоявшимися или традиционными методологиями я использовала и другие, столь же точные, но менее очевидные: я исследовала эмоции, которые Дузе вызывала у зрителя – не для того, чтобы воссоздать ее спектакли, но чтобы проследить скрытую траекторию развития ее особого подхода к театру. Я искала эту траекторию в том, что обычно принято считать почти непригодным: в деталях ее биографии, в эмоциональных оборотах речи и даже в анекдотах. В намеках, поведенческих проявлениях, в странных заявлениях актрисы. В душевных ранах, шрамы от которых, похоже, она пронесла через всю свою жизнь, например, в ее юности: скорее убогая и угнетающая среда, в которой росла Дузе, сыграла определяющую роль в ее решении посвятить себя чему-то кардинально иному. Я искала следы внутренней логики развития в ее работах, особенно в тех, которые были наименее поняты и приняты зрителем, – «Антоний и Клеопатра», спектакли по произведениям Д’Аннунцио и отчасти те, которые были созданы после возвращения Дузе в театр. Я искала следы этого пути, анализируя привычки, принесенные ею из той среды, в которой она выросла, и переосмысленные ею затем в новой форме. Раскрывая ее наваждения, мании, неутомимые поиски. Некоторые биографические детали могут послужить одним из ключей к пониманию совсем иного – профессии, художественных и личных потребностей Дузе, тех способов, которыми она их реализовывала.
Кроме того, есть свидетельства зрителей. Называть их «рецензиями» было бы слишком просто. Наверное, нет другой актрисы, творчество которой вызвало бы такое количество откликов самого широкого круга потрясенных и ошеломленных зрителей по всему миру, в том числе профессиональных критиков. Неординарность ее искусства оказывала огромное влияние на их тексты, порой изменяя их смысл, что свидетельствует о тонкой и вдумчивой работе Дузе над восприятием своих зрителей и над собой – не столько во время репетиций, сколько в одиночестве в бесконечных гостиничных номерах, почти в затворничестве. А также о ее тщательной работе, касавшейся текстов и партнеров по сцене. Как и все, я начала с рецензий, но затем мое внимание сосредоточилось по большей части на самых необычных, самых эмоциональных, а значит, и самых туманных и кажущихся бесполезными свидетельствах7. Дузе не была укоренена в национальном контексте, но ей удалось оказать большое влияние как на самую широкую публику всего мира, так и на самые прогрессивные сообщества. Ее невозможно назвать просто мировой актрисой или же экспериментальной актрисой. Можно было бы даже говорить о «загадке Дузе».
Конечно, ни один разговор о Дузе не может обойтись без анализа того, чем были одержимы все начиная с Крэга8: ее техники, силы воздействия; особых отношений, которые актриса умела установить со своими зрителями; напряжения, в том числе физического, которое она создавала на сцене. На протяжении всей жизни, до самой старости, Дузе оставалась актрисой, обладающей особой мощью, способной покорять большие театры. Заклинательница. Чтобы понять ее, я впервые использовала документы, представляющие определенный риск, – изображения. По мере развития повествования рождается книга в книге: мой личный, но вовсе не частный «альбом Дузе». Я отдавала предпочтение некоторым фотографиям не в силу их технического качества, но исходя из того, что они сообщали мне нечто, побуждая меня к размышлению. Иногда эти фотографии позволяли мне различить узлы и напряжения, почти невидимые, но важные для выстраивания сценического существования за пределами повседневности9. Все эти размышления приведены в длинных подписях.
Изображения не являются свидетельствами актерской игры Дузе (все фотографии, например, сделаны в студии), но они тоже могут многое рассказать о сценической мощи актрисы. Они предлагают нам некоторые знаки для расшифровки, и длительное изучение изображений всегда чему-то учит, даже если и не предоставляет окончательного ответа. Изображения дарят нам время для размышления. Я рассматривала фотографии Дузе, анализируя, созерцая, строя гипотезы, стремясь найти какие-то важные детали – отчасти так же, как зрители смотрели на нее на сцене. Я задавалась вопросом, могла ли на самом деле эта исключительная актриса передать в фотографической позе все напряжение, которое она создавала на сцене.
Изучение фотографий требует от исследователя некоторых обязательных знаний, которые все более точно формулируются в недавних работах, посвященных этому вопросу10. Эти знания касаются не только фотографической техники, но и важнейшей роли авторов, фотографов, используемых ими техник, их творчества, их жизни. Однако не стоит недооценивать властности Дузе, ее стремления к контролю, ее интереса к техническим аспектам: ее роль в фотосъемках, несомненно, заключалась не только в позировании11. Мария Инес Аливерти замечает, что даже в случае сильных личностей творческая оригинальность не отменяет документальной данности (см. Aliverti, 2015. P. 75). Не умаляя роли фотографов, почерка и вкуса авторов карикатур, мой интерес сосредоточен на теле Дузе и на том, каким она хотела его представить.
Наличие подобного альбома внутри книги изменило форму моего повествования. Изображения и длинные подписи позволили мне разбить монолитность, свойственную рассказу исследователя. Мои наблюдения и рассказ разворачиваются одновременно на нескольких уровнях. Каждое искусство по-своему многопланово и развивается в нескольких плоскостях. Однако подобный способ построения рассказа кажется особенно созвучным именно искусству театра – емкому, но, конечно же, непростому, которое больше всего страдает от реконструкций, приводящих его к линейности. Этот способ организации повествования стал для меня не только выбором, но и методом.
Архитектура книги
Книга поделена на три части, формально соответствующие каноническому представлению о жизни Дузе, установленному Сильвио д’Амико. В некрологе по случаю смерти актрисы он пишет о «безудержно реалистической» юности Дузе, «изысканно манерной» зрелости, также есть и третья Дузе, уже пожилая, которую д’Амико называет «непорочным светом» (d’Amico, 1985. P. 40). Эта периодизация был повсеместно принята современниками и содержит в себе зерно истины, хотя стилистические определения, как мне кажется, являются спорными. Мое деление на три части скорее соответствует этапам все более осознанного творческого пути Дузе в театре.
Первая часть («Первая актриса и руководительница труппы») посвящена Дузе-актрисе, ее становлению, юношеским годам, зрелости, развитию ее искусства в сравнении с предшествующим поколением необыкновенных Великих Актеров12, обретению собственного театра, вплоть до момента ухода со сцены в 1909 году. Отношения Дузе с актерским театром девятнадцатого века определяются не только через отрицание и отличие; в не меньшей степени Дузе была многим ему обязана, что необыкновенно важно для понимания ее стратегии и техники.
Крайне важным исследовательским вопросом в этой связи является деятельность Дузе во главе собственного театра. В отличие от театра двадцатого века, главным действующим лицом которого является режиссер, Дузе никогда не имела ничего общего с режиссурой, кроме того, это и не было бы возможным. Однако наши определения на поверку часто оказываются слишком схематичными. Руководство театром в русле традиции девятнадцатого века в случае Дузе превратилось во все более действенное оружие. Она моделировала будущий спектакль, в частности, работая над текстами, сокращая их, меняя акценты, придавая им совершенно новые смыслы и значения, которые отталкивались от сюжета, но развивались в совершенно иных направлениях. Она смогла мудро управлять своими актерами и их сценическими воплощениями, являя собой центр, в котором сходились все напряжения этого сложного рисунка. И она сделала это в качестве главной актрисы и руководительницы труппы – не в качестве режиссера. Однако ее руководство не ограничивалось всего лишь оркестровкой спектакля. Ее цель заключалась в развитии визионерского и новаторского искусства.
Для воссоздания отношений с исходной средой Дузе я исходила не из ее детства, что могло бы показаться более логичным, а из спектакля, в котором она решила впервые предстать зрителю: «Дама с камелиями». Этот спектакль шел больше тридцати лет, какие-то вещи менялись, но какие-то оставались неизменными. Дузе начала играть эту роль, когда ей было чуть больше двадцати, и продолжала играть, когда ей исполнилось пятьдесят. Наряду с «Дамой с камелиями» она играла и в других пьесах Александра Дюма, а затем стала чередовать этот спектакль с постановками по произведениям Д’Аннунцио или Ибсена. Крупный план Дузе-Маргариты позволяет затронуть разные вопросы: глубокое отличие театра ее времени от того театра, что знаем мы; вариативность и неизменность ее «игры»; отношения с главным партнером – Флавио Андо; техники и индивидуальные особенности ее искусства. Это полезно, чтобы сразу же затронуть многие трудные вопросы, возникающие при изучении этой сложной актрисы, – например, ее склонность к ограниченному репертуару, в рамках которого соотношение разных ролей становится ключевым.
Только во второй главе, посвященной первым шагам Дузе на сцене, когда она была еще девочкой, и особому театральному ее импринтингу, я, наконец, обращаюсь к тому типу обучения, который она получила и который был обычным в то время – не в театральной школе, а внутри театральных трупп. Дузе начала играть на сцене, когда ей было всего четыре года: и здесь мы снова сталкиваемся с проблемой отличия – но не отсталости – театра девятнадцатого века, которое нам трудно понять и принять. Осознать всю глубину действенности этого театра нелегко, мы склонны рассматривать его как театр похожий на наш, но более беспорядочный. Я же попыталась сосредоточить внимание на культуре (в антропологическом смысле) актеров, особенно итальянских, которые почти полностью управляли театральной жизнью и принимали решения, касавшиеся пьес для постановки, сценического аспекта спектаклей, экономики театра. В Италии на протяжении всего того времени, что была жива Дузе, не было репертуарного постоянного театра, актеры всегда были кочевниками, находились на самофинансировании, и их повседневная жизнь переплеталась с их ремеслом. Итальянские актеры представляли собой обособленную группу внутри общества, их часто считали людьми сомнительной нравственности и невысокой культуры. Дети незнаменитых, рядовых актеров обычно не имели возможности регулярно ходить в школу. Дузе росла в театральных труппах очень низкого уровня, у нее были трудное детство и юность, она в двадцать лет родила внебрачного сына, который умер через несколько дней. Однако, возможно, именно этот контекст определил ее постоянное стремление к наивысшему пределу, часто принимаемое за «беспокойство». Именно это подтолкнуло Дузе в еще совсем юном возрасте к решению возглавить собственную труппу, стать хозяйкой собственных решений, независимой ни от чего. И хотя подобное не было нормой для женщины, речь шла об утомительном, доходном с финансовой точки зрения, но одновременно и рискованном занятии, – именно этим она хотела заниматься всю свою жизнь.
Молодые годы актрисы связаны исключительно с Италией, однако, как только к Дузе приходит слава, она превращается в знаменитость мирового масштаба, постоянно гастролирует по всему миру, что позволяет ей узнать разные, самые передовые подходы к театральному делу. Она страстно любит искусство и чтение. В Италии ее заграничные устремления молчаливо считают предательством, что превращает ее в обособленную фигуру. В третьей главе книги рассматриваются самые яркие свидетельства выдающихся деятелей культуры того времени, видевших Дузе на сцене, – от Джорджа Бернарда Шоу до Гуго фон Гофмансталя, – а также приводятся самые прекрасные фотографии актрисы времен ее юности и ранней зрелости, что позволяет лучше понять тайну ее искусства. Особенность творчества Дузе заключалась в умении установить парадоксально личные отношения с отдельными зрителями, которые выходили за пределы играемой роли. Она умеет и стремится трансформировать сочувствие зрителя грустной судьбе ее героинь в размышление о страдании. Зрительские отклики и фотографии также используются для анализа некоторых технических аспектов актерской игры Дузе, например глубокого эротизма, свойственного ей в годы юности, или некоторых ярких и зрелищных сценических проявлений: от скандального поцелуя в губы Армана до знаменитых и драматичных умираний на сцене. Однако больше всего подчеркивается умение актрисы придавать значимость даже самым незначительным жестам, которое и сегодня вызывает изумление и даже восторг. Дузе играла в больших театрах, которые не имели сегодняшних технических и световых возможностей, и, однако, во всем мире зрители вспоминали о ее крошечных жестах и их невероятно эффективном воздействии.
Во второй части книги («Актриса-творец») также рассматривается период между 1887 и 1909 годами, но с другой точки зрения: анализируется деятельность Дузе не только в качестве создающей персонажей актрисы, но и как создательницы спектаклей – то есть творца. Взрослая Дузе, стоящая во главе собственной труппы, ищет различные детонаторы, которые могут позволить ее искусству раскрыться в полной мере. Речь идет о серии безумных проектов: страсти предельного накала – и я здесь говорю о культурных, а не личных страстях – в отношении новаторских текстов или иных перспектив радикального изменения. В числе этих многочисленных проектов «Антоний и Клеопатра» Уильяма Шекспира – Бойто, союз с Д’Аннунцио, Ибсен, планы работы с Крэгом и Орельеном Люнье-По. Затем, после ухода со сцены в 1909 году, появятся и другие: многострадальный кинопроект или намерение Дузе создать собственный маленький «Художественный театр» в двадцатые годы. И здесь снова встает проблема метода: я рассматриваю эти проекты не как отдельные эпизоды, но как постоянную форму возвращения к одной и той же проблеме, как сплошную линию, проходящую через всю жизнь актрисы. Если мы перестанем рассматривать эти проекты как следствие сентиментального выбора или как свидетельства непостоянства личности Дузе, если мы проанализируем их как одно целое, как постоянно проявляющуюся потребность, то мы сможем постепенно увидеть логику Дузе, так никогда и не облеченную ею в слова.
Эти детонаторы Дузе ищет по большей части (но не всегда) в текстах, обладающих высокой литературной ценностью, потому что именно этого требовали театральная культура ее времени и, возможно, ее темперамент тонкой и страстной любительницы чтения. Однако целью было сценическое воплощение новых ценностей. Поэтому я назвала ее «актрисой-творцом» вслед за Аполлонио (Apollonio, 1981) и Мельдолези (Meldolesi, 2005) – чтобы обозначить ее отличие от других актеров и актрис, какими бы великими, невероятными и творческими они ни были. Дузе движет редкая необходимость никогда не останавливаться, постоянно создавать художественные потрясения, которые ставили под угрозу даже ее успехи и достигнутое положение.
Память о Дузе не была бы столь долгой и особенной, если бы она ограничилась представлением на сцене триумфов своей ранней юности или если бы продолжала играть схожий репертуар. Вместо этого современники быстро начали видеть в ней представительницу широкого течения, состоящего из самых разных деятелей искусства, которые в самых разных странах искали другие формы театра. Ею восхищались выдающиеся новаторы – такие, как Крэг или Айседора Дункан, Станиславский или Мейерхольд. Именно в этом контексте в книге рассматриваются ее отношения с Д’Аннунцио – не просто как любовная история, но как часть постоянных новаторских поисков Дузе, всегда стремившейся вознести свое искусство на более высокий уровень. Она всегда была готова оставить даже самые дорогие ее сердцу проекты, если понимала, что они могут заставить ее изменить избранному творческому пути.
В 1909 году Дузе оставляет театр и возвращается в него лишь в 1921 году. В третьей части книги («Откровения с неведомым») рассматривается творческий путь Дузе в поздние годы ее жизни – в период между 1909 и 1924 годами. Обретенная к шестидесяти годам уверенность в себе позволила актрисе обратиться к важным инициативам за пределами театра, а также еще больше освободиться от предрассудков в театре. Седьмая глава, посвященная годам ухода со сцены, рассказывает о многочисленных занятиях Дузе в этот период, главным из которых было кино. Однако кино рассматривается лишь как эпизод, который парадоксальным образом помогает понять, как Дузе подходила к тому, что она всегда называла с большой буквы, – к своей «Работе». Ее размышления и избранные в этот период жизни стратегии мы можем проследить благодаря исключительному документальному источнику – письмам к дочери, которые сохранились только за эти годы.
Заключительные две главы посвящены возвращению Дузе в театр в 1921 году, ее последним гастролям и ее отношениям с фашизмом. Тот глубоко отличный от привычного театр, которому она посвятила всю свою жизнь, именно теперь обретает отчетливую форму; его напряжение и особенность заставляют зрителей говорить о духовности или религии, как будто бы речь шла о таинственных откровениях с неведомым, согласно определению Гобетти. Предыдущий период творчества Дузе ознаменован бесчисленными триумфами, однако именно последние годы являются золотым временем для актрисы, поскольку ко многим ее неординарным способностям добавляется еще одна, редчайшая, – сила старости. Крайне редко расцвет артиста (в еще большей степени это касается женщин) приходится на последние годы жизни. В случае Дузе это время отмечено самыми яркими успехами и самыми выраженными действиями.
Последние зарубежные гастроли Дузе стали ее триумфом. Но в 1921 году, когда она вернулась на сцену, то высказала желание основать небольшой постоянный театр в Италии. Если бы этот абсолютно новаторский замысел осуществился, итальянский театр был бы другим. Но вместо этого Муссолини предложил актрисе нечто вроде пенсии, от которой она отказалась. Она уехала на гастроли, которые оставили в истории глубокий след, особенно в США, где Дузе умерла в 1924 году. После смерти актрисы, за которой последовали впечатляющие и неожиданные траурные мероприятия по всей Америке, итальянское правительство решило организовать государственные похороны. Фашистская церемония должна была вобрать в себя скорбь и даже растерянность итальянцев, вызванную кончиной вдали от дома и семьи этой лишенной покоя и признания на родине актрисы. Книга заканчивается рассказом об этой торжественной церемонии, а также многочисленными свидетельствами проявлений глубокой скорби. В конце книги я разместила «Биографическое примечание», которое позволит читателю легко следить за этапами моего рассказа.
Предупреждения и благодарности
Возможно, один из самых передовых исследователей театра, принадлежащих предыдущему поколению, – Фердинандо Тавиани – говорил, что любая серьезная работа о театре должна предполагать строгое изучение архивов и библиографии, но одновременно представлять собой и повествовательный рассказ. Он говорил, что мы, исследователи, являемся гарантами памяти о значимых людях в истории театра, хранителями умерших и что письмо – это техника передачи и способ воссоздания жизни ушедших. Он говорил, что в области театральных исследований очень важно обращаться как к специалистам, так и к людям театра. Только посредственные, по его словам, исследователи – а сам он был превосходным ученым – рассматривают хорошо написанный рассказ как популяризаторство.
Тавиани умер, когда я писала эту книгу. В его память я решила уделить особое внимание обоим столь важным для него аспектам – исследованию и повествованию. Именно Тавиани я посвящаю эту книгу – мою первую важную работу, которой он не успел прочитать, и свою последнюю работу, по поводу которой, когда я описала ему свою задумку, иллюстрации, намерение защитить точку зрения Дузе, он сказал: «Шапки долой!» Он любил так говорить о проектах, которые казались ему достаточно рискованными.
За фотографии я благодарю Фонд Чини, сотрудничество с которым было для меня крайне полезным: многие из хранящихся в других местах фотографий представляют собой огромную ценность, достаточно упомянуть фотографии друга актрисы Жозефа Примоли, однако количество и разнообразие хранящихся в Фонде Чини материалов дало мне возможность сопоставления и выбора, что было невозможно в другом месте. Фотографии, которые я публикую в этой книге, взяты оттуда, кроме отдельно оговоренных случаев. Я благодарю Марию Иду Биджи и Марианну Дзаннони за информацию, сотрудничество, помощь. Они длительное время изучали, каталогизировали и представляли общественности, в том числе в виде публикации на сайте Фонда Чини, те фотографии, которые я видела в Венеции. Их сложная исследовательская работа внесла ценный вклад в создание этой книги.
Я также благодарю всех людей и все организации, которые предоставили мне свои материалы или свои знания: Антонио Баццони, правнука Чиро Гальвани, который позволил мне использовать рисунки своего двоюродного деда; Библиотеку театрального музея SIAE и лично Фабиолу Де Сантис за немногочисленное, но важное собрание изображений; Библиотеку Конгресса и Центр Гетти, которые выкладывают свои материалы в интернет, чтобы их могли использовать те, кому они нужны; Нью-Йоркскую публичную библиотеку, которая прислала мне копию писем Дузе к Айседоре Дункан, позволив мне ознакомиться с ними дистанционно; Хелен Шихи, которая поделилась со мной своими конспектами писем Дузе к Люнье-По – с этими собранными Мартином Уолдроном письмами почти невозможно ознакомиться после его смерти.
Эудженио Барба я обязана инструментарием для анализа этих изображений, который был разработан в рамках его театральной антропологии и работы Международной школы антропологии театра, которую я посещала долгие годы. Труды Барба и Школа сыграли ключевую роль в моем становлении как исследователя. Моя признательность им безгранична. Я столь же многим обязана журналу «Teatro e Storia», его основателям – Фердинандо Тавиани, Фабрицио Кручани, Клаудио Мельдолези, Франко Руффини, Никола Саварезе – и последующим поколениям, важным для меня друзьям и коллегам, более или менее юным, живым и ушедшим.
Симоне Капула, Кьяра Крупи, Раффаэлла Ди Тицио, Дориана Ледже, Мари-Анж Мэр-Вигер, Саманта Маренци, Донателла Ореккиа, Джанандреа Пиччоли и Донелла Пиччоли, Фабрицио Помпеи, Франческа Романа Риетти, Андреа Скаппа, Франческа Симончини, Габриэле Софиа – всем им я благодарна за уточнения, информацию, критику и советы.
Я особенно благодарю своих первых трех читателей – Анну Кароччи, Сандро Кароччи, Джузеппину Де Сантис. Их мнение было очень важным для меня. Никто из троих не занимается театром – тем больше я им благодарна за терпение, ум и внимание.
Первая часть
Первая актриса и руководительница труппы
Ил. 1. Крупный план Элеоноры Дузе в последнем акте «Дамы с камелиями». Это фрагмент фотографии По Одуара – фотографа, которого Дузе особенно любила в юношеские годы и который в 1890 году сделал целую серию, посвященную «Даме с камелиями». Именно «Дама с камелиями» запечатлена на всех фотографиях этой главы, и все они принадлежат Одуару, кроме отдельно оговоренных случаев. Одна из тем, которые я развиваю в подписях, касается техники. Несмотря на то что все фотографии сделаны в студии, позы Дузе и ее тело передают напряжение. Эти фотографии позволяют нам проанализировать признанную всеми способность актрисы создавать на сцене живую неподвижность и тот скрытый от глаз уровень использования языка тела и его напряжения, из которого рождались ее особые отношения со зрителями.
Глава 1. Тридцать лет Маргариты: «Дама с камелиями» (1882–1909)
Харизма актера, то, благодаря чему он становится примером, наставником и ориентиром для других актеров, заключается не в переизбытке таланта, в основе лежит подозрение в непринадлежности к театру, таинственная способность актера выйти за пределы театра в тот самый момент, когда он является его безусловным участником <…> не любовь к театру делает из актера еще больше актера; актеры являются актерами, великими актерами, потому что они ненавидят театр.
Гарболи (1990)
История любви, завоеваний и отказа
Писатель Альфред Керр в 1934 году писал, что Дузе обладала не просто исключительной, почти непостижимой красотой, но что от нее также исходила некая сила, которая пробуждала в тех, кто смотрел на нее, человечность. Он рассказывает, что впервые увидел Дузе в роли Маргариты в «Даме с камелиями». Ее обращенная к Арману мольба воплощала полноту глухого отчаяния, но в то же время этот крик был квинтэссенцией жизни, ее неожиданной кульминацией. Керру было двадцать четыре года, и в тот момент он внезапно решил, что отныне больше не будет ненавидеть своих противников. С подкупающей простотой он пишет, что «мир изменился» («le monde était changé»)13.
Маргарита в «Даме с камелиями» Дюма-сына не является самой важной ролью Дузе, однако это ее самая знаменитая и самая любимая зрителями всего мира героиня. В этой книге ее сценическое воплощение Маргариты выступает в качестве увертюры: этот образ открывает темы, развившиеся в творчестве Дузе позднее. Обычно именно этим спектаклем она открывала гастроли в новом для себя месте, Маргарита была ее плацдармом, она сводила с ума даже тех зрителей, которые впервые видели актрису на сцене. Даже во время своего первого появления в Париже в 1897 году в театре ее великой соперницы Сары Бернар Дузе играла Маргариту из «Дамы с камелиями» – коронную роль французской актрисы.
Дузе не просто играла роль Маргариты на сцене. Актрису и ее героиню связывала долгая история, которая длилась двадцать семь лет и частью которой были сменяющие друг друга очарование, враждебность, затем умеренная симпатия, старение. Дузе начала играть Маргариту в 1882 году одновременно с другими героинями французских пьес, ставших отличительной чертой ее репертуара. Каждый вечер и каждый свой успех в те годы Дузе воспринимала как дар после печальных лет ранней юности, и, похоже, она любила этих героинь Дюма и Сарду, сегодня нам кажущихся неправдоподобными. Затем репертуар, который я для простоты называю «французским», хотя он и не был полностью таковым, начал казаться ей неубедительным. Дузе продолжала его играть, поскольку ему благоволила публика, но, наверное, не без удовольствия разбавляла его новыми пьесами, совершенно противоположными экспериментами. Актриса часто плохо отзывалась о своих старых ролях, даже о «Даме с камелиями», к которой, похоже, все же сохранила определенную симпатию. Когда уже пятидесятилетняя Дузе оставила сцену в 1909 году, она была признанной исполнительницей ибсеновских героинь, однако продолжала играть и Маргариту14. Для ее зрителей, вероятно, это было настоящим потрясением. А для нее самой?
Столь долго идущий на сцене спектакль не может оставаться неизменным. Благодаря одному из писем к Чезаре Росси, мы знаем, что были изменения в переводе (см. Orecchia, 2007. P. 101). Менялись и партнеры. Но остальное? Часто говорят, что, в отличие от Сары Бернар, Дузе не фиксировала каждой детали. Тем не менее у нас нет свидетельств, которые позволяют гипотетически предположить существование разных версий в разные годы, как будет происходить в двадцатом веке. Хотя актриса тщательно готовила свои спектакли – она вовсе не была склонна к импровизации, – она умела и стремилась неприметно и постоянно менять свою партитуру жестов и интонаций, достаточным образом для того, чтобы возникало ощущение изменения смысла спектакля и его самого глубокого содержания. Поэтому невозможно понять, были ли эти многочисленные детали, засвидетельствованные во время только одного спектакля, микровариациями одного вечера или постоянным новым вариантом.
Когда речь идет о театре девятнадцатого века вообще и особенно о Дузе, мы имеем дело со спектаклями, которые трудно и даже бессмысленно рассматривать как постоянные и законченные «произведения». Эти спектакли представляют собой совершенно иное: место встречи и изменений, волшебства и приобретения, фрагмент насыщенного времени и пограничную зону между внутренним миром актера/актрисы и зрителя/зрительницы или также между персонажем и человеком, между вымыслом и реальностью, между неизбежными изменениями тела и стремлением к точности. Неопределенное место, каким могут быть переходные зоны из одного мира в другой или точки встречи несовместимых перспектив – в данном случае людей театра и зрителей.
У нас есть многочисленные свидетельства, касающиеся самой знаменитой роли Элеоноры Дузе, и, кроме того, подробный анализ внимательного коллеги актрисы Луиджи Рази (см. Rasi, 1901. P. 99–134)15; последующие реконструкции разных исследователей16; достаточное количество фотографий, среди которых и серия По Одуара17. Однако разнообразие источников не отменяет проблемы метода в анализе всех вопросов, которые связаны с изменениями, происходившими в разные годы или в разные вечера, в зависимости от разных партнеров, от разных периодов жизни, от разных зрителей и разных размеров зала, в связи с другими ролями в репертуаре, а также со всеми театральными обычаями – как актерскими, так и зрительскими. Имеет значение то, как зритель попадает в театр, как он занимает свое кресло, как он оглядывается вокруг, как часто он ходит на один и тот же спектакль, как он аплодирует, что делает в антракте, насколько он знаком с актером – все это оказывает влияние на то, как именно он смотрит спектакль, и рождает разное отношение к театру и разные «спектакли». Уже не говоря о различии в восприятии зрителей и других актеров, различии в ассоциациях и последующей памяти. Чтобы обойти эти проблемы, я выбрала калейдоскоп вместо упорядоченного воссоздания, отчасти кубическое изображение разных элементов – таких, как история, движущая сила актерской игры, изображения, партнеры. Мнимое упорядочивание было бы более удобным, однако беспорядок позволяет не отбрасывать той информации, которая кажется пустой или побочной.
Театральные обычаи
Начнем с обычаев. Девятнадцатый век невероятно близок нашему сегодняшнему дню, и хотя отличие театральных привычек и практик той эпохи является общеизвестным фактом, некоторые общие вещи вводят в заблуждение, вплоть до того, что часто мы считаем театр того времени похожим на наш, только немного более приблизительным и сделанным наспех. Мы легко забываем, насколько действенным был театр девятнадцатого века, который благополучно развивался без финансирования и, кроме того, был временем невероятных актеров и актрис. Просто этот театр был другим с точки зрения обычаев, того, как смотрели спектакль, с точки зрения культуры актеров и зрителей.
Многие аспекты выходили за рамки отдельного вечера или отдельного литературного произведения и спектакля. Возможно, самым уместным сравнением является сравнение с выставкой, которая говорит любителю искусства больше, чем отдельная картина. Театральный сезон в Италии представлял собой серию длительных этапов, поскольку все труппы были кочующими и подолгу останавливались в каждом крупном городе. Журналисты18 и знатоки не только смотрели разные спектакли и сравнивали их между собой, но они также завязывали отношения с актерами, заходили к ним в гримерки в антрактах, что сегодня инстинктивно воспринимается нами как разрыв целостности спектакля и его восприятия. Кроме того, в театры ходили не только на спектакль, но и на отдельных актеров, а также для того, чтобы встретиться с другими людьми, снова насладиться отдельной излюбленной сценой или жестом.
По большей части буржуазная публика, однородная с культурной точки зрения, жаждала анекдотов, но не стремилась к пониманию и признанию культуры актеров. Для зрителей самой ценной частью театра были тексты, а то, что для актеров бо́льшую важность могло представлять что-то иное – например, персонаж, – воспринималось как признак их невежества, а не отличия.
Есть, наконец, и еще один вопрос, которым невозможно не задаваться, хотя, вероятно, он не имеет ответа. Речь о возрастной дистанции между актрисой и ее героиней и о том, как эта дистанция воспринималась зрителем. Это касается не только Дузе. Хотя основной сценический репертуар состоял из повествовательных текстов, то есть возраст героев должен был иметь значение для зрителей, но и Сара Бернар не видела в этом проблемы, а Дузе задумалась об этом лишь в 1921 году, когда вернулась на сцену после долгого отсутствия в возрасте шестидесяти трех лет. Возможно, это отчасти работало так же, как в оперном театре, где вокальные данные важнее возраста исполнителя или его физического несоответствия персонажу.
История Дюма
Когда в 1882 году Дузе обратилась к «Даме с камелиями», с момента появления пьесы прошло ровно тридцать лет. Отчасти автобиографическая драма была опубликована в 1852 году, и эта трогательная любовная история успела завоевать сердца зрителей. Столь же успешным был и одноименный роман, опубликованный Дюма-сыном несколькими годами ранее, в 1848 году, равно как и опера «Травиата», написанная Верди в 1853 году по мотивам романа. Дузе представила на сцене историю, которая была известна уже тридцать лет и по-прежнему очень любима зрителем. Идея использовать «Даму с камелиями» в качестве прорывного оружия для актрисы, игравшей на итальянском языке перед иностранной публикой, была превосходной.
Маргарита – куртизанка, настолько успешная, что отчасти может позволить себе выбирать любовников. Она ведет праздную жизнь в обществе, которое принято называть «полусветским». Его женская часть представлена публичными женщинами высокого ранга или женщинами сомнительной нравственности, при этом мужчины могут принадлежать к настоящей аристократии или буржуазии, а также быть искателями приключений и притворщиками – словом, речь идет о параллельной реальности великосветского или буржуазного общества. В романе более внятно, нежели в пьесе, объясняется происхождение прозвища героини: она всегда носит с собой букет белых камелий, за исключением нескольких дней в месяц, когда цветы становятся красными, что указывает клиентам на ее доступность или недоступность.
В нее без памяти влюбляется Арман, молодой человек из приличной буржуазной семьи, а сама Маргарита после недолгих изначальных колебаний отвечает ему беззаветной преданностью. Надеясь на свое возрождение, она укрывается с любовником в пригородном доме. Как и у многих молодых людей из хороших семей, у Армана нет больших денег, поэтому их любовную роскошь оплачивает женщина. Он случайно узнает об этом и возвращается в город, намереваясь исправить ситуацию. Во время его отсутствия к Маргарите приезжает отец молодого человека, властный и суровый человек, каким мог быть представитель крупной буржуазии середины девятнадцатого века. Он приехал за сыном и осыпает Маргариту презрительными упреками, однако ему открывается парадоксальная чистота этой пропащей женщины. Именно поэтому он просит от нее огромной жертвы – оставить возлюбленного, поскольку связь с куртизанкой лишает его будущего. Влюбленная женщина соглашается и бросает любовника, заставив его поверить, что она устала от его бедности. Разумеется, Арман приходит в ярость, он повсюду ищет Маргариту и, встретив ее на очередном званом вечере, прилюдно бросает ей в лицо только что выигранные в карты деньги, которые должны возместить потраченную на него сумму. Маргарита лишается чувств. Она и раньше страдала от чахотки, а сейчас болезнь прогрессирует.
Последний акт: Арман, которому отец, предусмотрительно дождавшись ухудшения состояния Маргариты, рассказал о жертве умирающей женщины, успевает примчаться к постели любимой и принять ее последний вздох.
Роль Маргариты – щедрый подарок для любой актрисы: яркие появления в образе куртизанки в первом акте, любовные диалоги второго акта, невероятная сцена с отцом Армана, длинная сцена смерти, представляющая собой практически монолог Маргариты, в последнем действии. Зрители того времени очень ценили долгие умирания на сцене, и актеры блестяще с ними справлялись. В пьесе много драматичных сцен: душераздирающее чтение письма от отца, внезапный и неожиданный приезд любовника, последний любовный дуэт, типичная для умирающих от чахотки больных иллюзия внезапного выздоровления, смерть в объятиях любимого. Это была коронная роль многих актрис, представлявших разные поколения, и зрители любили их сравнивать: словно гурманы, они смаковали фирменное блюдо в разных исполнениях. Разумеется, в столь насыщенной любовной драме огромную роль играло взаимопонимание партнеров, которое тоже становилось предметом смакования и оценки зрителей.
Дузе создала кардинально отличный образ. Вместо известной всему Парижу публичной женщины она представила зрителю простую девушку в белых одеждах – то есть полную противоположность тому, чего ожидала публика.
Первые шаги Дузе-Маргариты
Дузе впервые сыграла в «Даме с камелиями» в 1882 году. Это поворотный год для актрисы. Едва обретя возможность самостоятельного выбора, Дузе создает свой особенный репертуар, значительную часть которого составляют французские пьесы: большое количество драм Дюма-сына, небольшое – Дюма-отца и много Сарду. В ее репертуаре есть и произведения других французских авторов, разбавленные немногими итальянцами – роли в итальянских пьесах были предметом ее особой гордости, хотя они и не были самыми знаменитыми: «Сельская честь» Джованни Верга, немалое количество произведений ее друга Джузеппе Джакоза, немного комедий Карло Гольдони – «Трактирщица» и «Памела в девушках». Почему юная Дузе настойчиво предлагает директору своей труппы именно этот репертуар? Не отдельную роль, а целую группу пьес? Возможно, это происходит потому, что эти произведения были более модными в то время, возможно, этот репертуар привлекал актрису, потому что его играла знаменитая Сара Бернар, возможно, подобный выбор объясняется тем, что многие из этих ролей прежде были сыграны великой актрисой прошлого Эме Декле, которую Дузе выбрала для себя негласным ориентиром. Возможно, эти отчасти похожие друг на друга героини помогали ей преодолеть сопротивление зрителя, позволяя показать бесконечные нюансы внутри некоего единого суперперсонажа, состоящего из Клотильды, Фру-Фру, Цезарины, Лионетты, Денизы, Маргариты. Но прежде всего эти женщины являлись абсолютными героинями: по замечанию Дюма, они свидетельствовали о женском всемогуществе (в смысле абсолютного превалирования женского образа в тексте), которое сложилось во французской литературе уже начиная с середины девятнадцатого века, а спустя несколько десятилетий распространилось и в литературе других стран:
En effet, s’il est un lieu où la Femme affirme despotiquement cette toute-puissance que la poésie lui attribue et où elle en abuse même, c’est le théâtre. C’est l’amour sous toutes ses faces qui est l’élément du théâtre, c’est l’émotion qui en est le but, c’est donc la Femme qui en est le principe. <…> Pas un succès au théâtre où l’Homme ne soit offert en holocauste à la Femme. Elle est la divinité du lieu, et, de sa loge ou de sa stalle, belle, fière, triomphante, calme, entourée, adulée, Elle assiste à ces hécatombes humaines (Dumas, 1893, Vol. IV, L’ami des femmes, Préface. P. 7–8)19.
Этот репертуар ей подходит, он «современный», в нем есть для нее прекрасные роли, он сам по себе напрашивается. Поразительные жесты Дузе и нюансы ее актерской игры придают этому репертуару тревожность. Типично мужское утверждение Дюма-сына о том, что женщины проявляют, прежде всего, эмоцию, предстает наивным в свете того, во что способна превратить эмоцию Дузе. В этот период она впервые и, возможно, единственный раз в жизни испытывает счастье от игры на сцене20. Это не продлится долго:
Мой прекрасный маркиз! Мой безгрешный и светлый друг…
Сегодня я играю двенадцатый спектакль – в Милане!.. Боже! Этот благословенный Милан, который так долго стоял мне поперек горла! Помните, сколько раз мы об этом говорили?
Вы же – однако – как истинный Пророк предсказывали мне успех – а я, как истинный суевер, – даже в этом преждевременном обещании видела дурное предзнаменование! Да здравствует мой светлый друг! Все это благодаря и Вам – настоящему Пророку!
Я же… слушайте… жду с нетерпением!.. Иногда прием, оказанный мне зрителем, – меня пугает – и заставляет меня улыбнуться от неверия… а иногда – я чувствую себя – окрепшей – молодой – уверенной – уверенной в своем искусстве… чтобы любить его – даже еще больше, чем я его люблю! – Нечего сказать. Успех мне по душе.
В первый вечер, когда я вышла на сцену, я не чувствовала в себе жизни – и когда зритель встретил меня таким ропотом – таким сопротивлением… я почувствовала себя прекрасной и опустошенной. Представьте себе – как только я закончила играть первый акт Федоры – ко мне в гримерку пришел один друг… и он сказал мне только эти слова: «Утешьтесь, Вам сопутствовал успех уродства, это хорошее предзнаменование…» И на самом деле! – Я всегда знала, что некрасива, но услышать об этом от других….
В общем – я не умею долго писать. Пусть пройдут эти несколько дней, и я напишу Вам из спокойного Турина.
Диалог в «Giornale d’Italia» как нельзя соответствует – «Я буду играть на сцене! – Я буду играть на сцене!» – Я буду заниматься искусством, всегда!
Я поеду в Америку… поеду в Испанию… поеду в Вену… я поеду… я поеду…
Настолько далеко, насколько смогу, и мое имя будет звучать там… Но свое сердце я спрячу лучше, чем спрятан камешек в колодце. Только одно слово – великое – бесконечное – искусство (AG. Оп. 61. Д. 1)21.
Это письмо 1884 года вызывает улыбку. Дузе перескакивает с одного путаного предложения на другое, мы видим ее смущение, вызванное огромным и неожиданным успехом, который только начинает приходить к ней, ее мечты о путешествиях, которые она скоро осуществит на самом деле. Упоминание сердца, которое она спрячет лучше, «чем спрятан камешек в колодце», предстает прекрасным и таинственным. Неожиданно видеть этот восторг, потому что в дальнейшем Дузе сохранит очарование своей порой восхитительной манеры письма, но театр она будет воспринимать все с большей отрешенностью, а порой и злобой. Но не себя в нем. Дузе прекрасно понимала, что для нее театр был «жизненной ценностью», как она сама выразится в письме к драматургу Марко Прага от 21 июля 1920 года (Cini, f. SM).
Ил. 2. Эта фотография – фрагмент более крупной исходной фотографии – подчеркивает парадоксальную простоту Дузе-Маргариты. В своей автобиографии Сара Бернар пишет, что талант Дузе заключался в том, что она умела посадить дерево там, где было бы логично и обычно ожидать появления цветка и наоборот [См. Бернар, 2006. С. 239: «Элеонора Дузе скорее актриса, чем артистка: она выбирает избитые пути. Правда, она никому не подражает, ибо сажает цветы на месте деревьев, а деревья на месте цветов, но ей не удалось воплотить ни одного оригинального, только ей присущего образа, создать персонаж либо явление, которые увековечили бы ее память. Дузе носит чужие перчатки, надевая их наизнанку с необыкновенным изяществом и непринужденностью. Это великая, величайшая актриса, но отнюдь не великая артистка». – Прим. пер.]. Но как долго могло удивлять подобное переворачивание перспективы? Довольно заметный театральный драматург того времени Сабатино Лопец пишет (в «Secolo XIX» от 4 февраля 1904 года), что «эффект [актерской игры Дузе] заключается в переворачивании… Вместо ожидаемого крика вы видите расслабленность». Эти слова в большей степени, чем замечание Сары Бернар, описывают техническую сторону, они больше относятся к отдельным жестам, а не к самой игре: удивление от неожиданного переворачивания, не соответствующего ожиданиям, длится недолго. Замешательство, вызванное внезапным движением или криком, дает неожиданный эффект и сохраняется дольше. Например, один немецкий критик заметил, что Дузе сместила акцент в финале третьего акта, кульминация которого обычно заключалась в написании прощального письма Арману. Дузе же перенесла акцент на предшествующую написанию письма долгую душераздирающую сцену: она медленно ходила по дому, в котором героиня была прежде так счастлива, ее рыдания становились все громче, а затем она в полуобморочном состоянии падала на диван и быстро писала письмо (см. Grazioli, 2015. P. 138–139).
На этой фотографии, например, бесхитростное выражение лица не отменяет намеренно провокационной позы: прямая спина и костюм подчеркивают грудь. Непредсказуемость героини, равно как и самой Дузе, рождается из этого маленького противоречия, распаляя беспокойное желание зрителя расшифровать ее. Но и другими способами – например, нежеланием давать интервью, избеганием излишнего внимания во время бесконечных гастролей, использованием фотографий – Дузе, похоже, всегда стремилась стереть слишком отчетливые и слишком очевидные следы.
«Дама с камелиями» тоже относится к этому периоду первого осознания собственной значимости, радости, любви к «искусству»22, но пока еще эта роль не является одним из главных успехов актрисы23. Об этом она рассказывает своему другу Франческо д’Аркэ в письме из Триеста от 3 апреля 1884 года, написанном за месяц до процитированного выше. Однако вопреки всему Дузе продолжает играть Маргариту:
Дорогой маркиз,
Будьте внимательны, поскольку я скажу Вам две истины – первая – горькая… но правдивая. Позавчера меня ждал феноменальный провал в «Даме с камелиями». Один из тех провалов… после которого возвращаешься домой… и плохо спишь ночью. Какого бы черта ни ждали зрители – или какой бы черт ни укусил меня – факт в том, что крах был полным.
Я хотела бы отнестись к этому… с так называемым легкомыслием… но как ни крути, такие вещи расстраивают – но это уроки – которые, наверное, полезны!
Незыблемое правило: Зритель всегда прав. – Поэтому надо искать во мне, а не в нем причины – что не так с моей Маргаритой… и я их найду.
Другая истина – невероятный успех был у меня вчера в «Давай разведемся». Как будто бы зрители хотели возместить мне провал – поскольку аплодисменты при моем появлении – были… отчасти чрезмерными.
Ох! Какие уроки для Дузе-Кекки! Сегодня мне нет покоя, и меня попросили сыграть «Даму с камелиями». Все говорят, что я улучшу исполнение, что зрители снова поверят… и что у меня будет огромный успех… Хм… Да поможет мне бог.
Прощайте, дорогой маркиз – спасибо за вашу неизменную дружбу – и храни меня Бог от печеных груш, которые вы так любите! Э. Дузе-Кекки.
Если бы об этом провале знали мои римляне (AG. Оп. 61. Д. 1).
Она необыкновенно мила. Понятно, почему друзья тех лет, например граф Примоли или драматург Джакоза, боялись, что «отчасти чрезмерный», по собственным словам Дузе, успех изменит ее. Неизвестно, кто именно попросил ее повторить Маргариту. Возможно, это был руководитель труппы, возможно, ее муж. Однако ее анализ собственного громкого провала звучит умиротворяюще.
Провал не ограничился одним Триестом, в нашем распоряжении есть также крайне нелестная рецензия в «Fieramosca» от 15 июля 1882 года, написанная после спектакля во Флоренции годом раньше Рази, который был поклонником Дузе с первых ее шагов. Из рецензии Рази понятно, что игра Дузе была еще сырой, неумелой: то, что впоследствии превратится в ошеломляющую неожиданность, пока что представляет собой слишком заметные глазу сценические эффекты. Например, в последнем акте зритель видел, как Дузе подготавливала свое бездыханное падение в сцене смерти. Все это дает нам повод подумать о том, насколько спектакль может нуждаться – и почти всегда нуждается – во времени для своего вызревания. Многие коронные роли актеров девятнадцатого века формировались и развивались медленно, они росли с каждым спектаклем, во времени, благодаря которому росло и взаимопонимание с другими актерами – достаточно вспомнить об «Отелло» Томмазо Сальвини, спектакле, который стал известным во всем мире (см. Schino, 2016. P. 90–129). Спектакль – это не картина, которая обретает свой окончательный вид вместе с последним мазком кисти, это произведение живого искусства, которое может со временем расцвести или увянуть.
Странные свидетельства
Лучшие свидетельства не рассказывают о сценическом действии. Они говорят совсем о другом, например о том, какой увидели Маргариту изумленные игрой Дузе зрители. Они описывают не Маргариту Дюма и не Маргариту Дузе, а ту Маргариту, которую сами представили себе, смотря на актрису. Даже искушенные зрители и знатоки часто рассказывают о собственных чувствах во время спектакля, о своих безудержных слезах, о своем смущении, вызванном этой сентиментальной, но не сложной историей.
Эти источники кажутся менее объективными и самыми трудными для анализа. Но и они подлежат изучению: эти свидетельства рассказывают нам об особой боли, которую умела вызвать Дузе. Речь идет не о приятной сентиментальной эмоции, а о реальной острой боли, безусловно, несоразмерной театральному впечатлению. Иногда зрители переносят некоторые черты героини на личность актрисы, поскольку сильные эмоции способны создавать самые иррациональные связи. Сами по себе эти описания ее «Дамы с камелиями», часто умные, очень трогательные или виртуозные, не смогли бы объяснить, почему зрители долго плакали во время спектакля, почему они так описывали ее худые, словно принадлежащие по-настоящему больной женщине руки, почему они испытывали восторг или муку. Однако большее значение имеет не действие, а особое качество боли, неприятной и осмысленной, которую испытывает человек, оказавшись по воле случая – или благодаря таланту великого артиста – перед лицом неприкрытого жестокого страдания, причиной которого является несправедливость. Зрители видели перед собой беззащитную женщину, еще более беспомощную в силу ее безмерной любви, а не социального статуса или пола, которая, по сути, безвинно страдала из‑за человека, обладающего властью. Похоже, что именно к этому они свели настойчиво создаваемый Дузе образ Маргариты-простушки, столь далекий от образа знаменитой парижской куртизанки и столь внушающий зрителю доверие. И это влекло за собой более общую дестабилизацию предельно понятных вещей, еще более сильную из‑за искажения пределов и границ испытываемого в театре удовольствия. Как уже говорилось, самым сильным оружием Дузе было умение вызывать замешательство, ее способность удивлять и уводить зрителя с привычного пути. Ее невинная Маргарита не только сценический образ или театральная уловка – это оружие, которое Дузе использует, чтобы проникнуть в головы своих зрителей и заставить их открыться страданию.
Джордж Бернард Шоу с его тонким чутьем драматурга, не говоря уже о чутье критика, смог выразить это отчетливее других: по его мнению, Дузе умела привести зрителя к размышлениям, которые выходили за рамки персонажа или истории. Шоу видит не только эмоциональную, но и интеллектуальную составляющую работы Дузе над образом Маргариты: призыв к человеческой солидарности в лишенном сострадания мире24.
Не такого ожидали от спектакля в те времена. Другие актеры и актрисы, такие как восхитительная Сара Бернар, царствовали в театре, они любили его, превращали его в более богатый и искрометный, с удовольствием обживали его. Дузе, которая при этом считалась одной из вершин театра того времени, обладала таинственной способностью выходить за пределы и вторгаться в иную реальность. Конечно же, не только в роли Маргариты: актрису сравнивали со страдающим Христом – во многих свидетельствах мелькает слово «распятие», – о ее искусстве говорят как о муке, а не как о радости. Сильные слова в отношении французских драм, которые часто не отличаются большой глубиной.
Публика испытывала замешательство не только при первой встрече с Дузе. Актриса умела создать у своих постоянных зрителей ощущение, что каждый раз, вечер за вечером, они смотрели разный спектакль. В какой-то вечер на первое место выходила страсть, в другой – болезнь и смерть, в третий – страдание. Постоянные зрители не знали покоя.
Почти все, что рассказывается об этом и о других спектаклях, касается прежде всего умеренности, простоты. Обморок Дузе-Маргариты во время сцены обеда в первом акте не отличался большой эффектностью (см. Molinari, 1985b. P. 93). Первые актрисы обычно появлялись в центре сцены. Дузе же медленно подходила к рампе, позволяя своим зрителям почти случайно «обнаружить себя» среди других персонажей. В Лондоне в 1893 году Маргарита впервые появлялась на втором плане, она сидела среди друзей. Еще незнакомые с Дузе зрители постепенно сосредотачивали свое внимание на актрисе, благодаря ее легкому смеху, подаче шуток, которые «странным образом казались неуместными в этой атмосфере» («The Saturday Review», 27 мая 1893 года). Многие рассказанные детали касаются бледности Дузе, ее манеры поправлять на себе одежды или интонаций ее голоса: но они представлены как театральный эффект – они и были театральным эффектом. Как ей это удавалось? Столь знаменитая пьеса предполагала существование определенных канонов актерской игры. Традиция внушала зрителю доверие. Например, в Италии Маргарита обычно целовала Армана в лоб. Дузе же в момент прощания долго целовала любовника в губы: крошечный скандал, знак новых времен, но одновременно и потрясение25. Неожиданный эффект может сделать из маленького жеста сценическую бомбу. В любовных сценах она разговаривала гортанным, чуть хриплым, завораживающим голосом.
Яркие действия и не нужны. Напряжение, возникающее между спектаклем и зрителем, рождает сильные эмоции, что прекрасно объяснил знаменитый актер Сальвини: сила какого-то жеста или какой-то находки зависит от ожидания, которое умеет создать актер. Отвечая на вопрос, как ему, уже не в юном возрасте, удается испустить столь мощный крик в «Отелло», актер отвечал: «Я не кричу, это вы кричите внутри себя <…> я только открываю рот: моя задача состоит в том, чтобы постепенно привести роль к кульминационной точке, и тогда зритель сам закричит, если почувствует это необходимым»26.
Шоу рассказывает еще об одной крошечной и мощной детали, которой, похоже, больше никто не заметил: во время сцены с отцом Армана Дузе наклонялась, а затем поднимала голову, и зритель видел ее залитое слезами лицо (см. «The Saturday Review», 15 июня 1895). Другая завораживающая с технической точки зрения деталь касается последнего акта: забившаяся в угол кровати Дузе бьет локтем по подушке, пытаясь собраться с силами. Столь бытовой, но странный жест стал знаменитым. Я не нашла его описания в непосредственных свидетельствах, однако он упоминается в интервью одной страдающей от болезни молодой актрисы, которая, чтобы приободрить себя, бьет локтем по подушке. Как Дузе-Маргарита в последнем акте, когда она хочет рассмотреть присланные немногими оставшимися друзьями подарки, – уточняет интервьюер (см. «L’Arte drammatica», 4 января 1896 года). Подобный жест свидетельствует о сумбурной жестикуляции, столь отличной от гармонично упорядоченных движений других актрис. Это маленькие постоянные бомбы, сделанные из ничего. И тем не менее они остаются в памяти.
Четвертый акт: оскорбление
Два последних акта зритель, наверное, ждал больше всего. В последнем акте была душераздирающая сцена смерти, а в предпоследнем зрители любовались знаменитой актерской находкой Дузе, повторявшей имя возлюбленного во время сцены оскорбления. Рази (Rasi, 1901. P. 122–123) так описывает выход актрисы: «Белое, измученное лицо Маргариты в момент ее появления в четвертом акте под руку с Варвилем, медленная, тяжелая походка человека, который идет вперед не по собственной воле, но ведомый какой-то скрытой внутренней силой; неподвижный и одновременно рассеянный взгляд – все это сразу же говорит о неминуемом разложении этого тела». На самой прекрасной фотографии актрисы (см. ил. 3) изображена (вероятно) Дузе-Маргарита как раз в этом акте.
На этой фотографии мы видим роскошно одетую женщину с прямой спиной, поза которой выражает почти что презрение. Поднятая голова, типичная для фотографий и для рисунков с изображением Дузе, напряженная грудная клетка вместе создают ощущение движения, будто бы ее толкает вперед ветер. Спокойное, отчасти отрешенное выражение лица, на котором, если присмотреться внимательно, видна печаль. Обращает на себя внимание и положение рук, которые кажутся расслабленными, но это так лишь на первый взгляд: в левой руке она держит большой веер из перьев, правая неприметно сжата. Сочетание перьев и меха, пальто и веера прекрасно, однако в облике нет той чувственности и изящества, с которыми можно было бы носить этот изысканный вечерний туалет.
Дузе не была красавицей, об этом говорили все. В юности она часто говорила о том, что ее первый успех был успехом уродства. Она была худощавой и маленького роста. Зрители замечали, что костюмы немного спадали с нее: «она не создана, чтобы носить два с половиной метра шлейфа, она теряется за богатым платьем» (Неера, Анна Радиус Цуккари в «Emporium», сентябрь 1895 года). Действительно, мы можем видеть это на ил. 3. А может быть, все ровно наоборот, и именно Дузе превращает платье в несущественный элемент. Или же из фотографии можно сделать вывод, что подобное безразличие к собственному наряду оттеняет печаль на лице героини, излишнее подчеркивание которой выглядело бы неуклюже (ведь Маргарита остается куртизанкой, она приходит на званый вечер в сопровождении нового богатого мужчины), однако Дузе умеет «открыть» эту печаль. В результате зрители видели в ее героине реального живого человека и открывали для себя тайные чувства Маргариты – так можно прочитать скрытые чувства на лице близкого друга. Каждый зритель, каждый писавший о ней критик выбирал какую-то одну деталь из палитры, которая кажется бесконечной: словно бы актерская игра Дузе состояла из бесконечного количества узловых точек, которые перетекали друг в друга и сливались в одну реку.
На этой фотографии Маргарита смотрит в сторону. Мы можем представить, что в этот момент она тайком следит за играющим в карты Арманом. Это только фантазия. Но, с другой стороны, зрители часто упоминают о том, что в этом действии она ни на мгновение не сводила глаз с бывшего любовника. Публика не могла сдержать слез во время длинной сцены между Маргаритой и отцом Армана в третьем акте: сопротивление зрителей уже было преодолено, и они готовы были ловить каждый взмах ресниц Дузе и наделять его особым значением. Мы уже говорили о ее способности вызывать у зрителя слезы. То же самое в полной мере касается и ее самой: она появлялась с залитым слезами лицом, зрители рыдали и одновременно спрашивали себя: как она это делает? Как ей удается расплакаться, более того, покраснеть в нужный момент? Этот вопрос не давал покоя Шоу (Шоу, 1963. С. 203–204: «Она начинает краснеть и вдруг осознает это; румянец медленно разливается по лицу, становится все более алым, и после нескольких тщетных попыток отвернуться или незаметно заслониться она сдается и закрывает лицо руками. После такой мастерской сцены мне стало совершенно ясно, почему Дузе не накладывает на лицо дюймового слоя грима. И, насколько я могу судить, это не было трюком – румянец был вызван силой ее актерского воображения. В третьем акте „Dame aux Camelias“, в трогательной сцене, когда героиня бросается на пол и сейчас же поднимается с изменившимся, покрасневшим от слез лицом, появление румянца можно объяснить не воображением, а тем, что она нагибалась. Но румянец Магды так просто объяснить нельзя, и должен сознаться, что меня мучает профессиональное любопытство, каждый ли раз удается актрисе вызвать его так естественно»27. – Прим. пер.).
В четвертом акте Маргарита во время бала находит возможность встретиться с Арманом. Она видела его безумную игру в карты, она боится, что бывший любовник может спровоцировать дуэль с ее новым поклонником (что он и сделает), и хочет его успокоить. Но Арман приходит в ярость и, поняв, что Маргарита к нему не вернется, созывает всех гостей, рассказывает им о потраченных женщиной на него деньгах и прилюдно бросает ей свой выигрыш. Лучший партнер Дузе, Флавио Андо, в этой сцене вместо безумных криков говорил очень сдержанно, однако в его голосе угадывался глубокий гнев человека, который способен на все, в том числе и на подлость. Андо не бросал Маргарите деньги в лицо, как делали другие партнеры Дузе, простым движением он подавал ей набитый деньгами кошелек: этот жест не столь эффектен, и именно поэтому он более жестокий. Дузе добавила в эту сцену свою голосовую «тему» (находку): пока Арман осыпал ее гневными словами, оскорблениями, деньгами, Дузе-Маргарита повторяла его имя – четыре, пять, восемь раз, и ее интонации открывали разные грани отчаяния. Мы не знаем, как именно Дузе произносила его имя: некоторые говорят о крещендо, пусть оно и было сдержанным, без перехода на крик. Некоторые – о сдавленном шепоте. Кто-то сравнивает этот эпизод с оперной арией. Возможно, Дузе каждый раз играла его по-разному, поскольку ей нравилось сбивать с толку даже своих постоянных зрителей. Некоторые зрители говорят, что она играла эту сцену стоя, другие рассказывают, как она без сил падала на диван. Точно одно: сцена была невероятно эффектной. Сам Верди любовался ею и даже сказал, что скопировал бы этот эпизод, если бы увидел его до того, как сочинил свою оперу (см. Primoli, 1897).
Ил. 3, 4. Фотография целиком и фрагмент с руками. Всегда интересно следить за выстроенной Дузе композицией, в частности за положением ее рук. Здесь они кажутся спокойными, почти бытовыми: одна держит веер, вторая расслаблена. Но на самом деле это не так, вторая рука сдвинута в сторону центра; на фотографии целиком видна неестественность этого положения, не столь заметная на фрагменте. Внимательному взгляду открывается некоторое оцепенение рук, пальцы сжаты. Тонкий нюанс. Многие зрители взволнованно писали о том, как Дузе использовала руки и кисти, ее руки были знаменитыми, и Д’Аннунцио увековечил их в посвящении «Джоконды»: «Прекрасным рукам Элеоноры Дузе». Но, возможно, посвящение относится не к сценической игре, а к сюжету написанной для Дузе драмы, в которой героиня жертвует своими прекрасными руками ради творения мужа.
Один из видевших Дузе в России зрителей так отзывается о ней в «Северном вестнике» 1891 года: «То, что непосредственно говорило сердцу зрителей, эти широко раскрытые глаза, в которых недоумение сменялось ужасом, ужас надеждой, надежда негодованием – когда Дюваль говорил ей, что разлука должна быть вечной, – этот голос, полный убеждения в своей правоте и потом вдруг поколебленный и задушенный рыданиями – все это не поддается описанию. Все это „слишком просто“, слишком цельно и безыскусственно, чтобы быть разложенным на отдельные моменты и передано в слове» («Северный вестник», 1891, № 8, с. 129). О ней пишут так, словно бы речь шла о реальной истории и женщине из плоти и крови.
Любопытно, что на ил. 3, как и на всех других фотографиях в роли Маргариты, Дузе запечатлена в одиночестве. Ее партнер по спектаклю Флавио Андо был умелым и знаменитым актером. И все же она фотографируется одна. Возможно, сцену на двоих в фотостудии было воспроизвести труднее, возможно, для Дузе это был способ подчеркнуть свое превосходство. Так или иначе, почти на всех своих фотографиях она всегда одна.
Арман: Флавио Андо
В имеющихся в нашем распоряжении откликах зрители почти всегда говорят только об одной Дузе. На фотографиях она тоже запечатлена в одиночестве. Но это не значит, что партнеры не имели большого значения. Юные годы Дузе провела в труппе, где первой актрисой была Джачинта Пеццана, и этот опыт сыграл важную роль, равно как и ее знакомство и переписка с самой известной актрисой предшествующего поколения Аделаидой Ристори, не говоря уже о ее соперничестве с Сарой Бернар. Речь необязательно идет о модели для подражания, хотя в театре девятнадцатого века подражание было способом обучения, формирования основ, творческого развития и выстраивания собственных актерских стратегий на контрасте.
В театре того времени партнеры по спектаклям почти всегда были постоянными, поскольку труппа собиралась на определенный период времени, а не на отдельную постановку. Нетрудно понять, насколько важную роль играло не только актерское мастерство, но и взаимопонимание между партнерами: между одними парами великолепных актеров возникает алхимия, между другими – нет. Когда Дузе в конце девятнадцатого века пригласила в свою труппу одного из самых крупных актеров того времени Эрмете Цаккони, между ними не вспыхнула сценическая искра.
Актерский дуэт Дузе и Андо на протяжении более десяти лет был потрясением для зрителей. В итоге они расстались не очень хорошо, по крайней мере еще до их окончательного расхождения Дузе попыталась найти другого первого актера в свою труппу. Спустя годы во многих своих письмах она называла его «глупым». Красивым и глупым28. Надо оговориться, что в тот момент она была раздражена, она попросила его вернуться в труппу в 1897 году для участия в первых парижских гастролях, которые пугали ее, но Андо ответил отказом. Затем он уступил ее просьбе, однако все равно вызвал столь типичные для Дузе нелицеприятные и несдержанные слова в свой адрес. Тем не менее не стоит придавать слишком большого значения тому, что Дузе говорила в минуты раздражения: бумага увековечила сиюминутные эмоции, а ее слава не позволила им забыться. Возможно, ее гнев прежде всего говорит об уважении, которое испытывала Дузе к своему партнеру, и о том, что она осознавала силу их союза.
Меня также отчасти удивило письмо Дузе, написанное в Босколунго 28 июля 1915 года:
Дорогой Андо,
Память о стольких годах Работы, сегодня, наполнена печалью, печалью от того, что ты страдаешь.
Я хотела бы облегчить твою боль и поблагодарить тебя, и сказать тебе слова ободрения и надежды.
В печальные и счастливые дни нашей Работы именно ты всегда умел внушить мужество и веру всем нам, кто был тогда рядом с тобой.
Никто из нас не забыл тебя, и мы любим в тебе не только верного и доброго партнера, но наставника, которым ты умел быть среди нас, уверенного в своем искусстве и лишенного всякого тщеславия.
Мы все тебя любим, Андо, и ждем твоего возвращения.
Твоя признательная и любящая
Элеонора Дузе (AG. Оп. 57. Д. 6).
Андо умер 31 июля 1915 года, через три дня после написания этого письма. Вряд ли он смог прочитать его, скорее всего, он его даже не получил. Дузе крайне редко проявляла столь живое участие, тем более в данном случае речь идет о ее партнере, которого она не видела больше двадцати лет, хотя она и писала о своей печали, вызванной известием, что Саре Бернар ампутировали ногу29. Я нашла машинописную копию процитированного выше письма к Андо в архиве Геррьери30. Не могу сказать, что испытываю сомнения в его подлинности, однако, как и в случае других писем Дузе, Геррьери не оставил нам никаких указаний на происхождение этого документа. Не существует никаких других писем Дузе к Андо, возможно, они были уничтожены Челесте Паладини, чрезвычайно ревнивой женой актера. В то время между коллегами было больше в ходу обращение на «Вы», хотя Дузе использовала местоимение «ты» в общении со своими старинными партнерами.
С другой стороны, эти словно случайно разбросанные по странице запятые, скорее графические знаки, а не пунктуация, очень характерны для манеры письма Дузе. И, кроме того, свойственное ей написание слова «Работа» с заглавной буквы. Это редкое письмо. Оно больше каких бы то ни было свидетельств и рецензий рассказывает нам о той связи, которая существовала между партнерами по сцене и которая была гораздо глубже их личных отношений, ссор или расхождений.
Ил. 5. Альбомный лист: одна из немногих фотографий Флавио Андо, которая, похоже, была сделана в конце восьмидесятых или в начале девяностых годов девятнадцатого века. Имя фотографа неизвестно. Андо, страстный, очень отличный от Дузе актер, был ее главным партнером, которого зритель никогда не забывал. Рази (Rasi, 1897–1905. Vol. I. P. 40–41) сокрушается по поводу их расставания: «Их долгий союз закрепил, укоренил однородность красок, гармонию тонов, гениальную спонтанность, в общем, то родство в замысле и воплощении сцен, которое, к сожалению, достигается только упражнениями, помноженными на сильный дух усвоения. Учитывая все это, сценическое расставание Элеоноры Дузе и Флавио Андо может нанести искусству только вред». Хотя почти на всех фотографиях Дузе запечатлена в одиночестве, отношения, в том числе физические, с другими актерами имели для нее ключевое значение. Дузе почти всегда окружала себя одними и теми же людьми, которые работали с ней много лет. Она искала в партнерах что-то, что выходило за пределы одного мастерства. Скорее, речь шла о сочетании сил, работающих вместе. Отличительной особенностью Дузе было умение играть немые сцены, различные актерские реакции: она, конечно, не была инстинктивной актрисой, однако даже в небольших вариациях проявлялся ее огромный талант, который, похоже, во многом основывался на способности ее партнеров по сцене отвечать и почти противостоять ей.
Фотографий Андо немного, что кажется странным, поскольку он был очень известным актером. Одна из фотографий сделана в 1896 году, когда он делал первые шаги на сцене: на ней мы видим приятного молодого человека с непослушной гривой волос. На другой фотографии запечатлен мужчина с пышными усами, смотрящий вдаль (см. ил. 5). Андо родился в 1851 году, он был на несколько лет старше Дузе. Этого сицилийца всегда описывают как красивого мужчину, хотя на фотографиях мы не видим ничего особенного, кроме обычной презентабельности: наверное, его привлекательность была сценической красотой, которая рождалась из его манеры двигаться, смотреть, из ритма и пауз, взглядов и молчания. Как и сценическая красота Дузе. Его семья не имела отношения к миру искусства, Андо рано женился на энергичной Челесте Паладини, которая была актрисой, руководила собственной труппой и была на несколько лет старше него. Она помогла ему сделать быструю карьеру.
