Новый Голливуд. Новаторы и консерваторы
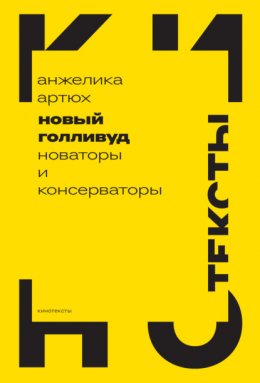
Предисловие
Цель этой книги – найти ответ на один существенный вопрос: когда классический Голливуд изменился? Иными словами, когда Голливуд стал Новым? Ни для кого не секрет, что в Голливуде уже давно не снимаются фильмы вроде «Унесенных ветром», «Сансет-бульвара» или «Кто боится Вирджинии Вульф?». Голливудская классика, которая не перестает поражать нас своим вниманием к человеку, чувством стиля, проработанностью драматургии, режиссуры и актерских ролей, сегодня кажется кинематографом, который уже нельзя повторить.
Новый Голливуд – объект данного исследования – стал результатом трансформации не только киноиндустрии, но кинематографической культуры в целом. Если классический Голливуд, основанный на идее Красоты, проработанной культурой еще со времен античности, сумел сложиться в парадигму, то Новый Голливуд, отметивший вхождение культуры в эпоху постмодерна, стал отражением дискретности. Это серьезно повлияло и на общий стиль любого голливудского фильма, который теперь уже и стилем не назовешь, а скорее дизайном, образцом визуальной стратегии, тонущим в общем эклектизме современного голливудского кино. Новый Голливуд стал своего рода зеркалом поликультурности. В отличие от классического, он не демонстрировал внутреннего стремления сложиться в большой художественный проект «фабрики грез», а позиционировал себя на поле борьбы самых разных стратегий идеологического воздействия, отражающих грандиозную циркуляцию корпоративных ценностей.
В этой книге рассказана история становления Нового Голливуда: от истории трансформации индустрии в целом во второй половине XX века до творческих биографий отдельных ключевых фигур Нового Голливуда, на которые американское кино до сих пор ориентируется. Мне было важно взглянуть на Новый Голливуд в самом широком контексте развития культуры, в том числе культуры политической и экономической, которая во второй половине XX века как-то особенно тесно стала ассоциироваться с Голливудом.
Благодарю Илью Мазурова за подготовку иллюстраций к этой книге.
Часть 1. Новый Голливуд в контексте киноистории
Периодизация голливудского кино
Вопрос о том, является ли Новый Голливуд реальностью, которая говорит о радикальных изменениях в американском кино, был поставлен Робертом Брюстейном1 еще в 1959 году. Однако должно было пройти более десяти лет, прежде чем киноведы пришли к общему выводу, что Новый Голливуд утвердился в своих законах. Как критический термин «Новый Голливуд» окончательно вошел в обиход в середине 1970‑х, когда американское кино готовилось вступить в эру блокбастеров и на подходе были такие важные для эпохи хиты, как «Челюсти» (1975) Стивена Спилберга и первые «Звездные войны» (1977) Джорджа Лукаса.
Тем не менее даже сегодня исторические рамки Нового Голливуда представляются полемическими. В этапной книге «Последнее великое американское киношоу. Кино Нового Голливуда в 1970‑е»2 автор вступительной статьи Александр Хорвард обозначил даты Нового Голливуда как 1967–1976. Историк кино точно имел в виду выход двух ключевых для Нового Голливуда фильмов – «Бонни и Клайд» (1967) Артура Пенна и «Таксист» (1976) Мартина Скорсезе, однако тут же оговорился, что «смесь стилей и тем, которые здесь связываются с Новым Голливудом, может быть отнесена и к фильмам, снятым после 1977 года» (то есть после выхода первых «Звездных войн»)3. Для Хорварда важно, что такой фильм, как «Бегущий по лезвию бритвы» (1982) Ридли Скотта, вбирает в себя черты отмеченного периода, хотя уже располагается на границе с другим этапом, который в американской киноведческой литературе часто называется Новый Новый Голливуд4, или Современный Голливуд.
Хорвард не одинок в своих суждениях. Похожим образом думает целая группа американских киноведов, включая Дэвида Томсона5, Питера Бискинда6, Томаса Шатца7, Джастина Уайета8. Кто-то из них все же усматривает черты Нового Голливуда в фильмах более позднего периода, например, в блокбастерах Спилберга, Лукаса и Нолана. Однако, несмотря на отсутствие жесткого консенсуса о периодизации, многие из них могли бы повторить вслед за Ноэлом Кингом, что
Новый Голливуд – это распахнутое окно возможностей, открывшихся с конца 1960‑х по начало 1970‑х в момент появления нового кино, отсылающего к традициям классической голливудской жанровой режиссуры с добавлением стилистических инноваций европейского арт-кино. Понятие «новый» утверждает иную аудиторию, направляющую свои эстетические предпочтения на кино, альтернативно описанное Эндрю Саррисом как кино отчуждения, аномии, анархии и абсурдизма9.
Новый Голливуд – это новое качество кино, которое было продиктовано эпохой наиболее жестоких социальных и политических потрясений в США, охвативших целое поколение и произведших не меньший перелом, чем в эпоху Депрессии. Между убийством Мартина Лютера Кинга в апреле 1968 и уходом в отставку Ричарда Никсона в августе 1974 года американская коллективная душа переживала период интенсивных поисков, связанных с острым конфликтом поколений и борьбой вокруг вопросов расы и гендера. Протесты против войны во Вьетнаме, движение борьбы за гражданские права, волны феминизма дали рождение различным политическим культурам. По замечанию Томаса Эльзессера, высказанному в статье «Американское авторское кино»10, парадокс Нового Голливуда состоял в том, что он, несмотря на желание новизны, продемонстрировал настроение недоверия к нации и элите, возникновение сомнения по поводу «свободы и правосудия для всех», что отражалось в работах целого ряда кинематографистов. Эти работы регистрировали моральное недомогание, что не отменяло их интерес к стилистическим и формальным экспериментам. Они выдвигали на первый план бесцельные, депрессивные, саморазрушительные характеры, а темы фильмов были смелыми и нетрадиционными.
Качественное определение «Новый» подразумевало также приход в киноиндустрию нового поколения режиссеров, выходцев из киношкол и кинокритики. Эта генерация, названная в американской киноведческой литературе movie brats11, начала делать коммерческое американское кино с порывом, который чем-то напоминал и о европейских «новых волнах» 1960‑х. В 1960‑е годы Мартин Скорсезе закончил киношколу в Нью-Йоркском университете, NYU (как впоследствии это сделали Джим Джармуш, Сьюзан Сейдельман, Спайк Ли), Брайан де Пальма и Сара Лоуренс окончили Колумбийский университет, тогда как на западном побережье США Фрэнсис Форд Коппола, Пол Шредер и Джордж Лукас получили дипломы UCLA и USC. Все они воспитывались на кинокритике 1960‑х – статьях Полин Кейл, Эндрю Сарриса и Мэнни Фарбер, испытывали на себе влияние авторов французского журнала «Кайе дю синема», взрастившего «новую волну», вдохновлялись фильмами Бергмана, Феллини, Антониони, Бертолуччи, Трюффо, Годара, Аньес Варда, а также переоценивали американскую киноклассику в свете модной на тот момент по обе стороны океана «политики авторства». Не последнюю роль в формировании movie brats сыграло открытие факультетов кино в американских университетах, где будущие кинематографисты получали самое широкое кинообразование.
Влияние на молодое поколение американских режиссеров «политики авторства», провозглашенной «Кайе дю Синема», а позднее британским журналом «Муви» и американским критиком Эндрю Саррисом, поспособствовало осознанию этими режиссерами роли автора в кино, а значит, и своей собственной роли. Авторство понималось как манифестация персональности, уникального стиля, утверждение собственного голоса. Однако этим влияние не исчерпывалось. Режиссеров Нового Голливуда вдохновлял и американский киноандеграунд через фильмы Кеннета Энгера и Энди Уорхола, вводившие чуждые Голливуду темы, от нетрадиционных форм эротизма и сексуальности до наркотиков и других признаков маргинального образа жизни. Кроме того, огромное влияние на многих оказала деятельность режиссера и продюсера Роджера Кормана и студии American International Pictures, сделавшей ставку на exploitation, то есть на фильмы, акцентирующие внимание на проблемах секса, насилия, меньшинств, перверсивного поведения. Под руководством Роджера Кормана начинали свои карьеры в кино Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Питер Богданович, Монте Хеллман, Джонатан Демме, Джо Данте, Рон Ховард, Джеймс Камерон, актеры-режиссеры Деннис Хоппер, Питер Фонда, Джек Николсон, сценарист Роберт Тауни.
К названным уже режиссерам поколения movie brats можно добавить и такие имена, как Артур Пенн, Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Роберт Олтман, Пол Шредер, Уильям Фридкин, Майк Николс, Хэл Эшби, Джерри Шатцберг, Теренс Малик, Джеймс Тобак, Брайан де Пальма, Вуди Аллен и целый ряд других. Все они абсолютные синефилы. Их желание оставаться Авторами12 даже в жестких законах голливудской системы, безусловно, отличало их от более молодых постановщиков.
Кадр из фильма «Бонни и Клайд». 1967. Режиссер Артур Пенн. Сценаристы Дэвид Ньюман, Роберт Бэнтон, Роберт Тауни. Оператор Барнетт Гуфей
Как уже отмечалось, некоторые американские киноведы склонны считать, что Новый Голливуд зародился еще до выхода фильма «Бонни и Клайд» – со времени «решения о Paramount», то есть с 1948 года, когда после постановления Верховного суда США названная студия была вынуждена продать свои сети кинотеатров и тем самым совершить первый шаг к разрушению «вертикальной интеграции», характеризовавшей структуру классического Голливуда. (Вертикальная интеграция – это совмещение под крышей каждой большой студии трех главных составляющих киноиндустрии: производства-дистрибуции-показа.) В начале 1950‑х свои сети кинотеатров были вынуждены продать и остальные крупные студии. Разведение производства-дистрибуции-показа в разные организации поспособствовало сложению других структур в Голливуде и привело к созданию первых независимых корпораций в 1950‑е годы. Корпорации, в свою очередь, заложили основы для нового «пакетного» производства фильмов, что в итоге привело к разрушению архаичной фордистской модели устройства Голливуда и установлению постфордистской модели.
Это означало, что «пакетное производство» (package production) ввело новые принципы капиталистического производства, которые включали в себя отказ от массового конвейера и переход к маленьким производительным группам, гибкую специализацию, использование новых информационных технологий, переход от команды к коммуникации в процессе организации труда, акцент на различных типах потребителя в противовес фордистскому акценту на социальных классах, а также повышение роли сервиса, значения высококвалифицированных менеджеров, феминизацию рабочей силы и т. д. Естественно, подобные глобальные процессы внутри индустрии, которые более подробно будут описаны в следующих главах, не могли не сказаться на вопросе о периодизации Голливуда.
Этот вопрос волнует многих историков кино. Например, крупнейший исследователь современного американского кино Дуглас Гомери13 предлагает такую версию периодизации: следует признать наличие двух Новых Голливудов, первый приходится на 1960–1970‑е, второй же начинается в 1990‑м, с момента создания Time Warner – первой корпорации-конгломерата, объединившей кинопроизводство и медиабизнес. Важность образования Time Warner состоит в том, что с этого момента прибыль от кинопродукта стала обеспечиваться целым спектром дополнительных услуг, включая тематические парки, музыкальную звукозапись, издательство.
Крушение «вертикальной интеграции» и взрыв независимого «пакетного» производства привели к формированию огромного числа небольших компаний, в том числе обслуживающих кинобизнес, вроде актерских агентств, компаний спецэффектов или компаний, поставляющих провизию на съемочные площадки. Конечно, новые небольшие производственные корпорации поначалу старались копировать пути создания фильмов большими студиями, однако перекраивание всей системы вносило коррективы в их работу. Переход в 1970‑е годы к реализации концепции блокбастеров окончательно утвердил в киноиндустрии торжество постфордистской модели с ее гибко специализированной ориентацией и акцентом на информационные технологии. Впоследствии, чтобы убедиться в силе гибкой специализации, достаточно было посмотреть на длинные титры любого голливудского фильма, чтобы понять, какое число специалистов принимает там участие.
Как бы ни расходились между собой исследователи в вопросах периодизации Голливуда XX века, совершенно очевидно, что, несмотря на экономическую рецессию, пик которой пришелся на 1969 год, период с 1967 по 1976 – это время подъема авторства и перестройки индустрии. Термин «Голливудский Ренессанс», также применяемый в американском киноведении для характеристики этой эпохи, мне представляется крайне удачным. Этот термин был впервые употреблен в журнале «Тайм» за 8 декабря 1967 года в статье о фильме «Бонни и Клайд» под названием «Новое кино: жестокость, секс, искусство»14.
В статье четко указано, что картина Артура Пенна – водораздел в истории американского кино. Она устанавливает новый стиль, новый тренд, формальные и тематические инновации, комбинирует коммерческий успех (сборы в прокате: $23 миллиона) с критической спорностью. «Шок свободы в фильме» – именно так говорили о «Бонни и Клайде» и подводили итог: Голливуд вошел в эпоху Ренессанса – период большого художественного развития, основанного на «новой свободе» и широком эксперименте. Приветствуя фильм, американский критик Полин Кейл писала о «поэзии преступления в американской жизни», о «быстром действии, лаконичном диалоге, чистом жесте» традиционного голливудского развлечения15.
Согласно статье в «Тайм», появление фильмов вроде «Бонни и Клайда» позволило большим студиям открыть двери и чековые книжки инновационно настроенным продюсерам и режиссерам, многие из которых были необычайно молоды, включая, к примеру, тогда 28-летнего Фрэнсиса Форда Копполу. Правда, поработав немного на студии Warner Bros., Коппола загорелся создать в 1969 году независимую студию American Zoetrope, которая основывалась на принципах свободы художников, не желающих быть частью системы Голливуда. Его ближайший друг Джордж Лукас рассказывал о его идее так:
Фрэнсис рассматривал Zoetrope как альтернативу, куда он за гроши мог бы привлечь массу талантливой молодежи ставить картины, надеясь, что хотя бы одна станет хитом <…> Конечно, наши идеи были настолько революционны, что в рамках существующих студий об их реализации не могло быть и речи. Создание Zoetrope ознаменовало исход из Голливуда и демонстративное заявление: «Мы не хотим быть частью Системы. Мы не хотим ставить фильмы по вашим лекалам. Мы хотим делать совершенно иное кино». Для нас самоценны были картины, а не контракты и производство коммерчески выгодной продукции16.
«Бонни и Клайд» был сделан в рамках голливудской системы, но о фильме писали, что он «празднует циничную жесткую человеческую независимость». Эффект от фильма был такой, что он привел к расколу внутри американского критического сообщества. Критик Бослей Кроусер из «Нью-Йорк Таймс» осудил хит (из‑за чего в дальнейшем был вынужден подать в отставку), в то время как молодой критик из журнала «Нью-Йоркер» Полин Кейл приветствовала его, что во многом поспособствовало укреплению ее репутации. Ее статья «Размышления о будущем американского кино» стала хрестоматийной. В ней Кейл писала:
Какими бы различными ни были такие картины, как «Бонни и Клайд», «Выпускник», «Беспечный ездок», «Пять легких пьес», «Джо», «M*A*S*H», «Маленький большой человек», «Полуночный ковбой» и «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», каждая по-своему способствовала возникновению так называемой контркультуры17.
Контркультура – что это такое? Это попытка придумать альтернативные способы бытия, когда экстаз, сродни религиозному, достигается не посредством молитвы, а посредством секса, наркотиков, музыки, кино и других проводников мистического чувства. Вот одна из ярких характеристик контркультуры, данных одним из причастных Уэйном Крамером:
Каждый из нас был влюблен в собственную праведность. Вообще слово «праведный» в то время использовали сплошь и рядом. «Это неправедно, чувак… Нет, это апогей праведности, чувак…» Мы были в курсе, что весь мир – сплошной отстой, и не собирались становиться его частью. Мы хотели альтернативной жизни, а если проще – не вставать рано утром и не переться на работу. Знаешь, все было в стиле «Это отстой, то отстой, обывательщина» или «Это не прикольно». Работать в «Биг бое» – отстой, а играть в группе – прикольно, пойти в дрэг-трип – прикольно, гонять на тачке и пить пиво – тоже прикольно. Все было на уровне подсознания – именно на этом уровне мы и вырабатывали свою политику. Мы стремились придумывать разные способы бытия. Так что нашей политической программой стали дурь, рок-н-ролл и е..ля на улицах18.
Одна из отличительных черт раннего Нового Голливуда – его причастность к контркультуре. И этим период Голливудского Ренессанса разительно отличается как от того, что последовало после выхода первых «Звездных войн», так и от того, что ему предшествовало. Другие черты определил Питер Крамер, когда написал, что новое американское кино, навеянное европейским (прежде всего «новой волной»), характеризовалось «сложным нарративом, выставлением на передний план кинематографических приемов, склонностью к жанровым гибридам, отсутствием запретных тем»19. Это была эпоха, когда аудитория проявляла готовность к экспериментам и в жизни, и на экране. Особенно она готова была пересматривать устоявшиеся нормы морали, демифологизировать прежние идеалы. Наиболее значительным аспектом кино, ориентированного на молодежь, было частое изображение зрелищного насилия, которое лучше всего раскрывало заложенные в фильмах отсутствие иллюзий и антагонизм по отношению к властям предержащим.
В то время как Голливудский Ренессанс резко обращался к американским проблемам, к тем социальным, политическим, культурным процессам, которые имели место в США в 1960–1970‑е годы, более поздняя эпоха блокбастера – это эпоха нового консерватизма и киноаполитичности. Однако энергии, охватившей Новый Голливуд в период Ренессанса, хватило на долгое время. Это время открыло дорогу новым режиссерам, ряд которых снимает до сих пор. Это не означало, что время Ренессанса решило вопрос падения производства в Голливуде (по сравнению с Золотым Веком оно упало более чем в два раза), но эстетические решения оно предложило довольно радикальные. Наиболее выдающиеся фильмы этих лет были работами молодых режиссеров. Голливудский Ренессанс был не только временем новых путей, но и огромной авторской свободы, которая будет снова серьезно ограничена продюсерским диктатом к началу 1980‑х.
Новый Новый Голливуд?
Взрыв цифровых технологий и усиление продюсерского диктата позволяет увидеть кардинальное различие между Голливудским Ренессансом и так называемым Новым Новым Голливудом. Период Голливудского Ренессанса ознаменован коротким взлетом режиссерской свободы, когда большие студии, растерянные происходящими в обществе изменениями, искали возможность выхода к новой молодежной аудитории и давали большую свободу авторам. В этот промежуток времени в Голливуде утвердилась модель director-unite system, когда режиссер имел полный контроль над фильмом, а продюсер уступил ему роль ключевого игрока на поле реализации проекта.
Подобная модель, которая в эпоху классического Голливуда не была доминирующей, безусловно, способствовала укреплению самоощущения режиссеров как авторов. После успеха таких малобюджетных проектов, как «Выпускник» (1967) Майка Николса и «Беспечный ездок» (1969) Денниса Хоппера, топ-менеджеры больших студий осознали, что роль режиссера в продвижении фильма очень высока. Например, успех «Беспечного ездока», принесшего огромную прибыль студии Columbia, позволил производившей его маленькой компании BBS (возглавляемой Бертом Шнейдером, Бобом Рафелсоном и Стивом Блаунером) получить заказ от этой студии на шесть фильмов, в числе которых были, например, «Пять легких пьес» (1970) Боба Рафелсона, «Последний киносеанс» (1971) Питера Богдановича, «Вези, сказал он» (1972) Джека Николсона.
В 1960‑е годы радикально изменилась доля производства фильмов «независимыми», а также осуществлялся расцвет мировой авангардной культуры, которая очень сильно повлияла на кинокультуру в целом. Если в период с 1920‑х по 1950‑е годы около 80% всех американских фильмов производились на голливудских студиях «большой пятерки» (MGM, Paramount, 20 Century Fox, Warner Bros, RKO, осуществлявших не только производство, но также дистрибуцию и прокат фильмов в собственных сетях кинотеатров), а также на «трех маленьких» (Universal, Columbia, United Artists), то к 1966 году те же 80% создавались вне этих голливудских студий20. В свою очередь, голливудские студии не только начали активно заниматься дистрибуцией независимых проектов, но также инвестировать в проекты маленьких независимых студий, тем самым поддерживая кино нового поколения. Можно сказать, что Новый Голливуд активно складывался под воздействием изменений в секторе независимого кино, равно как и оказывал влияние на эти изменения. Независимый лагерь не только открыл для Голливуда поколение movie brats, но и продолжает поставлять для него творческие кадры и новые идеи до сих пор.
Кадр из фильма «Беспечный ездок». 1969. Режиссер Деннис Хоппер. Сценаристы Деннис Хоппер, Питер Фонда, Терри Саузерн. Операторы Ласло Ковач, Байрд Брэнт
Movie brats не просто актуализировали дух романтической, индивидуалистской идеологии, но адаптировали «политику авторства» для собственных целей в условиях голливудской студийной системы. Авторство стало маркетинговым средством, которое позволяло новым путем маркировать фильмы, отличающиеся от продукции больших студий. В одной из своих работ американский историк кино Дерек Нистром21 хорошо показал, как «политика авторства» стала занимать ключевое место в организации производства в 1960–1970‑е годы, поскольку служила утверждению прерогатив молодых представителей профессионально-административного класса в противовес как студиям, так и кинопрофсоюзам. Авторство стало своего рода новым видом стратегии класса PMC – профессионалов умственного труда22, которые продают свой интеллектуальный труд и в массе репродуцируют капиталистическую культуру и классовые отношения.
Система поддерживалась работой голливудских профсоюзов и гильдий, которые активно тормозили вхождение нового поколения в индустрию, замораживая большинство позиций и социальных лифтов для молодых кинематографистов. Голливуд называли своего рода «полицейским участком, патрулируемым профсоюзами». Работа предлагалась в первую очередь тем, кто состоит в профсоюзе или гильдии, а затем уже (в случае отказа) остальным. Movie brats отстаивали свою автономию тем, что входили в индустрию, минуя профсоюзы и гильдии. В этом смысле многим новичкам очень помогла студия Роджера Кормана – одна из немногих киноорганизаций, предлагавшая молодым работу в кино без заключения ортодоксальных контрактов. Были и более экстремальные случаи дебютов. К примеру, Брайан де Пальма сделал свой первый фильм «Убийство а ля Мод» (1968) «тайно», поскольку получил строгое предупреждение о том, что не имеет право делать кино, минуя профсоюзы и гильдии.
Естественно, подобная ситуация вызывала у большинства молодых выпускников киношкол чувство разочарования не только существующей голливудской системой, но и собственным социальным классом. Внутри молодого поколения выделились «новые левые», перешедшие к атаке на университеты, которые являлись центральными институтами формирования профессионального среднего класса и интеллектуальной элиты. Эти процессы хорошо отразило молодежное кино, вроде «Клубничного заявления» (1970) Стюарта Хэгмана, «Революция за минуту» (1970) Стэнли Крамера, «Напрямик» (1970) Ричарда Раша. Эти фильмы пользовались успехом у молодой аудитории. В свою очередь, кассовый успех нового кино к середине 1970‑х сформировал в Голливуде своеобразный «культ молодых», что в итоге позволило доверить режиссерам поколения movie brats большие бюджеты, приведшие к созданию блокбастеров, вроде «Крестного отца», «Челюстей», «Звездных войн». Как говорил о своем поколении Джордж Лукас,
Мы парни, которые находят золото, поскольку люди из отдела исполнительных продюсеров не могут это сделать. Студии теперь корпорации, а люди, которые ими управляют, – бюрократы. Они знают о том, как делать кино, столько же, сколько банкиры… Они ходят на вечеринки, знакомятся с людьми, которые знают других людей. Но сила находится у нас – то есть у тех, кто действительно знает, как делать кино23.
Дальнейшее развитие концепции блокбастеров привело к утверждению Нового Нового Голливуда, который отменил многие завоевания предшествующего времени. В эпоху Нового Нового Голливуда не только утратила актуальность выделяющая режиссера модель director-unite system, но также была переосмыслена модель producer-unite system, в которой продюсер является ключевым творческим игроком на поле кинопроизводства, а режиссер – подчиненным субъектом наряду с остальными участниками творческой команды. В силу вступил закон так называемого «научного менеджмента» (scientific management), рассматривающего производство-дистрибуцию-показ фильма как сложную систему креатива, маркетинга, пиара, мерчендайзинга.
Опознавательным моментом Нового Нового Голливуда является внедрение в производство цифровых технологий, которые складывали основу кинопроизводства начиная с середины 1980‑х. Их появлению сопутствовало развитие целого ряда экономических, административных, демографических и глобальных факторов, которые привели Голливуд к состоянию гигантской всемирной машины развлечений в виде блокбастеров. Время глобализации, как замечает Тим Балио,
диктовало наличие топ-игроков в бизнесе, которые развивали долговременные стратегии по выстраиванию сильной базы операций внутри страны и одновременно отстаивали главное присутствие на всех всемирно важных рынках24.
Во многом развитие Нового Нового Голливуда было предрешено подъемом видео, которое с 1980‑х стало гигантским бизнесом, а также развитием counter cinema. Если в 1980‑м только две из сотни семей имели видеомагнитофон, то спустя десять лет видеомагнитофонами обзавелись уже две трети американских семей. Развитие домашнего видео автоматически повысило запрос на производство фильмов, которое прыгнуло с 350 картин в 1983 году до 600 в 1988‑м25. Это усилило сектор «инди» – независимых от больших голливудских корпораций производителей фильмов. В то время как мэйджоры (студии-корпорации) развивали не количество фильмов, а иное их качество, создавая ультравысокобюджетные картины (количество фильмов в этот период колебалось от 70 до 80 в год), «мини-мэйджоры», вроде студий Orion Pictures, Cannon Film, Dino De Laurentis Entertainment, а также «независимые», такие как Atlantic Release, Carolco, New World, Hemdale, Troma, Westron, New Line Cinema и др., производили остальную кинопродукцию.
Они делали ставку прежде всего на скромные по бюджетам и спецэффектам картины, стараясь окупить затраты через предпродажи прав на коммерческое кабельное телевидение и домашнее видео. Это не означало, что «независимые» не делали исключений для высокобюджетных фильмов. К примеру, именно «независимая» компания Carolco установила новые стандарты высокобюджетного кино, произведя «Терминатор: судный день» (1991) с бюджетом в 100 миллионов, собравший в национальном прокате 204 миллиона, а в иностранном – 310 миллионов долларов. Этот фильм, содержащий яркий концепт, суперзвезду Арнольда Шварценеггера, визуальные и спецэффекты, уменьшил риски, поскольку сумел соответствовать нескольким факторам: 1) конституировал себя как медиасобытие; 2) обеспечил себе очень хороший промоушн; 3) сделал ставку на прибыли через видео и парки развлечений; 4) обеспечил себе прибыли в иностранном прокате.
Даже Великая рецессия, начавшаяся в США в 2008 году, и последовавший за ней экономический кризис не смогли остановить развитие независимого сектора кино, хотя и сильно ударили по нему. К примеру, в 2011 году лидером «независимых» стала производственная и дистрибуторская компания The Weinstein Co, главным хитом которой был британский фильм «Король говорит», получивший премию «Оскар» за лучший фильм 2010 года. Только обвинения в сексуальных домогательствах в октябре 2017 года и дальнейший арест Харви Вайнштейна, по сути, приостановил работу компании. Но это не единственный пример влиятельности инди-сектора на общую голливудскую ситуацию.
Среди других лидеров, занимавшихся дистрибуцией независимых фильмов, значатся компания Focus Features, создавшая другой хит оскаровской гонки того же года «Детки в порядке» (2010), Fox Searchlight, ответственная за «Черного лебедя» (2010) и «Древо жизни» (2011), A 24 – за «Лунный свет» (2016), «Всё везде и сразу» (2022) и другие фильмы. Все эти картины и компании – часть огромного поля, которое называется Индивуд, то есть пространство встречи Голливуда, «независимых» и авангардного кино. Индивуд – термин Джеффа Кинга26 – это важная стратегия существования современного американского кино, зародившаяся с утверждением Нового Голливуда. И ее влиятельность с каждым годом только усиливается, в том числе благодаря вкладу фестиваля и института Sundance. Индивуд диктует моду в американском кино благодаря победам фильмов в соревновании за «Оскар», влияет на систему звезд, равно как и на рейтинг американских режиссеров, сценаристов, продюсеров, художников и т. д.
Новому Новому Голливуду свойственна разнообразная и гибкая дистрибуция – театральный прокат, DVD, телевидение, стриминги, компьютерные игры, книги, различные сопутствующие товары. Другая его черта – затраты огромных средств на рекламную раскрутку фильмов. Эти затраты растут год от года. Если для «Челюстей» потребовалось вложить 12 миллионов долларов на рекламную раскрутку (и примерно столько тратили в 1980‑е), то в 1990‑е средняя цифра промоушна составляла уже 35 миллионов. В 2000‑м на рекламную раскрутку фильма «Угнать за 60 секунд» было потрачено уже $67,4 миллиона. И цифры затрат на промоушн год от года растут.
Рост затрат на производство и рекламную раскрутку автоматически снижает шансы фильмов окупиться в прокате. По сути, Новый Новый Голливуд предложил совершенно иную стратегию существования кинобизнеса: он выстраивался, основываясь на изначальной неокупаемости фильмов в театральном прокате, а предполагал переформатирование идеи в иные медийные формы, а также в консюмеристскую культуру, поддерживающую развитие бизнеса самых разных форм. Допандемийные блокбастеры в массе своей стали тривиальным поводом для сбыта потребителю попкорна и кока-колы, которые и приносят не меньшую прибыль современным кинотеатрам. Рентабельность продажи попкорна в кинотеатрах превышает 80%27. Как говорили владельцы кинотеатров: «Главное – побольше соли!» (имея в виду соль для попкорна, вызывающую у зрителей желание утолить жажду дополнительным стаканом кока-колы).
Допандемийная посещаемость американских кинотеатров составляет в среднем 30 миллионов человек в неделю, то есть 10% населения США. Для сравнения: в 1929 году эта цифра составляла 95 миллионов человек. В эпоху «вертикальной интеграции», когда сети кинотеатров принадлежали самим студиям, возврат денег, потраченных на производство, при такой огромной посещаемости лежал в основе кинобизнеса, что позволяло создателям фильмов думать не только о прибыли, но и об искусстве. В наши дни обеспечить возврат средств, затраченных на производство, рекламную раскрутку и печать копий, можно только в случае появления «фильмов-событий», вроде «Аватара» (2009), чьи суперсборы в $2,7 миллиарда смогли переломить изначально провальную ситуацию.
Эта ситуация хорошо показана в книге «Экономика Голливуда», автор которой Эдвард Эпштейн пишет буквально следующее о фильме с участием Анджелины Джоли и Николаса Кейджа «Угнать за 60 секунд» (2000):
Из $242 млн, полученных от продажи билетов, кинотеатры удержали $139,8 млн, то есть почти 60%. Хотя компания Buena Vista, распространяющая продукцию Disney’s, и является одним из самых влиятельных дистрибуторов в Голливуде, она получила лишь $102,2 млн, или около 40% всех мировых прокатных сборов. Из этой суммы были вычтены расходы на дистрибуцию в сумме $90,6 млн, куда вошли затраты на рекламу с целью привлечения подростков всего мира в кинотеатры – $67,4 млн, производство прокатных копий – $13 млн и оплата страховки, доставки, пошлинных сборов, комиссий банка и местных налогов – $10,2 млн. В итоге скорректированный валовый доход стал равен $11,6 млн. Из этой суммы самые сильные игроки, включая компанию Buena Vista, которой полагалось 30% в оплату за услуги дистрибуции, Николас Кейдж и Брукхаймер забрали себе еще $3,4 млн. Таким образом, после выхода премьеры в кинотеатрах фильм с бюджетом $103,3 млн принес $95 млн убытка28.
В 1960–1970‑е и даже в 1980‑е подобную ситуацию невозможно было себе помыслить. Еще в период становления Нового Голливуда большие цифры кинопроката гарантировали прибыль их создателям. Ситуацию улучшало также то обстоятельство, что поколение movie brats изначально не гналось за большими бюджетами фильмов, делая ставку на актуальную проблематику, проработку сценариев и характеров, реализацию недорогих жанровых формул. Однако Новый Голливуд и породил блокбастеры слоноподобных бюджетов, сложных компьютерных спецэффектов, что привело к маргинализации актуальных тем, вытеснение их на территорию кино «независимых». Именно потому, что существующая модель кинобизнеса сложилась в ходе эволюции Нового Голливуда, до сих пор есть расхождения у киноведов о том, стоит ли вообще употреблять термин Новый Новый Голливуд.
Например, в программной книге Джеффа Кинга «Кино Нового Голливуда. Введение»29 этап американского кино после первых «Звездных войн» также трактуется как Новый Голливуд, но с дополнением «Версия 2: Блокбастер и Корпоративный Голливуд», в то время как предшествующий ему период – как «Новый Голливуд. Версия 1: Голливудский Ренессанс». Джефф Кинг продолжает отмеченную ранее линию Дугласа Гомери о существовании двух Новых Голливудов и пытается доказать, что, несмотря на переход на новую концепцию блокбастера, все равно можно говорить и об актуальности «политики авторства», равно как и о новом витке развития старых жанровых формул. Конечно, и Стивен Спилберг, и Джордж Лукас, и Питер Джексон, и Сэм Рейми, и Кристофер Нолан, и другие снимают кино, сориентированное на жанры, которые хоть и подверглись заметной трансформации и обновлению, но все же не утратили черты первоначальных формул, сформировавшихся в классическом Голливуде. Однако проблема состоит в том, что своими «Челюстями» и «Звездными войнами» Спилберг и Лукас вернули Голливуд к новому освоению жанрового консерватизма, отказавшись от тех экспериментальных форм, которые предлагал кинематограф периода Голливудского Ренессанса.
Кадр из фильма «Челюсти». 1975. Режиссер Стивен Спилберг. Сценаристы Питер Бенчли, Карл Готтлиб. Оператор Билл Батлер
То, что многие американские киноведы до сих пор относили к отличительной особенности периода с 1967 по 1976 годы, Кингом рассматривается и в рамках более позднего этапа развития Голливуда. Мне такой ракурс кажется интересным хотя бы потому, что блокбастеры часто нивелируют идею авторства как персонального видения в пользу идеи «корпоративного авторства». К аргументации Кинга придется обязательно обратиться в главе о современном этапе развития Нового Голливуда – эпохе конгломератов.
Период после первых «Звездных войн» вряд ли состоятельно считать эпохой Голливудского Ренессанса, поскольку он повернул Новый Голливуд в сторону окончательного утверждения концепции блокбастера, основанной на так называемой предпродаваемости фильма, гигантских бюджетах и новейшем качестве спецэффектов. Конечно, некоторые американские режиссеры, воспитанные в духе авторской свободы, будут изыскивать возможности контролировать свой фильм и на протяжении 1980–1990‑х годов, к примеру, через расширение своих полномочий до продюсерских или сценаристских (здесь очень хорошими примерами могут служить Фрэнсис Коппола или Стивен Спилберг), однако в измененных условиях индустрии сохранить полный контроль над проектом для многих стало практически невозможно. Как альтернатива – осталась возможность ухода в инди-сектор, развивающийся в Америке параллельно с развитием Голливуда. Так, например, Дэвид Линч, сделав в Голливуде один высокобюджетный блокбастер «Дюна» (1984), снова ушел в малобюджетное инди-кино, а Брайан де Пальма – дитя Нового Голливуда, перешедший в 1990‑е на выпуск блокбастеров вроде «Миссия: невыполнима» (1996), в результате уехал в Европу, где снял почти что артхаусное кино, вроде «Роковой женщины» (2002) или «Без цензуры» (2007).
Время конгломератов (я предпочитаю свое определение этапу голливудского развития рубежа XX–XXI веков) потребовало отказа от многих завоеваний предшествующего периода Нового Голливуда, и прежде всего от сложных проблемных высказываний, которые все больше стали отдаваться на откуп независимому кино, или Индивуду. Современный Голливуд, как заметил о нем Джон Белтон, – это «провал нового»: он стал «стилистически молодым и изобретательным, но политически консервативным», построенным на «невозможности сказать что-нибудь такое, что еще не было сказано. Аутентичное выражение идей, которые имели место в прошлом, сегодня замещается цитатами и аллюзиями аутентичного выражения»30. Я бы назвала его политически корректным, идеологически инклюзивным и повесточным.
Кроме того, Голливуд эпохи конгломератов всем своим развитием подчеркивает тот факт, что мы уже приучены к постоянно меняющимся технологиям. К примеру, внедрение 3D-технологий воспринималось зрителями как что-то совершенно логичное, в отличие от той революции в восприятии, которая сопровождала внедрение звука или широкоформатного кино. Развитие интернета и сетевых технологий вписало кино в совершенно новую медиаэкосистему, в которой любой кусочек контента может быть доступен в любое время и в любой точке планеты. Скорость интернета стабильно увеличивается, что означает, что увеличивается и скорость потребления кинозрелищ в виде HD-видео, Blu-ray и других форматов. Это же обстоятельство вносит свои заметные коррективы в понятие «авторское право», которое сегодня уже перестает рассматриваться как нечто непоколебимое. Не меньшие метаморфозы происходят и с понятием «авторство», когда, к примеру, любой пользователь YouTube может спокойно разбить любой фильм на фрагменты, чтобы выложить его в бесплатное пользование в обход желания любого режиссера.
Интернет радикально поменял форму дистрибуции фильма, дав возможность потребителям смотреть его, когда захочется. В новых технологических условиях старая медиаиндустрия как «фабрика» взлетела в воздух, что моментально отразилось на показателях потребления видео в самых разных странах.
В большинстве стран показатели телесмотрения начали значительно снижаться, уровень продаж DVD на Западе стабильно низок, а в странах Азии упал практически до нуля, вырос уровень пиратства, стало труднее заниматься дистрибуцией в рамках конкретного региона и ограничивать ее определенным временным периодом, —
отметил Эфе Чакарэль, основатель портала Mubi (онлайн-синематеки, распространяющей лучшее классическое и современное артхаусное кино)31.
Повышение уровня пиратства, а также распространение стриминговых сервисов и интернет-платформ все активнее заставляет задуматься производителей фильмов и их дистрибуторов о том, что существующему режиму бытования кино придется меняться в соответствии с фактическим поведением пользователей. К примеру, результатом этого стало появление бесплатных услуг показа кино в сети в обмен на обязательный просмотр зрителями рекламных роликов перед фильмом или система онлайн-подписки. Развитие социальных сетей меняет представления о промоутировании и кинопрограммировании. Сегодня для раскрутки кино Facebook, Twitter, Instagram32 значат не меньше, чем рекламные ролики перед сеансами. Медиасфера становится все более фрагментированной, и создателям фильмов и дистрибуторам приходится больше полагаться на культуру выбора своего потребителя, которая, в свою очередь, воспитывается всей мощью этой медиасферы. Естественно, что к новым условиям приходится подстраиваться и Голливуду. В этом смысле о нем действительно можно сказать, что он стал Новым Новым.
От классической парадигмы к новым стратегиям
Новый Голливуд сменил голливудское «классическое кино». Неслучайно исследователи называют его постклассическим и постмодернистским. Так, например, думает Мюррей Смит в работе «Тезисы о философии Голливудской истории»33, выстроивший свою аргументацию на работах целого ряда исследователей, включая Андре Базена, Кристин Томпсон, Дженнет Стайгер, Дэвида Бордуэлла и др. Смит основывается на общепринятом представлении о классическом Голливуде как о выразителе стабильности и регулирования. Большие студии с их вертикальной интеграцией демонстрировали эти две важные составляющие через стабильность жанровых формул, определенную продолжительность фильмов, систему звезд, создание системы мотивировок, которые лежали в основе нарративов, и т. д.
В книге «Новый Голливуд: Что сделало кино с новой свободой 70‑х» Джеймс Бернандони так и говорит, что с Новым Голливудом произошла «потеря чего-то реального и важного, а точнее комплекса „общего языка“ классического Голливуда, который отличался тем, что консолидировал эстетические черты кино 40‑х, 50‑х»34. Бернандони принадлежит к тому ответвлению исследователей Голливуда, которое ведет свое начало с 1960‑х годов и обожествляет развитие американского кино в его ранний период. Это ответвление критики, пережившее свой расцвет в 1980‑е годы, трактовало Новый Голливуд как своего рода «смерть кино», определяя его режиссеров как «потерянное поколение» и тех, кто «убил Голливуд». Второе ответвление (чуть более позднее, выросшее в атмосфере 1970‑х) подчеркивает значение Голливудского Ренессанса, сопровождавшегося общим ощущением, которое сформулировал постановщик и сценарист Джон Милиус, когда сказал, что «теперь сила в руках режиссеров». И ежели первые никогда не питали большого почтения к поколению movie brats, представители вторых рассматривали свое время как бурный период производства новых стратегий.
Понятие «классического» американского кино происходило из статей Андре Базена – отца французской «новой волны» и основателя журнала «Кайе дю Синема». В дальнейшем это понятие активно циркулировало в 1970‑е годы в таких журналах, как «Монограм» и «Муви», ставшими, ко всему прочему, главными площадками дебатов о Новом Голливуде. Однако развернутым теоретическим исследованием классический Голливуд обзавелся в 1985 году благодаря выходу фундаментальной книги Дэвида Бордуэлла, Дженет Стайгер и Кристин Томпсон «Классическое голливудское кино»35. Бордуэлл, Стайгер и Томпсон говорили о классическом Голливуде как об определенной модели кинопрактики, создающей эстетику декора, пропорций, формальной гармонии и поддерживаемой определенной студийной системой. Фильмы классического Голливуда – это фильмы особого эстетического качества: элегантности, командного мастерства, подчиненного правилам, а также особой исторической функции, определяемой ролью Голливуда как законодателя стиля мирового мейнстрима.
Бордуэлл, Стайгер и Томпсон писали, что голливудский классический нарратив строился на системе причинностей и мотиваций и основывался на понимании необходимости доминанты, которая создает иерархию темпоральной и пространственной системы фильма. Доминантами часто выступают жанры фильма, которые в эпоху классического Голливуда обрели свои формульные черты. Но доминантой мог стать и стиль – как это, к примеру, видно в случае нуара. Ссылаясь на работы Романа Якобсона, исследователи указывали, что доминанта может рассматриваться как своего рода фокус-компонент искусства, своеобразное правило, которое определяет и трансформирует оставшиеся компоненты и гарантирует целостность структуры. Эта структурная целостность поддерживается наличием психологических, социальных и исторических причин действия персонажей, которые в классическом кино выглядят мотивированными, целеустремленными в отличие от спонтанных героев Нового Голливуда. К примеру, герои любимца Америки Джона Уэйна еще со времен «Дилижанса» (1939) Джона Форда всегда точно знали свои цели, и эта решительность не была поколеблена даже реформаторским вестерном 1956 года «Искатели», в котором главный герой хоть и менял свою цель под воздействием молодого напарника, но все же не становился спонтанной личностью. Наличие определенных черт характера в классическом Голливуде было связано с общей «системой звезд»: если в фильме играет Марлен Дитрих, то она должна петь, если Кэри Грант, то он должен развлекаться, если Мэрилин Монро, то она должна излучать сексуальную энергию соблазнения. Работало то, что называется «точным попаданием» звезды в роль. Выбор звезды определял и черты персонажа, и структуру нарратива.
Целеустремленные протагонисты классического Голливуда отражают американский индивидуализм и предприимчивость. Но вместе с этим нетрудно заметить, что фильмы классического Голливуда предлагают как минимум две линии действия – гетеросексуальной романтической любви и принципиальной линии действия, часто связанной с жанровой формулой (бизнес, шпионство, освоение фронтира, спорт, политика, криминал, шоу-бизнес и т. д.). Например, все в том же «Дилижансе» линия путешествия героев по территории, заселенной апачами, соперничает с романтической линией отношений между ковбоем Джона Уэйна и проституткой Клер Трэвор. И еще неизвестно, за какой из них увлекательнее следить. Равно как в «Касабланке» (1942) внимание зрителей разрывается между романтической парой Ингрид Бергман – Хэмфри Богарт и антифашистской деятельностью героя Пола Хенрейда. В своем продвижении романтических отношений между героями классические голливудские фильмы отсылают к рыцарскому роману, американской мелодраме, буржуазному роману. Однако, несмотря на наличие разных линий действия, эти фильмы существуют по конвенциям «хорошо сделанной пьесы»: формула, экспозиция, конфликт, усложнение, кризис, развязка. Все это и работает на «групповой стиль».
Классический Голливуд сумел стать своего рода парадигмой – прекрасным образцом, имеющим свои внутренние законы. Парадигма есть ядро художественной культуры, совокупность ценностей и практик и определенный взгляд на них. Я исхожу не только из понятия парадигмы, известного еще с античности, но также из концепции, предъявленной в книге американского философа и методолога науки Томаса Куна «Структура научных революций»36. Говоря о развитии науки, Кун определял парадигму как своего рода модель постановки научных проблем и их решений. Парадигма предполагает общепринятые примеры практики научных исследований, включающие закон, теорию, их практическое применение и необходимое оборудование, в совокупности способствующие формированию традиции научных исследований.
Концепция смены парадигм позволяет поставить ряд ключевых вопросов, которые можно считать актуальными не только для науки, но и для культуры, которая здесь понимается как совокупность традиций, обычаев, нравов, ритуалов, ценностей. Среди этих вопросов: 1) в каком смысле общепринятая парадигма является основной единицей измерения для всех изучающих процесс развития культуры? 2) какого рода идеи овладевают временем? 3) какого рода интеллектуальные возможности и стратегии доступны для людей в данный период? 4) какой тип лексики и терминологии известен и привлекателен в данную эпоху? Голливуд – это часть культуры, и эти вопросы для него также применимы.
Парадигма задает определенную игру по правилам, в том числе и в культуре. Вопрос о смене парадигм актуализирует целый ряд последующих вопросов: 1) как возникает новая парадигма? 2) что представляют собой ее созидатели? 3) кто становится первыми последователями созидателей парадигмы и почему? 4) как смена парадигмы сказывается на тех, кого она затрагивает; кто и как ей сопротивляется?
Со всеми этими вопросами можно столкнуться в ходе исследования истории развития Голливуда. И это как раз подтверждает книга Бордуэлла, Стайгер и Томпсон. В ней исследователи доказывают, что в кино смена парадигм всегда связана с изменением группового стиля, который, в свою очередь, не является чем-то монолитным, а представляет собой комплексную систему специфических сил в их динамическом взаимодействии:
Групповой стиль устанавливает то, что в семиологии называют парадигмой – набором элементов, которые могут, согласно правилам, заменять один другой. Размышление о классическом стиле как о парадигме помогает нам сохранять чувство выбора, открытого режиссерам традицией. В то же время стиль напоминает об унифицированной системе, поскольку парадигма предлагает непременные альтернативы. Если ты классический режиссер, ты не можешь осветить сцену так, как будто бы включаешь камеру обскура (Годар, «Веселая наука»), ты не можешь панорамировать или использовать тележку без ряда нарративных и характерных мотиваций, ты не можешь сделать каждый кадр на секунду длиннее (как в авангардных работах). И альтернативы, и ограничения стиля становятся очевидными, если мы думаем о парадигме как о созданных функциональных эквивалентах: монтаж может заменить движение, цвет может заменить освещение, чтобы лучше выявить ценностный смысл, поскольку каждый прием играет заданную роль. Основные принципы управляют не только элементами парадигмы, но также способами, согласно которым эти элементы могут функционировать37.
На практике конец классической парадигмы в 1960‑е годы ознаменовался появлением нового поколения режиссеров, которые кардинально изменили характер американского кино. К примеру, никогда ранее критики не говорили о «киносенсации» и «ультражестокости», однако это стало возможным благодаря фильмам Артура Пенна, Сэма Пекинпа, Мартина Скорсезе и других представителей Нового Голливуда. С этим поколением радикально сменился и способ производства – то есть весь контекст, который представляет собой определенную интегральную систему, включающую в себя не только кинематографистов, но также правила, фильмы, технологии, документы, институции, рабочий процесс и теоретические концепции.
Что стало с классическим стилем в эпоху распада студийной системы? Бордуэлл, Стайгер и Томпсон утверждают, что с Новым Голливудом классический стиль не прекратил существование, а стал, начиная с 1960‑х годов, сопротивляться системе package production, а также более позднему процессу конгломерации, характерному для Голливуда с конца 1980‑х. В заключительной части своей книги они высказывают мнение, что классический голливудский стиль, начиная с 1960‑х, начинает демонстрировать способность наращивать себя через вариации и ассимиляции. Новый Голливуд ими объясняется как процесс стилистической ассимиляции. «Старый Голливуд, – пишут авторы, – инкорпорировал и рефункционализировал приемы немецкого экспрессионизма и советского монтажа… Новый Голливуд выборочно заимствует из мирового арткино»38. Американские исследователи не учли влияние авангардной кинокультуры 1960‑х годов на весь мировой художественный процесс, который привел к радикальным изменениям всех сфер жизни.
В свою очередь, ряд других американских авторов выдвигает иную концепцию судьбы «классического» кино, говоря, что классический стиль уступил место постмодерну. Тот же Мюррей Смит утверждает, что классический период с Новым Голливудом закончился, причем ссылается на Андре Базена, который писал о том, что еще в 1940‑е годы классицизм Голливуда начинает сдавать позиции кинематографическому «барокко» – кинематографу большего самосознания и стилизации. На практике получается, что на смену вестерну, вроде «Дилижанса» Джона Форда, приходит «сверхвестерн», вроде «Дуэли под солнцем» (1946) и «Ровно в полдень» (1952)39. Как пишет Базен в статье «Эволюция вестерна»,
Сверхвестерн – это вестерн, который стыдится быть только самим собой и пытается оправдать свое существование каким-нибудь дополнительным фактором – эстетического, социологического, морального, психологического, политического или эротического порядка…40
Как уже отмечалось, Андре Базен был первым, кто установил взгляд на американское кино как «классическое искусство», причем как на артистическую практику, достойную серьезного внимания. В то же время он практически с самого начала отверг ограничения, которые правила классицизма налагали на режиссера, особенно в более «реалистической» практике, которую он всячески поддерживал, – через переход к долгому плану, глубокофокусной съемке. Иными словами, Базен одновременно восхищался классическим Голливудом и критиковал его.
В своем наиболее влиятельном эссе «Эволюция киноязыка», опубликованном в журнале «Кайе дю Синема», Базен предложил свою периодизацию истории кино. Он писал, что, несмотря на разницу между немым и звуковым кино, годы с 1920 по 1939 можно считать унифицированным периодом, характеризуемым общемировым распространением общих форм кинематографического языка:
С 1930 по 1940 год во всем мире под влиянием главным образом американских фильмов сложилось известное единство выразительных средств киноязыка. Пять или шесть основных жанров, одержав триумфальную победу в Голливуде, утверждают свое непререкаемое преимущество: американская комедия («Мистер Дидс едет в город»), бурлеск (братья Маркс), музыкальный фильм с танцами и мюзик-холлом (Фред Астер и Джинджер Роджерс, «Безумства Зигфельда»), полицейский и гангстерский фильм («Лицо со шрамом», «Я – беглый каторжник», «Осведомитель»), психологическая и бытовая драма («Тупик», «Иезавель»), фантастический фильм и гиньоль («Доктор Джекил и мистер Хайд», «Невидимка», «Франкенштейн»), вестерн («Дилижанс»)41.
Базен рассматривал классичность киноискусства по двум составляющим: в отношении содержания – где сложились основные жанры с хорошо разработанными правилами, способные нравиться массовой аудитории, равно как и культурной элите, и в отношении формы – в операторском и режиссерском решении фильма, – где выработались отчетливые стили, соответствующие теме, а между изображением и звуком было достигнуто полное единство. В Голливуде режиссеры вроде Орсона Уэллса и Уильяма Уайлера участвовали в обновлении реализма в повествовании. Это «обновление» современные исследователи Голливуда Томас Эльзессер и Уоррен Букланд трактуют как маньеризм внутри классицизма, считая его проводниками таких режиссеров, как Орсон Уэллс, Кинг Видор, Джозеф фон Штернберг и Винсенте Миннелли42. Однако, как точно подмечает в своей анализирующей теорию Базена статье «Постклассический Голливуд» Питер Крамер, эти и другие режиссеры 1940‑х годов, восстанавливая реалистическую традицию Штрогейма и Мурнау, «почти полностью забытую с 1930 по 1940 годы», позволяют говорить о новой эстетике 1940‑х, «которая может быть названа „постклассической“»43.
Крамер тоже опирается на Базена, указавшего на то, что эти режиссеры 1940‑х годов не просто
продолжают установившуюся традицию, но открывают в ней секрет реалистического обновления, получая возможность обрести реальное время, реальную длительность события, тогда как классическая раскадровка подменяла реальное время мысленным и абстрактным временем44.
В качестве примеров Крамер приводит не только картины Уэллса и Уайлера, но и самый «американский» из жанров – базеновский «сверхвестерн». Крамер делает важный вывод: еще на материале 1940‑х годов Базен представлял ситуацию «постклассического» кино, и это «постклассическое» кино можно описать как
нечистое, менее строгое, гибкое кино, характеризуемое сосуществованием противоречивых эстетических стратегий (классического монтажа, экспрессионизма, реализма) скорее, чем строгой и исключительной приверженностью протяженной системе; расширением, преувеличением, склонностью к игре и смешением жанров, нежели жанровой чистотой; привлечением противоречивых, сложных тем, нежели более конвенциональными жанровыми предпочтениями45.
С 1972 года, с подачи Лоуренса Аллоуэя, также основывавшегося на базеновской формуле, некоторые американские теоретики кино начинают рассматривать зарождение «постклассического» кино на материале послевоенного голливудского кинематографа. Этот период голливудского кино называют иногда «переходным» периодом, иногда периодом «новой зрелости», основываясь на том, что Голливуд этого времени производит довольно много «квазидокументальных», проблемных картин, вроде фильмов Элиа Казана или Жюля Дассена. Эта тенденция усиливается также тем, что в 1950‑е годы американское кино активно меняет концепцию своего героя: вместо мужественного, активного, действенного стоика, вроде Джона Уэйна или Гари Купера, экранное пространство начинают заселять невротичные, рефлексирующие герои, типа героев Монтгомери Клифта, Марлона Брандо или Джеймса Дина, выражающие «бунт молодых». Паркер Тайлер назвал этих героев «природно-инфантильным типом»46 – интуитивным, недисциплинированным. Полин Кейл, в свою очередь, заметила, что такой тип героя способен лучше провоцировать «жестокую реакцию зрителя». Он является полной противоположностью героям прошлого тем, что совершенно не отвечает за свои действия: сумасшедший ребенок, в котором все намешано, становится романтическим героем, трактуемым как инфантильный герой47. Самый показательный пример – это «Бунтарь без причины» (1955) Николаса Рея. Название «Бунтарь без причины» говорит само за себя: Николас Рей не выстраивает причинно-следственной цепочки неприятия героем Джеймса Дина ценностей старшего поколения, а также мира своих сверстников. Причина не объясняется и как будто бы разлита в воздухе 1950‑х. Ее рационализация и определение мотиваций – это заслуга революционных 1960‑х годов.
Кадр из фильма «Бунтарь без причины». Режиссер Николас Рей. Сценаристы Стюарт Стерн, Ирвинг Шульман, Николас Рей. Оператор Эрнст Халлер
В свою очередь, возражая тенденции рассматривать кино 1950‑х как «постклассическое», Бордуэлл, Стайгер и Томпсон утверждают, что в 1940‑е и 1950‑е годы происходит интенсификация тем и формальных возможностей, установленных в 1930‑е. Они-то и утверждают правила той классической нарративной структуры, которая ассоциируется с 1930–1940‑ми годами и оказывает сопротивление в рамках последующего кино. В своем утверждении исследователи не одиноки. Например, Мэнни Фарбер называет эту классическую нарративную структуру не иначе как «традиционной голливудской добродетелью развлекательного сторителлинга»48. Хотя очевидно, что в 1950‑е годы классический нарратив подвергся серьезной деформации. Это видно уже по тому, что голливудское кино 1950‑х активно дифференцирует аудиторию: «нервные бунтари» явно апеллируют к молодой аудитории, социальное кино Элиа Казана нацелено на образованную аудиторию, тогда как широкоэкранные библейские постановки больших студий, вроде «Багряницы» (1953) Генри Костера и «Десяти заповедей» (1956) Сесиля Де Милля, очевидно ориентированы на консервативную семейную аудиторию.
Классический период как «модель кинопроизводства» сложился благодаря уникальному соединению экономики, технологии и стиля в процессе создания фильмов. Это было время вертикальной интеграции и олигополии. В этих условиях, как писали в своей книге Бордуэлл, Стайгер и Томпсон,
формальные и стилистические нормы создавались, строились и поддерживались моделью кинопроизводства – характерным сочетанием экономических целей, специфических условий труда и особых путей создания фильма… смотреть на голливудскую режиссуру в период с 1917 по 1960 как на объединяющую модель кинопрактики – это все равно что говорить о связной системе, в которой эстетические нормы и модель кинопроизводства поддерживает одна другую49.
Если определенная экономическая практика – важное условие существование голливудского производства, такое же серьезное значение получает причастность киноиндустрии определенной идеологической/означаемой практике. Иными словами, в условиях определенной модели кинопрактики Голливуд уменьшает разработку альтернативных стилей и стратегий производства, поскольку и идеологическая/означаемая практика оказывает влияние на определенное разделение труда и производственный процесс. Важно учесть, что модель кинопрактики относится именно к специфике менеджмента и разделению труда в процессе производства, но не к дистрибуции и показу.
Отзываясь на книгу Бордуэлла, Стайгер и Томпсон, Ричард Молтби делает вывод: невозможно выстроить оппозицию между историей нарративных форм и историей культурной индустрии50. Этот вывод мне представляется крайне важным. Он позволяет выстроить более-менее четкие границы для классического периода – с 1910‑х до середины 1960‑х годов, когда вертикальная интеграция была окончательно разрушена и сложилась система совершенно новых взаимоотношений внутри кинопроизводства. Иными словами, сложившуюся парадигму сменили новые стратегии, которые отметили изменения как в киноискусстве, так и в киноиндустрии в целом.
Классическая эпоха, как замечают Бордуэлл, Стайгер и Томпсон, была ознаменована коллективным обучением кинематографистов законам мастерства прямо на съемочных площадках и в павильонах (в том числе через систему копирования друг друга). В свою очередь, Новый Голливуд, давший импульс к бурному развитию «независимых», установил систему множества подходов, стилей и приемов. Ни о каком образце в период Голливудского Ренессанса уже речи идти не могло. Только с появлением блокбастеров и формированием конгломератов вновь будут формироваться черты новой идеологической/означаемой практики киноиндустрии зрелищ. Однако бурное развитие технологий, равно как и срастание Голливуда и «независимых», не позволит ей удержаться на столь длительное время, как это было в эпоху классического кино. Постклассическое кино так и останется полем борьбы различных художественных и индустриальных стратегий.
Существенная разница между классическим и постклассическим периодами заключалась в том, что классическое кино опиралось на стабильную жанровую систему, выстраивало свои нарративы, основываясь на цельных характерах, которые соотносили свои индивидуальные желания с общественными ценностями, и создавало особый стиль повествования, характеризуемый эффективностью, формальной элегантностью и ясной простотой. С конца 1960‑х годов (то есть с началом эпохи Нового Голливуда) воспитанные телевидением и киноклубами режиссеры подпали под влияние авторской теории и стали отходить от фундаментальных основ классицизма, потворствуя барокко и «витиеватым разработкам основ простых сюжетов» без капли драматической и тематической необходимости подобного «стилистического гранд-гиньоля»51. Героев постклассического кино перестали отличать не только ясно выраженные цели, но и четкая моральная и социальная позиция, вследствие чего их экранное присутствие тесно связывалось со вспышками немотивированного и часто иррационального насилия.
В разговоре о новых героях, конечно, имеются в виду «иконы» Голливудского Ренессанса, такие как Бонни и Клайд, Буч Кэсседи и Санденс Кид или персонажи фильмов Сэма Пекинпа. С началом освоения Голливудом территории консервативного блокбастера произойдет изменение и в концепции героя. Герои блокбастеров во многом будут напоминать протагонистов классического кино, однако жестокость и насилие, обращение к которым ознаменует и окончательное крушение Кодекса Хейса в 1960‑е годы, станет неотъемлемой составляющей целого ряда голливудских жанров современной эпохи и как минимум будет поддерживаться Индивудом, вроде фильмов Дэвида Линча или Квентина Тарантино. Постклассическое кино уже никогда не откажется от жестокости и насилия как зрелищного элемента. Насилие станет не просто основой человеческих взаимоотношений. На эту тему хорошо высказался Брайан де Пальма:
Насилие – это визуальная форма. Оно очень эффектно, оно возбуждает. Я никогда не откажусь от насилия, потому что оно исключительно кинематографично52.
По сути, насилие, о котором говорит де Пальма, – это часть «спектакля», зрелищности, которая в постклассическом кино становится доминирующим фактором. Зрелищность начала разбивать нарратив еще в классический период (например, в мюзиклах с номерами Басби Беркли или в многолюдных панорамах роадшоу 1950‑х – начала 1960‑х, вроде «Бен-Гура» и «Клеопатры»), однако именно в эпоху Нового Голливуда она начала выступать как один из доминирующих моментов – достаточно вспомнить финальные рапидные съемки расстрела Бонни и Клайда или сцены перестрелок из вестернов Сэма Пекинпа. Блокбастеры эпохи конгломератов, вроде «Звездных войн» или «Титаника», доводят зрелищность до апофеоза, в том числе через повышенное значение спецэффектов. Как отметил американский исследователь Джефф Кинг, зрелищность доставляет удовольствие и ассоциируется с наслаждением от репрезентации, которая «больше, чем жизнь», которая выглядит более яркой и интенсивной, чем ежедневная реальность53.
Итак, Новый Голливуд – это установка новых трендов в кинематографе. Олтман, Поллак, Бурман, Рафелсон, Спилберг, Эшби, Пенн и другие разрушали установку классического кино на «фундаментальные утвердительные заявления о мире» (Эльзессер) в пользу «либерального взгляда» и «радикального скептицизма по отношению к американским добродетелям». Эти изменения сопровождались изменениями в статусе кино. Телевидение взяло на себя функцию воспитания массовой аудитории (то, чем занималось классическое кино); в свою очередь, Новый Голливуд стал обращаться к менее «идеологизированным представителям» американского общества.
Еще одно важное обстоятельство: классическое голливудское кино создавало фильмы исключительно для вечернего досуга и обязывало независимых дистрибуторов покупать их в пакетах с короткометражками и новостными лентами. В эпоху Нового Голливуда, а точнее после «Челюстей», компании стали постепенно втягиваться в производство и дистрибуцию сети сопутствующих товаров, вроде книг, телевизионных шоу, музыкальных дисков, игрушек, игр, видео, футболок и т. д. Классический Голливуд был обращен в первую очередь к созданию образа Америки. В голливудский Золотой век евреи-эмигранты (основатели всех больших студий) пытались через кино творить американскую мечту, воспитывая посредством кино всю нацию (об этом очень интересно рассказывается в книге Нила Гэблера «Собственная империя. Как евреи изобрели Голливуд»54). Новый Голливуд устремился к тому, чтобы стать доминирующим направлением на всемирном рынке зрелищ, что повлекло за собой новые бизнес-комбинации, а затем еще и проявил амбиции стать политической «мягкой силой». Начиная с 1980‑х годов пошло объединительное движение компаний в мультикорпорации, что частично вернуло бизнес к интеграции через желание контролировать производство программ, дистрибуцию и показ. Однако это не была вертикальная интеграция Золотого века. Это, скорее, можно было назвать горизонтальной интеграцией, так как в эпоху Нового Голливуда особый акцент ставится на усилении дистрибуции.
Новый Голливуд, а затем и Новый Новый Голливуд – это образования эпохи взаимозависимости культурного производства и разнообразной дистрибуции, то есть того, что называется синергия (synergy) – когда становится невероятно трудно не только провести границу между киноиндустрией и другими медиа, но вообще осмыслить кино как отдельный культурный и «текстуальный» объект. Эта синергия приводит к осознанию, что один плюс один равно три. Ее первые ростки пришлись на 1970‑е годы – к примеру, когда компания Warner Bros. выпустила документальный фильм «Вудсток» параллельно с релизом его саундтрека компанией Warner Bros. Record. Сегодня одновременный выпуск фильмов, саундтреков, книг, компьютерных игр и других возможных «форматов» идеи – совершенно обычное дело. Как говорят в Голливуде, синергия работает как хороший брак, где каждый партнер может принести качество, которое в комбинации с другими волшебно творит что-то еще лучшее, чем если бы оно развивалось в одиночку.
Кино Нового Голливуда называют не только постклассическим, но и постмодернистским. После того как в 1980‑е годы критики стали активно развивать концепцию модернистского и постмодернистского искусства, этот момент внес определенность в вопрос о периодизации Голливуда. Такие философы, как Фредрик Джеймисон или Норманн Дензин, определяют развитие постмодернизма в американской культуре начиная с 1960‑х годов. Если же все послевоенное кино рассматривать в тени последующего постмодернизма, то фильмы Нового Голливуда с их чувствительностью к европейским влияниям можно трактовать как приближение к постмодернизму.
Модернизм, как писал Джеймисон, принудительно думает о Новом и о том, как оно привносится в мир, тогда как постмодернизм думает скорее о прорывах, не о мирах, а о событиях и безвозвратных изменениях в репрезентации вещей. Модернизм думает о вещах как таковых, в их утопическом смысле, постмодернизм же более «сумасшедший», он слишком хорошо знает, что содержание – это в большей степени образы. Для модернизма «природа» – все еще зона жизни, а старое, архаичное – все еще существующее; культура до сих пор делает что-то с этой природой. Постмодернизм появляется одновременно с уверенностью, что модернизационный процесс закончен, а природа освоена. Это мир, в котором «культура» стала «второй природой»55.
В отличие от модернизма, настаивающего на высоком, уникальном стиле, на художественном идеале авангардного искусства, постмодернизм отвергает стиль, отказывается от чувства уникальности и персональности. Голливудский Ренессанс с его ставкой на режиссерский стиль оказался лебединой песней уникальности. Время конгломератов с его установкой на блокбастеры, бренд и переконвертируемость этого бренда в различные медиаформаты стал отвергать уникальность. И хотя отдельные режиссеры, вроде Стивена Спилберга, Джеймса Кэмерона или Брайана де Пальмы, пытались напоминать о классическом сторителлинге и о стиле, однако они, скорее, смотрелись исключениями из правил. Уникальность оказалась потеряна для Голливуда. На смену ей пришло отсутствие глубины и пастиш. Вместо модернистского стиля – постмодернистский код. С конца 1990‑х и в нулевые, особенно с успехом фильмов братьев-сестер Вачовски и Кристофера Нолана, нарратив в блокбастерах стал утрачивать свою линейность, устремляясь в освоение моделей «фильмов-головоломок»56 (Эльзессер).
Пастиш – имитация уникального и особенного, «идиосинкразический стиль», «надевание лингвистических масок» (Джеймисон). Однако, в отличие от пародии, пастиш отменяет сатирические импульсы, являясь чистой иронией. Пастиш прекрасно реализует себя через так называемые «ностальгические фильмы», или ретро, которые реструктурируют пастиш на коллективном и социальном уровнях. Ретро-фильмы, как отметил Джеймисон, производят апроприацию утерянного прошлого, преломляя его через ироничный закон измененного стиля и появляющуюся идеологию поколения. Начиная с «Американских граффити» (1973) Лукаса ретро стало одним из излюбленных жанров Голливуда. Впрочем, моду на него задал еще в эпоху Голливудского Ренессанса «Бонни и Клайд», однако этот фильм еще нельзя было назвать пастишем, так как он формировал романтический миф, определял героику поколения.
Постмодернизм разрушает классицистскую установку на прозрачный сторителлинг в пользу цитатности, в то время как представители Голливудского Ренессанса еще не отказываются от сильного сюжета, совмещая его с темами exploitation и стилистическими инновациями европейского кино «новой волны». Типичный постмодернистский фильм – «Криминальное чтиво» (1994), построенный, по словам Квентина Тарантино, как «криминальная антология», в которой заранее известно, что станет со многими персонажами. В этом фильме персонажи важнее, нежели сюжет, а ирония важнее жестокости и кровавости. Здесь все превращается в элемент большой игры, в которой нет места серьезному размышлению. И хотя это типичный Индивуд, влияние Тарантино на голливудские сценарии было довольно большим всю вторую половину 1990‑х. «Оскар» за сценарий он получил не случайно.
Представители Голливудского Ренессанса не играли с культурой, а создавали свою «контркультурную» утопию, во многом романтическую. В этом плане у них были все еще серьезные намерения, делавшие их кино последним модернистским заявлением. Естественно, эта утопия оказалась недолговечной, и в том числе потому, что Голливуд вступил в эпоху глобализации, не оставившей места романтизму одиночек. Это возвращение Голливуда к массовой аудитории вынудило установить новую стабильность, популярность и высокие стандарты студийной эры, что, в свою очередь, позволило критикам Майклу Паю и Линде Майлз57 назвать создателей блокбастеров, вроде Джорджа Лукаса, Стивена Спилберга, Джерри Брукхаймера и Дона Симпсона, представителями неоклассицизма.
Какой напрашивается вывод? Новый Голливуд не просто сменил классический, но ознаменовал новую эпоху американского кино, где возрастает роль ИИ. Именно Новый Голливуд с его любовью к авангарду заложил тот modus operandi современного Голливуда в виде концепции блокбастера, который укрепился во время конгломератов и повлиял на дальнейшее развитие арт-мейнстрима. Новый Голливуд начался с поколения режиссеров контркультуры, которые уже не могли работать в условиях студийной системы Золотого века, но отражали социальные и культурные запросы бурной эпохи 1960–1970‑х. Это время критики называют Голливудским Ренессансом, и оно характеризуется началом тесного сотрудничества «независимых» и больших голливудских студий. Оно в итоге сформирует контекст Индивуда, а дальнейшая эволюция Голливуда утвердит более консервативную концепцию блокбастера для семейной аудитории. Но заложенные Новым Голливудом стратегии остаются актуальными до сих пор. Поэтому дискуссия о нем – это дискуссия о современной эпохе американского кино. И она продолжается…
